Сундук с серебром
Франце Бевк и его творчество
(1890—1970)
Видный югославский реалист, талант самобытный и яркий, Франце Бевк по праву занимает достойное место в литературе своей страны — это один из самых читаемых, самых популярных писателей не только среди взрослых, но и детей. Лучшие произведения Бевка переведены на все языки народов Югославии, известны они и за пределами его родины.
Творчество Бевка, возросшее на своей национальной почве, глубоко и прочно коренится в жизни народа, его прошлом и современности, оно проникнуто неповторимым природным, этническим, историческим колоритом родного края писателя. И в то же время созданные Бевком книги заключают в себе большой общечеловеческий смысл, истинный гуманизм, принципы нравственности, социальной справедливости, антивоенные и антифашистские идеи.
Художественные позиции Бевка, его литературные симпатии отражают следующие слова, сказанные им в одном из интервью:
«Стремление быть понятым до конца, умение ясно, по-человечески рассказать — это так характерно для славянских писателей. В сущности, логичность и причинность всего является основой реализма… Я учился на произведениях Толстого и Горького…»[1]
Конечно, учение это было сугубо творческим, Бевк обладал собственным мироощущением и стилем, своим индивидуальным писательским «почерком».
Прозаик, поэт, драматург, публицист, детский писатель, видный общественный и политический деятель, Бевк, по воспоминаниям современников, был человеком добрым и скромным, но, когда нужно, очень мужественным и стойким, способным всей душой ненавидеть угнетателей и предателей своего народа — это проявилось в его жизни и книгах.
Франце Бевк родился в небольшой горной деревеньке Закойца в одной из областей Словении — Приморье. Отец его в молодости был лесорубом и дорожным строителем, ему довелось работать во многих краях Австро-Венгрии, в состав которой до 1918 года входила Словения, кое-что из рассказов отца о его странствиях Бевк впоследствии использовал в своих произведениях. После возвращения в родную деревню отец писателя занялся ремеслом сапожника и, кроме того, вместе с женой и подрастающим Франце, старшим сыном в многодетной семье, обрабатывал крохотные клочки земли на крутых склонах гор, ходил на поденную работу к богатым крестьянам. И все же семье Бевка временами не хватало хлеба.
У писателя есть немало автобиографических рассказов, запечатлевших его детство, родной дом, взаимоотношения в семье, первые соприкосновения с миром живой природы. Бевк рано, еще до школы, научился читать и читал с жадностью все, что только ему попадалось. Но еще раньше сильное впечатление на будущего писателя производили рассказы бабушки и деда, которые он очень любил слушать. Впоследствии он вспоминал:
«Бабушка рассказывала мне занятные сказки о добрых феях, о том, что правда всегда побеждает и что хорошим людям нечего бояться. Дед Яков любил говорить о разбойниках, насильниках, угнетающих слабых, внося во все рассказы долю бунтарства, угрозы и тяжкую муку горца, который весь век влачит жалкое существование. Все это оставило во мне неизгладимые следы, и я ношу в своем сердце их обоих: то дед перевесит, то бабушка»[2].
Под впечатлением одной из услышанных от деда историй двенадцатилетний Бевк пишет свой первый рассказ и сам его иллюстрирует — создает свою первую «книжку» — естественно, в единственном экземпляре.
После окончания начальной школы Бевк был отдан «в ученье» в город, в продуктовую лавку. О своей неудавшейся «торговой карьере» писатель впоследствии рассказал в автобиографической новелле «Воришка» ученик постарше подбил неопытного деревенского мальчика утаить хозяйскую мелочь и сам же его выдал. Вернувшись домой, Бевк ходит на поденные работы, учится у отца сапожному ремеслу и продолжает свои литературные опыты, рассылая их в разные журналы. Один из этих ранних рассказов в 1906 году появился в печати.
В семнадцатилетнем возрасте Бевку с помощью сельского священника удается поступить на подготовительный курс педагогического училища, окончив которое он учительствует в селах Словенского Приморья.
В училище он пишет стихи и короткие рассказы, которые иногда публикуются в журналах. В ранних своих стихах Бевк воспевает яркую, солнечную красоту родной природы, противопоставляя сельскую жизнь порокам города, хотя видит и изнурительный труд крестьян, их тяготы и невзгоды. Постепенно лирика Бевка становится глубже и сложней, а в конце 1914 года в его поэзию врывается новая тема — тема войны, которую он воспринимает как страшное бедствие, обесчеловечивающее людей, как крушение многовековой цивилизации, тонущей в потоках крови (цикл «Война»). В то же время поэт отчетливо видит и страдания отдельного человека — лаконично и проникновенно, иногда с помощью народно-песенных образов передает он чувства умирающего от ран солдата, горе женщин и детей, потерявших на войне своих близких. В этих стихах Бевка преобладают черные и кроваво-красные цвета — кровавым становится небо, черные вороны клюют черную плоть мертвых тел.
Бевку и самому довелось повидать кровь и смерть в солдатских окопах — за антивоенные произведения его, как политически неблагонадежного, отправили в мае 1917 года рядовым солдатом на фронт в Галицию.
Уже с 1914 года в творчестве Бевка все большее место занимает проза. Он пишет короткие психологические рассказы, в которых ощущается идейно-стилистическое воздействие крупнейшего словенского прозаика и драматурга Ивана Цанкара (1876—1918), а также, как отмечала словенская критика, влияние русской литературы — Достоевского, Чехова, Горького, Леонида Андреева. Часто рассказы Бевка представляют собой небольшие, как бы выхваченные из жизни сценки, окрашенные эмоционально-субъективным отношением автора, его настроением — таким рассказам нередко присущи черты импрессионизма. Постепенно в рассказах Бевка, как и в его стихах, все отчетливее и напряженней звучит антивоенная тема, но и здесь первостепенное значение для писателя имеет психологический аспект — в основе ряда его рассказов оказываются человеческие трагедии, вызванные вынужденной разлукой с близкими и родными, возникшим отчуждением и непониманием между солдатами и их семьями.
Одним из первых в словенской литературе Бевк обличает жестокость и бесчеловечность «военной машины», военно-полевых судов, предающих людей смерти за ничтожную провинность, превращая других в их убийц (рассказы «Глава трибунала», «Палачи»). Война и оставленные ею последствия в человеческих душах будут волновать писателя еще долгие годы.
В некоторых рассказах ощущение трагизма, катастрофичности происходящего в мире, воспоминания об ужасах войны порождают элементы экспрессионизма — причудливые гротескные образы, мотивы мучительных снов, видений, кошмаров. Отчасти по цензурным условиям Бевк облекает некоторые рассказы в иносказательную, часто в полуфантастическую форму, переносит их действие в страны Древнего Востока. Писатель протестует против кровавого насилия над людьми, против возвеличения коронованных тиранов (рассказы «Пирамида», «Иероглифы», «Фараон»).
В эпоху больших общественно-политических потрясений в странах Европы в 1917—1919 годах в творчестве Бевка наряду с обобщенно-символическим осуждением существующего строя усиливаются и непосредственно выраженные социальные мотивы — прямо, без всякого иносказания Бевк выражает свое сочувствие пролетариату, всем угнетенным и обездоленным (рассказ «На улице», стихотворение «Песня пролетариев»). Но, веря в грядущее переустройство общества, Бевк отрицает при этом всякое насилие, не приемлет революцию. Он видит спасение в духовном, моральном совершенствовании людей; воззрения эти были связаны у писателя с христианским вероучением.
Рассказы Бевка печатаются в журналах, а затем выходят самостоятельными сборниками: «Фараон» (1922), «Палачи» (1923). В 1921 году увидел свет сборник его стихов.
После первой мировой войны и крушения Австро-Венгерской империи родной край Бевка — Словенское Приморье — оказался захваченным Италией. В отличие от значительной части словенской интеллигенции, бежавшей из оккупированного Приморья в возникшую в 1918 году Югославию, Бевк в конце 1920 года возвращается на родину, решив целиком посвятить себя писательскому труду и культурно-просветительной деятельности, призванной будить национальное самосознание приморских словенцев под гнетом Италии и способствовать освобождению родины.
С приходом к власти итальянских фашистов (1922) положение словенцев в Приморье значительно ухудшилось. Правительство проводило планомерную политику насильственной итальянизации словенского населения: были запрещены все словенские газеты и журналы, закрыты все культурные учреждения, ликвидирована словенская школа — преподавание велось на итальянском языке. Единственной формой существования словенской культуры оставалась книга — словенское книгопечатание, хотя и наталкивалось на всевозможные препятствия, официально не было запрещено. Это побуждало Бевка — единственного тогда крупного писателя Словенского Приморья — к исключительной творческой активности, к созданию десятков книг для взрослых и детей. Часто писатель работал ночи напролет, а днем много сил отдавал редакторскому труду. Вся его литературная и издательская деятельность в 20-е и 30-е годы была мужественным сопротивлением ассимиляторской политике фашистского режима. За это Бевк неоднократно подвергался репрессиям — арестам, тюремному заключению (1926), полицейскому надзору, ссылкам (1934, 1940).
Целеустремленная, самоотверженная борьба писателя против национального порабощения родного края отражается в тематике многих его произведений. Бевк обличает действия итальянских фашистов, показывает притеснения и унижения, которым подвергаются словенцы, случаи предательства и смелые попытки сопротивления (драма «Каин», 1924; повесть «Знамя на ветру», 1928), он выражает горячую веру в стойкость своего народа, в его грядущее освобождение (рассказы «Два обличья», 1922; «Когда засияет утреннее солнце», 1923, и др.). Большей частью писатель вынужден высказывать свои мысли завуалированно, прибегать к эзоповскому языку; некоторые его книги выходят под псевдонимом. В поисках иносказательного выражения национально-освободительных идей Бевк обращается к историческому прошлому своего народа, к старинным преданиям. Но чаще всего пишет непосредственно о жизни приморских словенцев — крестьян, рыбаков, каменотесов как исконном населении этого края, имеющем здесь свои глубокие корни.
В стремлении как можно шире, разностороннее и глубже осмыслить и отобразить жизнь, ее поступательное развитие, Бевк обращается к новым для себя жанрам повести и романа. Творческая активность, широта охвата действительности в произведениях Бевка сказываются в их тематическом многообразии — Бевк обращается к жизни различных слоев города и деревни, пишет исторические повести и романы, по-своему использует и трактует фольклорно-мифологическое наследие словенского народа — легенды и предания.
Важное место в творчестве Бевка занимает жизнь словенского села. Именно здесь полнее и ярче всего раскрывается самобытное дарование писателя. Первым крупным произведением этого рода был роман «Смерть перед домом» (1925), в позднейшей редакции озаглавленный «Люди под Осойником». В нем писатель прослеживает судьбы трех поколений маленькой горной деревеньки, создает образ жестокого, алчного кулака, стремящегося любыми средствами прибрать к рукам всю деревеньку. Наряду с реалистическими чертами в этом романе значительную роль играют и иные элементы, в нем встречаются фантастические, символические образы, преобладает импрессионистическая техника — это не развернутое эпическое повествование, а своеобразная мозаика из очень кратких, эмоционально насыщенных сценок-глав, фиксирующих отдельные ситуации, связанные с изменением чувств и настроений персонажей. Такая техника характерна для большинства ранних повестей и романов Бевка, следы ее сохраняются в творчестве писателя и позже, до середины 30-х годов. Импрессионистические черты в изображении пейзажа, в передаче настроений героев, проявляющиеся в этом романе, также надолго остаются специфической особенностью стиля Бевка.
Постепенно, в процессе творческого развития писателя, реализм его становится все более последовательным и глубоким.
В «сельских» повестях Бевка нет идилличности, видимость ее всегда разбивается резкими жизненными противоречиями. И в то же время этим произведениям свойственна подлинная поэтичность. Бевк с любовью воссоздает неповторимый природный и бытовой колорит горных районов Словенского Приморья. Скалистые, крутые склоны, белеющие вдалеке снеговые вершины, мрачные ущелья, стремительные реки, в половодье сокрушающие на своем пути все преграды, и временами явственно ощутимое дыхание теплого Адриатического моря — этот край природных контрастов, суровый и благодатный, писатель рисует яркими, сочными красками, делает все изображаемое зримым, почти осязаемым. На таком колоритном фоне, в органической связи с ним, вырисовываются типические характеры жителей горных селений и отдаленных хуторов, находящихся порой в нескольких часах ходьбы друг от друга. Это трудолюбивые, не избалованные природными условиями люди, живущие замкнутой и суровой жизнью. Но когда их однообразное, заполненное тяжким трудом существование нарушается яростными вспышками страстей — ссорами, ревностью, местью за нанесенную обиду и несправедливость, они становятся неукротимыми, а порой и жестокими. Они консервативны, цепко держатся за свою собственность, за свой надел, который обрабатывался многими поколениями их предков или — когда речь идет о бедняках — с большим трудом расчищен и раскорчеван на пустоши собственными руками. И все же эти земельные участки порой ускользают, от них в силу тех или иных экономических, социальных, этических причин.
В некоторых повестях Бевка о селе время действия четко не обозначено, поскольку главное в них — извечные черты края и драматические судьбы людей, изображенные в условиях традиционного, еще в какой-то степени патриархального быта, как, например, в повести «Сундук с серебром». Иногда в такие произведения вплетаются близкие к фольклору мотивы — изображение народных праздников, гуляний, обрядов (в названной повести есть сцена одного из живущих в народе старинных обрядов — заговора от змеиного укуса). Но чаще приметы времени проступают у Бевка более явственно (например, уход сельских бедняков на заработки в конце XIX — начале XX века в повести «Горькая любовь»). Резкое вторжение капиталистических отношений в патриархальный быт горного района отображает писатель в повести «Железная змея» (1932), реальная основа которой — постройка здесь в начале XX века железной дороги. Иные процессы с еще более четкой временно́й определенностью отразились в повести «Дом в ущелье» (1927), действие которой развертывается вскоре после первой мировой войны и прихода итальянских солдат в Словенское Приморье. Послевоенные затруднения побуждают крестьян к вырубке лесов, что в свою очередь приводит к стихийным бедствиям, наводнениям. Работая над повестью, Бевк имел в виду конкретные события — сильные наводнения в некоторых районах Приморья осенью 1922 года.
Произведения Бевка, как правило, строятся на остром конфликте; в «сельских» повестях это чаще всего семейные ссоры из-за наследства, земли и денег. Собственнические устремления крестьян получают у Бевка широкое реалистическое отражение. Распри из-за имущества, ведущие к трагическим событиям, лежат в основе повестей «Вина» (1929), «Колдун» (1931), «Большой Томаж» (1932), рассказа «Наследник» (1933) и др. В повести «Сундук с серебром» ссоры вспыхивают из-за хранящихся в доме серебряных монет, накопленных тяжелым трудом нескольких поколений крестьянского рода. Писатель показывает зловещую власть этих денег — источника алчности, ненависти и преступлений. Жадная, своенравная Анка, дочь хозяина хутора, с детских лет мечтает завладеть деньгами. Однако приведенный ею в дом муж-бродяга обворовывает ее и скрывается. Но еще раньше, стремясь получить наследство, Анка готова толкнуть мужа на убийство ее отца. Первоначальный вариант повести увидел свет в 1928 году, но впоследствии писатель ее существенно переработал, придал ей бо́льшую жизненную и психологическую достоверность (1936).
Если в 20-е годы в острых конфликтах писателя прежде всего интересует нравственная сторона человеческих отношений — нарушение этических норм и вытекающие отсюда последствия, то постепенно в произведениях Бевка все рельефней проступает и социальная основа явлений, социальная природа персонажей, хотя обычно Бевк и не делает на этом особого акцента. О борьбе между зажиточными крестьянами и беднотой из-за раздела общинных пастбищ, при котором богачи стремятся обделить бедноту, повествует мастерски написанная новелла «Общинная пустошь» (1933).
Одна из особенностей таланта Бевка — замечательное искусство в построении сюжета, который развивается у него всегда очень живо, с большой напряженностью, захватывая читателя своей остротой, драматизмом, подчас неожиданностью в кульминационных моментах и развязке.
Первооснову своих остроконфликтных сюжетов Бевк нередко находит в устных народных рассказах, запечатлевших подлинные происшествия в окрестных селах, включая и рассказы своего деда. Но обращается с ними писатель достаточно свободно, варьируя их и творчески переосмысляя в соответствии со своим художественным замыслом. С течением времени яркое воображение Бевка все строже подчиняется логике жизненной правды, что прекрасно сочетается у него с красочностью, пластичностью и динамизмом повествования. Если в начале творческого пути писатель порой увлекался внешней остротой и трагедийностью положений, их романтической исключительностью, необычностью, страшными кровавыми развязками, то на рубеже 20—30-х годов столь же острые конфликты получают у него все более четкую социально-психологическую мотивировку и, в свою очередь, служат более глубокому раскрытию внутреннего мира персонажей. Такая эволюция проявилась, например, в работе писателя над рассказом «Чужой ребенок» (1929). В первом варианте рассказа вернувшийся с войны крестьянин, поддавшись безудержной вспышке слепого гнева и ревности, убивает ребенка, рожденного женой во время его длительного отсутствия. Во второй редакции Бевк углубляет психологическую характеристику персонажа, делает ее тоньше и убедительней: в обиженном, разгневанном солдате побеждает человечность.
Особенно удаются писателю характеры сильные, цельные, страстные. Иногда он показывает, как в минуту крайнего накала страстей в безотчетном порыве человек совершает поступки, выходящие из-под власти разума, как пробуждается в человеке темное и стихийное начало. Но встречаются у Бевка и персонажи, слегка овеянные лиризмом, особенно некоторые женские образы, например первая красавица села, бесприданница Мицка в повести «Горькая любовь». Несомненной удачей писателя в той же повести явился и образ скромного деревенского бедняка Якеца, трогательного в своей преданной любви и упорного в достижении цели, в борьбе за свое бесхитростное счастье.
В некоторых «сельских» повестях и рассказах Бевка героями оказываются дети. Ряд произведений Бевк создает специально для юных читателей. Чаще всего автор обращается к жизни детей безземельных бедняков, которые с пяти-шестилетнего возраста вынуждены сами зарабатывать себе пропитание — их отдают «в люди». Мальчики пасут скот у богатых крестьян (рассказы «Пастушата», «Ягода»), девочки нянчат их детей (рассказ «Нянька», 1939). Детям приходится сносить обиды и невзгоды, выполнять подчас непосильную для их возраста работу. В этих произведениях с особой силой проявляется гуманизм писателя. Бевк глубоко проникает в психологию детворы, передает ее поэтически наивное восприятие природы и в то же время выявляет социальную несправедливость, от которой страдают дети, чьи судьбы и души отданы в руки жестоких и бесчеловечных хозяев.
Реалистический психологизм, отображение некоторых характерных процессов и явлений сельской жизни, в котором писатель порой поднимается до значительных художественных обобщений, сближает Бевка с так называемым «социальным реализмом», ставшим ведущим течением в словенской литературе в 30-е годы — основные представители этого течения Прежихов Воранц, Мишко Кранец, Цирил Космач, Антон Инголич, Иван Потрч (произведения которых переводились на русский язык) также уделяли большое внимание жизни села и осмыслению важнейших закономерностей социального развития современности.
Основные особенности дарования Бевка проявились и в его произведениях из жизни различных слоев городского населения, которые писатель создает одновременно со своей «сельской» прозой.
Тема города более, чем другие темы в творчестве Бевка, связана с острой, злободневной проблематикой, с обличительной, общественно-критической направленностью, с отражением политических, экономических, нравственных последствий первой мировой войны. Раскрывая внутренний мир своих героев, писатель показывает пагубное влияние на них условий капиталистического города, что обычно приводит к трагическому концу. Первым из таких произведений явилась психологическая повесть «Страдания госпожи Веры» (1925) — история беспочвенной ревности, порожденной пустотой и бессодержательностью жизни, косностью мещанской среды. В зачине и в концовке повести писатель открыто обвиняет в случившемся несчастье эту ханжескую среду, общество, моральные устои которого гнилы.
Чаще всего Бевк обращается к жизни «маленьких людей» современного города и лишь сравнительно редко изображает состоятельные буржуазные круги, остро критикуя их мораль и нравы. В романе «Заблудшие» (1929) финансовый крах видного чиновника приводит его к полному жизненному крушению, к сознанию, что у него нет бескорыстных друзей, что его красавице жене нужны только его деньги. Герой повести «Без маски» (1934), лишившись состояния, теряет в своей семье все права. Жена и богатая предприимчивая теща с нетерпением ждут смерти тяжело больного человека, готовясь к новому, выгодному браку будущей вдовы.
В некоторых произведениях из жизни города, особенно в романе «Заблудшие» — в его общественно-критической концепции, в нравственных коллизиях, в исканиях и прозрениях героев, — словенская критика видела воздействие русской литературы, в первую очередь Толстого и Достоевского.
Учение у Горького, которое признавал сам Бевк, несомненная связь с его творчеством ощутимее всего проявились в новелле «Мать» (1929), содержащей резкое осуждение современного буржуазного общества. В основе новеллы лежит трагическая судьба молодой трактирной служанки Тильды, убившей своего только что родившегося ребенка, чтобы скрыть позор и не лишиться места. Боясь разоблачения, она бежит в большой город, где переживает новую драму и попадает в тюрьму. В ожидании второго ребенка в ней пробуждаются материнские чувства и раскаяние в совершенном преступлении. Все это духовно преображает Тильду. Сильное потрясение — смерть желанного ребенка, в чем повинны суровые тюремные условия, — делает ее равнодушной к судебному приговору, к предстоящему длительному тюремному заключению. Писатель обнажает то, что скрыто за внешней стороной явлений, за скупыми строками судебного приговора.
Описание в новелле женского отделения тюрьмы основано на впечатлениях жены писателя, арестованной итало-фашистскими властями незадолго до создания новеллы, да и сам Бевк к этому времени уже хорошо был знаком с итальянскими тюрьмами.
Обличительный пафос произведения, его активный гуманизм очень созвучен творчеству Горького. Рисуя оказавшихся в тюрьме представительниц общественного «дна» — проституток, воровок, детоубийц, — Бевк воспринимает и трактует их как жертвы социальных условий. Создавая целую галерею образов женщин, дошедших до низшей ступени морального падения — озлобленных, мелочных, эгоистичных, писатель верит, что и в их душах таятся искры добра и сердечности. Появление в камере ребенка, общая забота о нем благотворно влияют на арестанток, пробуждают в них, казалось бы, совсем забытые чистые чувства, женщины перестают ссориться, сквернословить. Несомненно горьковский мотив в повести — чистая, идеальная любовь проститутки Нады и вора Матея, возникшая в тюрьме в результате обмена записками. Но особенно яркая связь с творчеством Горького, на которую открыто указывает сам автор новеллы, проявилась в образе заключенной коммунистки Зофии, общение с которой духовно обогащает Тильду. В камере у Зофии есть единственная чудом пронесенная книга — «Мать» Горького. Прочитав ее, Тильда говорит Зофии: «Понимаю… Ты такая, как эти в романе». И действительно, в создании образа Зофии сказывается воздействие горьковских героев-революционеров. Ее устами Бевк отвечает на вопрос, кто виноват в изломанных судьбах заключенных, и выражает веру в изменение существующего строя:
«Всему виной человеческое общество… Общество убивает лучших людей и толкает их на преступления. А преступников судят и наказывают еще большие преступники, которых никто не притягивает к ответу. В будущем обществе этого не будет».
В изображении приходящих в тюрьму пышнотелых, разряженных дам — фашиствующих святош с их фальшивой благотворительностью, которых резко обличает Зофия, проявились редкие в творчестве Бевка сатирические штрихи.
Образ Зофии, обрисованный с несомненной симпатией, все же получился у Бевка несколько суховатым, прямолинейным. Более живым и полнокровным вышел у писателя образ коммуниста Марко в повести «Каменщиков Юрий» (1930). Повесть представляет собой широкую панораму жизни 20-х годов. Бевк рисует быт и труд каменотесов, их борьбу за свои права, показывает ведущие идеологические веяния среди рабочих — от словенского либерального национализма до «большевизма» — усвоения идей Великой Октябрьской революции. Коммунистическая ячейка, которую возглавляет Марко, в условиях господства итальянских фашистов вынуждена уйти в подполье. В повести изображается и жизнь рыбаков, их на первый взгляд романтический, но на деле тяжелый и опасный труд, уносящий порой и человеческие жизни.
Вершиной реалистического мастерства Бевка словенская критика по праву считает его роман «Капеллан Мартин Чедермац» (1938), в основе которого лежит патриотическая идея — писатель возвеличивает сопротивление национальному гнету в фашистской Италии. Главный выразитель этой идеи, скромный пожилой сельский священник, воспротивился запрещению богослужения на словенском языке — очередной мере денационализации словенского населения итальянскими властями. Писатель тонко передает психологию своего героя, глубоко верующего человека, прослеживает его мучительную душевную эволюцию, показывает, как утрата веры в непогрешимость главы католической церкви — римского папы, благословившего национальную дискриминацию, заставляет его усомниться и в существовании бога. Судьба священника-патриота предстает в романе на широком социально-политическом фоне, писатель воссоздает атмосферу доносов и репрессий, рисует жизнь словенского села под гнетом Италии.
Одновременно с созданием произведений на современные темы Бевк пишет исторические повести и романы. Невозможность открыто говорить о бесчинствах итальянских фашистов в Словенском Приморье вынуждает писателя искать аналогии в далеком прошлом, когда словенский народ также терпел страшные бедствия — насилия иноземных феодалов, войны, эпидемии чумы, жестокий голод — и все-таки выстоял. Соотечественники писателя безошибочно улавливали скрытый подтекст и оптимистическую идею исторических произведений Бевка, несмотря на их глубокий трагизм.
Бевк пишет трилогию «Знамения на небе» (1927—1929), повести «Умирающий бог Триглав» (1929) и «Сторожевые огни» (1931), роман «Человек против человека» (1930) и другие исторические произведения. Для создания их Бевк обращается к книгам по истории родного края. Но сухие хроникальные сведения, почерпнутые из этих источников, писатель силой своего воображения превращает в широкую, пеструю, насыщенную драматизмом картину жизни бурной и жестокой эпохи Средневековья и первых проблесков Ренессанса. Наряду с подлинными историческими лицами — патриархами, знатными рыцарями, инквизиторами — в исторических произведениях Бевка много вымышленных персонажей — представителей народа, словенских крестьян, на которых обрушиваются все тяготы угнетения, войн и прочих бедствий и которые являются носителями авторской идейной концепции — выразителями свободолюбивых устремлений, мужества и человеческого достоинства. Особый колорит трилогии «Знамения на небе» придают некоторые символичные образы, зловещие пророчества, апокалипсические названия частей произведения. В романе «Человек против человека» значительное место занимает нравственно-философская проблематика — сочетание доброго и злого начала в человеческой натуре, вопиющее противоречие между христианским учением о милосердии и жестокостями, которые творят христиане, в том числе и иные священнослужители.
В некоторых произведениях Бевк широко использует фольклорно-мифологический материал, красочно воспроизводит старинные народные обычаи и обряды — это относится к повести «Ночь на Ивана Купалу» (1927), в которой воссоздается своеобразный колорит эпохи XV века. Стремясь передать мироощущение людей той поры, их страх перед темной мощью природы, Бевк населяет ее бесами, феями, оборотнями и другими фантастическими существами, сохранившимися в народном сознании со времен язычества. На очень ярком и поэтичном фольклорно-этнографическом материале построена и повесть «Буря» (1928), где старые обычаи словенских рыбаков предстают на фоне величественной морской стихии.
В 1940 году, после вступления Италии во вторую мировую войну, Бевк был сослан на юг Италии и содержался в концентрационных лагерях. В конце 1941 года его ненадолго выпускают на свободу, а в 1942 году вновь арестовывают, и он находится в тюрьме до капитуляции Италии (1943). Оказавшись на воле, Бевк присоединяется к югославским партизанам. В это время ему было уже пятьдесят три года, но он стойко переносит все трудности партизанской жизни, тяжелые, длительные походы в горах, бои и немецкие облавы на партизан. Сразу же он становится активным пропагандистом, часто выступает с докладами и беседами в воинских подразделениях, тут же, в боевых условиях, пишет статьи для партизанской печати. В Народно-освободительной армии и в дальнейшем, после освобождения страны от фашистских захватчиков, Бевк ведет общественно-политическую и культурно-просветительскую работу, занимает видные должности. В 1947 году его избирают заместителем председателя президиума Народной скупщины Словении. В 1953 году он становится действительным членом Словенской академии наук и искусств.
В послевоенный период Бевк снова обращается к одной из важнейших тем своего творчества — к обличению итальянского фашизма, господствовавшего в Словенском Приморье в 20—30-е годы. Теперь он может осмыслить и оценить довоенное прошлое, глядя на него сквозь призму исторического опыта последующих лет, с учетом событий, обогативших мировоззрение писателя идеями революционной освободительной борьбы народа. Кроме того, Бевка не сдерживают больше существовавшие в Италии жесткие цензурные условия, поэтому антифашистская направленность его произведений проявляется еще ярче. Среди них видное место занимает роман «Черная рубашка» (1955). Собственная судьба писателя в эти трудные годы отразилась в автобиографической книге «Мрак за решеткой» (1958). В некоторых повестях и рассказах для детей Бевк рисует школу в условиях итальянской оккупации, рассказывает о маленьких героях-бунтарях, по мере сил сопротивлявшихся фашистам и их запрету обучения школьников на родном языке («Черные братья», «Маленький бунтарь», «Тончек» — эта последняя повесть переведена на русский язык).
Естественно, Бевк не мог не отразить в своем творчестве и столь важный исторический этап в жизни словенцев, как вторая мировая война, фашистская оккупация Югославии и массовое партизанское движение. В автобиографической книге «Путь к свободе» (1955), повествуя о своем участии в народно-освободительной борьбе, Бевк приводит богатый фактический материал из истории этого движения в Словенском Приморье. Фашистские бесчинства — поджоги крестьянских усадеб, аресты, пытки, расстрелы — и мужественное сопротивление партизан отображаются писателем в большинстве рассказов из сборника «Неверные расчеты» (1956), куда вошел и рассказ «Тяжкий шаг». Писатель стремится показать сложность этого трагического и героического времени, когда нередко близкие люди, члены одной семьи, оказывались во враждующих лагерях. Непонимание глубинного смысла происходящих событий, перевес личных, корыстных интересов над патриотическими чувствами толкали некоторых словенских крестьян в стан оккупантов. Эта проблематика находит отражение в рассказе «Неверные расчеты» и в одном из лучших послевоенных произведений Бевка — повести «Тупик» (1961), в которой писатель утверждает свое убеждение в исторической неизбежности расплаты за преступления перед своим народом и перед собственной совестью.
В послевоенные годы Бевк по-прежнему обращается и к исторической тематике, к далекому прошлому. По сравнению с более ранними произведениями этого рода теперь у писателя углубляется понимание закономерностей общественно-исторического развития, последовательнее становится реализм, исчезают романтические наслоения, что находит отражение в повести «Искра под пеплом» (1956), посвященной крестьянским волнениям в начале XVIII века, и повести «Дерево на вершине» (1959), действие которой относится ко времени наполеоновских завоеваний.
Творческое наследие Бевка очень велико, перу его принадлежит более сотни книг — это романы, повести, драмы, сборники рассказов и стихов, произведения для детей, воспоминания и даже киносценарии. Произведения его переводились на многие языки, особенно в странах Европы. У нас книга избранных произведений Бевка — «Сундук с серебром», озаглавленная по названию одной из включенных в нее повестей, впервые вышла в 1971 году. Настоящий сборник представляет собой ее расширенное переиздание, приуроченное к 100-летию со дня рождения этого самобытного писателя, патриота, гуманиста, антифашиста.
М. Рыжова
Горькая любовь
Первая часть
1
Был второй день Пасхи. Деревня Залесье, раскинувшаяся на горных склонах, купалась в солнечных лучах. Свет заливал все вокруг от тесного ущелья до голой вершины горы, струился по кручам и проникал даже в тенистые овраги и лесные просеки.
Празднично сверкал и небольшой, свежепобеленный дом у дороги — трактир, стоявший на самом краю деревни. В будни редко кто в него заглядывал, зато по праздникам после обеда сюда приходили парни и девушки. Стремились они сюда не столько ради вина, сколько ради того, чтобы поболтать и посмеяться. Если парни бывали навеселе, дело порой доходило до перебранки и даже до драки.
В этот день парни собрались раньше обычного и, пройдя через луг, с песней подошли к трактиру. Они переступали с ноги на ногу и из-под надвинутых на глаза шляп щурились на солнце, будто не решаясь войти в трактир.
— А где же девушки?
Девушки показались на пригорке среди березок; в белых передниках они были похожи на белогрудых голубок. Только тогда парни вошли в трактир и заказали вина.
— Андреец, — обратились они к трактирщику, — приготовь-ка граммофон!
Парни уже успели осушить первые стаканы, когда к трактиру подошли девушки. Песня, которую они пели, была печальной, но у них она звучала веселой плясовой. Они остановились перед трактиром у корявого дерева, на ветвях которого появилась первая зелень. Одни присели на трухлявую скамейку под деревом, другие заглядывали в открытое окно трактира.
Парни заняли стол в дальнем углу комнаты. С приходом девушек они стали вести себя более шумно, шутками и громким смехом стараясь привлечь их внимание.
Девушки прислушивались. От смеха парней у них все ярче разгорались лица. Мицка, батрачка Дольняковых, стоявшая ближе всех к окну, то и дело посматривала через плечо в комнату.
— Ну, кто там в трактире? — спросила ее девушка с живыми синими глазами.
— Хорошо не разглядеть. Филипп тут… Тоне… и Янез…
— А Иванчек? А Якец?
— Тоже тут.
Она быстро взглянула на синеглазую подружку, чувствуя скрытый подвох в ее вопросе. Мицка была родом из соседнего села. Мать ее, женщина небогатая, но надменная и самонадеянная, каждый день твердила дочери, что красивей ее нет никого в округе. Было известно, что многие парни добиваются ее благосклонности.
Тем временем Иванчек вышел на порог. Это был видный парень, держался он прямо и горделиво, что делало его немножко смешным. Бархатная шляпа надвинута низко на глаза, в зубах сигара.
— Что ж вы не заходите?
Он окинул Мицку горячим взглядом и усмехнулся, отчего дрогнули кончики его закрученных усов, доходивших чуть ли не до самых глаз.
Мицка быстро к нему обернулась.
— А разве нас приглашали? — сказала она.
— Я приглашаю. Или вам этого мало?
В окно выглянул высокий рыжий парень, за его спиной стоял Якец и улыбался во весь рот.
— Входите же, входите!
Девушки переглядывались и посмеивались.
— На дворе лучше!
По правде сказать, они были совсем не прочь присоединиться к компании парней, но спешить не полагалось, чтобы те не вообразили, будто они им навязываются.
Иванчек вошел в трактир. Минуту спустя он показался в окне со стаканом вина в руках.
— На здоровье! — крикнули ему девушки.
— Нет, за ваше здоровье! — сказал он и выпил до дна.
— А нам ничего?
— Пожалуйста. Только не через окно.
— Посмотрите-ка на них! Ломаются, словно барышни.
Барышнями их назвал Филипп, у которого в Залесье не было девушки и который не боялся никого обидеть; слово это прозвучало как насмешка. Девушки нахмурились, но больше не медлили.
— Пошли!
Первой переступила порог Мицка, другие за нею.
— Вот и мы. Ну, а где ваше обещанное вино?
Пить вино им не очень-то хотелось, просто нужно было что-то сказать.
Якец налил стакан и протянул его Мицке.
— Подожди, дай сначала сесть, — сказала она. — Чего спешить.
Она присела за стол возле Якеца, который поставил перед ней стакан. Иванчек сидел напротив. Она с удовольствием села бы рядом с ним, но не решилась, боясь выдать себя. Она заметила, как Иванчек из-под своей шляпы косится на стакан Якеца, такой полный, что вот-вот перельется через край.
Какую-то минуту все чувствовали себя неловко. Одни уставились в стол, другие посматривали в окно. Молчание прервал Якец. Взглянув на Мицку, он сказал:
— Ты что, не будешь пить?
Голос его дрогнул, скорее всего от смущения, так как он был робкого нрава. Парни засмеялись. Мицка покраснела. Она знала, что от предложенного угощения отказываться не принято. Быстро взглянув на Иванчека, она взяла в руки стакан, но заторопилась, несколько капель вина пролилось через край.
— Ой, — воскликнула она, — какая я неловкая!
— К крестинам, — ухмыльнулся Филипп.
Все расхохотались. Даже Якец улыбнулся. Не смеялись только Мицка и Иванчек; глаза парня сердито сверкнули.
Мицка отхлебнула два глотка, поставила стакан перед Якецем и заглянула ему в лицо.
— Крестины? Может, ты их и вправду ждешь?
— Нет, честное слово не жду, — ответил парень простодушно и очень серьезно.
Тут рассмеялся и Иванчек. Он сдвинул шляпу на затылок, на высокий лоб упал густой чуб.
Упоминание о крестинах развеселило компанию.
— Кто из вас хочет крестин? — спрашивали парни и угощали девушек вином, на все лады повторяя полюбившееся словцо.
Девушки не отказывались от вина, но пили понемногу, небольшими глоточками. Языки у всех развязались, кровь прилила к щекам. Разговор стал более игривым, но еще не выходил за рамки приличия.
Ничего или почти ничего не значащие слова составляли для них язык любви. Один просил подарить маленький букетик, который девушка носила на груди, другой требовал белый платочек, который она комкала в руках. По этим узким, проторенным тропинкам парни приближались к любимым девушкам. Слово рождало ответное слово, смеху вторил смех. Потом чуть заметная борьба рук… В борьбе побеждала девушка, но вечером парень все равно уносил с собой букетик или платок и дома запирал его в сундук. И пока его не возвращал, девушка считалась чуть ли не его невестой и могла лелеять некоторую надежду, а уж разговоров об этом хватало надолго. Девушка каждый раз требовала вернуть ей платок, а парень не торопился его возвращать. Иная получала его лишь после того, как молодухой входила в дом…
Якец неотрывно смотрел на Мицкин платок, всем сердцем желая его получить. Выпитое вино ударило ему в голову, напрасно искал он нужные слова. Он протянул руку, схватил платочек и дернул его к себе.
— Дай мне! — сказал он.
Мицка так рассердилась, что даже покраснела.
— Пусти! — крикнула она и ударила его по руке.
Она встала и прошлась по комнате. Скоро Мицка оказалась рядом с Иванчеком, но заметила это лишь тогда, когда он предложил ей вина.
— Хочешь, чтоб у тебя были крестины?
Злость ее остыла. Она взяла стакан, который Иванчек поднес ей прямо к губам, и стала пить. Но то ли из-за душевного смятения, то ли по какой другой причине ее вдруг забила дрожь. Поставив стакан на стол, она взглянула на парня.
— Выходит, мое вино тебе не по вкусу? — спросил он и многозначительно усмехнулся.
— Совсем не потому, что оно твое, — ответила Мицка.
Иванчек увидел в ее глазах тихую мольбу. Ему стало ее жаль.
— Садись со мной.
Чтобы задобрить немного Иванчека, разозлившегося на Якеца, Мицка села. Тут же она почувствовала на себе неподвижный взгляд Якеца. По сравнению с Иванчеком Якец был таким невзрачным! Его продолговатое, всегда улыбающееся лицо выглядело смешным. Даже когда ему было грустно, он улыбался то ли по своей безграничной, всепрощающей доброте, то ли просто по глупости.
Трактирщик завел граммофон. Из хриплого клокотания вырвались звуки вальса. «Тра-та-та, тра-та-та», — гремело с печи и заглушало разговор. Две девушки пошли танцевать. Вышел также какой-то парень со своей девушкой.
Иванчек пододвинул к Мицке стакан.
— Пей!
— Не могу больше.
Девушке было не по себе от неотрывного взгляда Якеца. Тем временем лицо Иванчека прояснилось. Он выдохнул облако сигарного дыма, так что Мицка закашлялась и приложила руку ко рту.
Иванчек погасил сигару и заткнул ее за правое ухо. Взявшись за Мицкин платок, он что-то оживленно говорил ей, но что именно, рев граммофона не позволял расслышать. Якец лишь отметил про себя: Мицка не ударила Иванчека по руке и на него больше не оглядывалась, словно ей не под силу видеть его настороженные глаза.
Только когда Иванчек все-таки отнял у нее платочек и победоносно помахал им над головой, она опять взглянула на Якеца. Потрясенный до глубины души, от тоски и досады он залпом выпил полный стакан вина.
Граммофон играл мазурку. Захмелевший Филипп поднялся со стула и пригласил танцевать Мицку. Она не посмела отказаться. Медленно встала и положила руку ему на плечо. Пройдя с ним несколько кругов, она вдруг выскользнула у него из рук и снова подсела к столу. Филипп пошел за ней.
— Большое спасибо, — насмешливо поблагодарил он ее.
Иванчек не заметил, что произошло. И другие не видали, только догадывались и посмеивались. По тому, как все ухмылялись и как Филипп благодарил Мицку, Иванчек понял, отчего глаза Мицки сверкают гневом, и, прищурившись, смерил товарища взглядом с головы до ног. С тех пор как парни стали перенимать городские обычаи, это означало намеренное оскорбление и вызов. Иванчек уже хотел было подняться, но пересилил себя.
— Перебрал ты, что ли? — сказал он Филиппу.
— Сам ты перебрал, в другой раз пей поменьше, — ответил ему тот.
Иванчек и Филипп пристально смотрели друг на друга. Граммофон на минуту умолк. Девушки испуганно поглядывали на парней, в воздухе запахло ссорой и дракой. Но тут с печи зазвучала полька, и девушки сами начали приглашать парней, чтобы предотвратить назревавший скандал.
Танцевали чуть ли не все пары, в комнате сразу стало тесно. От духоты и сутолоки парни обливались потом.
Якец подошел к Мицке.
— Пойдем танцевать.
— Ты ведь не умеешь.
Якец мужественно проглотил обиду и засмеялся.
— А ты меня научи!
И они пошли танцевать.
— Иванчеку ты подарила платок, — упрекнул ее Якец.
— Неправда, я ему не дарила. Он сам взял.
— Подари мне букетик! — попросил ее Якец спустя некоторое время.
— А что же у меня останется?
Такой отказ Якеца не очень-то обидел, Мицка смеялась, и он тоже расплылся до ушей.
— Если будешь хорошо себя вести, получишь букетик завтра, — сказала она ему, как ребенку. — Ты ведь придешь к нам расчищать луг?
— Приду.
Об этом не стоило и спрашивать. Якец был необыкновенно взволнован. Когда, танцуя, он обнимал девушку, он чувствовал, что у него вот-вот потемнеет в глазах. Пальцы, державшие его за руку, были такими нежными, белыми. Под своей правой ладонью он ощущал ее плечо. Но прижать ее к себе он не решался: боялся раздавить, точно она была стеклянная, осквернить грубым прикосновением.
Когда они кончили танцевать, он сел совершенно счастливый. Был забыт и платочек Мицки, и все другое. Он утирал своим большим красным платком вспотевший лоб и широко улыбался.
Филипп не плясал. Он сидел, положив захмелевшую голову на руки. Потом поднял голову и одним глазом покосился на Мицку; было ясно, что он все еще злится.
— С ним ты танцевала, а со мной не хотела, — упрекнул он ее.
— Потому что он не такой похабник, как ты.
Более оскорбительного слова нельзя было придумать. Оно вырвалось неожиданно, порожденное гневом и затаенной обидой. Взять его обратно она не могла, да и не хотела. Словно сознавая свою силу, она взглянула на Якеца и Иванчека; ее глаза говорили: такая уж я есть, ничего не поделать.
Филипп задохнулся от возмущения. Он открыл рот, но, опешив, не сразу нашел нужные слова.
— Если я похабник, — произнес он наконец, запинаясь, — то ты… ты…
Филипп не договорил, так как Иванчек ударил кулаком по столу с такой силой, что подскочили стаканы. Но Филипп не отступил. Не желая ссориться со всей компанией, он решил выместить злость на девушке. Подняв стакан, он плеснул вино на стол. Мицка не успела отпрянуть, вино залило ей рукав и юбку.
Иванчек вскочил и схватил Филиппа за руку.
— Девушек я не позволю тебе обижать!
Якец пытался их помирить. Но Иванчек крепко держал Филиппа, тот вырывался, а сам искал глазами, чем бы вооружиться для драки.
Трактирщик снова завел граммофон. Веселые взвизги вращающейся пластинки, игравшей штирийский танец, мешались с криками парней. Парни разделились на три группы. Две из них готовы были сцепиться друг с другом, третья, самая многочисленная, пыталась их помирить.
Девушки разбежались, в трактире осталась только Мицка. Когда началась драка, Иванчек крикнул ей:
— Мицка, уходи!
Мицка вышла. Перед трактиром не было ни души. В деревню можно было пройти по трем дорогам. Мицка пошла по крайней, правой, которая вела к усадьбе Дольняковых, где она служила. Уже стемнело. Отойдя от трактира шагов на двести, она остановилась за густыми кустами живой изгороди, на ветвях которой уже появились молодые листочки. Кончилась ли драка? Мицка не понимала, что с ней происходит, она вся дрожала от волнения.
Девушка прислушалась. Со стороны трактира доносились невнятные голоса и шум. Граммофон уже смолк, только отрывистые, резкие крики парней оглашали мрак. Вдруг кто-то ударил кулаком по столу и закричал высоким фальцетом. Мицка узнала голос Иванчека.
Она встревожилась и хотела было вернуться, но увидела высоко на пригорке белые передники девушек и услышала их смех. Ей стало очень обидно, что подруги в эту минуту могут так беспечно смеяться.
Голоса в трактире внезапно смолкли. Лишь высокий, возбужденный голос трактирщика еще раздавался в тишине. Время от времени ему вторил бас одного из парней. Наконец трактирщик пожелал всем спокойной ночи. Дверь с шумом захлопнулась.
2
Мицка с облегчением вздохнула. Парни расходились. Издалека доносился разговор, не похожий на ссору и перебранку. Казалось, кто-то горячо оправдывался перед другими.
Она пожалела, что пошла домой. Ей хотелось еще раз увидеть Иванчека, хотя бы на минутку. Но вернуться она уже не могла. Тем более что за спиной услышала шаги.
В темноте к ней приближалась невысокая темная фигура. Якец! Она узнала его по тяжелой походке. Хорошо бы он ее не заметил! Но в следующий миг его появление уже не казалось ей таким неприятным. Вечерний мрак сгущался, темные тени надвинулись на дорогу, и от этого ей стало как-то не по себе.
Она прижалась к изгороди. Якец шел быстро, будто за ним по пятам гналась беда; шагая, он смотрел себе под ноги. Поравнявшись с Мицкой, он испуганно отпрянул, приняв ее белый передник за привидение.
— Ох, это ты, Мицка?
— Хорош парень, — засмеялась она. — Девушки испугался.
— Я знал, что это ты, — ответил он смущенно и широко улыбнулся, — но все-таки испугался.
— Знал, что это я? Могла быть и другая…
Мицка теребила ветку, срывая с нее молодые листочки и бросая их на землю.
— Я видел, что ты пошла по этой дороге.
— Ты смотрел, куда я иду? А другие в это время дрались. Ты ради меня и пальцем бы не шевельнул.
Мицка знала, какие чувства питает к ней Якец, но знала и его робость, и сказала это не только потому, что в самом деле так думала, а чтобы подразнить его.
Слова ее задели Якеца за живое. На какой-то миг улыбка исчезла с его лица.
— Мицка, — пробормотал он и сжал кулаки. — Мицка… если было бы нужно…
— Ах, оставь! Я не верю тебе.
С луга, который расстилался за кустами, донеслась перебранка парней; она возникла внезапно, прервав мирный разговор и грубо нарушив вечернюю тишину.
Мицка оглянулась и прислушалась. Голоса Иван-чека не было слышно. Парни спорили все более ожесточенно, слова падали резко и раздельно, как удары.
— Боже мой, они еще подерутся!
— Не подерутся, — возразил Якец, прислушиваясь. — Филипп остался в трактире. Вот увидишь, еще песни запоют.
И правда, крики постепенно затихли. Якец досадовал, что они оборвали его разговор с Мицкой. Мицка все время оглядывалась на луг, откуда доносились голоса парней, и о нем почти позабыла. На два его вопроса она ответила как в забытьи. Потом вдруг опомнилась и усмехнулась.
— Что я сказала?
— Что останешься здесь.
— Что мне тут делать?
И опять засмеялась. Рассмеялся и Якец.
— Ну, пойдем, — сказала она и вышла на дорожку.
Якец пошел рядом. По узкой дорожке только и можно было идти вдвоем. Мицка шла медленно, будто так и не решила, идти ли ей домой или еще повременить.
— Хорошо, что ты меня догнал, — сказала она наконец. — А то мне было бы страшно.
— Только поэтому? — спросил Якец.
— А почему бы еще?
Мицка остановилась. Ее лицо светилось во тьме, будто белый праздничный платок.
— Понимаю, — сказал Якец, глядя в землю. — Ты подарила платочек Иванчеку, а не мне.
— Я же тебе сказала, что он сам взял. Ты ведь это видел собственными глазами. Вот беспамятный!
Девушка как будто рассердилась. Якец не обиделся на ее слова. Но ему было тяжело от горького сознания, что сердце Мицки принадлежит не ему. Он молчал. Мицка посмотрела на него, но лицо в темноте не могла различить. И все же по тому, как он держался, по его походке почувствовала, что он очень взволнован.
— Ну и что такого, что мой платок у него? Все равно он мне его вернет.
Походка Якеца изменилась. Он поднял голову. Казалось, в нем снова пробудилась надежда.
Они подошли к шаткому мостику, перекинутому через горную речку. Далеко внизу шумела вода, образуя ниже по течению, на расстоянии выстрела от этого места, глубокий, подобный маленькому озеру, омут. Слева простирался луг, окаймленный живой изгородью. В нескольких шагах справа возвышалась поросшая буком седловина между двумя огромными скалами. За нею был лес.
Они ступили на мост — Мицка впереди, Якец за ней. Шум пенящейся воды еще сильнее ударил им в уши. Было почти совсем темно. Мицке показалось, что впереди ничего не видно, у нее закружилась голова, стало страшно, как бы не упасть… Она остановилась и протянула руку.
— Не бойся! — сказал Якец с нежностью в голосе.
— Да я и не боюсь, — ответила, усмехнувшись, Мицка.
Она пошла быстрей, под ногами закачались бревна. Тут у нее потемнело в глазах, она охнула и взмахнула руками; ей показалось, что она падает в воду…
В тот же миг Якец подхватил ее и взял на руки. В глазах Мицки он был маленьким и смешным, но в эту минуту, когда он стоял посреди узкого мостика, держа ее на руках, как ребенка, он казался ей большим и сильным. И Мицка невольно обняла его рукой за шею. Ощущение небывалого счастья опалило Якеца. Он шел по мостику, который скрипел и прогибался под их тяжестью. На другом берегу он осторожно опустил девушку на землю.
— Даже если б ты упала в воду, я бы тебя спас, — сказал он.
Мицке стало стыдно. Прежде от испуга она ничего не сознавала. Сейчас она стремительно отпрянула от Якеца, будто наступила на гадюку.
— Ну погоди! Я этого от тебя не ожидала!
И все же ей было приятно, что он такой сильный и готов сделать для нее все, что угодно. А Якец перепугался. Чем он провинился? Прошло довольно много времени, прежде чем он призвал на помощь все свое мужество и собрался с мыслями.
— Может, ты думаешь, что тебе было бы со мной плохо? Мы с тобой здоровые, сильные…
Он не договорил. Мицка шла впереди, все ускоряя шаг. Чего она сердится? Все же он попытался закончить свою мысль:
— Мы жили бы в достатке.
Мицка усмехнулась про себя, но ничего не ответила.
В вечерней тишине послышалась песня. Пели парни, стоявшие на лугу под березами.
Девчоночки, глупышечки, парням напрасно верите; пообещают вам дворец, а у самих лачуги нет…Мицка встрепенулась, взглянула на Якеца и засмеялась.
— Слышал?
Да, он слышал. Песня поразила его в самое сердце, насмеявшись над только что сказанными им словами. У него за душой в самом деле ничего не было, решительно ничего, кроме сундука, рабочего и праздничного костюмов да пары рук. Он думал, что любовь в жизни самое главное, что, кроме нее, ему ничего не надо, что с нею он никогда не почувствует ни голода, ни холода, нипочем ему будет непогода и усталость.
Песня в один миг разбила хрупкую скорлупу его наивных представлений о жизни, осталась обнаженная сердцевина. Мечты развеялись. Перед ним стояла живая Мицка из плоти и крови, которой, помимо любви, нужен был дом, а в нем печь, стол, полная миска, теплая постель. И она права. Якец был с нею согласен, и все же ее вопрос ему не понравился. Будто она осквернила что-то святое. Ведь все понятно и так. Зачем еще спрашивать? И все же если это само собой разумеется, почему же он раньше об этом не подумал?
— А тебе хотелось бы дворец? — спросил он осторожно, пытаясь в темноте заглянуть ей в глаза.
Мысли Мицки были на лугу, где только что звучала песня парней, и все же она услышала этот вопрос. Но ответила не сразу.
— Этого я не говорила. Я и маленькому домишку была бы рада.
У Якеца опять появилась надежда. Помимо воли в голосе его зазвенела радость.
— Ты была бы рада и маленькому домишку?
— А он у тебя есть? — спросила Мицка.
— Нет, — сказал парень, склонив голову под новым ударом. — Но я его построю! Сени с кухней, горницу, боковушку… Я все построю!
Мицка взглянула на него. Он был небольшого роста, но в эту минуту вдруг словно вырос. Когда мужчина что-то строит, пусть даже только на словах, он всегда вырастает в глазах женщины.
— Если построишь дом, я пойду за тебя.
Мицка не думала этого всерьез. У нее даже в мыслях не укладывалось, чтобы Якец и вправду мог построить дом. И все же сказала она не просто так. Если вдруг, вопреки всему, это в самом деле случится, почему бы и не выйти за него, коли другого случая не представится.
Якец остановился как вкопанный, не сводя глаз с Мицки. Он не мог разглядеть ее лица, не мог понять, шутит она или говорит серьезно. И предпочел принять ее слова всерьез. Этого жаждало его сердце.
— Мицка! Ты дашь мне слово?
— Если ты сдержишь свое, сдержу и я.
Снова зазвучала песня парней. Она неслась с горы за лугом, с лесной опушки.
Домик мал, но не беда сам я парень хоть куда…Сердце Якеца всколыхнулось от этой песни. После слов Мицки все в нем ликовало. Сами собой разомкнулись губы, он запел:
Домик мал, но не беда…Мицка взглянула на него и приложила палец ко рту.
— Тсс!
Он замолчал. Ему было так приятно во всем подчиняться Мицке. А сердце его пело.
Они молча продолжали путь. Дорожка сузилась, они шли друг за другом. Голоса парней удалялись и уже были едва слышны. Мицка и Якец подошли к усадьбе Рупара, расположенной на ровном месте. Сквозь маленькие оконца лился неяркий свет, из дома доносились слова вечерней молитвы.
Они тихонько прошли мимо. Выше на горе стоял дом Ераев, по другую сторону горы была усадьба Дольняка, у которого служила Мицка.
Они подошли к лесу. Там была непроглядная тьма. Только на тропинке белели камни, о которые они то и дело спотыкались.
Якец в темноте нашел Мицкину руку и сжал ее. Мицка осторожно высвободила руку.
— Нет, — сказала она. — Сейчас не нужно. На мосту я в самом деле чуть не упала в воду.
Якец не сказал ни слова.
— Не знаю почему, но вода прямо тянет меня к себе.
Когда они вышли из леса, показалась крыша Дольнякова дома. Мицка остановилась и протянула Якецу руку.
— Теперь я дойду одна. До свиданья!
— А ты мне подаришь букетик?
— Не сейчас. Завтра.
— До свиданья! — сказал Якец.
Белый передник Мицки стал удаляться и вскоре исчез за забором. Якец глядел ей вслед. Губы его шептали словно во сне: «Домик мал, но не беда…» Никто не мог его слышать. Это пело его сердце.
3
Якец трепетал от счастья. Ему казалось, что в его жизни только теперь появился смысл. Пустые мечты обрели плоть и кровь. Обещание Мицки выйти за него замуж, если он выстроит дом, было для него как целительный бальзам для больного. Походка его стала легче, сердце билось быстрее. Будто теперь только у него открылись глаза, и он увидел мир во всем великолепии его красок.
В жизни Якеца мало было хорошего. Отец умер рано, после него остался один дом. Он стоял на склоне горы, по одну сторону которой была усадьба Дольняка, а по другую — Рупара. Дом был деревянный, с почерневшими от копоти сенями, маленькими оконцами и соломенной крышей. И хлев был лишь наполовину каменный, а наполовину деревянный. Возле дома — небольшой фруктовый сад, тут же крохотное поле, а луг, где косили траву, был очень далеко, «на том краю света», — шутили люди. К тому времени, как умер отец, мать уже второй год кашляла, и было похоже, что и она скоро отправится вслед за отцом. Из многочисленных детей в живых остались только два сына — Тоне и Якец.
Тоне было тогда восемнадцать лет, Якецу едва исполнилось четырнадцать. Два года они с трудом управлялись с хозяйством, как вдруг слегла мать. Дважды она пыталась подняться, да так и не смогла. Однако умерла не сразу. Полгода еще пролежала прикованная к постели. Чтобы не оставлять дом без хозяйки, Тоне пришлось жениться. В жены он взял Марьяницу. Из-за густой россыпи веснушек девушка казалась старше своих лет; многословием она не отличалась.
Вскоре умерла мать. Якец почувствовал, что он лишний в доме, хотя отец и завещал ему, если он женится, двести гульденов, в противном же случае — постель в каморке на чердаке и место за столом при условии, если он будет помогать по хозяйству.
С детства Якец выделялся среди других детей, правда, не какими-то там особыми талантами и наклонностями. Отличала его нелюдимость да необычайная неопрятность — нос у него постоянно был сопливый, глаза гноились. В одной рубашонке он валялся на дороге в грязи, не желая вставать, даже когда ехала телега, — приходилось прогонять его силой. Он рыл руками канавки для дождевой воды и радовался, если вода стекала с дороги на траву.
Когда он немного подрос, отец подарил ему топорик. Заметив, что он подрубает молодые деревца и портит заборы, отец едва его не убил. Ребенок возненавидел отца, хотя явно этого и не выказывал, разве только не плакал, когда отец умер. Если Якец бежал, все сотрясалось вокруг и топот его слышало полдеревни. Куры издали узнавали его тяжелую топотню и разбегались кто куда. Люди не называли его иначе, как «Ераев звереныш».
Якец брался за любую работу и вгрызался в нее со страстью. Он знал ремесло каменщика, умел рубить лес и плотничать. На чердаке у него хранились столярные инструменты, там он, случалось, проводил целые дни за работой. Он сам смастерил себе сундук, разукрасив его замысловатыми узорами, и очень ему радовался.
И все-таки Якец не был ни каменщиком, ни столяром, ни плотником. Руки его ценились только как руки чернорабочего, который нуждался в руководстве. Он был небольшого роста, коренастый, с виду неуклюжий, но в работе сноровистый и быстрый.
У него была чуткая душа. Обычно он был веселым и улыбка не сходила с его продолговатого лица. Когда он видел человека в беде, он молча подходил к нему и глядел сочувственным взглядом.
За неизменную улыбку, особое выражение глаз и детское простодушие, проявлявшееся в его рассуждениях, люди считали Якеца придурковатым. И хотя он уже не был ребенком и дороги больше не гудели под его ногами, за ним закрепилось прозвище «Недотепа».
Эта кличка давала людям право потешаться над ним, испытывать его терпение и выставлять его каким-то придурком. Даже имя его вызывало ироническую ухмылку: имя Якец стало равнозначно слову «дурак».
Над Якецем можно было как угодно издеваться. Его трудно было вывести из равновесия. Спокойно сносил он все насмешки, не пытаясь отвечать тем же. В глазах людей это было только лишним подтверждением его слабоумия.
Обидность своего положения он понял лишь со временем. И тогда ему пришлось пережить немало горьких часов. Он стал взрослым парнем, ему казалось, что его место среди парней, что он должен сидеть с ними в трактире, гулять ночью по деревне. Но парни приняли его враждебно. Он постоянно слышал оскорбления и насмешки, которые все чаще сгоняли с его лица улыбку, больно ранили ему душу, и он возвращался домой с затаенной ненавистью в сердце.
Лишь постепенно, с упрямой настойчивостью он добился того, что парни приняли его в свою компанию. Но и после этого перья на шляпе Якеца смиренно подрагивали, тогда как у других парней они развевались так дерзко, будто вызывали на драку.
Но Якец был доволен и малым. Сам он никогда никого не обижал и старался не давать повода другим себя обидеть.
В том году Дольняковы взяли новую служанку. Она была родом из соседней деревни, расположенной в долине. На второй день он уже знал, что ее зовут Мицкой, а на третий день увидел ее совсем близко. Якец остолбенел, улыбка сошла с его лица, рот сам собой открылся…
Его охватило необыкновенное чувство, какого он еще ни разу в жизни не испытывал. Словно сладкий дурман разлился по его жилам, и от удивления он так и остался с разинутым ртом.
Он сел на колоду, закурил трубку и, не спуская глаз с девушки, молча думал.
Кожа ее была белой, чистой, румянец на щеках казался прозрачным — ну, прямо кровь с молоком. Светлые волосы красиво падали на уши и лоб, синие глаза затеняли густые ресницы. Когда она двигалась, все ее тело трепетало, как у серны.
Мицка заметила, какое впечатление она произвела на парня. Она улыбнулась, не поднимая глаз, и покраснела. Якец в ответ тоже улыбнулся.
Из дома вышла хозяйка. Восхищенные взгляды Якеца не ускользнули от ее внимания.
— Якец! Нравится тебе наша новая служанка?
— Мм… А откуда она?
Мицка залилась смехом, хозяйка сделала жест, показав, что у парня, мол, не все дома, и сказала:
— Из Речины. Пекова Мицка. Разве ты с ней незнаком?
— Не-е-е… — пробормотал он, не в силах произнести ни слова: Мицка смотрела на него с таким вызовом, что у него захватило дух.
— Ты хотел бы на мне жениться? — спросила она.
Парень не мог понять, шутит она или нет. Но он считал, что обязан ответить так, чтобы не обидеть девушку.
— Еще бы, конечно, хотел! — сказал он с чистосердечным простодушием.
Хозяйка громко рассмеялась.
Якец ушел и унес образ Мицки в своем сердце. Он понимал, что она всего лишь пошутила, и все же не мог забыть ее слов. Он думал о ней весь вечер, думал всю ночь и следующий день. И с тех пор она не выходила у него из головы.
Стоя на горе перед своим домом, он все поглядывал, что поделывает у Дольняковых Мицка. Увидев ее, он боялся шелохнуться, пока она не исчезала из виду. На поденные работы к Дольняковым он ходил с особой охотой, стоило только позвать. Когда они с Мицкой оказывались вместе, он не спускал с нее глаз, а если с ней заговаривал, то краснел до ушей.
Люди вскоре заметили, что Якец неравнодушен к Мицке. Появилась новая пища для пересудов и насмешек. Иногда вставляла словечко и сама Мицка.
— Что вы смеетесь? — говорила она. — Вот возьмем и поженимся, кому какое дело?
Все другое Якец пропускал мимо ушей, но только не слова Мицки. Они укрепляли в нем надежду. Он все серьезнее думал о девушке, жизнь без нее казалась ему пустой и невозможной. Мечты о ней скрашивали его существование. В его стремлении к недостижимой цели в самом деле была какая-то детская безоглядность.
Якец не знал жизни. В школу он не ходил, читать не умел. Даже тайны природы супружества были ему известны не до конца. Он знал о них лишь то, что подсказывало ему собственное чутье да бранные слова. Он думал, что в жизни все так же просто, как в детстве.
Только необходимость строить дом развеяла его грезы и спустила его с облаков на землю. Он понял, что если действительно хочет жениться, то должен иметь крышу над головой, а для этого нужно работать за двоих, может, даже за четверых или еще больше…
Размышляя об этом, Якец подошел к родному дому и отер пот со лба. Остановившись, он посмотрел вниз, в долину. И там перед его мысленным взором вдруг возникли смутные очертания нового домика. Ему было страшно думать о постройке, но он не мог отказаться от этой мысли, потому что тогда пришлось бы отказаться от Мицки, а отказаться от нее он был не в силах.
Ужин был уже готов, и его выставили во двор немного остыть. Якец тут же хотел поделиться своими планами с братом, но побоялся.
— Завтра пойдешь к Брдару колоть дрова, — сказал ему за ужином Тоне.
У Якеца кусок застрял в горле.
— Я обещал Дольняковым, — проговорил он медленно, не поднимая глаз. — Луг расчищать.
— А я обещал Брдару. Дольняковы и без тебя обойдутся. Они пригласили Иванчека.
Эти слова еще больше укрепили Якеца в его первоначальном решении.
— Я пойду к Дольняковым, — сказал он твердо, положил ложку на стол, взял шляпу и вышел.
На дороге он громко, радостно засвистел.
4
Войдя в сени Дольнякова дома, Мицка в удивлении остановилась. Огонь в печи почти погас, на скамье у стены стояла немытая посуда.
В горнице у печи, склонив голову, сидела хозяйка, казалось, она молилась.
— Мы поужинали пораньше, чтобы успеть как следует выспаться, — сказала она, заметив Мицкино удивление. — Завтра много работы.
— Что же вы мне не сказали? — упрекнула ее Мицка.
— Не беда. Ужин на окне. Поешь, вымой миски и тоже ложись спать.
Мицка ела медленно, есть не хотелось. Мысли все время возвращались к тому, что произошло в трактире. Она думала об Якеце, об Иванчеке, о Филиппе, о драке. В душе у нее все смешалось, и словно бы вокруг нее тоже. Она не знала, где искать опоры, куда бежать от своих мыслей…
Отец ее давно умер. Он был возчиком; случилось так, что кони понесли, он попал под телегу и от увечий вскоре скончался. У матери был в Речине дом, где она жила с двумя дочерьми и сыном. Небольшое картофельное поле и две козы, постоянно пасшиеся у реки, не могли прокормить семью. Мать пекла на продажу хлеб и таким путем кое-как сводила концы с концами.
Мать была здоровой, крепкой женщиной, одевалась почти по-городскому. Когда-то она служила в городе кухаркой, была работящей и изворотливой, из любой вещи умела извлечь пользу. Питались они не обильно, но еда была вкусно приготовлена, каждый завалящий лоскут шел у нее в дело. Люди не считали ее бедной главным образом потому, что она пекла белый хлеб, хоть сама его ела редко. Они то и дело обращались к ней со своими затруднениями, с просьбами одолжить денег, но она вынуждена была отказывать, и поэтому слыла бессердечной. И потребуйся ей помощь, она ни в ком не встретила бы сочувствия.
Она отдавала себе в этом отчет и заботилась о том, чтобы семья не знала нужды. Когда Мицка подросла, она должна была поступить в услужение. Соседи диву давались. Они полагали, что эта женщина могла бы не отдавать своих детей в люди, и считали ее алчной.
Мицка не противилась решению матери. Работы она не боялась, лишь бы досыта кормили. Ей и дома приходилось работать целыми днями. Ребенком она пасла коз у реки и, когда возвращалась домой, получала на ужин жидкую кашу. С грустью поглядывала она на буханки белого хлеба, испеченные на продажу.
Мать держала ее строго. Кроме унаследованной от матери некоторой самонадеянности сознания своей красоты, Мицка ничем не отличалась от других девушек.
Она знала, что красива, подмечала взгляды людей, слышала лестные для себя слова. Одевалась она со вкусом, всячески стараясь поддержать свою славу красавицы. Эта слава в значительной мере помогала ей переносить бедность.
И все же бедность порой так ее мучила, что она избегала знакомиться с парнями. Боялась разочарования. Ведь ее вовсе не считали бедной, а она прекрасно понимала, что у матери ее ничего нет и что ей нечего ждать от нее приданого. Она думала, будто парней, кроме ее красоты, прельщают также и деньги, которых на самом деле не было. Ей хотелось каждому сказать: «Все, что у меня есть, на мне. Больше ничего нет. Если я нравлюсь тебе такая…»
На ярмарке в соседней деревне она как-то встретила парня с лицом барчука. Они танцевали, но он так и не назвал своего имени, а она потом частенько думала о нем. Но когда он пришел к ней под окно и, пьяный, начал говорить всякие гадости, он стал ей противен. И все же она хранила в памяти его образ и искала человека, похожего на него лицом, но с другою душой.
Поступив на службу в Залесье, она снова увидела того самого красивого, по-городскому одетого парня; это был Филипп. Она не хотела с ним знаться. Он был ей неприятен, и все же глаза помимо ее воли нередко останавливались на нем. Много раз она задавала себе вопрос: «Почему он такой?»
Ей нравился Иванчек, крепкий и рослый парень, умевший вести себя, как подобает мужчине. Однако она прислушивалась не только к голосу своего сердца, но и к голосу разума. Ведь не вечно же ей служить у чужих людей! И к матери надолго вернуться она не могла. Если бы выбор зависел от нее, она выбрала бы красивого парня, у которого был бы только беленький домик да работящие руки. У него — немного, у нее — ничего, кроме кое-какой одежонки: это бы ей подошло! Но у Иванчека был большой дом, поле и покосы, а в хлеву стояли четыре коровы да пара волов. И это ее смущало. Что она принесет в дом?
При мысли о домике и работящих руках перед ее мысленным взором возник Якец со своей вечной улыбкой и детским простодушием. Он ей совсем не нравился. Единственное чувство, которое он в ней вызывал, когда другие его задевали и дразнили, была жалость. Она знала, что он беден; а дома, даже самые маленькие, не вырастали из земли как грибы. Было бы настоящим чудом, если бы парень выполнил свое обещание, которое она и не принимала всерьез.
И все же вдруг Якец выстроит дом, что тогда? Скажем, придет к ней в один прекрасный день, возьмет за руку и поведет к новому дому: «Смотри, вот дело моих рук. Ну, а ты сдержишь свое слово? Если ты меня обманешь, я подожгу дом».
Мицка живо представила себе эту сцену. Что, если он и вправду построит домик, разве тогда он не будет достоин ее руки?
Да или нет?
Мицка тихонько усмехнулась. В ту же минуту она услышала ликующий свист Якеца. Мицка ощутила его всем своим существом, он проник ей в самое сердце.
Она сняла приколотый к груди букетик и поставила его в стакан с водой.
Еще не совсем рассвело, а Якец уже стоял у Дольняковых в сенях и смотрел на Мицку, которая ставила в печь горшки и лишь раз искоса на него взглянула.
Потом расчищали луг. Грабли срывали с земли мох, выгребали из-под молодых дубков и грабов принесенные ветром прошлогодние листья, которые цепко пристали к земле. Сквозь мох кое-где уже проклевывалась молодая травка, из-под листьев пробивался морозник. Листья и сучья сваливали на проплешины и поджигали. Камни собирали в корзины, относили их и скидывали в овраг за лугом.
Иванчек не пришел помогать соседям. У Мицки сразу испортилось настроение. Якец с болью заметил это. Мицка все время оглядывалась по сторонам, на лице ее не было улыбки. Якец попытался было с ней заговорить, но она на него едва взглянула. О вчерашнем разговоре она, казалось, уже забыла.
Они столкнулись за кустом ореха, ветви которого склонялись до самой земли.
— Мицка, — сказал Якец, — что ты мне вчера обещала?
— Что? — девушка удивленно на него посмотрела.
— Букетик.
— Букетик? Ах да. Я его дома забыла.
— А вечером подаришь?
— Зачем он тебе? Он уже завял. Я тебе лучше гвоздику подарю.
— Когда?
— Когда луг скосим.
Якец оторопело смотрел на нее, не понимая, смеется над ним девушка или нет. Губы ее тронула легкая улыбка.
— Правда, правда, — сказала она, увидев, что он все еще стоит на том же месте. — Или ты мне не веришь?
На душе его стало легче. Он схватил большую охапку листьев и понес ее к уже затухающему костру. Огонь снова вспыхнул, мокрые листья дымили. Ветер прибивал дым к земле, так что костер напоминал жертвоприношение Каина.
5
Прошло несколько месяцев. Все кругом покрывала буйная зелень, сквозь густую листву деревьев пробивались горячие солнечные лучи, над цветами вились шмели и пчелы. Земля в ярком многоцветье покоилась в тишине жаркого летнего дня.
Большой луг Дольняковых скосили. Чуть пожухлую траву растрясли, и все воскресенье она пролежала на лугу. Солнце припекало, и к вечеру под ногами уже шумело сено.
В понедельник, едва наступило утро, на лугу замелькали белые передники девушек и засученные рукава парней. Солнце еще не успело осушить росу, а девушки с граблями уже переворошили сено, уложив его в новые, более высокие валки, отгребли сено от кустов и молодых дубков на солнце и растрясли, чтобы оно как следует просохло.
На лугу царило радостное оживление — день был ясный, все вокруг благоухало, работала одна молодежь. Парни и девушки двигались по лугу, сходились и снова расходились. Звучали задорные слова, которым вторил смех, то и дело заводились разговоры, от которых ничуть не страдала работа, искрились весельем шутки, шелестело сено.
Якецу хотелось быть поближе к Мицке. Но когда Дольняк распределял работу, он поставил перед ней Иванчека.
Якец огорчился. Он не забыл ни обещанной гвоздики, ни своих планов насчет будущего домика. Он твердо верил, что выстроит дом и что Мицка не нарушит данного слова. И втайне уже считал ее своею. Досадно, что в этот день он не сможет быть с нею рядом. Он не в силах был ни следить за ней, ни прислушиваться к ее болтовне и смеху.
Когда бы он на нее ни глянул, он всякий раз видел, что она улыбается. Мицка работала без отдыха. Дойдя до конца луга, она повернулась, чтобы идти обратно, и взглянула на Иванчека. Тот поплевал на руки и что-то сказал ей.
Якец готов был отдать что угодно, лишь бы расслышать сказанное. Что такое мог говорить ей этот человек, почему у нее такой счастливый вид? Вот бы у него поучиться! Сам он не отличался красноречием. Для него это было самое трудное дело на свете. Да и нужно ли говорить что-то такое особенное, если она все равно будет его женой? Он умел только смотреть и улыбаться.
Он много раз слышал, как парни разговаривают с девушками. Но разговоры эти казались ему слишком глупыми. Дразнят, переливают из пустого в порожнее. Болтают всякий вздор.
Якец не видел в подобных разговорах ничего глубокомысленного. Но у него самого так не получалось. Бог весть, может быть, за этими простыми словами кроется недоступное ему очарование или глубина? Да, за ними что-то должно скрываться.
Однажды и он попробовал говорить, как другие.
— Откуда у тебя эта гвоздика? — спросил он Мицку.
Спроси ее кто-нибудь другой, она ответила бы: «Угадай!» Но ему она сказала:
— Ах, Якец! Вот тоже мне умник! Разве ты не знаешь, где растет гвоздика?
Он был в отчаянии. Понимал, что молчание делает его неприметным и еще более невзрачным, но не видел выхода. Вот и сегодня на груди у Мицки приколота гвоздика. Словно алый огонек горит на белой блузке.
Разве весной она не обещала ему гвоздику? Цветок все время стоял у него перед глазами. Он готов был отдать за него полжизни.
Еще раз переворошив сено, работники присели закусить в маленькой тенистой ложбинке и тесно сгрудились вокруг миски с отваренными сухими грушами. Якец на этот раз примостился рядом с Мицкой, колени их соприкасались.
Окончив завтрак, люди расположились немного отдохнуть в тени. Якец с трудом дождался этой минуты и наконец сказал:
— Мицка, подари мне гвоздику!
Мицка растерялась. Невдалеке растянулся на траве Иванчек и курил сигарету. Он зорко поглядывал в их сторону, от внимания его не ускользало ни одно движение, ни одно слово.
Якец выпил несколько стопок водки и слегка охмелел, а потому был смелее обычного.
— Мицка, подари мне гвоздику! — повторил он.
— Не приставай! — отрезала она. — На что тебе гвоздика?
— Ты же обещала.
— Когда?
— Весной.
Да, Мицка вспомнила об этом. Но она никогда не думала, что он посмеет ей напомнить.
Иванчек смотрел на Якеца и Мицку. Он заметил, что девушка колеблется, не зная, как поступить. Когда ему показалось, что она вот-вот отколет от блузки гвоздику и даст ее Якецу, он со смехом крикнул:
— Мицка, подари гвоздику мне!
Якец молча уставился на товарища. Мицка чувствовала себя между двух огней и не знала, что ей делать.
— Никому не дам, — решила она наконец.
— Мицка, подари мне гвоздику! — повторили оба парня в один голос.
Девушка видела, что они не отвяжутся, надо было что-то придумать. И она придумала. Иначе поступить она не могла, не желая обижать ни того, ни другого.
— Зажмурьтесь оба! — велела она. — А я подкину цветок. На кого упадет, тому и достанется.
По-детски простодушный Якец и вправду крепко зажмурился. А Иванчек и не подумал закрыть глаза. Мицка подбросила гвоздику так, чтобы она упала на Иванчека. Тот поднял ее и прицепил к шляпе. Все произошло быстро и бесшумно.
Якец долго ждал, зажмурившись. Когда он наконец открыл глаза, все рассмеялись. Гвоздика алела на шляпе Иванчека, а Мицка молча бросала взгляды на Якеца, умоляя не сердиться, она не могла иначе.
Якец не рассердился. Он не мог на нее сердиться. И все же на сердце легла неведомая тяжесть. Иванчек стал ему ненавистен. Якец встал и исчез за кустами.
6
Удары, которые сыпались на Якеца, нелегко было снести. Они врезались в душу, следы их не заживали. Но парень упорно шел к намеченной цели.
Над всеми его думами и поступками тяготела одна мысль: «Я должен построить себе дом». О Мицке он не мечтал теперь так горячо, как прежде, стремясь лишь к тому, чтоб не угасло желание строить дом. Якец был убежден, что Мицка, как созревший плод, сама упадет к нему прямо в руки, если план его осуществится. Постройка дома стала основным стержнем его жизни, заботы о ней не покидали его ни во сне, ни наяву. Он постоянно что-то подсчитывал и улыбался.
— Хочу рассчитаться с тобой за поденную работу, — сказал ему Дольняк.
— Уступи мне несколько сосен, если тебе все равно, — ответил ему Якец.
— На что тебе сосны?
— Дом буду строить.
Мицка слышала это, но не проронила ни слова, даже не усмехнулась. Зато рассмеялся Дольняк.
— Что ж, мне еще лучше, — сказал он. — Я охотней плачу натурой, чем деньгами. А когда тебе они понадобятся?
— Осенью. Весной начну строиться.
То же самое было и с Рупаром.
— Я тебе должен еще с прошлого года, — сказал ему сосед. — Да все нет денег. Уж как-нибудь сочтемся.
— Сочтемся, — согласился Якец и задумался, уставившись взглядом в землю. — Сочтемся, — повторил он еще раз. — Уступи мне клочок земли, на котором я мог бы поставить дом.
— Дом? — ахнул Рупар так, что у него чуть трубка изо рта не вылетела. — Что это с тобой стряслось?
Но Якецу дело вовсе не казалось таким забавным, и удивление соседа его обидело.
— Не дашь, попрошу у другого. За деньги можно все получить, за работу — тоже.
— Я вовсе не сказал, что не дам, — попытался Рупар развеять досаду парня. — Просто меня удивило, что ты строишь дом, я об этом ничего не слышал. А где бы ты хотел его поставить?
Лицо Якеца снова прояснилось.
— Знаешь мостик неподалеку от трактира? — сразу оживился он. — Не доходя до него, слева будут две скалы. Между ними бросовая земля. Это твой надел. Вот там под скалой я и поставил бы дом, если ты ничего не имеешь против.
— Ставь хоть сегодня, — согласился сосед; он был рад, что ему не надо платить деньгами. — Я и сам приду помогу, когда будешь закладывать фундамент.
Якец сиял от радости.
— И камни… Ты не будешь возражать, если я возьму их там же, на месте?
— Бог с тобой! Камней мне не жалко. Ты мне только дорогу расчистишь. Уж чем-чем, а камнями-то мы богаты! Если бы у нас было столько же и другого добра!
Еще не ударили первые заморозки, а у Якеца были уже место для постройки, лес, камни, известь и кровельная солома. Большую часть всего этого он получил при расчете с соседями, ведь все его сбережения представляли собой неоплаченную поденную работу. Таким путем он обеспечил себя строительными материалами, а отчасти и рабочей силой.
О намерении его вскоре всем стало известно. Люди не могли прийти в себя от изумления, будто он собирался строить дворец, а не маленький домишко для двоих, да, может быть, для полдюжины детей. Когда они думали о том, что стройку затеял именно Якец, все казалось еще невероятней. Они полагали, что это просто блажь, которая пройдет через несколько дней. Лишь когда в Дольняковом лесу упали первые сосны и, обрубленные, были сложены у дороги на просушку, люди перестали сомневаться в серьезности его затеи. И с усмешкой говорили: «Дураки дома строят, а умные в них живут».
— На что тебе дом? — спрашивали они Якеца.
— Как на что? Я женюсь.
— На ком?
— На батрачке Дольняковых.
— На Мицке? А она за тебя пойдет?
— Сказала, что пойдет, если у меня будет дом.
Он говорил об этом так простосердечно, что люди диву давались и не переставали судачить о нем, даже в его присутствии.
Мицке это было неприятно. У нее возникло такое чувство, словно она зацепилась в лесу за колючий куст и никак не может высвободиться.
— Слышь, Мицка! У тебя будет дом. И какой парень в придачу! Ты, конечно, рада?
Мицка отвечала натянутым смехом. В душе она знала, что намерения у Якеца серьезные, только не верила, что он их осуществит. В редкие минуты, когда ей казалось это возможным, она искренне жалела парня.
— Ну, пусть построит дом, — говорила она себе. — Я в нем жить не буду, так будет жить другая.
Иногда, восхищаясь непреклонной волею Якеца, Мицка вдруг видела себя в его новом доме. Якец не потребовал бы от нее ни богатства, ни приданого — только любви. Но уже в следующую минуту эта мысль представлялась ей настолько невероятной, что она не могла не рассмеяться: «Люди станут потешаться, если увидят меня вместе с ним!»
Люди, люди, вечно эти люди! Словно единственная их цель постоянными насмешками губить счастье своих ближних. Но Якец не обращал на них внимания. А если бы обращал, злые насмешки разрушили бы все его замыслы уже в самом начале.
Как-то вечером Якец вернулся домой особенно усталый.
— Что ты делал? — спросил его брат Тоне.
— Просеивал песок и носил его от речки на постройку.
Лицо Тоне было совершенно неподвижным, и по нему никогда нельзя было прочесть его мыслей.
— Так ты правда, значит, болтал людям, будто собираешься строить дом? — спросил он спустя некоторое время.
— Да, собираюсь, — подтвердил Якец. — И ты мне поможешь.
— Черта с два помогу! Я и со своей-то работой никак не управлюсь.
Слова эти, сказанные с необычной горячностью, разозлили и Якеца.
— Тогда выплати мне отцовские двести гульденов, и дело с концом!
Тоне стукнул по столу ложкой и, не переставая есть, злобно взглянул на брата.
— А где я их возьму? — рявкнул он.
Некоторое время оба молчали. Мысль каждого из них работала медленно, но упорно, ища какой-то выход. Якец нашел его первым и ответил на поставленный вопрос так спокойно, будто и не было минуту назад никакой вспышки:
— В хлеву у тебя стоит молодой бычок, от него никакого проку, только сено жрет. Продай его! А остальное отработаешь на постройке.
Тоне молчал. Он дул на горячую яблочную похлебку и отправлял в рот ложку за ложкой.
— Ну как, согласен или нет?
Брату было бы в сто раз больше по душе, если бы Якец не думал о доме и женитьбе. Надежда, что он никогда не затеет этот разговор, рассеялась как дым. Теперь он обдумывал, действительно ли выход, предложенный Якецем, для него, Тоне, самый безболезненный, каким можно отделаться от брата. Прежде чем он все как следует обдумал, Якец снова повторил свой вопрос:
— Ну как, согласен или нет?
Он уже много раз собирался поговорить с братом, но никак не мог решиться. Теперь, когда разговор был начат, он хотел довести дело до конца.
Тоне положил на стол ложку и небрежно перекрестился.
— Строить помогу, а бычка продавать не стану.
— Сами мы не управимся, придется нанять рабочих.
Тоне задумался. Он любил бычка и не хотел с ним расставаться. И уж если продавать его, то хорошо бы на эти деньги купить телку.
Он долго раздумывал и колебался.
— И ты думаешь, тебе этих денег хватит?
— Думаю, хватит.
— А ты не бросишь их на ветер?
— Нет, — решительно ответил Якец. — Я построю дом, даже если все откажут мне в помощи. Дня не хватит — буду строить по ночам. Года не хватит — буду строить два года.
Он был взволнован. Тоне молча смотрел на него. Никогда еще он не видел брата в таком состоянии.
— Ну, чего ты разошелся? — сказал он примирительно. — Ладно, отдам тебе деньги, которые выручу за бычка. А если их окажется меньше, чем положено по завещанию, буду работать на постройке. Но уж потом с меня взятки гладки!
7
Наступила осень. Ветер носил золотые цехины листьев, склоны гор по ночам покрывал иней. В ясные дни солнце заливало бурые кручи красноватым светом. По вечерам ярко пламенели закаты, поминутно меняя оттенки. В пасмурную погоду над землею сгущался унылый сумрак.
День, когда была ярмарка, выдался ясным и солнечным. Хорошая погода привлекла много народу. Трактиры шумели — даже в кухнях, сенях и подвалах было битком набито; люди переговаривались, пили вино, поджидая, пока освободится более удобное место.
В трактире Баланта парни и девушки из Залесья заняли верхнюю комнату. Парни разместились у стола, девушки — кто на скамьях вдоль стены, кто у окон, не выражая особой готовности присоединиться к остальной компании. Вино пили только парни, девушки разве что отпивали глоток-другой. На столе лежали большие куски сладкого пирога. У парней из карманов выглядывали медовые и сахарные печатные пряники, приготовленные девушкам в подарок. Надписи на пряниках каждый выбирал сам по своему желанию и вкусу, и часто они говорили больше, чем могут сказать обычные слова.
Якец сидел на углу стола, не спуская глаз с Мицки. В новом розовом платье, она стояла у окна и только смеялась в ответ, когда парни угощали ее вином.
Настроение у всех было приподнятое. Каждый принарядился, как только мог. Все шутки, которые отпускались сейчас как бы невзначай, были заранее тщательно обдуманы и припасены специально для этого праздника. Солнце, правда, уже не грело, но лучи, пробивавшиеся в окно сквозь пожелтевшие листья винограда, казались совершенно золотыми и приятно оживляли осенние цветы и веселые лица.
Якец щурился, поглядывая на все это великолепие, и улыбался. Он был рад, что Мицка стоит у окошка одна. Иванчек, сидя за столом, пожирал ее глазами. Якец слышал, как он предложил ей вина и как Мицка отказалась.
— Погоди, — сказала она. — Чего спешить?
— Ждать и догонять — хуже всего!
Все засмеялись.
Иванчек не стал больше угощать Мицку, и это ее встревожило. Ведь она отказалась только ради приличия, так было принято — ни одна девушка не бралась за стакан по первому слову парня. А ждала угощения она как раз от него. Неужели он обиделся? По его глазам ничего нельзя было заметить. Они были такие же, как прежде. Хотя нет, блестят чуточку по-другому. Ну и пусть! Она пожала плечами. Ей было неприятно, но все же не настолько, чтобы этого не пережить.
На лице ее появилась задумчивость, не укрывшаяся от глаз Якеца. Он уже немного выпил и почувствовал прилив смелости. Наполнив стакан до краев, он поднес его Мицке.
— Пей!
Желая заглушить свое беспокойство и отомстить Иванчеку, она не стала отказываться. Усмехнулась только, — мол, чего доброго, еще опьянею, — и взяла стакан.
— Будем здоровы!
Сделав несколько глотков, она встретилась взглядом с Иванчеком. В глазах его сверкали молнии. Вино попало ей не в то горло, она поперхнулась.
— Бог с тобой! Кто-то, видно, пожалел тебе вина!
— Спасибо! — сказала Мицка и поставила стакан на стол. — Кто знает, Якец, может, сам ты и пожалел? Слишком много я у тебя выпила.
Но Якец так на нее взглянул, что она поспешила поправиться.
— Ах, какой ты чудной! — воскликнула она. — Все понимаешь всерьез. Конечно, не ты, а кто-то другой попрекнул меня этим вином.
Взгляд ее невольно остановился на Иванчеке. Тот понял. Сердито прищурил глаза.
— Как же я могу тебя попрекать? — произнес он медленно. — Моего вина ты не захотела пить.
В голосе его было столько язвительности, что все переглянулись, испугавшись, что праздничное настроение будет испорчено. Слова Иванчека остались без ответа, будто бы он их и не говорил.
Чтобы все обернуть в шутку, один из парней вытянул у Иванчека из кармана большое пряничное сердце с надписью и маленьким зеркальцем, помахал им над головой и спросил:
— Это ты для кого купил?
Раздался смех. На пряничном сердце были написаны четыре строчки, но, когда парень хотел их прочесть, Иванчек выхватил пряник у него из рук.
— Для кого бы ни было, а читать не смей!
— Все-таки для кого? Хочешь, угадаю!
— Та, для кого я покупал, не хочет моего подарка. Отнесу его домой или просто выброшу, — сказал Иванчек, не глядя на Мицку.
Но она поняла, куда он метит. Ей было тяжело, однако она никак это не показала и через силу продолжала смеяться, тем более что веселье возобновилось. Но на душе у Мицки делалось все тяжелее. Ей казалось, будто тяжесть эта разливается по всему телу, чувствовала, что улыбается одними губами и вот-вот расплачется. Отчего? Разве она знала?
Неожиданно она вышла из комнаты. В коридоре стоял старый сундук, рядом было маленькое оконце. Она подошла к нему и сквозь грязное стекло стала смотреть на пожелтевшую листву деревьев. Ее охватила тоска, свинцом налились веки. Что с ней такое? Она не могла разобраться в своих ощущениях. Подошла проходившая мимо девушка, положила ей на плечо руку.
— Что с тобой, Мицка?
Та оглянулась со слезами на глазах.
— Ничего. Просто там душно.
— Тебе нехорошо?
— Нет, ничего. Ты иди! Я сейчас приду.
Девушка ушла. Через несколько минут вышел Иванчек. Он услышал, что девушки перешептываются о Мицке, и не мог усидеть на месте.
Мицка все еще стояла у окна. Слезы тем временем она уже вытерла, но по глазам было видно, что она плакала. Иванчек сразу обо всем догадался и пожалел, что обидел ее.
— Что тебе? — спросила Мицка, пытаясь улыбнуться.
— Ты почему ушла?
— Так. Здесь лучше.
Парень внимательно посмотрел на нее. Мицке ничего не надо было говорить, Иванчек все прочел на ее лице. Оба жалели о размолвке и думали, как бы загладить случившееся.
— Ты кому купил пряничное сердце?
Мицка понимала, что не следует этого спрашивать, но ничего не могла с собой поделать.
— Тебе, — ответил Иванчек. — Конечно, если ты и вправду хочешь его получить.
— Но ты же мне его не предложил.
Иванчек на миг растерялся, потом вытащил пряник из кармана.
— На! — сказал он быстро.
Мицка взяла подарок, прочитала надпись и завернула сердце в белый платочек.
— Спасибо!
Лицо ее совершенно преобразилось, в глазах не осталось и следа печали. Иванчек тоже пришел в себя после минутного смущения и рассмеялся.
— Чего ты смеешься?
— Я думал, ты завела себе другого.
Мицка надула губы.
— Ты вечно думаешь одно плохое.
— Ну, — сказал Иванчек, — если он строит для тебя дом…
Мицка некоторое время молчала. По глазам Иванчека она видела, что сказал он это полушутя, полусерьезно.
— Для меня строит дом?
— Так он говорит.
— Как же я могу запретить ему строить? И чем я виновата, если он так говорит?
— Но ты же ему сказала, что выйдешь за него замуж, если у него будет дом!
Парень смотрел ей прямо в глаза, стараясь понять, можно ли ей верить.
— Так ведь я только пошутила!
Иванчек поверил и успокоился. Мицке эти слова дались нелегко, но она не могла их не сказать. Когда они с Иванчеком присоединились к остальной компании, Мицка не решилась взглянуть Якецу в глаза. Девушка не вернулась на свое место у окошка, а села на скамью среди подруг.
Якец тут же заметил перемену в ее настроении. Хотя он и не умел читать по лицу то, что происходит в душе, подсознательно он чувствовал это. Из платочка Мицки выглядывало пряничное сердце, которое мог подарить ей только Иванчек.
Взглянув на Иванчека, Якец обнаружил, что тот тоже на него смотрит. Он отвел взгляд, потом снова поднял. Иванчек по-прежнему смотрел на него, слегка приоткрыв рот; казалось, он насмехался над Якецем. Якец снова отвел глаза.
Ведь в его кармане тоже лежал медовый пряник, который он так и не решился подарить Мицке! А вдруг она откажется от его подарка? Тогда его поднимут на смех, от стыда сквозь землю провалишься. Лучше уж попробовать на обратном пути. Может, тогда удастся предложить Мицке пряник не на людях, без насмешек и позора.
Он опять поднял глаза. Иванчек все еще на него смотрел. Якец привычно улыбнулся.
— Ты что меня так разглядываешь? — спросил он Иванчека. — Словно покупать собрался.
— А ты разве продаешься? — съязвил Иванчек.
— Ну, нет.
— А я уж подумал, что продаешься, раз ты так спрашиваешь. Слышал я, ты себе дом строишь?
— Строю.
— И жениться собираешься?
— А чего ж, — сказал он так забавно, что все рассмеялись. И сам Якец тоже.
— На Мицке?
На это Якец ничего не ответил. Он понял, что Иванчек хочет над ним посмеяться. Улыбка исчезла с его лица, он посмотрел на Мицку. Та сидела, опустив глаза. Остальные хохотали.
— Не забудь о кровати, Якец!
— Ха-ха-ха-ха!
— И о колыбельке.
— Ха-ха-ха-ха-ха!
Все были уже под хмельком и готовы были смеяться даже без всякого повода. Якец молча схватил свой стакан и осушил его до дна. Он чувствовал дрожь во всем теле, кровь бросилась ему в лицо. Он с трудом сдерживался, чтобы не дать волю ярости.
— Когда же будет свадьба, Якец?
Ответом был общий смех.
— Оставьте его в покое! — сказала Мицка тихо.
Все издевательства Якец пропускал мимо ушей, но эти слова не мог не услышать. Они придали ему столько силы, что он встал, надвинул на глаза шляпу и, не оглядываясь, вышел из комнаты. И дальше — по коридору, по лестнице, прочь отсюда.
8
Насмешки глубоко ранили Якеца. В нем пробуждались незнакомые ему прежде чувства — досада, злость, жажда мести. Как и другим людям, сейчас ему были доступны и душевная боль, и радость.
Он ненавидел всех людей, кроме Мицки. И хотел отомстить им, построив собственный дом. Если раньше он еще изредка колебался, то теперь его намерение выстроить дом стало твердым, как сталь.
Когда он, неуклюже шагая, возвращался в Залесье, он не видел ни глубокой долины внизу, ни неба, ни желтых листьев, слетавших на дорогу. Перед его глазами возникал беленький домик его мечты, на окошке стояли гвоздики и розмарин, а за цветами мелькало лицо Мицки. Почему он представлял себе свой будущий дом таким? Картина, рисовавшаяся его воображению, помогала Якецу забывать о насмешках. Он шел домой, заглядывал на минутку к соседу, вечером ложился и засыпал с мыслью о Мицке.
А на следующее утро, едва всходило солнце, он был уже между большими скалами близ мостика и не покладая рук копал землю. Тяжелая желтая глина липла к мотыге. Пот лился со лба, но он этого не замечал. Из-за стоявших на окне цветов ему все время улыбалась Мицка.
— Моя жена, — шептал он, работая не разгибая спины. — Моя Мицка, — повторял он снова и снова.
Но иногда он вдруг распрямлялся и оглядывался по сторонам. Что, если кто-нибудь пройдет мимо и услышит, как он разговаривает сам с собой?
Пришел мастер Франце и складным метром измерил место будущего фундамента.
— Глубоко придется копать, — сказал он Якецу, — до самой скалы.
И Якец докопал до самой скалы. Глину он отвозил в сторону. Затем стал отбивать камни и складывать их поблизости в большую кучу; ему казалось, что камней он заготовил столько, что их должно хватить на постройку двух домов. Он вырыл также яму для извести и, чтобы ее погасить, направил туда по желобу воду. Кроме извести, он припас большую кучу мелкого песка. От лесопильни, находящейся в ущелье, — до нее было три четверти часа ходьбы, — он натаскал досок, впивавшихся ему в плечи, и сложил их под навесом из веток и коры, чтобы они не мокли под дождем. Дольняк на волах подвез ему бревна к самой постройке.
Люди, которые раньше смеялись над Якецем, теперь поняли, что замысел его вполне серьезен, хотя дома еще и не было.
— Ну как, осилишь? — спрашивали они Якеца, проходя мимо.
— Бог даст, осилю, — отвечал он.
И Якец рос в глазах людей.
— Нет, он не дурак. У него будет дом.
— А пусть даже и дурак, усердие тоже кое-что да значит.
Но не у всех это укладывалось в голове. Зачем ему дом? Кое-кто продолжал считать его придурковатым и не мог себе представить, чтобы он и вправду женился.
Перед будущей стройкой останавливались и девушки. «У него будет свой дом, человек он работящий», — думали они. Ни одна из них не горела желанием стать его женой, но жизнь с ним не казалась им такой уж немыслимой.
— Какой у тебя будет дом, Якец?
Якец отрывался от работы. Рукава у него были засучены, рубашка и жилетка расстегнуты даже в стужу. Он стоял, широко расставив ноги, словно боялся упасть.
— Какой? — говорил он, улыбаясь. — Довольно просторный. Кухня, горница и боковушка. Все каменное, все новое.
— А погреб?
— Ну, было бы что хранить, а место найдется, — усмехнулся Якец.
— Сыты сегодня, и ладно, так, что ли?
Якец только кивнул. Он понял, что хотели сказать девушки, и был им благодарен. Он знал, что никто не верит, будто он в самом деле женится на Мицке. И это его мучило.
Брат продал бычка, наскреб еще кое-что и выложил Якецу сто восемьдесят гульденов.
— Остальное я отработаю, — сказал он. — А когда будешь строиться, мы сможем кормить рабочих.
Якец был доволен. Деньги он запер в сундук и уселся сверху на крышку. Ему казалось, что на пути к его цели не осталось больше никаких преград.
Зима шла к концу, чувствовалась близость весны. После долгих дождей небо наконец прояснилось. Снова пришел мастер Франце и принес с собой оконные рамы.
— Что ж, начнем? — спросил он.
Якец кивнул, и они приступили к работе.
— Первый камень заложи сам, — сказал ему Франце. — Ведь это твой дом.
Якец приволок большой камень на то место, где предполагался угол будущего дома, укрепил его, плеснул сверху известкового раствора и поставил на него следующий камень.
— Хорошо, — похвалил мастер. — А дальше продолжу я сам. Ты знай подноси мне камни и раствор.
И вот над фундаментом поднялись стены, они росли все выше и выше, в них уже были окна; вот появилась и стена, отделявшая горницу от боковушки.
— Стены готовы, — сказал мастер, — нужно скорее покрыть дом крышей, чтобы его не попортил первый дождь.
Они связали стропила и позвали на помощь людей, чтобы поднять их наверх. Обрисовался остов крыши. Только теперь постройка приняла вид настоящего дома.
К коньку крыши прикрепили верхушку елочки, на которой развевалось несколько ярких лент. Когда все присели отдохнуть, выпить водки да закусить хлебом, на дороге показалась Мицка.
Она невольно улыбнулась, и Якец это заметил.
— Дай Бог вам удачи! — пожелала она.
Рабочие засмеялись.
— Что ж, всегда бы такая удача — есть да пить!
— Я про работу вашу говорю, — поправилась Мицка. — А сейчас приятного вам аппетита!
— Что ж, ты вполне можешь пожелать нам удачи в работе, ведь и для тебя стараемся. Да, Якец?
Якец молчал, только блаженно улыбался. Он был рад, что работа спорится. А с приходом Мицки вообще почувствовал себя на седьмом небе.
— Почем вы знаете, что у Якеца на уме? — сказала Мицка. — Теперь у него будет свой дом, и он станет разборчивым женихом.
Эти слова сразу избавили Якеца от всех мук и сомнений.
— Я свое слово сдержу, — сказал он твердо. — Лишь бы его сдержал и кое-кто другой.
— Если кто и взаправду дал тебе слово, то, конечно, его сдержит, — ответила Мицка, которая решила воспользоваться случаем и выбить у него из головы серьезные планы на ее счет. — Но всему, что тебе говорят, тоже верить нельзя. Ты что, шуток не понимаешь?
Якец упал с облаков на землю. Он не донес хлеб до рта. Неужели все это было только шуткой? Для кого же он тогда строил дом? Зачем вложил в эти стены все отцовское наследство и столько трудов? На душе у него было так горько, что он не мог произнести ни слова.
9
В этот вечер он чувствовал себя измученным, как никогда в жизни. Тело было будто неживое, одеревенелые руки бессильно повисли. С самого начала строительства он не ощущал такой усталости, как сегодня, когда понял, что все его труды могут пойти прахом.
Если нет своего дома — это еще не велика беда, ведь и без собственного угла можно прожить. Можно обойтись и без жены — помрешь бобылем, и все. Но не жениться на своей избраннице, не ввести ее в дом, построенный для нее своими руками, — значит отказаться от высшего блаженства и смысла жизни.
Что делать? Предоставить стенам, деревянным стропилам, не покрытым еще соломой, окнам без стекол разрушаться от времени и непогоды? А самому пуститься в далекие странствия по белу свету и не возвращаться больше в родную деревню?
Он погрузился в раздумье. В конце концов, что же такое произошло? Разве Мицка сказала свое последнее слово? Может, она только пошутила? Ведь он еще не говорил с ней серьезно и окончательно.
Надо с ней поговорить начистоту, без всяких обиняков и недомолвок. Тогда он будет знать, что ему делать.
Приняв такое решение, Якец встал и вышел из дому.
Был ясный вечер, светили звезды. Тишина стояла такая, что слышен был малейший шум, даже журчанье реки в ущелье. Однако, несмотря на звезды, темнота была хоть глаз выколи — не различить ни деревьев, ни заборов. Гора поднималась к самым звездам, дома угадывались только по огням.
Якец вошел к Дольняковым. Они только что отужинали. Он сел на скамью и закурил трубку, не сводя глаз с Мицки, которая на него почти не смотрела. Не успел он перемолвиться словом с хозяином, как она подхватила грязную посуду и пошла с нею в сени.
Он еще немного посидел и поднялся.
— Уже уходишь, Якец? — спросил его Дольняк.
— Пойду в сени, взгляну, что делает Мицка, — ответил он.
— Пойди, пойди! — подбодрил его хозяин. — Куда девушки, туда и парни.
Мицка, не оборачиваясь, мыла посуду. Поискав глазами, куда бы сесть, и не найдя ничего подходящего, он остался стоять, прислонившись к стене.
— Ты ведь, наверно, устал? — спросила его Мицка.
Якец на минуту задумался. Чего ради она об этом спрашивает? Может, потому, что он стоит? Но тогда она попросту освободила бы ему место, куда он мог бы сесть. Нет, очевидно, ей вовсе не до него, и она намекает, чтобы он шел домой. Может, ждет другого? От этой мысли ему стало еще горше.
— Нет, я ничуть не устал, — солгал он.
Якец подыскивал слова, чтобы завести разговор, ради которого пришел. В растерянности он уставился на закопченный потолок, будто там было спасение от всех его бед. Время шло, и, когда молчать уже больше было нельзя, он взял быка за рога.
— Ты видела мой дом? — спросил он.
— Видела, — ответила Мицка равнодушно, опрокидывая последнюю миску на груду вымытой посуды.
— Ну и что скажешь?
— Что я могу сказать? Хороший дом. Будет свой угол, из которого никто никогда не прогонит.
Якец почувствовал, что он снова оказался в тупике, из которого не было выхода. Он взглянул на Мицку глазами несчастного зверька, попавшего в капкан.
— Ты думаешь, я для себя строил? — спросил он.
Ему стало легче оттого, что он высказал то, что хотел.
— Знаю, — медленно проговорила Мицка, тщательно выбирая слова, чтоб не оказаться снова в ловушке. — Ты собираешься жениться. Девушек в селе немало. Многие пойдут за тебя с радостью.
Тут Мицка покривила душой. Ни одна из молодых, сохранивших чистоту девушек не пошла бы за него, пока у нее была надежда на что-то лучшее. Мицка это знала, слова ее также меньше всего относились к ней самой. Она уже сказала Иванчеку, что за ней не дадут приданого. Парень принял это известие спокойно. Свалив с души тяжесть, она еще больше стала мечтать об Иванчеке.
Якец был в затруднении. Он понял, что ему придется раскрыть перед девушкой тайники своего сердца и просто, без всяких прикрас выложить ей самое дорогое и сокровенное.
— Мицка, — начал он, — ты обещала выйти за меня замуж, если я выстрою дом. Разве ты не помнишь? А я в точности помню, где ты это сказала. На том самом месте, где сейчас стоит дом. Неужели ты и вправду все забыла?
Мицка молча вытирала посуду и убирала ее в шкаф. Откровенные слова Якеца требовали, чтобы и она ответила ему с той же прямотой.
— Но я думала, что тебе никогда не построить дом…
У Якеца чуть не потемнело в глазах, но в глубине души он знал, что его ждет именно такой ответ.
— Видишь, — сказал он, — я сдержал слово, и тебе тоже не следовало бы его нарушать. Но если ты тогда говорила не всерьез, то теперь, когда дом почти готов, уже не до шуток.
Мицка почувствовала себя припертой к стене. Руки ее дрожали, сердце громко стучало. Она сознавала, что упреки Якеца справедливы.
— А ты подумал, гожусь ли я тебе в жены? — проговорила она наконец. — У меня ведь ничего нет. Тебе пришлось бы покупать мне даже рубашку…
Это был жестокий удар, но и он не вывел Якеца из равновесия.
— Я тебе все куплю, — сказал он. — Ты ведь такая красивая… Только бы ты была моей!
Простосердечные слова Якеца заставили Мицку улыбнуться. Они льстили ее самолюбию, и в то же время ей было жаль парня, для которого все было так просто.
— Подожди годик-другой, обзаведись сначала хозяйством. Все-то ты делаешь очертя голову.
Якец горел как в огне. Мицка прямо ему не отказала, хотя ничего и не обещала наверняка. Он так разволновался, будто дело шло о жизни и смерти. Неожиданно он выпалил:
— Ждать я не буду. Если ты не дашь мне слово, я брошу дом, пусть себе пропадает, а сам уеду куда глаза глядят. Я строил его не для себя и не для кого другого, а только для тебя. Если ты не хочешь жить в этом доме, то и я не хочу, и никто в нем жить тогда не будет.
Мицка испугалась. Таким она никогда его не видела. Перед ней стоял совершенно другой человек — страдающий, гордый, полный страсти и решимости. Ее прежнее представление о нем рассеялось, он вырос в ее глазах, стал лучше, значительней.
Она поняла, что может погубить парня одним словом. Этого она не хотела, ей было его жалко. Зачем только она заронила ему в душу надежду? Ей хотелось хоть как-то исправить положение, если это было еще возможно.
— Не надо так, Яка! Достраивай дом! Ты ведь знаешь, что я обязана служить тут до весны… И сама я не могу тебе навязываться. Если я дала тебе слово, то подожди! Ну, что я могу тебе еще сказать?
И правда, больше сказать ей было нечего. Она не хотела связывать себя новым обещанием, брать на свою душу еще больший грех. Но не могла и лишить его последней надежды.
Для Якеца этого было достаточно. На лице его появилась улыбка, улыбались и глаза и лоб, и даже шляпа шевельнулась на затылке.
— Всегда-то ты меня дразнишь, — сказал он совсем как ребенок. — Но потом ты не будешь брать пряники от других и дарить им гвоздики?
— Когда это потом?
— Когда станешь моей женой.
— Ну и умник же ты, Якец! — через силу улыбнулась Мицка.
А у Якеца на душе стало легче. Он попрощался и ушел, чувствуя прилив новых сил.
10
Разговор с Мицкой успокоил Якеца, зато на сердце девушки легла тяжесть. Ей казалось, будто она стоит над пропастью. В шутку она дала Якецу слово выйти за него замуж, но тот принял его всерьез. Теперь ей придется свое слово нарушить. Это ее мучило, она жалела парня, как жалела бы любого другого, кто оказался бы на его месте; думать о Якеце с каждым днем становилось тяжелее.
Иванчек заметил, что Мицка изменилась. Она стала молчаливой, задумчивой. Не хотела говорить об их любви и свадьбе, хотя он каждый раз пытался завести об этом разговор. Он был сыном крестьянина среднего достатка, никто не принуждал его жениться — в доме еще были незамужние сестры, но если бы он захотел, он мог привести в дом молодую жену.
О женитьбе на Мицке он думал вполне серьезно. Ему нравилась и ее наружность, и ее усердие в работе. Она не боялась мозолей на руках, служа у чужих людей, с еще большим рвением она стала бы работать на свою семью. Его немного тревожило то, что у нее нет приданого. Самому-то ему ничего, а вот что скажет отец и другие люди, которые судят о достоинствах невесты только по ее деньгам? Лишь поэтому его огорчило признание Мицки, что у нее ничего нет. Но когда он все тщательно обдумал и взвесил, этот вопрос перестал его волновать. Он мечтал о Мицке, как прежде, известие о ее бедности ничуть не поколебало его намерения на ней жениться.
А Мицка вела себя странно. Неужели она передумала? Но ведь она не скрывала, что любит его. Он и сам это видел по многим признакам, может быть, незаметным даже для нее. Ну, а если за ней увивается Якец? Иванчеку казалось смешным ревновать Мицку к этому человеку. И все же на его пути мог быть только он.
Иванчек злился на Мицку за то, что она заставляет его думать о Якеце. Он представить себе не мог, что Якец может стать опасным соперником. Однако тот выстроил дом. До Иванчека дошли слухи о том, что Мицка обещала Якецу. Парень сдержал свое слово. «А она?» — спрашивал себя Иванчек, но не находил ответа. Ответ знала только Мицка. Только она в силах распутать этот узел и снять с его души тяжесть.
— Что с тобой, Мицка? — спросил он ее однажды.
Мицка быстро на него взглянула. Вопрос не удивил ее. Она ожидала, что он заметит ее состояние.
— Ничего. Разве я не такая, как всегда?
Но Иванчек не отступил. Он решил быть твердым и непреклонным.
— Если тебе неприятно со мной разговаривать, я могу уйти.
Мицка смерила его долгим удивленным взглядом.
— Это еще зачем? Ты мне не мешаешь.
— Если у тебя другой парень, не стоит морочить друг другу голову, — говорил он, сознательно стараясь рассердить ее и вынудить так или иначе признать справедливость его догадки.
Мицка не знала, что ответить. И сказала первое, что пришло в голову:
— Никого у меня нет. Я никому не навязываюсь. И ни в ком не нуждаюсь. Пока смогу, буду работать у чужих людей, а потом…
От горечи, захлестнувшей ей сердце, она не могла продолжать. Иванчек растерялся. У него и в мыслях не было ее обидеть. И все же он сказал то, что вертелось у него на языке:
— Но у тебя был разговор с Якецем!
— У меня? — Она притворно удивилась. — Ты ведь знаешь, что за разговор может быть с Якецем. Вы ведь тоже над ним вечно подшучиваете.
Иванчек все еще не знал, верить ей или нет.
— И ты не думаешь о нем?
— До сегодняшнего дня не думала, — осторожно ответила Мицка. — Уж в этом можешь не сомневаться.
— До сегодняшнего дня? Что это значит?
— То значит, что люди часто зарекаются, а после каются. Мне бы этого не хотелось.
Иванчек остался доволен таким ответом. Влюбленно взглянул он на Мицку. Она больше обиделась, чем рассердилась. И он решил, что сейчас лучше всего оставить ее одну, они поговорят в другой раз.
11
С тех пор Иванчек особенно невзлюбил Якеца. Он не только постоянно издевался над ним, парень вызывал в нем настоящую ненависть. Ему казалось, что Якец со своей вечной улыбкой стоит на его пути к счастью и, строя свой дом, разрушает его жизнь.
Стоило ему подумать о Мицке, как перед глазами возникал Якец со своим еще не достроенным домом. В трактир или в Речину Иванчек непременно шел мимо дома Якеца, хотя туда были и другие дороги, более близкие.
Дом с каждым днем приобретал все более законченный вид. На стропила уже легла соломенная кровля. Настланы полы и потолок, широкая лестница вела на чердак. В окнах заблестели стекла, а маленькое оконце боковушки было забрано железной решеткой с крестами.
Увидев решетку впервые, Иванчек усмехнулся. «Боится за красавицу жену», — сказал он про себя.
Был готов и дощатый фронтон. Внутри стены были уже оштукатурены и побелены. Лишь снаружи дом казался еще каким-то голым. Не было пока в комнатах ни скамеек, ни другой мебели, гнездо было еще не обжитое.
Иванчек злорадно усмехался. Он прослышал, что Якец истратил все свои деньги, а брат больше не желал ему помогать. Между тем снова наступила весна. Якец должен был ходить на поденные работы, чтобы заработать на жизнь. Когда у него заводились деньги, он покупал доски и в дождливые дни запирался в своем доме, прихватив с собой немного водки и хлеба, и столярничал.
И все же когда Иванчек видел дом Якеца, он испытывал чувство зависти. Его собственный дом был просторным, но старым, по стене от земли до самой крыши вилась глубокая трещина, окна были маленькие, горница низкая, сырая и темная. Однажды Мицка зашла к ним. Ему показалось, что, увидев мрачные стены, она поморщилась. И словно и в этом виноват Якец, — всякий раз, припоминая эту гримасу Мицки, Иванчек чувствовал, что новый дом Якеца сидит в его сердце занозой.
В таком настроении он проходил как-то мимо домика Якеца и увидел, что тот что-то мастерит у открытого окна. На горе за домом уже зеленели буки, в листве щебетали птицы. А Якец работал и улыбался.
Иванчек остановился. Улыбка Якеца обожгла его, как насмешка.
— Что это ты мастеришь? — спросил его Иванчек, даже не поздоровавшись.
— Кровать.
— Для себя или для жены?
— Для обоих, — ответил Якец.
На минуту Иванчек потерял дар речи, словно Якец бросил ему в лицо страшное оскорбление.
— А на ком ты женишься? — спросил он наконец.
— На той, кто за меня пойдет.
Понимая, куда гнет Иванчек, Якец нарочно напускал туману. Иванчек злился от этого еще больше. Он не прочь был затеять ссору, но ведь этого труса ничем не проймешь, ему все нипочем. Может, сказать что-нибудь грязное о Мицке? Но от этой мысли Иванчек сразу же отказался.
— А как ты думаешь, кто за тебя пойдет?
Якец держал в руках дощечку. Прищурив один глаз, он проверял, достаточно ли она прямая. Слова Иванчека задели его за живое, он хорошо знал, куда тот метит. И все же он решил не поддаваться. Страстное любопытство, с каким Иванчек расспрашивал его о невесте, укрепило его в мысли, что он встал Иванчеку поперек дороги и бесит его одним своим видом.
— Кто за меня пойдет? — проговорил он и усмехнулся. — Ты лучше спроси, на ком я сам захочу жениться.
Он думал обезоружить этим Иванчека. Но тот принял его ответ за издевку. Может, он только потешается над всеми? Может, и Якец и Мицка — оба его дурачат? Он не мог ответить на этот вопрос, да и не искал ответа. Его охватила бешеная злоба.
— Чего ты пыжишься? — заорал он и заскрежетал зубами. — Подумаешь, дом! Да мне в нем даже не разогнуться — крышу проломлю головою! Смотри! — Он вытащил из крыши пук соломы и швырнул его на землю. — Вот! — Он вытащил второй пук. — Так у нас кур ощипывают!
Якец опешил. Он не верил своим глазам. Что плохого сделал он этому человеку? Видя, как чужая рука разрушает крышу дома, возведенного для его любимой, он почувствовал, что у него из груди вырывают сердце. Несколько мгновений он не мог прийти в себя от изумления, затем глухой звук вырвался из его горла, и он сделал то, чего раньше никогда бы не сделал. Он схватил топор и выскочил из дому, готовый убить Иванчека как собаку.
Когда тот увидел искаженное лицо Якеца и высоко занесенный топор, он понял грозящую ему опасность, и только гордость не позволила ему убежать.
Они бросились друг на друга. Иванчек был более проворный и ловкий, он стиснул правую руку Якеца и вывернул ее. Хотя ярость удесятерила силы Якеца, Иванчек все же его одолел. Он вырвал у него из рук топор и ударил его топорищем и кончиком острия по спине, тот застонал и рухнул на землю.
Иванчек перепугался. Что он наделал? Он оглянулся по сторонам. Смеркалось. Никого поблизости не было. Якец поднялся и, шатаясь, проковылял в сени. Двери за ним захлопнулись.
— Дьявол проклятый! — прохрипел он из-за дверей.
Иванчек швырнул топор в открытое окно и ушел.
12
Иванчек понимал, что поступил подло, и жалел о случившемся. Он ранил Якеца и даже не узнал, насколько опасна его рана. Может, тот лежит дома и истекает кровью.
Что ему сделал Якец? Иванчек возненавидел его только за то, что он построил себе дом и хочет жениться на той же девушке, что и он. Но разве парни решают, за кого девушке выйти замуж? Не она сама?
А вдруг соседям придется привести к Якецу врача или отправить его в больницу? Дрожь пробежала у него по спине при этой мысли. Правда, Якец бросился на него первый. Но это не оправдание. За ним придут стражники и отведут в тюрьму…
В этот вечер ему не сиделось дома. Он долго бродил по деревне, а ночью спал лишь несколько часов. Утром за завтраком он испытующе поглядывал на своих домашних.
«Ничего не знают», — сказал он себе и пошел работать. Когда его кто-нибудь окликал, он испуганно вздрагивал. Все время Иванчека мучил страх, что его разыскивают власти.
После полудня пошел дождь. Иванчек отправился в трактир, где уже сидело несколько крестьян. При его появлении разговор смолк. Внезапно наступившее молчание показалось Иванчеку таким подозрительным, что у него мурашки пробежали по спине.
Но уже в следующую минуту он понял, что они тоже ничего не знают. Кто-то только мимоходом помянул Якеца и его новый дом, и все.
— Вы сегодня видели Якеца? — спросил он.
— Нет, сегодня не видел. Я проходил мимо его дома, но его не было. Видно, на работе.
— Наверно.
Иванчек вздохнул свободнее. Но тут же он снова встревожился. Что же происходит с Якецем, если его никто не видел? Иванчек надвинул шляпу на глаза и больше не проронил ни слова.
Он подождал, пока стемнело, расплатился с трактирщиком и пошел к Якецу. Подходя к дому, он старался ступать как можно тише, чтобы никто не услышал его шагов. У самого дома он остановился. Огляделся по сторонам — нет ли кого? Потом подкрался к двери и прислушался. Из дома доносились слабые стоны, они то замолкали, то раздавались снова.
Иванчек довольно усмехнулся: хорошо, что не случилось худшего. Вспомнив о Мицке, он даже порадовался, что Якец вышел из строя, будто теперь он избавился от него навсегда.
Он тихонько отошел от дома и кружным путем зашагал к Дольняковым. Ему хотелось сегодня же поговорить с Мицкой.
В доме Дольняковых все уже спали. Двери были заперты. Двор и постройки заливал лунный свет. Шаги Иванчека услышали куры и всполошились.
Некоторое время он стоял в нерешительности. Потом подошел к дровяному сараю, на стене которого висела лестница. Иванчек снял ее и приставил к окну, на котором цвели гвоздики.
Медленно, бесшумно, осторожно полез наверх. Добравшись до окна, тихо постучал.
— Мицка! Мицка!
За окном в лунном свете забелело чье-то лицо. Это была Мицка в накинутой на плечи шали.
— Иванчек! Знаешь же, что я этого не люблю.
Иванчек смутился. В самом деле, Мицка не любит, когда он взбирается к ней по лестнице. Он испугался, что она обидится. А ему еще никогда в жизни не было так трудно от нее уйти.
— Я по важному делу, — пробормотал он.
— Завтра скажешь.
— Нет, сегодня. Я должен тебя спросить… Ты ничего не слыхала о Якеце?
Неожиданный вопрос удивил Мицку, она даже решила, что ослышалась.
— О ком, о ком? — спросила она.
— О Якеце что-нибудь слыхала?
— Нет, — проговорила Мицка удивленно. — Ничего. А почему ты спрашиваешь? Что-нибудь… что-нибудь случилось?
— Ничего, — ответил Иванчек. — Если ты ничего не слыхала, значит, все в порядке.
Иванчек уже пожалел, что затеял этот разговор. Но все произошло помимо его воли, словно под воздействием какой-то неодолимой силы. Он ведь пришел говорить совсем о другом. Сейчас он охотнее всего повернулся бы и ушел, но Мицке уже было не до сна. Она почувствовала что-то неладное.
— Что ты хотел сказать?
— Завтра узнаешь.
— Нет, скажи сегодня!
В сердце Иванчека снова пробудилась ревность.
— Тебе в самом деле не терпится узнать?
— Еще бы, — ответила она. — Ты говоришь такими загадками!
Иванчека душила злость.
— Вчера вечером мы с ним сцепились, — торопливо заговорил он сквозь зубы. — Я тюкнул его, да малость перестарался. Теперь он лежит в своем доме и стонет. Вот и все.
— Иисус, Мария! — Мицка стиснула руки. — Зачем ты это сделал?
— А тебе его так жалко?
Мицка почувствовала отвращение к Иванчеку и содрогнулась, будто прикоснулась к чему-то гадкому.
— Якец не хуже других, — сказала она. — А может, даже лучше.
— Понятно, — зло ухмыльнулся Иванчек: волнение Мицки уязвило его в самое сердце.
— Уходи! Пожалуйста, уходи! — просила Мицка.
Иванчек помедлил немного, не зная, как поступить. Он понял, что случилось непоправимое. Но гордость не позволяла ему оправдываться. А может быть, и это не помогло бы.
— Покойной ночи! — сказал он.
Пока он спускался по лестнице, Мицка молча стояла у окна. Он поставил лестницу на место и, насвистывая, зашагал в темноту.
13
Мицка так и осталась стоять у окна, глядя Иванчеку вслед. Когда его скрыли росшие вдоль дороги тополя, она почувствовала, что он ушел и из ее сердца.
Что сделал ему Якец? Ведь Якец мухи не обидит! Сколько над ним измываются, а он и пальцем никогда никого не тронет! Наверно, Иванчек напал на него как настоящий бандит и Якец должен был защищаться. Или, может, случилось что-то другое?
Она подумала, что он уже вторую ночь лежит один одинешенек в своем новом доме безо всякой помощи. Боже мой, ведь у него никого нет, никто о нем не вспомнит. Он умрет, а люди и не спохватятся.
Кто перевяжет его, если он ранен или изувечен? Кто принесет ему воды, кто накормит, подложит под голову подушку, укроет одеялом? Так и околеет, словно крыса, наевшаяся яду.
Мицка жалела Якеца всей душой. Ведь и раньше, когда в глазах всех он был только убогоньким, он вызывал в ней сострадание. По щеке у нее покатилась слеза.
Наскоро одевшись и повязав голову платком, она тихо приоткрыла дверь и спустилась по лестнице в сени. В окно светила луна, бросая на стену решетчатую тень.
Мицка открыла кухонный шкафчик и отрезала большую краюху черного хлеба, в бидончик налила молока. Постояла немного в раздумье. Снова тихонько вернулась в свою каморку, достала из сундука кусок белой материи и сунула его под передник. На всякий случай.
Осторожно отперла наружную дверь и, выскользнув из дому, тихонько притворила ее снова.
Двор утопал в ярком лунном свете. Ей стало не по себе: куда она идет среди ночи? Лунное серебро заливало долину и горы, соседняя деревня была совсем белой, серебряные капли дрожали на листьях деревьев, медленно стекали по стволам на землю и собирались в светлые озерца.
Мицке не хотелось идти обычной дорогой. Она прошла шагов двести по склону и, выйдя на узкую каменистую тропу, свернула в лес. Под ногами шуршали листья, потрескивали сухие сучья. Лунный свет рисовал на земле причудливые узоры. Дорогу перебежал какой-то зверек и с шорохом скрылся в кустах.
Мицку охватила дрожь. Хоть она и не чувствовала в душе страха, ей все же казалось, что дороге не будет конца.
А вдруг она заблудилась? Остановившись, она огляделась по сторонам. Затем свернула по тропе налево, прошла между лежавшими под деревьями большими камнями, касаясь рукой их шершавых боков. Колючие травы и ветки, низко свисавшие над полузаросшей тропой, цеплялись за ее одежду. Она перескакивала тени, шевелившиеся, как привидения.
Немного погодя она остановилась снова. Из темноты выступили скалы, возвышавшиеся неподалеку друг от друга. Она сошла с тропинки и побежала напрямик через буковую рощу. Да, вон уже верх соломенной крыши. На душе полегчало. Нет, она не ошиблась. Выйдя из буковой рощи, она увидела внизу, под горою, домик Якеца. Он был так близко, что впору было шагнуть с горы прямо на крышу.
Она спустилась по крутому глинистому склону к самым дверям. Прислушалась: ничего не слышно. Дверь была не заперта, она вошла в сени. Дверь в горницу тоже была открыта. Большие блики лунного света лежали на полу и на стенах. Всюду валялись столярные инструменты. Лунная дорожка падала в сени и на лестницу, которая вела на чердак.
Мицка прислушалась снова. До нее как будто донеслось тяжелое дыхание.
— Яка, Яка! — позвала она вполголоса.
Никто не откликнулся. Она позвала еще раз.
— Ой! — донесся с чердака слабый голос, с трудом вырвавшийся из горла.
Мицка поднялась на чердак и остановилась. Она вглядывалась в полумрак, где светились лишь лунные блики, проникавшие сквозь щели фронтона. Постепенно глаза привыкли к темноте. Она увидела, что на куче стружек в углу лежит человек, прикрытый одним пиджаком.
По скрипучим половицам она подошла ближе и нагнулась.
— Это ты, Якец? — спросила она.
На нее смотрел бледный, изменившийся Якец. Он лежал на боку; глаза его помутнели от боли.
Мицка присела рядом с ним, хлеб положила на пол, тут же поставила и бидончик с молоком.
— Что с тобой?
— Топором ударил, — простонал Якец. — В плечо.
— Очень больно?
— Очень. Кровь больше не идет, но жжет как огнем. Не могу рукой шевельнуть.
— И тебя никто не перевязал?
— Кто же?
В первую минуту Якец был так поражен появлением Мицки, что почти забыл про боль. Но когда он попробовал приподняться, чтобы заглянуть ей в лицо, он ощутил такую резкую боль, что застонал. Ему хотелось все ей рассказать, сотни слов вертелись у него на языке, но он не мог произнести ни одного. Только отвечал на Мицкины вопросы.
Мицка на минуту задумалась.
— Я принесла тебе молока и хлеба, — заговорила она опять. — Ты же ничего не ел.
Якец больше смотрел на нее, чем слушал. От избытка чувств у него перехватило горло, и он молчал.
— Давай я тебя перевяжу? — предложила Мицка. — А то рана загрязнится, еще умрешь, чего доброго.
— Спасибо! — обрадовался Якец. — Если ты можешь… было бы хорошо… — бормотал он в порыве благодарности.
Мицка ощупью спустилась в сени. Отыскав там грязную миску, она побежала к роднику, который находился шагах в двадцати от дома. Ключевая вода стекала по длинному желобу в новенькое корыто Мицка вымыла миску и набрала воды.
— У тебя нечем посветить? — спросила она, вернувшись.
— Нечем. Отвори оконце. Ночь лунная.
Она открыла створку оконца, впустив на чердак лунный свет. Перед ней отчетливо предстало измученное лицо Якеца. На горе за домом шумели буки, сквозь листву проглядывали редкие звезды. В кустах пел соловей.
— Дай мне воды! — попросил Якец. — Ужасно хочется пить.
Она дала ему молока. Якец пил долго, большими глотками и, напившись, поблагодарил ее взглядом.
Нужно было снять с раненого рубаху, и тут Мицка вдруг смутилась и замешкалась. Она вопрошающе посмотрела на Якеца. Стыдливость отступила перед необходимостью. Шевельнув рукой, Якец застонал от боли.
Рана была небольшой и неглубокой, но если ее запустить, она зажила бы нескоро. Струйка черной запекшейся крови вилась по спине до самого пояса.
Мицка оторвала кусок белого полотна, которое захватила из дому, и промыла рану. Затем наложила на нее чистый сухой лоскут и перевязала. Снизу из горницы она принесла охапку свежих стружек. Из свернутого пиджака сделала изголовье, а сверху накрыла Якеца одеялом, которое отыскала на печи.
Якец трясся в ознобе, заботы Мицки были ему очень приятны. Не находя слов, он лишь смотрел на нее влюбленными глазами.
— Завтра принесу тебе целебное питье. Возьму у матери. А сейчас допивай молоко и ешь хлеб!
Слушался он ее беспрекословно. Когда Мицка отодвинула в сторону бидон из-под молока и стала поправлять одеяло, Якец поймал ее руку.
— Спасибо тебе, Мицка! — проговорил он со слезами на глазах. — Спасибо тебе, Мицка! — повторил он еще раз.
Больше он ничего не мог сказать.
Рука Мицки лежала в его руке, и она не решалась ее отнять, боясь его обидеть. Увидев на глазах Якеца слезы, она сама чуть не расплакалась.
— Жалко мне тебя стало, вот и пришла. Успокойся, Яка!
— Ты будешь моей женой, Мицка? — пробормотал Якец, задыхаясь от чувств, переполнявших его душу. — Будешь?
— Сначала выздоравливай, а потом… потом поговорим.
— Я кровать делал когда он меня стукнул, — усмехнулся Якец сквозь слезы.
Они смеялись и плакали, не замечая, как бегут минуты, не видя, что месяц уже скрылся за верхушки деревьев.
14
Поднявшись в гору, Иванчек остановился и задумался. В первые минуты после ухода от Мицки ему было безразлично, что она о нем подумает, и он беззаботно и весело насвистывал. Но по мере того, как он приближался к своему дому, высокомерная юношеская беззаботность сменялась раскаянием и тревогой. В глазах Мицки он теперь головорез и мерзавец, если еще не хуже. Сердце его сдавила тоска.
Почему он так обошелся с Якецем? Что сделал ему этот парень?
Разве он сказал ему хоть одно плохое слово? Нет, нет и нет. И девушку у него Якец не отбивал. Мицка все время говорила, что не любит Якеца. Просто она его жалела.
Иванчек усмехнулся. Уж слишком невероятной показалась ему мысль о том, что Мицка может выйти замуж за Якеца. А если это так, чего ж он тогда испугался? Почему поступил с ним так жестоко, что даже Мицка от него отвернулась и прогнала?
Он жалел, что рассказал ей об их стычке. Только уронил себя в ее глазах: ведь затеяв драку с Якецем, он тем самым признал, что считает его опасным соперником.
Как он завтра посмотрит Мицке в глаза? Оп обязательно должен поговорить с ней и все загладить. Но говорить надо с глазу на глаз, без свидетелей. Он должен оправдаться перед Мицкой, как-то объяснить свой поступок, иначе он все равно не сможет спокойно уснуть.
Медленно возвращался он назад к усадьбе Дольняковых. Шаги его отдавались в ночной тишине приглушенным эхом. Он то и дело останавливался, осененный новой мыслью, и обдумывал ее, потом снова шел дальше.
Подойдя к дому, он заметил, что окно Мицки все еще открыто. Он тихо окликнул ее раз и еще раз погромче, но она не отозвалась и не подошла к окну.
«Спит, — подумал Иванчек. — Обиделась и рассердилась».
Он приставил лестницу к стене и по ней тихо поднялся к окну. Снова позвал Мицку. И снова она не откликнулась. Тогда он взобрался на ступеньку выше, раздвинул руками гвоздики, прижался лицом к железной решетке и заглянул в комнату. Он увидел сундук и кровать, на стенах старинные изображения святых. Кровать была пуста.
Иванчек не верил своим глазам. Лунный свет, разделенный решеткой на квадраты, падал на раскрытую постель. Напрасно он напрягал зрение, на постели никого не было.
Иванчеку стало не по себе. Он ломал голову, пытаясь понять, куда девалась Мицка, но так и не мог ничего придумать. Сердце его замирало от тревоги. Он тихонько спустился на землю и отнес лестницу на прежнее место. Что делать дальше, он не знал, но и уйти не решался.
Иванчек начал, по обыкновению, насвистывать, но на сердце было так тягостно, что он тут же смолк. Пройдя по узкой тропке несколько шагов до забора, он прислонился к калитке и устремил взгляд на дом. Он решил дождаться, пока Мицка покажется в окне. Чем больше он думал, почему ее нет, тем сильнее путались его мысли. Ему и в голову не приходило, что Мицки может не быть дома.
Иванчек оглянулся на тропинку, которая вела к лесу. По ней кто-то шел. Фигура казалась такой призрачной и странной, что Иванчек даже вздрогнул. Но тут же понял, что это босая женщина, которая быстро бежит сюда, к калитке. Когда она была совсем близко, он узнал ее: Мицка!
От изумления кровь застыла у него в жилах. Где она была? Что делала в лесу в такое время?
Мицка перескочила низкий плетень, не заметив Иванчека, который отошел в сторонку, и пошла по тропинке к дому, как вдруг услышала за собой голос:
— Мицка!
Она так испугалась, что выронила бидончик из рук, и он, загремев, покатился по земле.
— Это ты?
— Я, — проговорил он глухо и подошел ближе. — Где ты была?
Они смотрели друг на друга. Иванчек весь побагровел, словно его душили. Мицка не знала, что ответить. Сказать правду? Она инстинктивно почувствовала, что между ними все кончено и ничего поправить уже нельзя, как бы ей это ни было больно и обидно. И во всем виноват Иванчек! Сейчас она его ненавидела и потому решила сказать правду.
— Где я была? У того, кого ты чуть не убил!
— Вот как? — Иванчек побледнел, ноздри его раздулись. — А что ты у него делала?
— Отнесла ему молока и хлеба. Перевязала рану.
Иванчек ответил не сразу. От гнева у него сами собой сжались кулаки.
— А ты знаешь, как называют женщин, которые шляются по ночам?
— Я ничего плохого не делала. Ты хотел бы, чтобы он подох как скотина?
— Ты знаешь, как называют таких женщин, я тебя спрашиваю?
— А ты знаешь, как называют тех, кто убивает людей?
— Потаскуха!
— Бандит! Бандит!
Они оба кричали во все горло. Потом вдруг умолкли и взглянули друг на друга. Только теперь Мицка осознала всю тяжесть брошенного ей оскорбления, и в душе ее возникло непреодолимое отвращение к Иванчеку.
— Убирайся! — закричала она. — Убирайся и не показывайся мне больше на глаза!
Она испугалась собственного голоса, который всколыхнул тишину ночи и разбудил эхо в лесу. Иванчек опешил. Он был готов взять обратно слово, вырвавшееся у него в припадке злобы и ревности. Но было уже поздно. Ему не оставалось ничего другого, как принужденно захохотать. И пока его смех не замер на дороге, Мицка стояла, не в силах сдвинуться с места.
15
На следующее утро Мицка встала с заплаканными глазами. Хозяйка вопросительно на нее поглядывала, удивляясь происшедшей в ней перемене. Возможно, она ночью кое-что и слышала, но ни о чем Мицку не спрашивала.
— Вчера вечером я взяла у вас немножко молока и хлеба, — сказала Мицка.
— Чего там! Если понадобится еще, бери сколько нужно, — ответила хозяйка.
Под вечер Мицку послали на мельницу. В Речине она зашла к матери.
— Дайте мне какое-нибудь снадобье — рану лечить.
— А зачем оно тебе?
— Мой парень подрался и теперь лежит, встать не может, — ответила Мицка полушутя.
Мать глянула в ее изменившееся лицо.
— Берегись, девка! — сказала она.
Но снадобье дала, сопроводив его уймой добрых советов, половину из которых дочь пропустила мимо ушей.
В тот же вечер Мицка снова пошла к Якецу. Она приложила к ране целебное снадобье и заново ее перевязала. Якец выпил молока и поел хлеба, а потом поймал ее руку, намереваясь продолжить вчерашний разговор.
Но Мицка отняла у него руку и сказала, что ей надо скорей домой. Еще кто-нибудь выследит, куда она ходит.
На другой день жар у Якеца спал, рана начала затягиваться. Скоро появился зуд, а сам он настолько окреп, что мог уже вставать и осторожно шевелить рукой.
Однажды он встретил Мицку одетым. Наследующий день он собирался выйти из дому. Услышав об этом, Мицка сказала, что больше к нему не придет. Якец стал упрашивать ее прийти хотя бы еще раз, но она отказалась, — мол, что скажут люди? Этот довод подействовал. Прощаясь, Якец взял ее за руку и просил не забывать его.
Она пообещала. Что еще ей оставалось делать?
Мицка не знала, что с ней происходит. Между нею и Иванчеком все было кончено. Но и Якецу она еще ничего наверняка не обещала. В ее глазах он все еще оставался убогоньким, и она инстинктивно отвергала мысль о том, что и в самом деле может стать его женой.
Ночью, когда ей не спалось, или днем за работой она продолжала думать об Иванчеке. То, как он обошелся с ней, было вызвано гневом и обидой; может быть, все еще и уладится. Но Иванчек больше не приходил и даже не глядел на нее, когда по воскресеньям они стояли у церкви. И в то же время, насколько она могла судить, он никому не рассказал об их ночной встрече, не осрамил ее перед людьми.
«Боится, что тогда выплывут наружу и его делишки», — подумала Мицка.
Якец тоже молчал: соседям он сказал, что упал с чердака и расшибся. Но сможет ли Иванчек примириться с тем, что она ночью была у другого парня и перевязывала его? Наверно, он ее презирает, хотя никакой вины за ней нет.
Она не знала, что и думать. Участь ее оставалась нерешенной. Ей хотелось еще раз повидаться с Иванчеком и поговорить с ним с глазу на глаз.
Вскоре такой случай представился. В Речине была ярмарка, а ярмарочные дни Мицка всегда проводила дома, у матери. В церкви она увидела Иванчека и после обедни старалась попасться ему на глаза. Но вскоре мужество покинуло ее, она затерялась в толпе подруг и прошла мимо него незамеченной.
В тот день парни и девушки из Залесья всей гурьбой пошли в трактир у моста. Мицка осталась дома с матерью, не осмелившись пойти со всеми. На сердце у нее было тяжело. Она не верила в предчувствия, но тут положила руку на грудь и тяжело вздохнула:
— Мама, чего это мне так страшно?
Мать внимательно на нее взглянула.
— Дуреха! — сказала она.
Лишь когда за Мицкой зашли подруги, она решилась пойти вместе с ними. Перед трактиром стоял Якец. У него был праздничный вид — к шляпе приколот букетик цветов, лицо сияло. Он выглядел совсем здоровым, на щеках даже появился румянец. Сейчас он Мицке вдруг очень понравился. Вечера, когда она приходила к нему, по-своему сблизили их. И смотрел он как-то умно. Взглянув на нее просительно и робко, он сказал:
— Мицка, пойдем выпьем вина!
— Хорошо, — согласилась она. — Ты иди вперед, я сейчас.
Она постояла с девушками и потом вместе с ними вошла в трактир, где парни пили вино. Случилось так, что Якец и Мицка одновременно переступили порог комнаты.
Парни увидели их. Мицка тут же поняла, о чем они подумали, и пожалела, что пришла. Но возвращаться было уже поздно. Она встретилась взглядом с Иванчеком. Тот смотрел на нее волком, глаза сверкали презрением. Ясно, что между ними все кончено. Она думала об этом сотни раз, но все же на что-то надеялась. Теперь не оставалось никаких сомнений.
Иванчек был уже навеселе. Видно было, что ему тоже нелегко и он пытается утопить свое горе в вине, заглушить его острым словцом. Кинув пристальный взор на Якеца, он скривил губы в усмешке.
— Жених и невеста! — бросил он язвительно и захохотал.
Его поддержали, но не все. Если бы дело касалось только Якеца, хохот был бы общий. Но к Мицке относились с уважением, обижать ее не хотели. Заметив, что она помрачнела и расстроилась, умолкли и другие.
Но Иванчек не угомонился. Ему надо было порвать с девушкой открыто, на глазах у всех.
— Вы только посмотрите, они так и жмутся друг к другу!
Якец открыл было рот, но от волнения позабыл все слова. Охотнее всего он полез бы в драку, но для нее еще не наступило время. Кровь прилила Мицке к лицу, но она взяла себя в руки.
— Была бы совесть чиста, а гулять можно с кем угодно, — сказала она спокойно, но голос ее слегка дрогнул.
— Даже ночью? — съязвил Иванчек.
Мицка пробежала взглядом по лицам. Все как воды в рот набрали, хотя глаза горели любопытством. Мицка поняла, что никто еще ничего не знает. Но отвести от себя удар была не в силах.
— Да, конечно, если совесть чиста, почему бы и нет, — ответила она твердо.
Но вдруг побледнела и задрожала, словно ее облили грязью. Иванчеку на какой-то миг стало ее жалко, однако он быстро подавил в себе это чувство. Не хотелось упускать удобного момента.
— Ха! Ничего плохого? У Якеца… в новом доме… в полночь…
Несколько парней, еще даже не разобрав, в чем дело, на всякий случай опять рассмеялись. Другие переводили удивленный взгляд с Мицки на Якеца, а он трясся от ярости, как в тот раз, когда Иванчек дергал у него из крыши солому.
— Да, у Якеца, — сказала Мицка, чуть не плача, — ведь ты его топором…
Она готова была провалиться сквозь землю, убежать на край света, но ноги ее не слушались. Что же ей, объяснять все, как было? Рассказывать, как Иванчек напал на Якеца и как она из сострадания носила ему молоко и хлеб, перевязывала рану? Кто ее станет слушать, кто ей поверит, кто поймет?
В растерянности оглянулась она на Якеца. Он стоял словно завороженный, не в силах произнести ни слова. Но, увидев умоляющий взгляд Мицки, стряхнул с себя оцепенение, ярость проснулась в нем с новой силой. Он бросился к столу, за которым сидели парни, и так хватил по нему кулаком, что бутылки и стаканы подскочили и вино потекло на пол.
— Пусть только еще кто скажет слово! Пусть только посмеет сказать полслова, черт подери! Пусть только посмеет кто над ней посмеяться!
Он весь побагровел и, дрожа от бешенства, обводил диким взглядом лица парней. Скажи так кто-нибудь другой, сразу бы завязалась драка. Но это был Якец, а он, как известно, только принимал удары, никогда на них не отвечая, поэтому от неожиданности все оцепенели, никто не засмеялся и не проронил ни слова. Иванчек морщил лоб и грыз усы.
Мицка расплакалась, резко повернулась и вышла из комнаты. Якец — за ней.
— Не обращай внимания, Мицка! — сказал он, догнав ее во дворе.
— Отстань от меня и ты! — отмахнулась от него Мицка и побежала домой.
Якец так и остался стоять с разинутым ртом. «Отстань от меня и ты»? «И ты»? Как это понять? Ему не под силу было справиться с такой задачей.
Тем временем в трактире Иванчек вдребезги разбил свой стакан, выместив на нем досаду на себя и распростившись со своей любовью к Мицке.
16
Под вечер, когда синеватые тени уже опустились на Залесье, Мицка возвращалась к Дольняковым. Мать проводила ее до реки и пошла назад. Мицка рассказала ей все, что произошло. Та выслушала ее спокойно. Разве это такое горе, из-за которого можно лить слезы и печалиться? Пройдет время, и все развеется само собой.
Но Мицке было тяжело. Ее мучил пережитый стыд, мучила мысль об Иванчеке. Он оказался не таким, каким бы ей хотелось его видеть, и все же постепенно он стал ей так дорог, что разрыв с ним причинял боль. Обидно, что любовь их кончилась так безобразно.
Но сколько бы она ни размышляла, одно было совершенно ясно: с Иванчеком все кончено. Такие вещи не забываются, их ничем не загладить. Что же ей делать? Как сможет она взглянуть в лицо любому другому парню, если все слышали, что она ночью была у Якеца. Может, они и не поверили или поверили лишь наполовину, но грязь, брошенная в человека, всегда оставляет пятна. И их никогда дочиста не смыть.
Только один человек знает, как все было на самом деле. Это Якец. Что же, выходить замуж за парня, над которым она раньше смеялась?
Всерьез Мицка никогда о нем не думала, но и не отвергала до конца возможности когда-нибудь стать его женой. Почему ее так тронула весть о том, что он лежит в своем доме больной и всеми покинутый? Почему она побежала к нему, чтобы накормить его и перевязать, почему проливала над ним слезы? Было ли это только жалостью, какую вызвал бы в ней и другой человек на его месте?
На этот вопрос она не могла дать ясного ответа. В глубине души она чувствовала, что после Иванчека Якец был самым близким ей человеком. Может быть, потому, что она знала — он любит ее.
Ведь стоило ей только слово сказать, и он выстроил дом, вложив в него все деньги и отдав ему все свои силы, — лишь бы она вышла за него. За это время он очень изменился. С лица его исчезла глуповатая улыбка, утратил он и ребячливые повадки, словом, превратился в настоящего мужчину.
Мицка остановилась посреди дороги. Она вдруг поняла, что находит в Якеце достоинства, которых раньше не замечала. И тихонько рассмеялась своим мыслям.
С широкой дороги она свернула на тропинку, ведущую через лес к усадьбе Дольняковых. Ветви с зелеными листьями склонялись почти до земли, пахло весной.
Мицка полной грудью вдыхала этот запах, этот целебный бальзам. И на сердце у нее вдруг стало легко-легко. Печали как не бывало. Только чувство стыда еще оставалось в душе.
Вдруг она остановилась как вкопанная. Там, где тропа круто сворачивала в сторону, на сером, поросшем мхом камне неподвижно сидел человек; светлые, сверкающие во мраке глаза смотрели прямо на нее. Мицка испугалась, сердце громко застучало.
Это был Якец. Увидев, что лицо Мицки прояснилось, когда она его узнала, Якец с улыбкой поднялся ей навстречу.
— Долго я тебя ждал, — сказал он Мицке.
— Разве ты не пошел с другими?
— Больше я с ними никогда не пойду.
— Так пойдем со мной, а то мне одной страшно, — предложила Мицка.
Голос ее был не такой, как всегда, более приветливый и радушный. Сердце Якеца дрогнуло. У него хватило ума заметить перемену в Мицке. От радости он готов был кричать во все горло. Он сунул руку в карман и протянул Мицке большое пряничное сердце, перевязанное разноцветными лентами.
Мицка приняла гостинец и усмехнулась.
— Хватит уж этих подарков! — сказала она.
— Нет! — воскликнул Якец. — Когда ты станешь моей женой, я все равно буду приносить тебе разные сласти.
Девушка подняла на него глаза. Якец говорил так, словно их свадьба дело решенное. В памяти встала недавняя сцена в трактире — ведь никто не пикнул, когда он ударил кулаком по столу В этот день он очень вырос в ее мнении. Разве он не показал себя настоящим мужчиной, способным не только любить, но и заботиться о своей любимой и защищать ее? Разве он не достоин любви и доверия самой красивой девушки в деревне?
Якец смотрел ей в лицо, словно пытался по нему прочесть самые сокровенные движения ее души. Что в ней происходит? Какое чувство сейчас сильнее всего — жалость, восхищение, уважение, а может, любовь? Но что такое любовь? Стать ему верной женой, хорошей хозяйкой, народить детей?
У Мицки от неожиданно нахлынувших мыслей голова шла кругом. Вопросы, о которых раньше она никогда не думала, пьянили, как вино. Из состояния сладкого дурмана ее вывел Якец, голос его дрожал от смущения и сознания важности происходящего.
— Я построил дом, я сдержал свое слово, а ты сдержишь свое? Ответь мне сегодня, Мицка! Я не могу больше ждать.
— Да, — кивнула Мицка, покоренная его чувством.
— Ты будешь моей женой, Мицка?! Уже в этом году?
— Буду, — ответила она, губы ее задрожали, и она подала ему руку. На глазах у нее навернулись слезы и потекли по щекам. Слезы удивили Якеца. Он не мог понять, почему она плачет. Но он был так счастлив, что готов был кричать от радости. Ему хотелось ее обнять, но он не посмел, боясь осквернить ее своим прикосновением. Час был поздний, и, почти не разговаривая, они быстро пошли домой.
17
Случай в трактире и слова Иванчека, которые толковались по-разному, были вскоре забыты. Мицке рисовалось все в более мрачных красках. Слова Иванчека люди не приняли всерьез, большинство не сомневалось в порядочности красивой девушки. Заметив, что она рассорилась с Иванчеком, парни наперебой стали добиваться ее внимания. Иванчек ее избегал, даже не ходил туда, где бывала Мицка. Никто не мог поверить, чтобы она и впрямь вышла замуж за Якеца.
Однако Мицка не отказывалась от своего слова. Якец тоже всерьез думал о женитьбе. Но в последнее время его одолевали заботы, от которых с лица его исчезла улыбка. Иметь крышу над головой и голые стены — это еще далеко не все. В доме не хватало очень и очень многого. Все свои деньги он истратил до последнего медяка. Поденщина давала слишком мало — самого необходимого не купишь. А ведь даже кровать застелить было нечем; платяной шкаф и кухня пустовали. Недоставало многих мелочей, не бог весть каких, но без них не обойдешься. И за все надо выложить кругленькую сумму. Где взять деньги?
Вопрос этот нагонял на Якеца тоску, он надолго погружался в тяжелые раздумья. Чтобы отвлечься от них, он начинал думать о Мицке. Но мысль о ней вызывала мысль о женитьбе, и на него снова наваливались заботы. Это был заколдованный круг. Впервые он понял, как дорого приходится платить за каждую крупицу счастья.
Как-то летом, в дождливый день, когда Якец что-то мастерил у себя дома, а от голода и всяких неприятностей, которые продолжали его преследовать, был особенно не в духе, кто-то подошел к дому и остановился под окном.
Якец поднял голову. За окошком он увидел свою тетку. У нее было широкое, темное, обожженное солнцем лицо. Щеки ее обвисли, во всем облике было что-то суровое, мужское, лишь серые глаза светились добротой. Приземистая, дородная, она стояла, раскрыв над головой пестрый зонтик, и покусывала кончик платка.
Якец узнал ее с трудом. Она навещала родных редко, лишь когда кто-нибудь умирал или женился. Ходили слухи, что она богата; муж ее давно умер и теперь хозяйствовал сын. Женщина она была властная и любопытная, даже дождь не помешал ей прошагать два часа, чтобы взглянуть, какой дом построил себе Якец. Сейчас она стояла под зонтиком перед домом и, прикрыв глаза правой рукой, пыталась разглядеть, что делается в комнате.
Якец улыбнулся:
— Здравствуйте, тетя! Входите!
Ничего ему не ответив, она быстро зашагала к дверям, сложила зонтик и, громко топая, вошла в комнату.
Приход тетки застал Якеца врасплох. Он не знал, о чем с ней говорить, и угостить ее было нечем. Кое-как извинившись, он пригласил гостью сесть. Тетка, усевшись на скамью у печи, обвела глазами стены.
— Как ты можешь так жить? — наконец спросила она. — Что это за дом без хозяйки?
— Хозяйкой бы уж я обзавелся, — вздохнул Якец. — Да вот половины вещей еще нет.
Тетка ничего на это не ответила, посидела немного, затем поднялась и отправилась на гору к Тоне. Спустя несколько часов она вернулась, внимательно осмотрела весь дом от фундамента до чердака и снова уселась на скамью.
— Когда думаешь жениться?
— Хотелось бы еще до осени. Конечно, если получится.
— Я тебе немного помогу. Вернешь, когда сможешь. Приходи ко мне в воскресенье.
Конечно, он придет. Тетка поднялась и ушла.
В тот же вечер Якец был у Мицки. Он весь сиял от радости. Его смущала только Мицкина задумчивость. Но он был так счастлив, что не придавал этому большого значения.
Тетка дала ему денег взаймы. И еще нагрузила его всяким добром, так что он ушел, шатаясь под тяжестью корзины. Провожая его, тетка прослезилась.
— За тебя я беспокоилась больше всего, — сказала она, — а выходит, ты крепче других на ногах стоишь.
Мицка тоже принесла в дом больше, чем ожидал Якец. Сундук, шкаф, перину, белье, одеяла, кухонную утварь. Она была старшей дочерью, и мать не могла отпустить ее из дому с пустыми руками.
Лишь после первого оглашения люди поверили в то, о чем в деревне ходили слухи уже несколько недель. Все диву давались. Припомнили стычку в речинском трактире. Оказывается, Иванчек говорил не зря. Да и сама Мицка, можно сказать, призналась. Видно, не случайно они спешат со свадьбой. Всем не терпелось доподлинно узнать причину, почему такая красивая девушка выходит замуж за Якеца.
Жених и невеста в эти дни были в деревне притчей во языцех. Перебирали каждое их слово, каждый поступок, все, чем они успели обзавестись, подсчитывали, сколько ртов будет в семье, сколько детей, пророчили молодым бедность и горе.
Но Якец и Мицка не обращали внимания на пересуды, им было не до того. Хватало своих хлопот. Якец устроил мальчишник, оплатил угощение, а также то, что полагалось священнику, сам подмел и вымыл полы в своем доме, постелил постель и завесил окна.
Свадьбу играли у Тоне. Гостей собралось немного, но все веселились, как могли. Под низким потолком надрывалась гармоника, кружились пары. То и дело перед домом раздавались веселые крики.
Невеста в свадебном уборе блистала красотой, это был самый счастливый день в ее жизни. Прежде она боялась этой минуты, но теперь ни о чем не жалела. И не только из-за Якеца, который от счастья не знал, куда себя деть и что сказать, она и сама была рада и довольна, чувствуя, что ее жизнь приобрела какой-то смысл. Что тут еще можно добавить? Да и нужно ли?
Люди больше о них не судачили. Перед ними был уже не тот Якец, которого считали недостойным ни одной девушки в деревне, а тем более Мицки, слывшей первой красавицей в округе. Они просто смотрели на счастливых молодоженов, вступающих в новую, совместную жизнь. Чем же Якец отличался от других людей? Удачливостью? Или детским простодушием? Но разве у него, как и у любого другого, не было права на жизнь, разве он не был способен, как и любой другой, ковать счастье своими собственными руками?
В полночь Мицка положила голову на плечо мужа. Якец обнял ее за талию и с любовью заглянул ей в глаза.
— Что ты? Устала?
— Нет, — ответила она. — Я такая счастливая!
Мицка не лгала. Она в самом деле была счастлива. Якец весь трепетал от радости. Ему хотелось взять жену на руки, выйти из дому, в котором шумели гости, и долго-долго нести ее по дороге навстречу звезде, что сияла над его новым домом.
Вторая часть
1
Счастье нередко зависит от мелочей, от них оно либо тускнеет и угасает, либо разгорается еще ярче. Нити любви иногда столь тонки и непрочны, что их можно оборвать одним-единственным взглядом, но они же способны выдержать и любой ураган. Довольство жизнью — точь-в-точь капризная сватья: то ей и сухая корка в радость, а то и сдобными пирогами не угодишь.
Якец и Мицка вскоре все это поняли. После первых же дней счастья им стало страшно, как бы эти сотканные из сплошных радостей минуты не улетучились бесследно, оставив их ни с чем. Но опасения эти не оправдались. И два месяца спустя счастье их было ничуть не меньше, чем в первый день после свадьбы. Та самая капризная сватья, о которой мы уже говорили, не переставала улыбаться даже тогда, когда они ели одну похлебку, забеленную простоквашей. Они не стали любить друг друга меньше и тогда, когда поняли, что на некоторые вещи смотрят по-разному, просто один из них молча уступал другому.
Согласие их объяснялось не только таинственной силой супружеской постели, у него были и более глубокие корни, хоть молодая чета и не могла отрицать, что любовь единственный рай для бедняков, как обычно шутят люди, видевшие мало хорошего в жизни. Когда речь идет о настоящей любви, это присловье не следует понимать как проявление простой похоти. В отношениях Якеца и Мицки преобладало духовное начало, а не грубость плотских желаний. Оба они впервые прикоснулись к тайнам супружеской жизни.
Пересуды людей, смолкнувшие в день свадьбы, то и дело возникали снова. Деревня с недоверием поглядывала на молодоженов. Разве у них были условия для счастья? По мнению людей, таких условий у них не было. Соседи подслушивали их разговоры и чуть ли не заглядывали им в тарелки.
Они верили, что скоро увидят Мицку с заплаканными глазами. Но их ожидания не сбывались.
— Довольна ты своим мужем? — спрашивали женщины Мицку.
Мицка понимала скрытый смысл их усмешек.
— А с чего мне быть им недовольной? — отвечала она, краснея. — Он славный человек.
«Откуда тебе знать, бедняжка, каким должен быть муж», — думали про себя женщины, не решаясь сказать это вслух. Они разглядывали Мицку, стараясь отыскать в ней хотя бы искру недовольства, из которой мог бы разгореться пожар. Но глаза ее были спокойны, спокойнее, чем когда-либо прежде. И на сердце, освободившемся от пустых девичьих забот, было легко.
Якеца не терзали расспросами — и без того было ясно, что он наверху блаженства. Лицо его несколько округлилось, и от счастья в нем, казалось, снова появилось что-то ребячливое или придурковатое, хотя Мицка этого и не замечала.
Он готов был оповещать о своей женитьбе каждого, кто, как он полагал, этого еще не знал. Но больше из него ничего нельзя было вытянуть.
— Жена твоя красивей всех в деревне, — пытались над ним подшучивать, — смотри, чтоб она у тебя не состарилась!
— Так ведь и я не молодеть буду.
Однажды он нечаянно подслушал разговор о себе и о Мицке.
— Она еще убежит от него, — сказал кто-то. — Вот увидите, убежит!
Эти слова долго гудели у него в ушах, будто в голове поселился целый шмелиный рой. С чего бы вдруг Мицка от него ушла? Почему люди так говорят? Может, от зависти?
После этого Якец как будто еще больше полюбил жену, но стал бояться за нее. Когда они сидели друг против друга за столом, он заглядывал ей в глаза, но не мог в них прочесть ни одной затаенной мысли. Он смотрел на нее спящую и тоже ничего подозрительного не замечал, ничто не говорило о ее измене.
Уходя, на работу, он теперь со страхом возвращался домой. Застанет ли он ее еще дома? Он понимал, что это глупо, но услышанные слова не шли из головы. Подойдя к дому, он прежде всего бросал взгляд в окошко. Мицка стояла у окна и улыбалась ему. Она тоже его ждала. Может, и она боится, что он не вернется к ней?
Когда Якецу случалось бывать в Речине или еще где-нибудь, он никогда не возвращался домой с пустыми руками — всегда купит белый хлеб, завяжет его в красный платок и принесет жене. Сам редко когда отрежет себе ломтик, разве только Мицка заставит, отказавшись есть без него. Найдет спелую грушу, тоже спрячет в карман — для жены. В трактир он больше не ходил. А купив вина, нес домой, чтобы выпить его вместе с женою.
Люди смеялись над тем, что он перестал бывать в трактире. Смеялись над тем, что молодые по воскресеньям шли в церковь не порознь — Якец с мужчинами, Мицка с женщинами, а вместе, как влюбленные парочки. Старались подслушать, о чем они разговаривают.
Но Якец и Мицка всего этого не замечали. А если бы и заметили, то не слишком бы опечалились — они жили в своем мире, находя друг в друге и счастье и богатство.
2
Весной, когда солнце осветило домик Якеца и на буках появились первые листочки, Якец вскопал землю перед домом, размельчил глинистые комья, разровнял вскопанный участок, вбил колья и поставил ограду.
— Здесь будет наш огород, — сказал он Мицке.
Она смотрела на него из-за цветущей на окне гвоздики — точь-в-точь как когда-то мечтал Якец.
— Я посажу в огороде все, что нам нужно, — ответила она с улыбкой.
Якец наносил навоза и чернозема, перемешал с ним желтую глинистую почву, сделал грядки.
— Тут будет картошка, тут салат, тут лук, а тут мы посадим цветы…
Он даже о цветах не забыл! Затем, выкопав между грядками небольшую ямку, он кинул в нее навоза и посадил дикую яблоньку, красивую и высокую.
— Когда примется, привью, и будут у нас и яблоки и тень, — говорил он серьезно и озабоченно, как говорят дети, когда играют во взрослых.
Мицке были по душе слова Якеца, она почти совсем не ощущала их ребячливости. Она целиком принадлежала Якецу, была предана ему всей душой и от этого сама становилась ребячливой.
Она выбирала из земли камни и швыряла их за ограду в ущелье.
— Нужно выбросить прочь все камни, чтобы наш малыш не ушибся, когда будет здесь играть, — покраснев, сказала она Якецу, молча смотревшему на ее работу.
«Что бы это могло означать, — думал Якец. — О чем она?» Кое о чем он уже догадывался, но жену ни о чем не расспрашивал. О таких вещах они никогда не говорили. Это был первый случай.
— Малыш? У тебя? — спросил он Мицку.
— У меня, — проговорила она с таинственным видом. Ей уже давно хотелось все ему рассказать, но она не знала, с чего начать. — Еще до светляков… — прибавила она, но так и не договорила до конца то, что собиралась сказать.
Якец смутился. Правильно ли он ее понял? Но ведь иначе это и нельзя понять! Впервые в нем пробудилось отцовское чувство. В эту минуту жена стала ему еще дороже. Он подошел к ней и хотел ее обнять.
— Не трогай меня! — сказала она.
Якец испугался, он подумал, что в чем-то провинился, и отошел в сторону, не спуская с нее глаз, а она улыбалась ему и вся светилась от счастья.
— Не трогай меня, — повторила она, — а то еще кто увидит! Что тогда скажут! А ты еще об этом не думал? О малыше?
— Нет, — ответил Якец, но тут же поправился: — Нет, как же! Думал, конечно.
— А знаешь, ведь нам зыбка понадобится!
Разумеется, он знал. У Якеца пропала всякая охота заниматься огородом, он доделал изгородь и вошел в дом. Принес доски, приготовил пилу, долото, рубанок и другие инструменты. Работал до поздней ночи.
Через два-три дня зыбка была готова. Якец выкрасил ее желтой краской, нарисовал синие и зеленые звездочки, алые сердечки и пунцовые гвоздики в синих цветочных горшках.
Закончив работу, Якец поставил зыбку на окно сохнуть. Очень довольный, он стоял и любовался делом своих рук. В это время мимо проходил Иванчек. Надо же было случиться, что он оказался тут именно в эту минуту? Поравнявшись с домом, он не смог одолеть искушения и заглянул в окно.
При виде зыбки он надвинул на глаза шляпу и ускорил шаг, торопясь уйти от яркой детской кроватки, будто нарочно выставленной, чтоб его подразнить.
Якец смеялся.
Когда родился ребенок, Якец совсем ошалел от счастья. Сначала, увидев страдания жены, он так испугался за нее, что почти возненавидел ребенка. Но когда жена разрешилась от бремени и запеленатого младенца положили рядом с ней, он не знал, что делать от радости. Как полоумный ходил он по дому, хватаясь за любую домашнюю работу и стараясь переделать все, что можно. И ночью и днем он думал только о жене и ребенке.
Мицка посмеивалась:
— Иди ложись спать.
— Как бы чего не случилось.
Он улегся было наверху в каморке, но не мог уснуть. Услышав голос жены и плач ребенка, он вскочил и примчался в боковушку.
— Что случилось?
Но все было в порядке. Просто-напросто ребенок проснулся. Якец зажег свет и положил малыша на печь. Завернутый в пеленки, он таращил глазки на огонь и на отца. Он больше не плакал, только смотрел, смотрел.
— Мицка! — Якец окликнул жену.
— Что такое? — донесся слабый голос из боковушки.
— Тинче меня уже знает. Правда, знает.
— Смотрит?
— Смотрит, — ответил Якец, — и молчит. Этот дом будет твоим, — говорил он ребенку. — Тебе не придется мучиться и строить. Я вот еще несколько лет поработаю, чтобы все было в полном порядке.
— А если он не последний? — спросила жена.
— Кто? Тинче?
Об этом Якец не подумал. Некоторое время он молчал, глядя младенцу в глаза, в которых играли отблески света.
— Если еще будет ребенок, ему придется выучиться какому-нибудь ремеслу. Да по-настоящему, не так, как я, — я ведь до всего доходил своим умом. Чтоб у него круглый год работа была, — снова говорил он ребенку. — Ну, что ты на это скажешь? Ведь правда?
— С кем ты разговариваешь? — спросила его жена.
— С Тинче. Он морщится, будто хочет засмеяться, да не умеет еще.
— Смотри, чтобы он не развернулся.
— Нет, он хорошо завернут, — ответил Якец. — Одеяло ему еще надо, зыбка у него уже есть. А вырастет, понадобится кровать, а может, он захочет спать на сеновале. К тому времени мы заведем козу, и он станет ее пасти. А еще немного подрастет, купим корову, и он будет задавать ей корм. Ты, сынок, скажи своему отцу: «До сих пор тебе, Яка, было легко, ты жил вдвоем с женой, заботился только о себе да о ней, это было нетрудно! Но теперь у тебя сын, — так и скажи ему, — теперь у тебя стало одной заботой больше, смотри и работай больше, если уж появилась такая забота… Смотри, работай как следует! Смотри у меня!..»
Так он бормотал, бормотал и не заметил, как задремал. Очнулся, когда его окликнула жена. Тинче все еще молчал, он выспался и теперь с удивлением разглядывал горящую лампу.
3
Вскоре после рождения ребенка для Якеца наступили горькие дни. Первое время как-то удавалось сводить концы с концами, — то один, то другой протягивал руку помощи, а несколько гульденов у них у самих было отложено на черный день. Крестные отец и мать принесли сдобных пирогов, прислал пироги и брат Тоне, пришла тетка из своей дальней деревни с корзиной всяких припасов. Мать Мицки не могла допустить, чтобы дочь ее сразу же после родов сидела на одном ячменном хлебе, и приносила ей пшеничного, того самого, который Мицка в далекие времена своего детства, когда она еще пасла козу, не смела и попробовать.
Казалось, в их доме теперь всегда будет белый хлеб, и Якец, открывая в широкой улыбке белые крепкие зубы, радовался, видя, что на лице жены снова появился румянец и вся она сияла от счастья.
— По-барски живем, — сказал он, приканчивая под натиском жены белую горбушку и не думая, что в жизни их может что-то измениться.
Но однажды белого хлеба не стало. Мицка видела, как муж поднялся наверх, открыл в каморке свой разрисованный сундук и снова его закрыл. Потом медленно сошел в сени, достал из кармана кошелек, заглянул в него, вывернул — нет, ни одна монета не завалилась, в кошельке было пусто.
Якец призадумался. Он долго ходил взад и вперед по горнице, жена провожала его взглядом. Потом вышел из дому и отправился в трактир.
— Чего тебе? — спросила его трактирщица, сложив руки на толстом животе и часто моргая.
— Хлеба на десять крейцеров, — сказал Якец и с тяжким вздохом добавил: — Только вот денег у меня сейчас нет. Заплачу на той неделе.
— Ты еще и за молоко не заплатил, Яка, — проговорила трактирщица тихо, но твердо.
С тех пор как Якец женился, его все звали Якой.
Слова трактирщицы задели его самолюбие. Еще никогда в жизни ему так грубо не напоминали о долге. Это было как гром среди ясного неба. Удар попал прямо в сердце.
Якец уже видел, как он возвращается домой с пустыми руками, видел вопрошающие глаза жены. Почему трактирщица так беспокоится о десяти крейцерах? Ведь другие должны ей гульдены! Только потому, что он больше не приходит по воскресеньям пить вино? Или в самом деле потому, что он не заплатил за молоко? Но ведь деньги на дороге не валяются!
Трактирщица догадалась, о чем он думает, и поняла, что обидела его.
— А как малыш? — спросила она приветливее, желая смягчить обиду. — Здоров?
У Якеца сразу отлегло от сердца. Появилась надежда, что ему все-таки дадут хлеба.
— Спасибо. Здоровенький. Уже смеяться научился.
— О! — воскликнула женщина и вышла из комнаты.
Немного погодя она принесла полбуханки белого хлеба и положила на стол перед Якецем.
— На, возьми. Это просто так. Гостинец Мицке. Отнеси ей.
Яка поблагодарил. Он понимал, что означает такая щедрость. Мол, больше в долг не проси, раз все равно не можешь платить. Вот тебе, Христа ради, кусок хлеба — и дело с концом!
— Скажи Мицке, чтобы берегла себя, — добавила трактирщица. — Не застудилась бы. И пусть не слишком на работе надрывается.
— Да я все по дому сам делаю, — сказал Якец и заверил трактирщицу, что Мицке ничего не грозит.
Трактирщица смотрела на него не отрываясь — Якец был сама доброта и простодушие. Она знала, что ради жены он готов на все. У него отросла борода, на лбу прорезались морщины, из-за бессонных ночей под глазами были синие круги.
— Ты не сможешь вечно заниматься хозяйством, — сказала она. — Придется зарабатывать на жизнь. Ведь семья будет расти.
Якец не нашелся, что ответить. Слова трактирщицы могли показаться вполне благожелательными, если бы в голосе ее не было недоброго призвука, а в глазах не поблескивало злорадство.
Он попрощался и быстро пошел домой, словно боялся встретиться с людьми. Дома он положил хлеб перед Мицкой.
— Это тебе посылает трактирщица.
— Трактирщица?
Мицка очень удивилась. С чего бы это трактирщица послала ей такой подарок? Взглянув на мужа, она отгадала причину, но ничего не сказала.
Когда белый хлеб кончился, Якец положил на стол черный. Вид у него при этом был такой, будто тут вышла какая-то ошибка или, наоборот, все само собой понятно и не нужно никаких оправданий… Отойдя в сторону, он искоса поглядывал, что будет делать Мицка.
Но Мицка даже глазом не моргнула. Она отрезала ломоть, откусила и, держа хлеб в руке, рассматривала его, словно размышляла, из какой он муки, хотя мякина из него так и торчала.
— Ячменный, — сказал Якец, — и добавлено немного ржаной и гречишной муки.
— Хороший хлеб, — ответила Мицка.
Она доела свой ломоть, но второго себе не отрезала. Якец это с горечью отметил, но вида не подал. Только отложил ложку. Пот выступил у него на лбу. Встав из-за стола, он будто по делу вышел в сени, а потом поднялся на чердак. Ему хотелось побыть одному — так бывало всегда, когда его мучили тяжкие думы.
Плач ребенка заставил его снова спуститься в горницу. Глаза Якеца глядели устало, черты лица заострились. А Мицка была такая же, как всегда, — любящая, преданная. Блеск ее глаз ничуть не померк. Она держала на руках ребенка, потом расстегнула кофточку и начала его кормить.
Якецу вспомнились услышанные вскоре после свадьбы слова о том, что жена от него сбежит. Теперь, когда в доме не было больше хлеба, она, наверно, так и сделает. Но страх мучил его недолго. Чепуха! Как это она убежит с ребенком? Куда? И что она встретит у людей, кроме насмешек?
Он улыбнулся своим страхам, довольный, что сумел их преодолеть. И все же ему было тяжело. Жизнь вдруг обернулась к нему своей дурной стороной. Он чувствовал себя как человек, который поскользнулся и катится в пропасть.
Каждый день он ходил на работу. Вечером приносил два куска хлеба, которые отрывал от своего обеда. И лишь изредка ему удавалось принести немного денег.
— Яка, я тебе заплачу на той неделе, — говорил ему хозяин, когда Якец в надежде получить заработанные деньги, засиживался у него дольше обычного.
— Не к спеху, — вежливо отвечал Якец, стыдясь признаться, что деньги нужны ему позарез.
— Трактирщица не дала мне сегодня молока, — сказала ему однажды вечером Мицка, когда он вернулся домой, — говорит, нет у нее.
Это была неправда. Якец хорошо знал, что в ее хлеву стояли две дойные коровы. Просто не хочет больше давать, потому что он не заплатил старого долга. Якец решил было сходить к ней и попросить еще раз, но по дороге передумал и зашагал к брату.
— Я знал, что так будет, — сказал Тоне. — А молока у нас и у самих нет.
Не дослушав его, Якец вышел за дверь. Он помчался к Дольняковым и со слезами на глазах рассказал хозяйке про свою беду. Она налила ему бутылку молока.
— Приходи вечером или утром, как тебе удобней, — сказала она. — А не сможешь заплатить деньгами, отработаешь.
4
Как-то Якец шел из Речины домой мимо залесского трактира. Из окна ему помахал рукой широкоплечий усатый человек. Якец его не сразу узнал.
— Яка, иди сюда!
— А, это ты, Балант! Не могу, домой тороплюсь.
— Зайди на минуту! Поговорить надо. Жена подождет.
Чтобы люди не подумали, будто он боится жены, Якец вошел в трактир. Положил на окно узелок, в котором была буханка хлеба, и подсел к Баланту. Это был грузный, шумный и хвастливый человек. Каждый год он приезжал на несколько недель в родную деревню и набирал здесь лесорубов для работы в Румынии.
— Пей! — налил он Якецу водки. — Как дела?
— Да так, — ответил Якец и отрезал себе ломтик хлеба. — Дом себе построил, женился.
— Слышал, слышал. И наследный принц уже есть. А теперь что? Собираешься дома сидеть?
— Черта лысого собираюсь, — сказал Якец. — Смысла нет. Работаю все дни напролет, а почти ничего не получаю. Что и заработаешь, не дождешься, когда заплатят.
— Видишь, — усмехнулся Балант, довольный тем, что Якец сам льет воду на его мельницу. — Так я и думал. Я ведь хорошо знаю крестьян. Поехали со мной в Румынию. Едем через неделю. Участок, где будем валить лес, отменный, лучшего и желать нельзя. Работник ты хороший, для тебя это будет плевое дело.
— Да, да, — кивал Якец задумчиво.
Заработок его привлекал, но удерживала мысль о Мицке. Как оставить ее одну с ребенком? Ведь она ни на шаг не может от него отойти!
Заметив его колебания, Балант усилил нажим.
— Я могу тебе заплатить немного вперед еще до отъезда. И дорога за наш счет. Да и на месте, как только захочешь, получишь аванс, пошлешь домой на расходы. Вернешься после Нового года, и в кармане у тебя будут позванивать гульдены.
Якец молча улыбался. Все это было очень заманчиво. Он думал о Мицке, о себе он не привык думать. На что они будут жить, если он останется дома? Еще, чего доброго, голодать придется. Наступит зима, в деревне работы не найти, вот и клади зубы на полку.
— Очень уж далеко, — сказал он, наполовину побежденный.
— Небось не заблудишься! — расхохотался Балант. — Будем держаться вместе. Не один же ты едешь. Ну, по рукам? Кто ездил с Балантом, никогда не раскаивался.
Да, Якец знал, какой он пользуется славой. Все посмеивались над ним — уж так было заведено, — но каждый год снова уезжали с ним на чужбину. Балант богател, однако рабочих не обсчитывал, иначе он не посмел бы еще раз показаться в родных краях.
Якец снова задумался. Нелегко ему было оставить молодую жену одну с ребенком, но его мучил страх, как бы зимой ей не пришлось голодать. У него было такое чувство, будто он ее навсегда потеряет, если уедет, но, оставшись дома, обречет ее на лишения, чего никогда себе не простит.
Якец не мог ни на что решиться, не поговорив с женой.
— Погоди немного! — сказал он Баланту. — Я спрошу Мицку.
Балант не стал над ним смеяться. Он хорошо знал подобные дела, Якец был не первым, кого он отрывал от дома.
— Иди и улаживай все поскорее! — ответил он Якецу. — Я тебя подожду. Только обязательно приди и скажи, записывать тебя или нет.
Мицка поджидала его перед домом с ребенком на руках.
— Слава Богу, пришел наконец! — воскликнула она. — Я еле тебя дождалась!
Якец положил на стол хлеб. Протянул малышу палец, тот схватил его обеими ручонками и потащил в рот.
— А что, если меня не будет несколько месяцев? — сказал он жене. — Если я поеду работать в Румынию…
— Иисус! — испугалась Мицка. — Ты в самом деле собираешься ехать?
— Балант сейчас уговаривал в трактире.
Якец сел на скамью и взглянул на Мицку. Она посадила ребенка на колени и задумалась. Якец заметил, что ей не по душе его затея. Это его обеспокоило, но в то же время было приятно.
— А разве в Речине не будут расширять дорогу? — спросила она, помолчав.
— Наверняка ничего не известно, — сказал Якец. — Я как раз сегодня говорил об этом с твоею матерью. Может, этой зимой еще и не начнут.
Мицка молчала. А Якец продолжал обосновывать решение, которое становилось все тверже.
— Ты ведь знаешь, в деревне трудно что-то заработать. Даже когда есть работа, ничего не получишь. А когда нет, остается только побираться. Балант даст мне немного денег вперед, чтобы тебе хватило на первое время. Потом получу аванс. А после Нового года сам приеду с деньгами.
Мицка задумалась. Она, конечно, понимала, что муж не сможет вечно сидеть с нею дома. Об этом она думала еще до свадьбы. Но в последнее время эта мысль не приходила ей в голову. Уже не однажды стучалась к ним в дверь нужда, и, может статься, она начнет ломиться в дом со всех сторон. Мицка видела тревогу мужа и сама тревожилась, только виду не показывала.
Да, ему надо ехать. Сердце Мицки сжималось от боли. Ей так не хотелось отпускать Якеца. При мысли о разлуке ее охватывала необъяснимая тоска, причина которой была ей так же непонятна, как иной раз бывают непонятны предчувствия.
— Будешь запираться в доме, — сказал Якец. — Или возьмешь к себе жить какую-нибудь девчонку.
— Обо мне не беспокойся, — ответила Мицка. — Этого я как раз не боюсь. Со мной, Бог даст, ничего не случится.
Якец широко улыбнулся.
— Балант меня ждет. Что ж, пойти и ударить с ним по рукам?
— А когда ехать? — спросила Мицка.
— Кажется, через неделю.
— Если ты думаешь, что так будет лучше, поезжай, — сказала жена, глядя на ребенка и ласково поглаживая рукой его мягкие волосики.
— А ты сама как считаешь?.. — спросил Якец дрожащим голосом, не в силах сдержать свои чувства.
— Поезжай! Конечно, мне хочется, чтобы ты остался дома, но если иначе нельзя… Что-то есть нужно. Ведь ты говоришь, вернешься после Нового года.
Спустя несколько минут Якец уже был в трактире, и они с Балантом ударили по рукам. Балант отсчитал ему несколько банкнот.
— Через неделю, — сказал он, — встретимся в Речине. В пять утра. Каждый берет с собой кирку и топор. Без топорища, конечно.
5
Прощаясь, и Якец и Мицка плакали. Мицка стояла у порога и долго смотрела вслед Якецу, а он перешел мостик и, все время оглядываясь, махал ей шляпой. Ей было так грустно и так тяжко, будто он уходил от нее навсегда.
В домике стало пусто. Днем Мицка забывала о муже. Она привыкла, что он по утрам уходил на работу и возвращался лишь вечером — озабоченный, но все равно улыбающийся, точно ему все нипочем. Зато ночи были долгими. Постель казалась такой пустой. Вечно ей мерещилось, что наружная дверь не заперта. На чердаке что-то поскрипывало. На дороге всю ночь слышались шаги. Хотя окно в боковушке было плотно занавешено, ей то и дело чудилось, что кто-то заглядывает в комнату, держась руками за решетку.
Теперь, когда просыпался и плакал ребенок, она вставала к нему сама. Дрожа всем телом, она выходила в сени и раздувала в печке огонь. Ребенка пришлось отнять от груди — от постоянного страха и печали у нее пропало молоко. Она стала давать Тинче коровье молоко, разбавленное подслащенной водой. Сначала он заболел от этого, но мальчик он был крепкий и вскоре привык к новой пище.
Мицка очень бережливо расходовала деньги, полученные Якецем от Баланта. Постепенно она свыклась с одиночеством. Чтобы ей было веселее, мать прислала ей десятилетнюю девочку. Она доводилась Мицке дальней родней. У нее была большая голова и такие круглые глаза, будто она все время чему-то удивлялась. Девочка любила Тинче, и Мицка могла спокойно оставлять ребенка на ее попечение.
От Якеца она получила открытку, посланную из какого-то далекого города и написанную чужой, незнакомой рукой. Потом от него долго не было никаких вестей. Мицка так тревожилась, что не спала по ночам. Она пошла к соседям разузнать, пишут ли им мужья. Но те только смеялись:
— Что ж ты думаешь, Яка будет тебе каждый день писать?
Через несколько дней она получила письмо. Оно было коротким — листок бумаги, исписанный карандашом с двух сторон. В нем кратко сообщалось о том, что Якец благополучно добрался до места, что он здоров и работает далеко от жилья и что пошлет ей деньги, как только сможет. В конце стояла приписка — привет ей и Тинче.
Мицка была недовольна письмом, она ждала другого. Хоть бы одно слово о том, что любит ее и скучает.
Она села писать ответ. И только тут почувствовала, что такие слова никак не идут на бумагу. Сказать куда легче. И если она даже их напишет, читать письмо будет кто-то другой — ведь Якец неграмотный, — и этот человек только посмеется. Лишь тогда она поняла, что Якец вынужден кому-то диктовать свои письма, не может же он оповещать весь мир о том, о чем ему, вероятно, больше всего хотелось бы ей сказать.
Думая обо всем этом, Мицка совсем загрустила. Она написала Якецу, что получила его письмо, что она сама здорова и Тинче тоже здоров, что у нее сейчас живет девочка и что она, Мицка, ждет не дождется, когда пройдут дни… Тут у нее потекли слезы и закапали на бумагу. Она пожелала мужу всего доброго и наказала беречь себя и возвращаться домой живым и здоровым.
Письмо она отнесла на почту в Речину. Там она застала целую толпу рабочих.
— Что пишет Яка? — спросила ее мать.
— Пишет, что здоров и все благополучно, — ответила Мицка.
— Начали расширять дорогу. Ты видела? Вот бы ему здесь остаться.
— Если бы он только знал, — вздохнула Мицка. — Вы же ему сами сказали, что еще ничего не известно.
Мицка не могла скрыть своего огорчения. А мать уже забыла о Якеце.
— Все сейчас работаем засучив рукава, — сказала она. — А работы прибавится, и ты поможешь. Разве легко напечь хлеба на такую ораву!
Мать Мицки была предприимчивой женщиной. Умела взяться за дело и не упустить своей выгоды. Когда речь шла о заработке, она забывала богу молиться — только работа, работа без отдыха. Все годы она кое-как перебивалась. Сейчас представилась возможность отложить крейцер-другой на черный день, если, конечно, какой-нибудь проходимец не отобьет у нее заработка. А ведь стоит кого-нибудь из этих оборванных, перепачканных грязью людей оставить без хлеба, и такое вполне может случиться.
Мицка огляделась по сторонам. В кухне и в горнице было жарко, как в печке. Все столы были завалены хлебом. Перед домом рабочий складывал доски, тут же лежал кирпич.
— Что вы тут затеваете, мама?
— Сарай ставлю. Мне нужна новая, большая печь. Сейчас еще кое-как оборачиваюсь. А когда приедет новая партия рабочих, мне не управиться.
— Вам бы надо взять пекаря.
— Взяла. Вчера вечером приехал. Сейчас спит. Но и тебе придется иногда помочь.
— А как же ребенок?
— А на что я тебе послала девчонку?
Мицка поняла, что мать не шутит, как ей показалось вначале. Она решила всех запрячь в работу, всех заставить трудиться и день и ночь. Много лет она мечтала заработать столько денег, чтобы наконец спокойно вздохнуть.
— Ведь и ты будешь не в обиде, — уговаривала ее мать. — Хлеба я тебе всегда дам, сколько нужно. Конечно, принуждать я не могу. Если сама захочешь…
Дочь не знала, что ей ответить. Отказаться она не могла, но и согласиться было трудно. В это время на лестнице, которая вела наверх, появился парень в запорошенной мукою одежде. Спросонья он тер глаза.
— Вот наш пекарь, — сказала мать.
Пекарь сел на ступеньку и уставился на Мицку. Это был молодой парень с чистым, как у девушки, лицом, синие глаза его смотрели ласково, светлые волосы падали на лоб легкими кудрями.
Взгляды их встретились, и они долго не могли отвести их друг от друга. Парень смотрел на нее, как на чудо, а по телу Мицки прошла легкая дрожь.
Она как будто уже видела этого человека. Кажется, он немного похож на Филиппа? Мысленно сравнив их, она решила, что нет, совсем не похож. Этот парень был красивее и наверняка лучше Филиппа.
— Это моя дочь, Мицка, — представила ее мать. — Ну, как, Адольф, выспались?
Парень пропустил ее вопрос мимо ушей.
— Вы живете тут, в Речине? — спросил он Мицку.
Мицка густо покраснела. Прежде чем она сообразила, что сказать, за нее ответила мать:
— Она замужем, живет в Залесье. Я вот прошу ее как-нибудь прийти нам помочь, а она не соглашается.
— Конечно, нам надо помочь, — сказал Адольф. — Если еще и я ее попрошу, она непременно согласится.
Столько самомнения было в его словах, но молодую женщину они околдовали. Она взглянула на свою руку, на которой сверкало обручальное кольцо.
— Там видно будет, — сказала она.
Но голос ее звучал так, словно она говорила: «Приду».
6
Образ жены и ребенка Якец увозил с собой в сердце. Он забился в угол вагона и улыбался ярким искрам, летевшим мимо вагонных окон. Они были точно ласковые слова прощанья, провожавшие его всю долгую дорогу. Колеса стучали. Якецу казалось, будто они все время повторяют два имени: «Миц-ка, Тин-че», — и так от станции до станции, от города до города.
До слуха его доносились странные названия чужих краев. Мимо пробегали высокие дома и церкви — чудеса, на которые он глазел в изумлении. Обширная венгерская равнина, поля и степи не имели ни конца, ни края. Прошло два дня, как он уехал из дому, еще не успел добраться до места, а ему уже хотелось назад.
Они сошли с поезда в большом городе. Длинные улицы, сверкающие дворцы, шумные толпы людей. Якец глядел во все глаза и удивлялся, что в этой пестрой толпе, словно собравшейся сюда со всего света, он не встретил своей жены.
Два дня лесорубы провели в этом человеческом муравейнике и снова сели в поезд. По узкоколейной железной дороге они поехали в горы и вышли на самой последней станции, где кончалась ветка. На станции громоздились большие штабеля бревен. Вокруг высились горы. Поросшие темными лесами, прорезанные долинами и ущельями, они уходили в необозримую даль.
Лесорубы свернули в одно из этих ущелий и после долгого и трудного перехода заночевали в низеньком домике у горной речки. С виду он ничем не напоминал трактир, но они получили тут и еду и питье.
На следующий день им пришлось десять часов подряд взбираться в гору. Они шли вдоль отвесных круч под развесистыми соснами, из-за которых лишь изредка открывался вид на мрачные глубины ущелья.
Остановились они в небольшой лощине недалеко от вершины конусообразной горы. Здесь рос редкий кустарник, а вокруг стеной стоял лес.
— Вот мы и пришли, — сказал проводник.
Они отдыхали и осматривались. Солнце уже клонилось к западу, заливая вершины сосен алым светом. Потом все поднялись, самый старший срубил топором ближайший куст.
— Ну, с богом! — сказал он. Так началась работа.
Они раскорчевали лощинку, срубили несколько небольших сосен и очистили их от сучьев. Ночь провели на сосновых ветках под густыми деревьями, накрывшись лишь пиджаками и дрожа от холода; потом развели костер и всю ночь просидели у огня.
Затем лесорубы построили бревенчатый домик, покрыв его ветками и корою. Утрамбовали земляной пол, вдоль стен поставили нары, навалили на них сухих листьев, из камней сложили очаг.
Теперь у них были свой дом, свой очаг и свои постели — прибежище в ненастную погоду. Тут они жили, проводя дни и ночи в тяжелом труде и постоянных думах о своих семьях, питаясь одной мамалыгой, заправленной салом и сыром.
В первое время никто не тосковал о доме. Даже Якец. Лишь вечером, ложась на жесткие нары, он вспоминал о Мицке. «После Нового года… — говорил он сам себе. — Дни бегут быстро». И тут же засыпал.
В кармане у него лежала бумага для писем, совсем уже измявшаяся, на конвертах были наклеены марки. Как-то вечером он взял один из конвертов и в неярком свете горящих в очаге поленьев долго вертел его в руках.
— Ты чего, Яка? — спросил его сидящий рядом парень. — Хочешь письмо написать?
— Да.
— Так пиши!
— А я не умею, — сказал он, как всегда улыбаясь, хотя ему было горько в этом сознаться.
— У меня руки трясутся, — послышался голос с нар, словно человек, сказавший это, боялся, как бы Якец не попросил его написать письмо.
Другой паренек, с виду такой же робкий, как и Якец, молча на него поглядывал. Он был не из Залесья, и Якец не решался его попросить. Но тот предложил сам:
— Хотите, я вам напишу?
— Напиши.
Они сели поближе к висевшей на стене керосиновой лампе. Якец призадумался, паренек послюнил карандаш.
— Напиши вот что, — начал Якец, — напиши, что я благополучно добрался до места и, слава Богу, здоров…
На следующий день Якец отправил свое первое письмо.
Долго ответа не было. Наконец он пришел. Якец разминал пальцами бумагу и разглядывал ее, словно ожидая, что она сама заговорит.
— Получил письмо, Яка? Что ж не читаешь? — сказал ему тот же паренек, что прежде писал под его диктовку.
Они отошли в сторонку, и он прочел письмо Мицки. Якец никак не мог поверить, что все так и написано. Он до того расчувствовался, что на глазах у него навернулись слезы.
— Напишешь мне еще одно письмо? — попросил он парня. — Это письмо будет такое… особое…
Он долго ждал, пока как-то воскресным вечером они не остались с парнем в доме одни.
— Напиши, — диктовал Якец, — что я все время думаю о ней, напиши, что я…
Он выговаривал слова медленно, с нежностью в голосе, улыбался, а в глазах стояли слезы.
Все задушевные слова и тяжкие вздохи, напрасные страхи и запоздалые признания, заполнявшие его мысли, когда он валялся на нарах в дождливые дни или мечтал по ночам, не в силах уснуть от усталости, — все это он пытался вложить в неуклюжие фразы, которые карандаш паренька наносил одну за другой на измятую бумагу. Но слова бессильны были выразить то, что он хотел.
Да и можно ли на бумаге выразить то, что скрывается в сердце, а особенно в таком безыскусном?
Когда письмо было написано, Якец долго держал его в руках, будто взвешивал на ладони. Он улыбался, мысленно повторяя только что продиктованные слова.
В вершинах сосен шумел ветер.
7
Рабочих в долине стало еще больше, в Речине как грибы росли новые бараки, на лугу у реки образовалась чуть ли не целая деревня.
Мать Мицки не могла управиться, хотя и крутилась круглые сутки. Времянка во дворе была достроена, в ней сложили новую печь, сколотили длинные полки под хлеб, но к вечеру все они бывали уже пусты.
На другом конце деревни поставил времянку приезжий пекарь и открыл там новую пекарню. Женщина забеспокоилась.
— Это ты виновата! Не приходила нам помогать, — упрекала она Мицку. — Теперь мы пропали.
Тогда Мицка наконец решилась, хотя ее пугали дерзкие взгляды Адольфа. Она думала о Якеце, о сыне. Разве это не грех, что глаза постороннего мужчины так откровенно оглядывают ее с головы до ног?
— Еще немного, и ты бы нам вовсе не понадобилась, — такими словами встретила ее мать.
Но оказалось, что работы хватает и для двух пекарен. Они едва успевали снабжать хлебом рабочих, которые сидели лишь на сухой мамалыге да на плохо пропеченном, сильно заквашенном хлебе.
И все же предприимчивую женщину одолевали тревоги. Запасы муки истощались, а деньги отложить никак не удавалось. Кроме того, ее мучили долги — чтобы построить времянку, ей пришлось одолжить большую сумму. Она боялась, что в один прекрасный день пекарня остановится. Но все-таки ей удалось извернуться. Правда, медленно и постепенно. Она задержала жалованье Адольфу. Он стал своим человеком в доме, и она не стеснялась ему признаться, в каком она затруднительном положении. Выплатив ему наконец жалованье, она вздохнула спокойнее. На лице ее снова появилась улыбка.
Мицка приходила к матери каждое утро и каждый вечер возвращалась домой. Якецу она ничего об этом не писала, чувствуя себя виноватой, что оставляет сына на попечение чужой девчонки.
«Ведь это мой заработок», — думала она, увязывая в узелок буханку белого хлеба и небольшой пакетик кофе. Но это ее не успокаивало. По дороге домой в шуме сосен ей слышался голос Якеца, словно долетавший из далеких лесов чужбины: «Разве я не оставил тебе денег? Разве недавно я не прислал тебе еще денег?»
В сундуке у нее было припрятано несколько банкнот, и она представляла себе, как покажет их мужу, когда он вернется.
— Видишь, сколько я накопила!
Якец сначала рассмеется, потом нахмурится.
— А на что ты жила? Ты берегла себя?
Она вспомнила о пламенных взглядах Адольфа. Каждый день он стоял у раскаленной печи голый до пояса и сажал в нее караваи хлеба. Мицка больше его не стеснялась. Взор ее притягивали его белые плечи, чистая, без единого волоска, грудь, словно это был ребенок, и она невольно сравнивала его со своим мужем. Иногда Адольф будто ненароком касался ее руки, но она понимала, что он это делает неспроста. Случалось, они сталкивались спинами или его локоть дотрагивался вдруг до ее груди. Тоже как будто ненароком. Но при этом она не могла не заметить, как блестели его глаза. Она отодвигалась, испытывая какое-то странное чувство. Отчего он так дерзок?
Мицка старалась держаться от него подальше, но во время работы это не всегда удавалось. «Ведь рядом мать», — утешала она себя. Однако, если он отпускал на ее счет двусмысленную шутку, мать только смеялась и еще от себя прибавляла. Постепенно Мицка привыкла к его шуткам и прикосновениям и перестала видеть в них что-то плохое. Она не пугалась, когда вечером по пути домой в ее воображении вставал молодой пекарь. И часто настолько забывалась, что и не пыталась рассеять это наваждение, и оно преследовало ее и по ночам.
Второе письмо Яки, вместе с которым пришли и деньги, ее потрясло. Кто написал ему эти слова? Неужели он и вправду все так продиктовал? А она-то думала, что он забыл ее! Ей и в голову не приходило, что он живет в глуши и до почты так далеко, что невозможно посылать письма чаще, чем раз в семь-восемь недель.
Сын уже ползал по горнице и, ухватившись за скамейку, становился на ножки и бегал вдоль нее. Смех его журчал, словно ручеек.
Как-то вечером Мицка обнаружила, что он болен. У него был жар.
— Что ты с ним сделала? — рассердилась она на девчонку. — Так-то ты за ним смотришь!
В следующий миг она поняла, что эти слова ей следовало бы сказать себе. Она должна лучше смотреть за ребенком. И зачем только она пошла сегодня в Речину? Она сидела во дворе, ждала, пока поднимется тесто, рядом с нею был Адольф и, как всегда, шутил. Он дерзко запустил руку ей за платье, чтобы взять заткнутую туда цветущую веточку.
Но ведь ему эта душистая веточка вовсе была не нужна! А зачем она прицепила ее себе на грудь? «Нет, не для этого», — судорожно оправдывалась она перед собой. «Я ударила его по руке». Но тут же в ушах у нее прозвучал вопрос: «А как ты его ударила?» И ответ: «Я схватила его за руку и легонько шлепнула по пальцам. И руку выпустила не сразу».
Ох! Мицка положила голову на подушку рядом с больным сыном, который метался в жару. Она заглядывала ему в глаза, в лицо и узнавала свои собственные черты и черты своего мужа. И, словно обращаясь к Якецу, она, глотая слезы, причитала над больным сыном: «Я больше не буду! Больше не буду! Никуда не пойду, буду сидеть дома».
И она в самом деле осталась дома и старательно выхаживала мальчика. Мужу она написала, чтобы он не беспокоился, что ребенок здоров и, когда он вернется, он все найдет в наилучшем порядке.
Она не лгала. Ребенок благодаря ее заботам и вправду быстро понравился. Он опять бегал, держась за скамейку, и смеясь оглядывался, не догоняет ли его кто-нибудь.
Но мать снова пришла за Мицкой. После долгих колебаний и пререканий с матерью Мицка наконец решилась и пошла с нею.
8
Наступил декабрь. На вершинах гор лежал снег. Погода стояла сухая, небо было ясное, солнце светило с утра до вечера, голые склоны сверкали, словно летом.
Дни были короткими. Мицке приходилось торопиться, чтобы засветло добраться до дому. Несколько раз темнота заставала ее уже у реки, и она в страхе бежала меж кустов, пугаясь свисавших на дорогу веток. Но в Речине она ночевать не хотела, боялась за сына.
Как-то перед Рождеством они сильно задержались с выпечкой хлеба. Мицка со страхом взглянула на часы.
— Так поздно? — всполошилась она. — Мне надо идти.
— Подожди, — сказала мать. — Тебя кто-нибудь потом проводит.
Мицка осталась. Поверив, что ее проводят, она не спешила. После того как хлеб вынули, она еще немного посидела и даже выпила чашку кофе, но наконец поднялась.
— Ну, я пойду!
— Поздно уже, — сказала мать.
— Вы же обещали, что меня проводят.
— Я не могу тебя проводить.
Мицка рассердилась: мать думает только о себе. Пообещала лишь для того, чтобы подольше задержать. Оставаться в Речине она не хотела. Но идти одной было страшно, ей всюду мерещились призраки — среди деревьев, в реке, в кустах. Кто-то должен ее проводить! Брата в этот день не было дома, она взглянула на сестру.
— Пусть меня проводит Лиза.
— Ей уж и вовсе некогда, — ответила мать. — В лавке кому-то надо быть.
Мицка взглянула на Адольфа, который чистил себе брюки. Тот понял ее взгляд.
— Если хотите, я вас провожу, — предложил он и обольстительно улыбнулся.
Мицка растерялась. Она чувствовала, что соглашаться нельзя, но не сразу нашлась, что ответить. Да и в таком случае ей пришлось бы остаться ночевать у матери.
— Прошу вас, Адольф, — обратилась к нему мать. — Проводите ее хотя бы до первых домов Залесья. Знаете, женщине ведь в самом деле не стоит ходить по ночам одной.
Мицка не сказала ни слова. Она подождала, пока Адольф переоденется. Увидев на нем праздничный костюм, она удивилась, но промолчала. Он был очень хорош собой и выглядел барином, ничего от пекаря в нем не осталось.
«Ничего, скоро я буду дома», — подумала Мицка и вышла с ним на дорогу. Было темно, светили только звезды. Под ногами, указывая путь, белели камни.
Мицка была так смущена, что вначале еле слышала то, что говорил Адольф. А он говорил о темноте, о звездах, о погожих днях, о хорошей зиме. И о многих других самых обычных вещах. Крепко сжав губы, она молчала. Каждый из них находился в своем собственном мире, далеко друг от друга. Мицка думала о Тинче и муже, представляла себе улыбающееся лицо Якеца. Она шагала все быстрей и быстрей, чтобы как можно скорее оказаться дома.
— Куда вы так спешите, Мицка? — спросил ее Адольф вкрадчивым голосом.
Она пошла медленнее. Через некоторое время он снова заговорил:
— Опять вы мчитесь! И о чем вы все время думаете? Меня даже слушать не хотите.
Мицка попыталась отвлечься от своих дум. Стала слушать его более внимательно. Никто и никогда еще не говорил ей таких красивых и возвышенных слов. У нее было такое чувство, будто на нее сыпались не слова, а цветы. И как во время воскресной проповеди в церкви ее никогда не посещали нехорошие мысли, так и теперь у нее не возникло ни малейшего дурного предчувствия.
Адольф казался ей очень умным, не по годам зрелым человеком. Они подошли к наледи, пересекли узенький ручеек. Адольф протянул ей руку, словно приглашал на танец, Мицка оперлась на нее, чтобы не упасть. Но выпустила не сразу, а продержала в своей руке еще минуту-другую. Отпустив его руку, она взглянула на него. В тусклом свете, проникавшем из окон стоявшего над дорогой дома, она увидела его сияющие глаза и улыбку.
Навстречу им попались двое подвыпивших рабочих, они шли обнявшись и пели хриплыми голосами. Заметив женщину, они подскочили к ней. Мицка вскрикнула и чуть не упала, споткнувшись о камень. Она схватила Адольфа за руку и прижалась к нему. Пьяные засмеялись. Адольф тоже.
— Ничего страшного, — сказал он, взяв правой рукой Мицкину руку, а левой легонько обнимая ее за талию.
Мицка выскользнула из его объятий. Но ей было приятно его заступничество. Домой она больше не спешила. Адольф шел все медленнее. На мосту он остановился. Слова его лились безудержно, как вода в реке. Мицка слушала с жадностью, хотя слова кружили ей голову.
Они миновали пологий подъем и стали спускаться вниз. На дороге местами белел лед, ярко светились в темноте огни домов, рассыпанных в долине и на противоположном склоне горы, монотонно журчала вода, из какого-то трактира доносились пение и крики.
На дороге не было ни души. Их видели только звезды да одинокие деревья среди кустов.
Они подошли к ручью, что течет через Залесье. Темнота была тут такой густой, что они с трудом различали ведущий на тот берег мостик. Адольф остановился.
— Хотите, я вас перенесу через мост? — спросил он Мицку.
— Нет, — ответила она, вздрогнув. — Я сама.
Адольф подал ей руку, и Мицка ее приняла. Он крепко стиснул ей пальцы. На другом конце мостика была наледь, и она поскользнулась.
— Ой! — вскрикнула она. — Я чуть не упала в воду.
— Я бы вас удержал, — ответил Адольф.
Дорога шла вдоль ручья. Вода шумела и пенилась на камнях. С обеих сторон росли густые деревья, ветви их свешивались над дорогой, которая была так размыта осенними дождями, что Мицка то и дело оступалась и попадала в рытвины.
— Ведь вы упадете, — сказал ей Адольф. — Дайте мне руку!
— Не нужно, — ответила она, — я дойду сама.
— Дайте мне руку! — повторил он настойчивее.
Она перестала сопротивляться и приняла его руку, чтобы легче было идти и тверже держаться на ногах.
— Я все время говорю и говорю, — снова начал Адольф, когда иссякли будничные темы и ему показалось, что пора перевести разговор на что-то другое. — Теперь ваша очередь.
— Я не умею.
— Как это не умеете? А почему я могу?
— Вы много ездили по белу свету. Много видели и испытали.
— Да, я ездил по белу свету, — сказал Адольф, которому польстили Мицкины слова. — Я видел Триест, Венецию, Вену и Прагу. И еще много чего другого.
И он стал рассказывать ей о разных странах, городах и людях, а также о своих собственных приключениях, пустяковых для человека, который сам разъезжал по свету, но очень интересных для того, кто никогда не покидал родной деревни. Мицка не могла скрыть своего восхищения.
Из-за темноты и гололедицы дорога была долгой и утомительной. У обочины лежала большая куча валежника — словно широкая постель. Адольф остановился и предложил отдохнуть.
Мицка возражала.
— Всего одну минутку, — сказал он. — Я устал, а вы, должно быть, еще больше.
Мицка согласилась. Она села на мягкий валежник, подальше от Адольфа. Тот придвинулся к ней поближе, чтобы, мол, не озябнуть, хотя было не холодно и небо на юге начало затягиваться облаками.
Он сел, обхватив руками согнутые колени, и продолжал рассказывать, запрокинув голову кверху, будто читал все по звездам на небе.
Он говорил о своих поездках, о службе в разных местах, о ссорах с хозяевами. Мицке все казалось значительным и важным. Правда, она была удивительно рассеянной и тут же забывала то, о чем он рассказывал. До нее долетал только голос, звучавший, как далекая музыка.
Спустя некоторое время Адольф замолчал и взглянул на нее:
— О чем вам еще рассказать?
— О чем хотите, — прошептала она.
Он стал рассказывать ей любовную историю, будто нарочно припасенную для этой минуты. Говорил он тихо и задушевно, словно отрешившись от всего земного. Временами в словах его звучала страсть и бушевал огонь, потом голос снова становился нежным, как весеннее цветение, и тихо возносился к звездам. Любовная история, рассказанная Адольфом, больше походила на сказку. Произошла она давным-давно в какой-то далекой стране, но в эту минуту казалась такой близкой, будто коснулась их своим невидимым крылом.
Мицка не замечала, что от ручья веет холодом. Шум воды сопровождал рассказ своей музыкой. Адольф наблюдал за Мицкой: она слушала как зачарованная; он склонился к ней и положил ей руку на плечо. Она не шелохнулась, наверное, даже не почувствовала.
Когда рассказ подошел к концу, Мицка словно очнулась ото сна и широко раскрыла глаза. Что это? Выдумка или так было взаправду? Когда Адольф обнял ее, она не смогла, да и не захотела противиться, ей казалось, что все рассказанное им происходит на самом деле, происходит сейчас…
Она забыла все на свете, забыла, что у нее есть муж и что он уехал на заработки, что у нее есть ребенок, что сейчас ночь и ее провожает домой чужой человек. Она ни о чем не думала, ни о чем не хотела думать, целиком отдав себя во власть дурману, захлестнувшему ее с невиданной силой. Ожили ее несбывшиеся девичьи мечты и, точно на золотых крыльях, понесли ее в небо, к самым звездам. Она едва дышала, словно боялась проснуться. Ей хотелось только одного — продлить эти минуты, чтоб они никогда не кончались…
В ущелье шумела вода, облака заволакивали звезды.
9
Мицка не помнила, как она в тот вечер добралась домой. Стремительно, точно за нею гнались дикие звери, она отворила дверь и сразу же заперла ее за собой. Войдя в комнату, она и там задвинула дверной засов.
Она тяжело дышала. В комнате было темно и тихо. Предметы неясно вырисовывались во мраке. Окна смотрели на нее, как большие серые глаза.
Мицка стояла и прислушивалась, ожидая, что вот-вот войдет тот, кого она боится и перед кем совершенно беззащитна. Однако она понимала, что никто не придет, что никто и не гнался за нею, когда она мчалась как вспугнутая птица, не останавливаясь до самого дома. Ее преследовал страх, боялась она самое себя.
В тишине Мицка расслышала легкое дыхание спящего ребенка. Она приложила руку к груди, которая, казалось, готова была разорваться, и ощупью добралась до печи. Ладонью скользнула вдоль нее и, найдя печной приступок, сунула под него руку. За банкой с солью лежали серные спички. Мицка взяла одну, чиркнула ею по печи, так что по черной стенке пробежала светящаяся дорожка, и зажгла свет.
В комнате никого не было. Свет плясал на стенах, с которых на Мицку смотрели изображения святого Якоба и Божьей матери в простых желтых рамках. Святой Якоб устремил на нее неподвижный взгляд; Мицка подумала, что он похож на ее мужа, и отвела глаза.
Дверь в боковушку была прикрыта. Мицка взяла лампу и пошла туда. Тинче лежал на ее постели, укутанный теплым тряпьем; казалось, он только что уснул. Рядом с ним спала девчонка, она прикорнула одетой, сморенная усталостью. Видно, они долго ждали ее и, не дождавшись, уснули.
Мицка склонилась над сыном. Левую руку он положил под головку, правую вытянул вдоль тела. Его сомкнутые веки были такими тонкими и прозрачными, что сквозь них, наверное, можно было увидеть зрачки. Рот был приоткрыт, дыхание едва различимо.
— Сынок мой! — прошептала Мицка.
Если бы он не спал, она крепко прижала бы его к себе, но сейчас боялась его разбудить. Нагнувшись над ним, она шептала снова и снова:
— Сыночек мой, мой Тинче!
Сердце сжала невыносимая тоска. Прислонившись к стене, дрожа всем телом, она крепко стиснула губы, чтобы не разрыдаться в голос. Когда она бежала домой, ей неожиданно пришло в голову, что ее ребенок умер. Она уже видела трупик между двумя горящими свечами. Но ничего не случилось, хотя она это и заслужила. Слава Богу, ничего не случилось!
Она еще раз склонилась к ребенку и еще раз внимательно его оглядела. Губами тихонько коснулась его волос. Из груди у нее вырвался глухой стон. Ребенок вздрогнул, но не проснулся.
Однако девчонка вскинулась, приподнялась на локте и, удивленно щурясь, уставилась на лампу, потом на Мицку.
— Боже мой, я заснула! — прошептала она в испуге, словно совершила проступок и ее ждет наказание.
— Оставь Тинче, пусть он спит! — сказала Мицка.
— Вас долго не было, мы играли на постели и уснули, — оправдывалась девочка.
— Хорошо. Приходил кто-нибудь?
— Письмо принесли.
— Где оно?
— За образом, — ответила девочка и спрыгнула на пол.
— Ложись спать! — велела ей Мицка. — Если хочешь есть, возьми хлеба.
— Нет, не хочу.
Она залезла на печь, подложила под голову рваную кофту и снова уснула.
Мицка укрыла ребенка одеялом, поставила лампу на стол и сунула руку за образ. Она долго вертела в руках письмо — замусоленное, с помятыми углами. На марках красовался портрет чужого короля с длинной бородой.
Письмо было от Якеца. Никогда еще ни одно письмо в жизни она не держала в руках с таким тяжелым чувством, как это. Она боялась его распечатать.
Наконец она вынула из волос шпильку и вскрыла ею конверт. Письмо было на четырех страницах.
Мицка села к столу. Письмо в ее руке дрожало, как огонек в лампе. Письмо было написано простыми, бесхитростными словами, но в них было все богатство любящего сердца.
«Дорогая жена моя Мицка!
Пишу тебе письмо и для начала хочу послать тебе сердечный привет через далекие горы и долины, через все равнины, реки и дороги. Шлю привет и моему Тинче, и всем родным, кого увидишь. Я все время жду от тебя письмеца, но сам пишу тебе редко, потому что живем мы далеко от жилья; вокруг нас только занесенные снегом горы, сосны и небо, вместо церковных колоколов нам поют топоры. И все-таки что ни день — я думаю о тебе, и за работой и вечером, перед тем как уснуть, и желаю, чтобы с вами — с тобой и с Тинче — ничего плохого не приключилось и чтобы все мы свиделись, веселые и здоровые, через какой-нибудь месяц или два, когда кончатся здесь работы. А если вдруг случится какая беда, ты напиши мне: я брошу все и приеду домой, ведь ты для меня куда дороже работы. Я уже заработал столько, что голодать нам, Бог даст, не придется, пока не подвернется другая работенка…»
Письмо кончалось пожеланиями всего лучшего — сердечными излияниями человека, не знавшего, как полнее выразить свои чувства, да еще с помощью чужого пера. Сбоку была приписка:
«Береги себя и Тинче! До свиданья!»
— Береги себя и Тинче! — повторила Мицка и, неотрывно глядя на письмо, стиснула голову ладонями. Долго сидела она не шевелясь. Потом отыскала в столе чернила и заржавевшее перо. Она писала мужу до тех пор, пока не проснулся и не заплакал ребенок — видно, приснилось что-то страшное.
10
Письмо дошло до Якеца не скоро.
В горах лежал глубокий снег. Сваленный лес целый день спускали по двум большим лесоскатам в долину, грохот стоял с утра до вечера. Несколько рабочих находились внизу и складывали бревна в громадные штабеля. Домой они возвращались поздно вечером, усталые до предела. Тем временем другие уже варили ужин и отдыхали на нарах.
Якец присел на толстый чурбан у огня. Он снял сапоги и сушил брюки и портянки, от которых валил пар.
— Промок до нитки! — пробормотал он.
— Быть не может! — засмеялись вокруг. — У меня штаны — что колокол, до того обледенели. Сушу их, а воды в них все больше — знай себе оттаивают.
— Так оно и есть, — сказал Якец. — Ну да немного потерпеть осталось, скоро конец.
— Конец? — раздался голос Баланта. — Ты что, не знаешь, когда будет конец?
— Когда?
— Когда помрем.
— Знаю, — сказал Якец. — Но передохнуть тоже нужно. Машины и те изнашиваются.
— Яке к жене хочется, — послышался чей-то голос. — Известное дело, женился недавно человек.
— К жене! — засмеялся Балант. — Дней через десять, самое большее — через две недели здесь закончим. Но потом есть еще одна работенка. Месяца на два.
— Черт подери! Где?
— В двух часах ходьбы отсюда. Там подрядчик сбежал. Заработки будут хорошие.
Якец держал над потрескивавшим огнем портянку, голову его сверлили невеселые думы.
— Я поеду домой, — решил он наконец.
— Что ж, поезжай, — проревел Балант, который напускал на себя иногда грозный вид, а на деле был куда добрее. — Проваливай! А денег я тебе не дам. Поезжай один, если хочешь! И пусть жена пришлет деньжонок на дорогу.
Якец не проронил ни слова. Балант внимательно смотрел на него.
— Тебе так тошно? — попытался он загладить свои слова. — Если хочешь уехать, никто тебя задерживать не станет. Только ведь глупо. Работа тут рядом, заработок хороший. Еще два месяца, и получишь столько, будто ты два раза съездил в Румынию, и на дороге сэкономишь. Любовь любовью, а разум, Яка, тоже иногда не мешает иметь.
Якец слушал, и слова Баланта не оставляли его равнодушным. Но он еще ничего окончательно не решил. Тем временем вернулись рабочие из долины.
— Яка, подвинься-ка немного, замерз я как собака, — сказал один из них, с огненно-рыжими волосами.
Якец отошел в угол и опустился на нары. Сев у огня, рыжий отдышался и сказал:
— Яка, ну-ка пляши, я тебе письмо принес!
Рабочие окружили очаг, подскочил и Якец. Рыжий с шутками и прибаутками при свете очага начал читать имена на конвертах. Одно из трех писем было Якецу.
— Яка, это правда, что тебе жена изменяет?
— Молчи, пустобрех! Что, тебе болтать больше не о чем?
Рабочие заговорили о работе, о снеге, о предстоящих заработках и о Якеце забыли. А он забился на нары и вертел письмо в руках, ощупывая его со всех сторон, как будто таким образом он мог узнать, что написала ему Мицка. Он разорвал конверт и при тусклом свете горящих дров увидел, что все четыре странички исписаны сверху донизу.
Рядом с ним лежал паренек, который писал и читал ему письма. Якецу показалось, что парень смотрит на него, и он тронул его за плечо.
— Прочтешь мне письмо?
Парень поднялся. Из щели между бревен он вытащил огарок свечи и зажег его.
Письмо было слезное.
«Дорогой мой муж!
Сегодня вечером я получила твое письмо. Я так ему обрадовалась, что даже плакала, когда читала. Мы тоже шлем тебе привет через все горы и долины и желаем доброго здоровья. Только бы с тобой какой беды не случилось! Я думаю о тебе и днем и ночью и жду не дождусь, когда ты вернешься. Живем мы неплохо, сыты и здоровы, но, когда тебя нет рядом, все мне не в радость. Кажется, я не видала тебя уже много лет. Не сердись на меня за то, что я тебе расскажу: я несколько раз ходила к матери и помогала ей, работы у нее очень много. Но больше я туда не пойду, даже если мать рассердится. Сын и ты для меня дороже всего. Знаешь, сколько рабочих сейчас в долине! Много и из нашей деревни. Работу найти нетрудно, и так еще долго будет. Если приедешь, получишь работу и ты. Будешь с нами каждый вечер, и мне не придется беспокоиться, как-то ты живешь на чужбине, а ты не будешь тревожиться за нас. Ты ведь знаешь, как мне тяжело одной, хотя пока и нет ничего такого уж плохого. Когда получишь письмо, подумай о том, как бы поскорее вернуться. Мы с Тинче ждем тебя не дождемся, и нам будет очень тяжело, если мы еще долго не увидимся…»
И так до самого конца. Якец сложил письмо и спрятал его в карман. Он почувствовал какое-то странное беспокойство.
— Завтра прочтешь мне его еще раз, — сказал он парню.
— Яка тоже с нами поедет, — послышался голос Баланта, кончавшего разговор с рабочими.
— Я не поеду! — решительно сказал Якец. — Не поеду! — повторил он еще раз.
Он проговорил это с таким ожесточением, какого от Якеца никто не ожидал. Люди молчали, не решаясь ему возражать.
11
Мицка сдержала обещание, которое она дала в письме мужу, и больше не ходила к матери в Речину. Мать было послала за нею, но Мицка отговорилась тем, что у нее ребенок прихварывает.
После этого мать пришла к ней сама. Убедившись, что мальчик здоров, она посмотрела на дочь долгим, пристальным взглядом. Та опустила глаза, испугавшись, что мать догадается о ее беде.
— Что с тобой такое?
— Ничего, — ответила Мицка. — Ничего. Я написала Якецу, чтоб он скорей возвращался, — добавила она. — Вот и все.
Мать отступилась от нее. Она наняла еще одного пекаря и время от времени посылала дочери хлеба. Люди стали болтать, что хозяйка спуталась с Адольфом — слишком он стал развязно и нагло вести себя, будто он тут свой человек. Она сразу уволила его под благовидным предлогом. После этого Мицка опять стала заходить к матери, но только в гости, а не для того, чтобы помогать в работе. На лице ее появилось выражение горечи, в смехе звучала затаенная тоска.
Эту горечь и тоску она не смогла скрыть даже от мужа…
Был конец февраля, и солнце начинало уже пригревать, когда однажды на заре Мицка услышала шаги перед домом; ей показалось, что кто-то остановился у дверей. Она прислушалась. Кто-то взялся за дверную скобу и пытался открыть двери в сени.
Мицка встала и вышла в горницу. За окном в полумраке она разглядела темную человеческую фигуру.
— Мицка! Открой!
Это был голос ее мужа. Она почувствовала безудержную радость, смешанную со страхом. Засуетившись, Мицка бросилась в сени и только тут заметила, что раздета. Она вернулась в горницу и накинула на плечи шаль. Якец в нетерпении снова схватился за скобу.
— Сию минуту, — сказала Мицка. — Открываю.
Она отперла дверь, и Якец вошел в сени. Он показался ей ниже ростом, у него отросла борода, лицо округлилось и покраснело. За спиной на веревочных лямках висел мешок. В руках была палка. Ноги он промочил до самых колен.
Какую-то минуту они стояли и смотрели друг на друга, глазами спрашивая о самом главном. Потом оба широко улыбнулись и протянули друг другу руки.
— Добрый вечер! — сказал Якец и рассмеялся. — Вернее, доброе утро! — добавил он весело. — Я не спал, вот мне и кажется, что еще вечер. Ах ты, Мицка! — воскликнул он, радуясь, что снова видит жену, и крепко прижал ее к груди.
После первого взрыва радости — Мицка была смущена и обрадована одновременно — Якец вошел в горницу и огляделся. Домик показался ему сейчас особенно уютным и нарядным. Ведь он долгие месяцы прожил в темной, закопченной лачуге. И кроме того, он снова был со своей семьей, по которой страстно тосковал на чужбине. Он снял заплечный мешок и положил его на скамью у печи.
— Ты так долго не возвращался, — сказала Мицка. — Обещал вернуться после Нового года…
— Я и приехал после Нового года, — усмехнулся Якец. — Работе этой конца-краю не видно. Хотели еще оставить. Но где же Тинче?
— Спит, — ответила Мицка и вместе с Якецем вошла в боковушку. — Смотри, какой он румяный! Зыбка скоро мала ему будет.
Якец смотрел на спящего ребенка и улыбался. Громкий разговор разбудил Тинче. Он поглядел на мать, перевел с нее глаза на отца и снова взглянул на мать.
— Тинче! — сказал Якец, нагнувшись над ребенком и вложив в голос всю нежность, на какую только был способен. — Тинче, ты узнаешь меня?
Ему так хотелось сразу расположить к себе сына, он улыбался, а слова и голос источали ласку и нежность. Личико ребенка сделалось серьезным, большие глаза, устремленные на густую отцовскую бороду, становились все больше, в них одновременно были и удивление и испуг.
— Он тебя боится, — сказала Мицка.
Тинче протянул ручонку и пальчиками коснулся нависшей над ним отцовской бороды; Якец громко рассмеялся. Ребенок от неожиданности вздрогнул и заплакал. Мицка взяла его на руки и начала успокаивать.
Якец развязал мешок и выложил содержимое на стол. Поношенная одежонка, две рубахи, тяжелые рабочие башмаки, топор, кирка, краюха хлеба, небольшой сверток и деревянная лошадка. Лошадку он показал ребенку.
— Глянь-ка, глянь, лошадка! — сказал он сыну.
Ребенок понял. Он схватил игрушку, потом взглянул на отца и улыбнулся.
— Ну как, пойдешь ко мне? — поманил его Якец.
Мальчик посмотрел на отца, словно в раздумье, и наконец пошел к нему на руки. Так Якец купил его любовь и был счастлив.
Мицка вышла из горницы, чтобы сварить кофе. В душе ее была и радость и горечь. После долгой разлуки жизнь ее с мужем не могла пойти так, как она шла прежде. Между прошлым и будущим пролегла пустота, и в эту пустоту вклинилось что-то страшное и несказанно горькое, известное ей одной.
Она поставила кофе на стол и села рядом с Якецем. Тот заглянул ей в глаза.
— Ты здоров? — спросила она, только чтобы что-то сказать.
— Слава Богу, здоров, — ответил Якец. — А вот ты выглядишь нездоровой.
— Да нет, что ты! — возразила Мицка, опуская глаза.
— Ты не больна?
— Ну, вот еще!
Она улыбнулась. Но улыбка получилась невеселая. Якец встревожился.
— Ты чего-то грустная, — сказал он.
— Пустяки! Лишь бы ты был здоров.
Якец больше не приставал к ней с расспросами. Может, она просто устала; может, плохо спала эту ночь. А может, она всегда была такой, только он за последние месяцы это забыл.
И все же на душе у него остался неприятный осадок.
— А никакой беды тут с тобой не случилось? — спросил он ее еще раз.
— Нет, — ответила она. — С чего ты взял?
Он верил ей. И спрашивал лишь для того, чтобы успокоиться и развеять тревогу, которая вдруг закралась ему в душу. Он не сомневался, что все обстоит так, как говорит жена. Он заранее верил всему, что бы она ни сказала.
12
За две недели Якец отдохнул и оправился, обо всем расспросил и все рассказал, заготовил дров и починил то, что попортилось во дворе от непогоды. Потом он пошел в долину узнать насчет работы.
Работу он получил.
Каждый вечер он возвращался домой с улыбкой на лице. Красный платок, с которым он никогда не расставался, всегда оказывался кстати. Якец заворачивал в него белый хлеб, кофе, сахар и всякие другие припасы, необходимые в хозяйстве. Сегодня одно, завтра другое.
Казалось, снова возвратилось счастье первых дней супружества, когда они не знали еще ни забот, ни тревог и тихо наслаждались радостями совместной жизни.
Мицка старалась обо всем позабыть. Она мысленно твердила себе, что муж никуда не уезжал и их счастливая семейная жизнь не прерывалась ни на один день. Когда над ней нависало страшное воспоминание, она отгоняла его всеми силами, зная, что оно несет ей страдания.
Зачем ей мучиться? Ведь ничего и не было.
Она убеждала себя в этом, как только могла. Ей хотелось вычеркнуть из жизни ненавистные дни, грозившие столкнуть ее в пропасть. Она занималась хозяйством, разговаривала с ребенком, пела — только бы все забыть.
От Якеца не укрылось ее состояние. С виду как будто все шло по-старому, но он чувствовал — что-то изменилось. Это «что-то» было в Мицкином голосе, в выражении ее лица. Он не знал, как это назвать. Его знание человеческой души не было столь глубоким. Он думал, что причина заключается в том, что она долго жила одна, и что это пройдет само собою.
Пришла весна. Снег растаял, прошумели дожди, и наконец наступили погожие майские дни. Зацвели фруктовые деревья, еще раньше зазеленели леса.
Залесье ожило. Люди вскапывали обнесенные высокими заборами огороды, очищали от мусора сады. На лугу над кучами прошлогодних листьев и сырого хвороста высоко поднимался густой белый дым.
Мицка копала гряды в огороде перед домом. Тинче сидел тут же на земле и играл с камешками.
Трактирщица стирала у моста белье и все время поглядывала на Мицку. Кончив стирку, она подошла и встала, сложив руки на животе. Лицо ее не сулило ничего доброго. «За молоко уплачено, — подумала Мицка, — пусть подойдет, если ей так хочется».
— Бог помощь! — приветствовала ее трактирщица, остановившись у изгороди. — Собираешься сеять?
— Собираюсь.
Руки вдруг перестали повиноваться Мицке. Она разогнула спину и швырнула пучок выполотой травы через изгородь на дорогу. Не зная, о чем говорить с трактирщицей, она начала поправлять на голове платок и при этом заметила, что соседка разглядывает ее со жгучим любопытством. По выражению ее лица она поняла, о чем та думает. По спине у нее пробежал холодок. Мицка медленно отвела глаза от трактирщицы, глянула на свой живот и вся вспыхнула.
От внимания соседки ничто не ускользнуло, и она усмехнулась Мицке прямо в глаза. Затем быстро обернулась к Тинче, который кидал камешки и громко смеялся.
— Смотри-ка! — сказала она. — Уже играет!
У Мицки слова застревали в горле. Трактирщица снова устремила на нее пронзительный взгляд.
— Никак, скоро у него будет сестренка? — спросила она.
Мицка вздрогнула, но совладала с собой.
— Ничего, прокормим, если Бог пошлет, — ответила она, понимая, что глупо отрицать очевидное.
— Лишь бы не было слишком много, — проговорила трактирщица, хитро на нее поглядывая. — А не кажется тебе, что этот очень уж торопится? Ведь даже те, что появляются на свет, как Бог велит, часто бывают лишними, когда есть нечего.
Сказав все это, она попрощалась и ушла с таким видом, словно исполнила свой долг. Мицка как завороженная смотрела ей вслед, пока трактирщица не скрылась за кустами. Тогда она подхватила ребенка и вбежала в дом.
Голова у нее шла кругом. Она не знала, что делать, как справиться с обуревавшими ее чувствами. Взяв на руки Тинче, она прижала его к груди, будто боялась потерять. Потом посадила малыша на пол и, сама не зная зачем, вышла в сени, но тут же снова вернулась в горницу.
Значит, это правда? Правда? А она все время надеялась, что приметы ее обманывают. Она так мечтала об этом, что перестала обращать на них внимание. И вот неожиданно самообман развеялся. Может, уже вся деревня судачит о ней и удивляется.
Она вспомнила мать. Как-то еще в январе мать вдруг долго не могла отвести от нее взгляд.
— Какие у тебя странные глаза! — сказала она дочери.
Мицке точно нож приставили к сердцу.
— А что?
— Да они у тебя такие, будто ты беременна.
На миг у нее перехватило дыхание. Она глядела на мать, не в силах вымолвить ни слова.
— Как вы могли такое подумать! — сказала она, чтоб успокоить мать.
Та не ответила ни слова.
Теперь она взяла зеркало и стала себя разглядывать. Щеки ее были необычно бледны, глаза мерцали, как тусклое стекло. На лице выступили пятна — едва заметные на белой коже. Таких пятен у нее никогда не было.
Задумавшись, она отложила зеркало и села на скамью. Подперла рукой голову и уставилась прямо перед собой. Тинче лепетал что-то непонятное, показывал ей деревянную лошадку, но она не слушала его. Все, что она до сих пор таила в себе и хотела навсегда забыть, сейчас всколыхнулось в ней с устрашающей силой.
Мицка подумала о муже, представила, как он каждый вечер с доброй улыбкой развязывает свой красный платок, а сын тянет к нему ручонки.
Но однажды он вернется домой мрачный. Не скажет ей ни слова, не улыбнется, даже не взглянет. Его красный платок будет пустым. Сын напрасно станет тянуться к нему — он не возьмет его на руки. Сядет, подопрет голову ладонью и погрузится в тяжкие думы. Потом, обдумав все до конца, сурово взглянет на нее, ударит кулаком по столу и обругает ее последними словами. А если и не обругает, то скажет: «Откуда ты вообще взялась? Убирайся отсюда со своим ребенком — он весь в тебя, на меня не похож ни капли! Бог знает где ты его подцепила!» Или ударит ее и закричит: «Теперь ты мне только служанка, а не жена!» Это, пожалуй, было бы еще не так плохо. Она смолчала бы и осталась у него служанкой. Но может случиться, что он схватит ее ночью за горло и задушит, не сказав ни слова. Или возьмет топор и зарубит ее, а заодно и ребенка.
Представив себе это, Мицка подхватила с полу Тинче и крепко прижалась щекою к его головенке. Нет, нет, нет!
Она подумала о характере Якеца. Он ведь такой добрый и такой мягкий! Потому над ним всегда и потешались. Он просто не в состоянии задушить ее или зарубить топором. Но тут ей вспомнился случай в речинском трактире, когда он неожиданно рассвирепел и ударил кулаком по столу. В конце концов он все-таки может схватить топор и убить ее.
Что толку гадать, как он поступит. Нужно ждать — будущее покажет. Одно неизбежно: однажды вечером он вернется домой, переменившись в лице. Тогда ей надо держать ухо востро.
Этот вечер может наступить сегодня или завтра, через неделю или через месяц. Мицка содрогнулась при мысли о том, что ее тогда ждет. Но чему быть, того не миновать.
13
Как-то вечером Якец не возвращался домой дольше обычного. Встревоженная Мицка то и дело поглядывала в потемневшие окна, не видать ли его на дороге, прислушивалась, не слыхать ли знакомых шагов. Она не зажигала света, боясь слишком быстро прочесть на его лице то, что было у него в душе.
Наконец он пришел. Его торопливые шаги показались Мицке подозрительными, кровь громко застучала у нее в висках. Она крепко прижала к себе ребенка.
Якец стремительно вошел в дом и начал озираться в темноте, будто в поисках жертвы. У Мицки мороз пробежал по коже, сердце замерло.
— Вы что, спрятались от меня? — послышался привычно ласковый голос Якеца. — Тинче, Тинче!
Мальчик узнал его и запрыгал от радости. У Мицки отлегло от сердца. На сегодня она избавлена от опасности. Надолго ли? До завтра?
Якец зажег свет и взял на руки сына. Он выглядел даже веселее обычного. Мицка, ничего не сказав, сразу пошла готовить ужин. Якец удивился ее молчанию.
— А я что-то купил, — сказал он. — Угадай, Мицка!
Мицка молчала, испугавшись, что голос выдаст ее. Но Якец не стал дожидаться ответа.
— Я купил козу! — поспешил он ее порадовать.
Жена по-прежнему молчала, сделав вид, что удивлена, просто ушам своим не верит.
— В воскресенье приведу. Привяжем ее на лугу, пусть себе пасется.
Такое приобретение было для семьи целым событием. Мицка хорошо это понимала, но все еще не могла отделаться от пережитого испуга. Якец удивлялся, что она никак не выражает своей радости.
— Ты не довольна, Мицка? — спросил он жену. — Не бойся, с ней хлопот немного.
— Что ты, я очень рада, — ответила Мицка. — А коза с молоком? — спросила она, чтобы как-то проявить интерес к покупке.
— Только что были козлята!
Якец с удовольствием вспоминал те дни, когда он мальчишкой пас на лугу коз.
— Завтра и, может, еще день-другой я побуду дома, нужно построить для козы сарайчик, — сказал он за ужином.
Мицка подумала: «Завтра и еще день-другой я проживу спокойно. А потом будь что будет». Половину из того, о чем рассказывал Якец, она не слышала, целиком погруженная в свои мысли.
Якец посмотрел на нее внимательнее. Мицка почувствовала его вопрошающий взгляд, но не подняла глаз. Ночью она долго не спала, боясь, как бы во сне чем-нибудь себя не выдать. Якец тоже заснул не сразу.
— Что с тобой, Мицка, — спросил он ее. — Ты нездорова или чем-то расстроена?
— Ни то, ни другое, — ответила она, злясь на себя и горько усмехаясь.
Наконец Якец заснул и спал крепким сном человека, который весь день провел в тяжелом труде, а Мицка лежала без сна, устремив глаза в потолок. Занавеска на окне осталась незадернутой. За окном была ясная весенняя ночь, светила луна. Откуда-то издалека доносилась песня парней: «Домик мал, но не беда…» Вблизи слышался шум воды. Тишину в комнате нарушало хриплое тиканье часов: тик-тр-р-ак!
«Что-то наши часы плохо ходят», — подумала Мицка, будто только что это заметила. Она тихонько, чтобы не разбудить мужа, приподнялась на локте. Посмотрела на продолговатое, заросшее бородой лицо Якеца; рот его был слегка приоткрыт; тяжело, равномерно поднималась грудь.
— Это он, — шептала сама себе Мицка. — Это его лицо, его тело. Это он ходил за мной по пятам и сделал все, чтобы на мне жениться. Я поклялась ему перед алтарем, и он был предан мне, как слуга. Уезжая на чужбину, он плакал. Что пророчили его слезы?
Сейчас ему еще ничего не известно, он ни о чем не подозревает. Спит сладко, словно младенец, и будет так спать до тех пор, пока не услышит обо всем от чужих людей и не прочтет правды в моих глазах. Что он тогда скажет? О чем меня спросит? И что я ему отвечу?
Она подумала о себе. Мысленно перенеслась в прошлое, в дни своей юности, когда под окно к ней пришел Филипп и она прогнала его. Много раз ее провожали домой парни, они всеми способами пытались соблазнить ее, но она не допускала ничего даже в мыслях. Даже в минуты слабости.
Кто поверит в то, что случилось, когда она сама поверить не может? Многие, наверно, удивятся. Да и Яка, услышав про это, разве не сплюнет с досадой: «Тьфу, все это вранье!»
Над ним станут насмехаться, обзовут дураком, которого жена водит за нос. И все-таки прав будет он. В сердце своем она осталась ему верна.
Но изменить ничего нельзя. После лета приходит не весна, а осень. Грех влечет за собой наказание. И неизбежное придет, как бы случившееся ни казалось ей самой невероятным. В памяти уже все стерлось; если бы тот вечер ей приснился, он бы запомнился ей лучше. Но можно ли так начисто забыть минуту наслаждения? Как бы там ни было, с ней получилось именно так. Не будь страшного свидетельства, которое она носила под сердцем, она могла бы присягнуть, что никакого греха не совершала. Как случилось, что в памяти ее не осталось никакого следа? Потому ли, что уже в следующее мгновенье ее охватило раскаяние? Или потому, что она хотела выбросить это из своего сознания, заставить память молчать?
Несколько минут дурмана, и счастья как не бывало. Муж, дом, ребенок, любовь, хлеб, покой — все рухнуло и катится в пропасть.
Ей показалось, она падает в бездну — машет руками, тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Что ждет ее на дне?
Она решила разбудить мужа и во всем ему признаться. Но как это сделать, если она ничего не помнит? Ну, хотя бы рассказать то, что еще осталось в памяти от смутных впечатлений злополучного вечера. Этим она избавит его от горечи, которую он испытает, узнав все от чужих людей. Она будет умолять его наказать ее немедленно или же простить. Может, тогда он обойдется с ней мягче.
— Яка! — окликнула она его. — Яка!
Тот приоткрыл глаза, задержал дыхание. Просыпался он долго и с трудом.
— Что такое? Ты меня звала?
Мицка пожалела, что разбудила его. Мужество изменило ей. Она не находила в себе сил признаться и не знала, что ему сказать.
— Никак не засну, — пробормотала она. — Страшно.
14
Прошел месяц. Как-то в воскресенье после полудня Якец и Мицка сидели за столом и играли в домино. Мальчик возился на печи.
Последнее время Мицка уже без страха ждала возвращения мужа с работы. Видя, что все остается по-прежнему, что его голос и выражение глаз не меняются, она снова стала беззаботной. Все же она попросила Якеца не задерживаться после работы и идти прямо домой. И не слушать, что болтают злые языки.
В церковь она уже давно не ходила. Будь ее воля, она бы вообще не выходила из дому. Она тщательно скрывала свою беременность, хотя и замечала, что люди разглядывают ее без стеснения. Может, даже дети в деревне уже повторяют сплетни, которые о ней ходят. Скоро все выйдет наружу.
— Шестерка дупль, — по-детски обрадовался Якец и положил косточку на стол.
Мицка, прикрывавшая домино рукою, вдруг покраснела. Заныла поясница, боль заставила ее подняться.
— Что с тобой? — спросил Якец.
— Не знаю, — ответил она и снова села. — Что-то в спину кольнуло.
И стала играть дальше. Якец смотрел на Мицку. Его внимательный взгляд скользнул по ее фигуре. На минуту он призадумался, но сразу же вспомнил об игре и начал искать глазами нужную косточку.
— Шесть и три, шесть и три, — в смятении бормотал он себе под нос.
Наконец нашел тройку, положил ее на стол и снова поднял взгляд на жену.
Мицка не смотрела на мужа; она чувствовала на себе его взгляд, но делала вид, будто целиком занята игрой. Его смятение передалось ей; по жилам пробежал огонь. Неожиданно ее охватила такая слабость, что она оттолкнула от себя домино и прислонилась головой к стене.
— Не могу больше, — сказала она.
— Так давай бросим, — ответил Якец, на вид совершенно спокойно; он смешал домино и больше не спрашивал жену, что с ней.
У Мицки потемнело в глазах. Якец поднялся из-за стола и, не глядя на нее, рассеянно стал мерить комнату большими шагами от боковушки до скамьи и обратно. Сын окликнул его с печки, но отец не ответил ему и даже не взглянул в его сторону.
С Якецем творилось что-то непонятное. Медленно, лениво, боязливо рождались в голове мысли, путались, сплетались в клубок и снова исчезали. Он был слишком робок и слишком измучен тяготами жизни, чтобы сосредоточиться. Сведения его о некоторых житейских вещах были весьма куцыми, особенно когда дело касалось интимнейших сторон супружеской жизни. На многие вопросы он не мог ответить.
Он молчал, боясь показаться смешным. Впрочем, он молчал бы, даже если бы ему было все ясно как божий день. И в этом случае он полагал бы, что ошибается.
До Якеца, конечно, донеслись слова, как-то брошенные ему вслед компанией подвыпивших парней. Но он не желал их слышать. И толком не понял их смысла.
Но все же встревожился. Жена в самом деле беременна. Если это так, почему она ему ничего не говорит? С негодованием отверг он мысль, которую нашептывал ему дьявол-искуситель. Однако иного объяснения не было.
Он ходил взад-вперед от боковушки до скамьи и думал. В конце концов он остановился на том, что представлялось ему самым естественным и больше всего его устраивало. Он подошел к жене и, улыбаясь, заглянул в ее мертвенно-бледное лицо.
— Ложись в постель! — сказал он ей. — Ты больна. Я заварю тебе чаю.
В голосе его было столько заботливости и доброты, что Мицка не решилась возражать.
Он заварил цветочный чай и подал ей в постель.
— Я обещал завтра поработать у Дольняка. Может, лучше не ходить?
Даже если бы она не могла обойтись без него дома, она не стала бы ему перечить — настолько она любила его в эту минуту, настолько чувствовала себя его рабой.
15
Якец не в силах был избавиться от мыслей, мучивших его накануне, — они возникали снова и снова. Обливаясь потом, он подавал на воз сено, а сам еще и еще раз обдумывал все но порядку и снова приходил к выводу, менее всего тяготившему душу.
Стоявший на возу парень, уминая сено ногами, непрерывно шутил и смеялся.
Когда Якец подавал на воз очередной ворох сена, вилы выскользнули у него из рук и застряли в сене. Парень поддал их ногой, они полетели с воза так стремительно, что Якец не успел ни подхватить их, ни отскочить в сторону, и они угодили ему прямо в лоб.
Он согнулся и схватился за голову. Парень на возу разинул рот от неожиданности. Но удар оказался несильным. Якец выпрямился, потирая лоб.
— Нужно смотреть, — сказал он парню сердито. — У меня даже в глазах потемнело.
Парень засмеялся.
— Жена тебе наставила рога почище, — сказал он язвительно.
Якец не мог пропустить это мимо ушей, насмешка больно его задела. Он уже давно заметил, что люди больше не относятся к нему с тем уважением, которое он приобрел, выстроив себе дом и взяв в жены красивую девушку. Они снова ухмылялись ему в лицо, не упускали случая поиздеваться над ним. Но появилось и нечто новое, чего раньше никогда не было. Часто он видел, как люди при нем тихонько переговаривались, бросая на него косые взгляды и посмеиваясь. Вначале он думал, что это ему только кажется и что они говорят вовсе не о нем. Но однажды до него долетело имя его жены. Тут не могло быть ошибки, он хорошо расслышал.
Намек парня на то, что жена ему неверна, причинил Якецу острую боль. Пусть болтают о нем самом что угодно — он все стерпит, лишь бы оставили в покое Мицку. Особенно теперь, когда его самого мучила ее загадочная беременность и он злился на себя, не в силах свести концы с концами.
Некоторое время он стоял и глядел на парня, пронзая его взглядом.
— Какое тебе дело до моей жены? — проговорил он дрожащим от гнева голосом.
— Мне лично — никакого. С ней имел дело кто-то другой.
Рабочие в ожидании потехи оставили работу и замерли с раскрытыми ртами. Ответ парня они встретили громовым хохотом.
Яка побледнел, затем кровь бросилась ему в лицо. Он поднял вилы и изо всех сил швырнул их в парня, так что они пролетели над самым его плечом, упав по ту сторону воза.
Рабочие опешили.
— Вот дьявол! — выругался парень и хотел запустить в Якеца граблями, но передумал.
Якец понял, что ему тут больше нечего делать. Молча, не оглядываясь, пошел он прочь с покоса и скрылся в кустах…
Мицка удивилась, когда он вернулся домой раньше обычного. Она увидела его расстроенное лицо и ужасно перепугалась. По спине пробежали мурашки.
Он сел на скамью и улыбнулся страдальческой улыбкой. У Мицки отлегло от сердца.
— Что с тобой?
— Ничего, — ответил он. — Больше я туда не пойду, — вздохнул он после долгого молчания.
Жена не решилась расспрашивать о том, что случилось. Якец не решился рассказать ей об этом. Оба молчали и только взглядами пытались понять друг друга. Прошло немало дней, прежде чем снова прояснились их лица.
16
Якец был убежден, что люди по каким-то неведомым причинам ненавидят его и Мицку. И он еще больше привязывался к жене. Беременность ее уже не укрылась бы даже от слепого. В десятый раз все передумав и взвесив, Якец нашел, что жена его ни в чем не виновата — такой вывод подсказали ему его любовь и разум. Он считал ее выше всяких подозрений. Если бы с ней что-то случилось, она сама бы ему во всем призналась. В конце концов, это касается только их двоих. Зачем люди вмешиваются не в свое дело? Чтобы посеять вражду между ним и Мицкой, а потом над ними же потешаться? Сомнения, приходившие ему иногда на ум, он отгонял как надоедливую муху.
Якец возненавидел людей. Он перестал наниматься на поденные работы. Когда кого-нибудь встречал на дороге, отворачивался в сторону. В церковь ходил в соседний приход.
Люди заметили происшедшую в нем перемену, но толковали ее по-своему. Они были убеждены, что он знает о неверности жены и стыдится этого. Некоторые его жалели. Другие утверждали, что слышали, как из дома Якеца доносились громкие крики и плач. Женщины нарочно шныряли мимо дома, подглядывая, не видать ли у Мицки на лице синяков от побоев мужа.
Мицка теперь уже не так боялась Якеца. Страх почти начисто вытеснили уважение к нему и благодарность. Ведь он не может не знать, что она ему изменила! И все же ни словом не упрекнет ее, хотя и не в силах скрыть своей тревоги. Что это — глупость или благородство? А может, он только ждет случая и тогда… Боже правый!
Якец был прежний. Заботился о ней даже еще больше. С работы шел прямо домой. Как всегда, улыбался, лишь в самой глубине его зрачков, казалось, таился безмолвный вопрос. Улыбка его причиняла Мицке боль, немой вопрос внушал беспокойство.
В конце сентября Мицка родила сына. «Теперь случится то, чего я все время боялась», — думала она, мучаясь в родовых схватках. Но ничего не случилось. Муж был воплощением любви и заботливости. Купил курицу и сварил ей суп. Склонившись над новорожденным, чмокал губами и говорил ему что-то ласковое. Потом принес Тинче и показал ему маленького братца с удивительно живыми глазенками.
— Как мы его назовем? — с улыбкой спросил он побледневшую Мицку.
— Как хочешь.
— Пусть будет Яка, а?
Жена молча смотрела на него. В ее печальном взгляде была мука. Смеется он над ней, что ли? Но в его ясных глазах не было никакой задней мысли.
— Ну, что ж, — сказала она. — Один из сыновей должен носить твое имя.
Якец попросил Дольняка быть крестным отцом. Потом он зашел в трактир и взял на двадцать крейцеров хлеба и стопку водки.
Трактирщица смерила его проницательным взглядом.
— Ну, как мальчик? — спросила она.
— Здоров, слава Богу! — ответил ей Якец. — И Мицка тоже.
Заплатив за хлеб и водку, он смущенно откашлялся и попросил:
— Не пошли бы вы к нам крестной матерью?
Трактирщица помолчала.
— А что, больше никто не соглашается? — проговорила она наконец.
— Я еще никого не просил.
Якец почувствовал себя оскорбленным. Он был не настолько глуп, чтобы не увидеть в словах трактирщицы ядовитой насмешки. Он решил больше не унижаться. Не хочет, не надо! Он найдет другую крестную. Выпив стопку водки и увязав хлеб в узелок, он встал из-за стола.
Трактирщица поняла, что Якец обижен ее отказом. Да и не принято отказываться, когда в крестные матери приглашают. Что скажут люди?
— Ладно, приду, — сказала она. — А когда крестины? Сегодня после полудня?
— Да.
Когда после крестин священник стал записывать новорожденного в церковную книгу, лицо его было необыкновенно строгим.
— Отец? — бормотал он себе под нос. — Якоб Жерьюн, — записал он, не дожидаясь ответа.
Трактирщица многозначительно усмехнулась.
Они вышли на улицу. Якец был рад, что все кончилось.
— Зайдемте в трактир! — пригласил он.
— Нет, пошли прямо домой, — ответил крестный отец, — поздно уже, нужно засветло добраться до дому.
Но темнота тут была ни при чем. Якец чувствовал это скорее сердцем, чем понимал разумом. Ну, что ж, если они не желают, он не станет уговаривать. Хоть бы у него никогда больше не возникала надобность в людях!
Всю дальнюю дорогу домой он молча шел за кумом и кумою. Карман ему оттягивали не потраченные на угощение деньги. Но не они его мучили. Мучил его тугой узел, в который сплелась его жизнь и который он не мог ни распутать, ни разрубить.
17
Лежа в постели, Мицка взглядом следила за мужем. Она не видела в нем ни малейшей перемены. То же заботливое лицо, тот же тихий голос и усталые от недосыпания глаза, как и два года назад, когда родился Тинче.
Иногда Якец втайне раздражал ее: настоящие мужчины так себя не ведут! Кроме того, у нее все время было тревожное ощущение, что его мягкость только маска, за которой он скрывает свои тайные намерения. А их она очень боялась. Неизвестность пугала больше всего. Над ее головой сгущались тучи, и гроза была готова вот-вот разразиться.
Приход матери не обрадовал, а испугал ее. Вся кровь прилила ей к лицу, едва из горницы донесся знакомый голос. Она закрыла глаза и сделала вид, что спит.
Мать вошла в боковушку тихонько, словно боялась разбудить больную. Мицка не выдержала и открыла глаза. Лицо матери было серьезным, она не улыбалась, как в тот раз, когда пришла навестить ее после рождения первого ребенка.
Она села на край постели и взглянула на дочь. Казалось, она с трудом сдерживалась, чтобы не сказать то, что у нее вертелось на языке. Она ждала, что разговор начнет Мицка. Но та молчала, и несколько минут они безмолвно смотрели друг на друга. Наконец мать положила Мицке ладонь на лоб.
— У тебя жар, — сказала она. — Это нехорошо. Ты должна беречься. Мицка больна? — спросила она Якеца, который в эту минуту вошел в боковушку.
— Она ни на что не жаловалась.
Мать пристально вглядывалась в Якеца, стараясь на его лице прочесть то, что ее тревожило. Но оно говорило не больше чистого листа бумаги. Женщина снова устремила взгляд на Мицку. О новорожденном она ничего не спрашивала.
— Хотите посмотреть маленького Якеца? — обратилась к ней дочь, когда муж вышел из боковушки.
Мать услышала в этом вопросе неприкрытый упрек, вздрогнула и оглянулась на ребенка.
— Вы его так назвали?
Укутанный младенец лежал на сундуке рядом с кроватью матери. Откинув пеленку, мать увидела маленькое красное, сморщенное личико.
— Здоровый, видно, — медленно проговорила она, чтобы хоть что-то сказать.
— Здоровый, — ответила Мицка.
Мать разглядывала спящего ребенка, пытаясь определить, кто же его отец, потом прикрыла головку младенца пеленкой, и опять воззрилась на дочь. Какое-то время они смотрели друг на друга, безмолвно задавая вопросы и так же безмолвно отвечая на них. Мицка не выдержала упорного взгляда матери, отвела глаза и подняла их к потолку.
На этом все и кончилось.
Заходили соседки, останавливались у дверей со скрещенными на груди руками. Говорили мало и нараспев. Занимала их не столько родильница, сколько младенец, который живо поглядывал вокруг и сучил ножками в пеленках.
Эти посещения были для Мицки мукой. Иногда ей казалось, что она сходит с ума, в душе ее бушевала буря, кровь приливала к вискам. Что они его разглядывают? Будто он не такой, как все дети? Она с удовольствием бы их всех прогнала. Но, насмотревшись вдоволь, они уходили сами. Губы их кривились в усмешке, взгляды выражали то, что они не смели сказать словами.
Молодая мать люто возненавидела людей. Она больше не желала никого видеть, не желала ни с кем разговаривать. Ненависть к людям, возникшая в ней в конце беременности, теперь настолько возросла и обострилась, что Мицку начинало трясти, стоило ей услышать шаги перед домом. Даже к родной матери она чувствовала неприязнь.
— Запри дверь! — сказала она как-то мужу, заслышав, что кто-то идет.
Она так дрожала, что Якец за нее испугался.
— Что с тобой? — ласково спросил он и взял ее за руку.
— Ничего, ничего, — ответила она раздраженно и вырвала у него руку.
Но потом смущенно улыбнулась, обижать мужа ей не хотелось. Она любила его, страх ее почти совсем прошел. Никогда прежде она столько не думала о Якеце, как в эти дни. Вспоминала, как в шутку дала слово выйти за него замуж, а он принял все всерьез и пообещал ей построить дом. В то время он значил для нее меньше любого другого парня из деревни. Он выстроил дом и продолжал пылать к ней любовью. Но она могла ответить лишь жалостью и состраданием, ни любви к нему, ни уважения она не испытывала. После того как он был ранен и заступился за нее в трактире, она решила выйти за него замуж, но причиной тому была не любовь — потеряв доброе имя, она просто боялась за свою судьбу. К чувству сострадания добавилось уважение. Лишь когда родился первый ребенок и муж окружил ее самоотверженной заботой, в ней начала зарождаться любовь. Любовь к Якецу усилилась в то время, когда Мицка переживала панический страх, а после рождения второго ребенка достигла своей вершины. Сильнее любить она не могла. Это уже было почти рабское обожание. Она поднялась с постели, еще шатаясь от слабости, чтобы прислуживать и во всем угождать мужу. Пыталась по глазам читать его желания, хотя какие там желания — он сам с радостью готов был сделать для нее что угодно. Когда он смотрел на нее, она вздрагивала, словно ее заставали на месте преступления. Иногда со странной улыбкой гладила Якеца по щеке, чего раньше никогда не делала.
Якец не мог не заметить эту перемену, внимание жены было ему приятно, но в то же время настораживало. В ее поведении было что-то необычное. Может, она немножко тронулась? По простоте душевной иного разрешения этой загадки он не видел. Маленького Якеца Мицка не любила так, как Тинче, раздражалась, когда нужно было его кормить, равнодушно слушала его плач, хотя и делала все положенное.
Однажды новорожденный плакал в боковушке. Мицка в этот день была особенно странной, не отрываясь смотрела она на мужа; пыталась разгадать, что скрывается за его привычным добродушием и улыбчивостью.
— Принести тебе ребенка? — спросил Якец.
— Вышвырни его в окно! — зло ответила Мицка.
Якец остановился как вкопанный и в испуге взглянул на жену.
— Мицка! — изумился он. — Что ты говоришь?
Жена встала, подошла к нему и погладила его рукой по щеке и подбородку.
— А разве я сказала что-нибудь плохое? — спросила она с какой-то странной улыбкой. — Ну, пусть остается, если тебе так хочется.
Она пошла в боковушку и покормила ребенка.
Поведение Мицки беспокоило Якеца все больше и больше. Иногда жена как тень бродила вокруг дома, губы ее беззвучно шевелились, будто она что-то шептала. В такие дни он не решался оставлять ее одну. Успокоился он лишь после того, как увидел, что всю домашнюю работу она выполняет по-прежнему старательно и выглядит здоровой и окрепшей. Ничего страшного. Стала немного чудной, только и всего.
Со временем ему это даже пришлось по душе. Услужливость жены и странности в ее поведении он объяснял себе тем, что в ней наконец пробудилась любовь к нему. И был счастлив. Мысли и чувства, которые его недавно мучили, отступили на второй план. Он ходил на работу и перестал обращать внимание на Мицкины чудачества.
Ему хотелось, чтобы так было всегда.
18
Был конец ноября. В тот год зима пришла необычно рано. Метель замела всю долину, в Залесье снега навалило по колено, дороги местами совсем занесло. От дома к дому глубоко в снегу были протоптаны узкие тропинки.
Как-то Якец ходил по делу на другой конец деревни. Домой он брел медленно, задумчиво глядя себе под ноги. На пустынной дороге, над которой свешивались заснеженные ветки, ему встретилась Класовка.
Эта невысокая, коренастая женщина была раньше повитухой и знала кой-какие семейные тайны, которыми охотно делилась со всеми желающими. Люди ее боялись и с бо́льшей радостью захлопывали за ней двери, чем открывали их, впуская эту гостью в дом. За спиной о ней слова доброго не скажут, но в глаза льстили и заискивали. Она могла остановить человека посреди дороги и выложить ему все, что о нем думает, спросить о чем угодно. Она утверждала, что открывает людям глаза.
Увидев ее, Яка испугался. Люди вообще были ему неприятны, а уж Класовка ненавистней всех. Однако уклониться от встречи он не мог — на узенькой тропке не разойтись.
При виде Якеца ее сморщенное лицо расплылось в довольной улыбке, серые глазки заблестели. Она шла, приподняв юбку, чтобы не заметать снег, над башмаками белели шерстяные чулки.
Якец сошел с тропинки в снег, уступая ей дорогу, и хотел было идти дальше.
— Куда это ты так спешишь? — сказала она. — Погоди немного!
Он снова шагнул на тропинку и остановился, смущенно улыбаясь, словно мальчишка, застигнутый врасплох учителем.
Женщина смерила его взглядом с головы до ног. То ли переводила дух, то ли собиралась с мыслями. Наконец она раскрыла рот и обрушила на него поток вопросов и поучений.
— Давненько я тебя не видела! Как дела, Яка?
— Да ничего, — ответил он с досадой. — Идут себе.
— Эх, что тут станешь делать? — вздохнула женщина. — У каждого свои беды и невзгоды. — Она понизила голос и вытянула шею. — Слушай, а что говорит Мицка? Что она собирается делать? — добавила она шепотом, словно речь шла о великой тайне.
Она хотела задеть его за живое. Может, ждала, что он начнет извиваться перед ней, как червяк. Или думала, что Мицка созналась мужу в своем падении и он сам честит ее на чем свет стоит, ища у людей утешения и сочувствия.
Класовка сразу же поняла, что дала маху. Глаза Якеца потемнели, и он двинулся было своей дорогой. Класовка приложила все силы, чтобы его удержать. Нет, так просто она не могла его отпустить. «Неужели он ничего не знает?» — мелькнуло у нее в уме.
Якеца бросило в жар. У него было такое чувство, будто он по горло провалился в нечистоты. И зачем он вообще вышел сегодня из дому? Однако плюнуть и повернуться к старухе спиной у него не хватило смелости.
— Ну, а как вы назвали малыша? — начала она снова.
— Якобом.
— В твою честь? — Она отрывисто рассмеялась, показав два оставшихся зуба. — Смотри-ка! Она, что ли, захотела так назвать?
— Нет, я сам выбрал имя, — ответил Якец сухо.
Женщина заметила его раздражение и почувствовала себя оскорбленной. Глаза ее злобно сверкнули: она переступила с ноги на ногу и встала потверже.
— Слышь, Яка, как ты можешь такое терпеть? — сказала она, решив больше не играть в жмурки.
Кровь прилила к лицу Якеца. В голове пробудились все горькие мысли, мучившие его последние месяцы. Но даже если все это правда, он не желал унижаться перед этой женщиной. Его разбирала злость.
— Чего вы пристали к Мицке? — повысил он голос. — Что она вам сделала?
Класовка не верила своим глазам. Она еще никогда не видела Якеца в такой ярости, но это ее не смутило. Она оглянулась по сторонам, словно ища, куда бы присесть, потом поджала губы и подбоченилась левой рукой.
— Мне-то она ничего не сделала, — заявила Класовка. — А вот тебя она дураком считает. Как ты не понимаешь, что она считает тебя дураком?
— А чего ей меня дураком считать?
— Как это — чего? Да разве она не родила слишком рано? Слишком рано или слишком поздно — смотря, как на это взглянуть.
Якец почувствовал, что у него задрожали колени. Неужели она думает, что он в самом деле такой дурак? Зачем она снова ворошит то, что он старается забыть? Он хотел что-то сказать, но у него перехватило горло. Рука судорожно сжимала палку.
— Целых семь месяцев тебя не было дома, — продолжала Класовка, упиваясь его смятением. — А ведь дети через двенадцать месяцев не рождаются. Как же может быть этот ребенок твоим? Ну, что скажешь? Ты слишком добрый, тебя легко провести. Другой на твоем месте выгнал бы ее из дому. А если не выгнал, так проучил бы как следует.
У Якеца замерло сердце. Эта женщина будто вылила на него бадью помоев. Поднять бы палку да огреть ее хорошенько. Но он стоял неподвижно, как пень. Класовка подошла к нему вплотную.
— Мицка-то в Речину ходила, — шипела она по-змеиному. — К матери. А у нее работал молодой пекарь. Чего же его тогда мать прогнала?
Якец больше не слушал, боялся, что не совладает с собой. Он отодвинул Класовку в сторону и быстро пошел по тропинке. Глаза его застилал туман, он не видел, куда ступает, и проваливался в снег, будто пьяный.
19
Дорога домой была короткой, но все же достаточно долгой для того, чтобы у Якеца поостыла кровь и прояснилось лицо. Несмотря на волнение, он уже снова обрел способность размышлять.
Как бы он ни противился неприятной мысли, жена ему изменила, это было ясно как день. Он и прежде не раз приходил к подобному выводу, но ему было невыносимо трудно в это поверить — он слишком любил жену и не мог с этим смириться. Ведь сама Мицка ему не призналась, никто не сказал ему ничего определенного, да он и не хотел этого. Ему легче было жить в постоянных сомнениях. Но теперь уже ничего от себя не утаишь.
В памяти его возникла весело улыбающаяся Мицка в девичьей праздничной одежде. Вспомнились ночи, когда она приходила к нему на чердак, перевязывала его, поила. Он видел, как она теперь страдает, и не сомневался в ее искренности.
Он снова представил себе ночи на чердаке, почувствовал ласковое прикосновение ее руки, когда она промывала и перевязывала ему рану. Именно сейчас все это ему вспомнилось с безмерной любовью. Еще бы! Люди обижали его и издевались над ним, а она вышла за него замуж! Что же он должен ей сказать? Избить ее?
Пока он шел домой, он успел трижды все взвесить и обдумать, и из бурлящего потока мыслей Мицка вышла такой же чистой, какой была и прежде. Конечно, с ней случилось неладное, как случилось — знает только она. Скорей всего против ее воли — она не виновата. Ей причинили зло, а вместе с нею и ему. Кто говорит, что ничего нельзя исправить? Все можно уладить. Все, все!
И как уже бывало не раз, гнев его обратился против людей. Он сжал кулаки, стиснул зубы и громко выругался. От волнения на глазах у него выступили слезы.
Вот наконец и дом. Якец вошел в горницу, стараясь вести себя так, как обычно. Младенец спал в боковушке, Тинче играл на печи, Мицка сидела за печкой.
Поздоровавшись, он взглянул на жену. Но взгляд Якеца был таким необычным, что сразу же его выдал. У Мицки перехватило дыхание.
Якец быстро опустил глаза и сел на скамью. Глядя в пол, он барабанил пальцами по столу. Он чувствовал себя чужим в собственном доме. Напрасно в душе он оправдывал Мицку, он все равно не мог избавиться от гадливого чувства. Как было бы хорошо какое-то время ни с кем не разговаривать, ни на кого не смотреть. Потом все прошло бы само собой.
Мицка сидела как на угольях. Невольно она окинула взглядом комнату: где топор? Он лежал на скамье за дверью. Вчера Якец его наточил. «Может, спрятать?» — подумала она, но тут же отбросила эту мысль. Пусть будет, что будет!
Она вышла в сени, остановилась перед топящейся печью и засмотрелась на огонь. Алые языки пламени лизали два чугунка; в одном варилась картошка, в другом — каша.
Якец оглянулся на печь. Тинче звал его и показывал деревянное колесико. Увидев приветливую улыбку ребенка, Якец снова почувствовал твердую почву под ногами.
Он взял сына на руки и прошелся с ним по комнате. Затем вошел в боковушку, присел на край постели и посадил Тинче на колени. Маленький Якец проснулся. Отец смотрел на детей. Сравнивал их, проверяя, похожи ли они друг на друга. Он не обнаружил ни большого сходства, ни резкого различия, кроме как в глазах. Ни у него, ни у Мицки не было таких глаз, как у новорожденного. Он пытался разобраться, кого он больше любит — Тинче или Якеца. Любовь к маленькому Якецу ничуть не уменьшилась. Нет, сердце обмануть не может. Живые глазенки были ему симпатичны и даже казались милее, чем когда-либо раньше.
Чего хотят от него люди? Оба малыша — его дети. Его родные дети.
Крупные слезы катились у него по щекам и блестели в бороде. Он прижимал к себе детей и никак не мог успокоиться.
Мицка удивилась необычной тишине в доме. Она вошла в боковушку и, остановившись на пороге, увидела плачущего мужа.
Это ее как громом поразило. Теперь она уже не сомневалась, что Якец знает все и мучается, может быть, еще больше, чем она. В избытке чувств она сделала то, что уже давно собиралась сделать, да не хватало сил.
— Яка! — заплакала она навзрыд и упала перед ним на колени. — Прости меня! Я не хотела тебя обманывать, но никак не решалась тебе сказать. Я люблю тебя, как еще никогда никого не любила. Если я тебе противна, ты ко мне больше не притрагивайся. Случилась беда… Сама не знаю как… Бей меня, плюй на меня, убей, если хочешь, но поправить я уже ничего не могу, как бы ни хотела…
Якец был поражен. Мицка, всхлипывая, обнимала его колени. На лице ее было смятение, в глазах — испуг и растерянность, казалось, ее душит поток слов, который она уже не в силах сдержать.
Якец посадил на постель Тинче, взял Мицкину голову в свои руки, из глаз его опять покатились слезы.
— Встань, Мицка! Не такая уж это беда… Все ведь хорошо…
Мицка хотела до конца излить ему душу.
— Нет, Яка, я виновата; не говори так! Это не твой ребенок. Я все время мучилась, хотела тебе все рассказать, но боялась. Не могла. Знаю, что плохо поступила. Такое уж случилось несчастье… Ударь меня, Яка, мне будет легче!
Дети заплакали. Якец не выдержал.
— Перестань, Мицка, не то я сойду с ума! — простонал он. — Замолчи, замолчи! Пусть будет все, как было. Ведь все хорошо…
— Нет, нет! Сердце у меня болит, я не могу больше жить! Не могу! Ты будешь плохо обо мне думать. Будешь думать, что у тебя плохая жена…
— Мицка! Мицка! Это неправда. Ты хорошая! Ты ведь хорошая!..
— Нет, нет, нет!
Мицка повалилась на пол, судорожно вздрагивая. Якец с выражением отчаяния на лице стоял над ней, не зная, что делать.
20
Если бы у Якеца сгорел дотла дом, это было бы для него меньшим ударом. Несколько дней он ходил бы вокруг как потерянный, а затем начал бы раздобывать камни и лес, чтобы построить себе новое жилье. Но такое потрясение лишило его и мужества и силы. Он был не в состоянии понять поведение жены в эту минуту. Потоком слов и горьких слез она изливала тяжкое раскаяние и страх, накопившиеся в ней за долгое время. Может, она успокоилась бы в этот же вечер, а через несколько дней жизнь снова вошла бы в свою колею. Но Якецу казалось, будто жизнь кончилась, семейное счастье рухнуло и навечно погребло их под своими развалинами.
Оставив жену и плачущих детей, он вышел в горницу. Его охватило отчаяние. И снова в который раз в нем вскипела ярость на людей, непрошено вторгшихся в его жизнь. Кто их об этом просил? Почему они не оставят его в покое? Как бы он хотел им отомстить! От сознания своего бессилия он треснул кулаком по столу.
Услышав грохот, Мицка в ужасе вздрогнула, замолкла и приподнялась с полу. Что там такое? Боже мой, что там такое? Муж стоит посреди комнаты и в отчаянии рвет на себе волосы. В голове у нее был такой туман, что она не могла, да и не пыталась понять, что с мужем. Только что она просила Якеца ударить ее или даже убить, но сейчас снова ожил страх. В ней заговорил инстинкт самосохранения, она вскочила на ноги, пошатнулась и схватилась за стену.
Увидев Мицку, Якец пришел в себя, в нем снова пробудилась надежда. Мицка встала, успокоилась, может, еще все будет хорошо. Он робко шагнул ей навстречу. Стоило Мицке лишь взглянуть на него, она поняла бы по его лицу, что ей не грозит никакая опасность. Но она на него не взглянула. А если бы и взглянула, все равно она уже была не в состоянии ни о чем судить здраво. Из груди ее вырвался хриплый крик смертельного ужаса, она промчалась мимо Якеца и выбежала из дому, распахнув дверь настежь.
Ошеломленный Якец замер на месте. В окно он увидел, как жена пробежала мимо дома, широко раскинув руки, словно боялась потерять равновесие и упасть. Он снова ничего не понимал. Ясно было лишь одно: близится новая беда!
Он бросился за Мицкой. Когда он выскочил из дому, она перебегала узенький мостик и чуть не свалилась в воду. Она неслась без оглядки, косы разметались по плечам и спине. Она мчалась что есть духу, взмахивая руками, как крыльями. Ни разу не упала, не оступилась в снег и бежала все дальше и дальше.
Якец мчался за нею что было силы, но расстояние между ними не сокращалось. Вдруг Мицка споткнулась, упала и только тогда оглянулась назад. Увидев бегущего за нею мужа, она вскрикнула, свернула с тропинки и прямо по снежной целине бросилась к реке.
У Якеца кровь застыла в жилах. Мицка бежала прямо к омуту, скрытому сейчас льдом и снегом. По ту сторону реки стеной поднимался лес.
— Мицка! — окликнул ее Якец.
Напрасно! Она даже не оглянулась и побежала еще быстрее. Вот она уже ступила на лед. У Якеца от ужаса замерло сердце, он остановился.
— Мицка! Слышишь?
Не слышать она не могла. Но ей показалось, что в голосе его звучит угроза, хотя Якец вложил в этот зов всю свою любовь и тревогу. Сейчас она хотела только одного — убежать от мужа, если вообще еще что-то сознавала. Да и возвращаться назад было все равно уже поздно. Под ней был омут. Лед проломился, и без единого крика, вскинув руки, словно безмолвно взывая о помощи, она исчезла в черной полынье.
Якеца прошиб холодный пот. Но сейчас ему было не до собственных чувств, он мчался к омуту. На животе подполз к самой полынье. Ничего не видно. Подо льдом клокотала вода. Он сунул руку под лед — ничего.
Из груди у него вырвался глухой стон. Ох, Боже ты мой, Боже мой! Он принялся ломать лед руками. Напрасно. Лишь разодрал в кровь ладони.
Якец оглянулся по сторонам — кругом ни души. Заснеженная земля лежала тихая, мертвая. Он бросился со всех ног домой, пот лил со лба ручьями. Схватил топор и бегом к реке.
Неужели он еще надеялся, что Мицка жива? Он с размаху бил топором по льду, осколки летели в лицо и в глаза. Откалывая кусок за куском, он забыл об опасности, грозившей ему самому.
Наконец он с трудом вытащил Мицку на берег. С одежды ее струилась вода, глаза померкли и остекленели, кулаки были судорожно сжаты, губы полуоткрыты, словно она еще что-то хотела сказать.
Большим черным пятном лежала она на белом снегу. Яка стоял перед нею на коленях, держа ее за руку, по лицу его текли слезы. Он звал ее, точно она спала и он хотел ее разбудить. Но она не шевельнулась. Она была мертва. Мертва!
Он взял ее на руки и понес домой. Она была необыкновенно тяжелой. Тяжесть эту чувствовали его руки, но еще тяжелее было на сердце. Казалось, по тропинке медленно движется огромный крест, составленный из двух человеческих тел. Якец нес Мицку через тот самый мостик, по которому нес ее когда-то молодой и веселой девушкой. Тогда она была для него сладостной ношей — теперь тяжелой и горькой. Он пронес ее мимо того места, где всерьез пообещал ей дом, а она ему в шутку — свою руку. Но шутка ее обернулась правдой.
Он вошел в горницу и положил ее на скамью. Левая рука ее бессильно упала.
Подошел заплаканный Тинче и взглянул на нее. Потом мальчик поднял глаза на отца — тот стоял без шапки, не в силах ни говорить, ни плакать.
— Мама спит? — спросил мальчик.
Никто ему не ответил.
Перевод М. Рыжовой.
Дом в ущелье
В душе моей, как на фотографии, ярко запечатлелась одна картина.
В пору дождей и осенних разливов на паре промокших, усталых лошадей мы с трудом продвигались по раскисшей кочковатой дороге. Дождь шел несколько дней кряду; в последнюю ночь вода так поднялась, что река на всем своем протяжении вышла из берегов и затопила окрестные поля и луга. Каменные мосты едва пропускали под своими сводами огромные массы воды; деревянные мосты смывало и уносило.
К полудню небо посветлело, но не очистилось. Сеял мелкий дождик, сыпал в лицо. Мы уже промокли до нитки, холод пронимал до костей, нас била дрожь.
Перед нами была мрачная извилистая долина; дорога следовала за ее изгибами, поворачивая то вправо, то влево, спускаясь к самой воде и снова поднимаясь вверх по скалистому склону.
С гор сбегала вода, словно на каждом шагу там вдруг пробилось множество родников, превративших дорогу в лужу. Вырванные с корнем деревья, точно трупы, валялись по склонам гор. Местами путь преграждали груды земли и камня, и лошади объезжали их с величайшим трудом.
Уставшие от ухабистой дороги, лошади переступали тяжело и лениво и наконец стали.
— Эй, что там?
Мы посмотрели вперед. Сразу за поворотом начиналось сплошное озеро, от дороги оставалась лишь узенькая полоска. В самом узком месте стояла телега, запряженная худой, тощей кобыленкой. Пятеро мужиков, заложив руки в карманы, рассеянно смотрели по сторонам и чего-то ждали. Они вымокли до нитки, края шляп свисали на уши, вода текла за воротники.
— А ну-ка, примите свою клячу! — крикнул наш возница.
— Никак нельзя, — отозвался один крестьянин.
— Это еще почему?
— Мертвец на телеге. Ждем жандармов.
Мы удивились. Даже разговорчивый возница замолк и стал думать, как быть.
— Сойдите с телеги, — посоветовал нам один из мужиков. — Порожняком пройдет.
Мы сошли и по белому вымытому песку зашагали за повозкой, которая медленно и осторожно продвигалась мимо телеги.
На мокрой соломе слегка прикрытый рваным одеялом лежал труп незнакомого мужчины. На нем была порыжелая одежда, на ногах — сапоги. Рубаха, жилет и пиджак были расстегнуты, грудь рассекал длинный почерневший шрам. На левом плече синел след от удара хлыста. Широкое лицо заросло щетиной. Залегшие вокруг приоткрытого рта складки говорили о смертельной схватке. Мокрые длинные рыжеватые волосы прилипли ко лбу и щекам. Из-под пряди волос над левой бровью выглядывал красноватый рубец от старой раны. Голубые глаза смотрели куда-то вверх — так смотрят люди, бросающие вызов судьбе.
Все молча изучали мертвеца.
— Утоп, — нарушил вдруг молчание один крестьянин. — Нашли вон там, внизу. — Он показал место у воды, где волны бешено бились о ветви двух поваленных деревьев.
— Кто-нибудь знает его?
— Я знаю, — сказал тот же крестьянин. — Не знаю только имени. Из тех вон ущелий. — И он махнул рукой в сторону теснин, ответвлявшихся от главной долины. — Вечор видал его на дороге. Домой спешил, да, видно, мост под ним снесло.
Мы опять взгромоздились на телегу. Лошади побрели в моросящий дождь, который, впрочем, скоро перестал. Временами я вглядывался в дорогу, и каждый раз мне виделась телега с мертвецом. Картина эта не шла у меня из головы.
Что знаменует смерть этого человека? Конец драмы или ее начало? Какая сила влекла его домой в дождь и непогоду? Чьи руки ждали его, чтобы заключить в свои объятия?
Лицо утопленника, неотвязно стоявшее у меня перед глазами, молчало, как испещренный иероглифами камень. Восемь послевоенных лет отделяли старый рубец над левой бровью от свежего шрама на груди…
Всю долгую дорогу по извилистой долине, все последующие дни и ночи я искал ключ к разгадке таинственных письмен на лице покойника.
1
Над толминскими долинами стоял осенний день, солнце сияло на небе, заполняя все пространство меж редкими багряными облаками. Мелодия красок, разлитая в воздухе, пленяла глаза и сердце. В багряных облаках на юго-западе полыхали зарницы, освещая оранжевым светом небо, деревья, склоны и гребни гор. Одинокая душа упивалась неповторимой красотой природы. Мелодия красок слагалась в гимн, воспевающий самое дорогое человеческому сердцу — покой и любовь.
На гребне горы, точно выписанные на пламенеющем фоне, стояли отец и сын. Продар и его сын Петер. Отец, белобородый, широкоплечий, в расстегнутой рубахе, обнажавшей волосатую грудь, походил на гранитную глыбу. Казалось, он вырос из темной мшистой скалы, на которой стоял. Сын своей кряжистой фигурой напоминал отца, только был бледный и словно бы усталый. Глаза его беспокойно бегали. На лбу, над левой бровью, виднелся след зарубцевавшейся раны.
Повсюду, куда хватал глаз, росли дубы, грабы и клены. Несколько сосен сбились в кучку и словно шептались между собой. В ложбине росли буки, ветки которых, точно воздетые руки, поднимались в небо.
— Посмотри, — сказал отец, заглядывая сыну в глаза. — Посмотри, где проходит наша граница. Гляди, от той скалы прямо вон к тому пню, от пня вниз по склону до самой тропинки. Это все наше…
Сын смотрел… Но мысли его витали далеко отсюда. Взгляд его задержался на голых ветках деревьев, скользнул по молодым побегам и остановился на склонах и гребнях соседних гор.
Багряные отсветы осеннего неба заставляли трепетать его сердце. Он отвык от таких зрелищ, словно только что вышел из ворот тюрьмы, когда щебет птиц и небесная лазурь кажутся важнее всего на свете. Парень конца 1918 года, прошедший сквозь огонь и медные трубы, вчера еще ребенок, сегодня почти старик.
Мировая война, грязные дороги и ледяные ночи, страх смерти, унижения, голод, холод и жгучая рана на лбу. Потом госпиталь в чужой стране, откуда была видна лишь полоска неба, тоска по толминским горам.
Сейчас, приехав на побывку, он всем существом своим ощутил тепло родного края и его суровую красоту, все пережитое вспоминалось как дурной сон, полный кошмаров и ужасов.
Он был счастлив дышать родным воздухом, смотреть на всю эту божью благодать и делать то, что хочется. Ему была вновь дарована жизнь, он страшился смерти и с мукой отгонял от себя все, что снова бросало его в бездну тревог и унижений.
Старик заметил рассеянность сына, взглядом привлек его внимание и продолжал:
— На той стороне граница доходит до пня. От пня поворачивает к грабу. А оттуда…
Петер заторопился, взгляд его опередил вытянутую, как палка, руку отца и спустился в долину. Потом поднялся по противоположному склону вверх, побежал по гребню и затерялся в длинных горных цепях. За первым хребтом шел второй, за ним — третий. Поросшие лесом гребни, как вереница невольников, печально жались друг к другу и тысячелетиями ждали чего-то.
Закатное солнце наполовину погрузилось в алеющее море облаков; новая волна багряного света огненной струей взметнулась над горами. На фоне величественной вечерней зари фигуры отца и сына выглядели еще грандиознее.
В кровавом свете заката на горных вершинах, во впадинах, на крутых склонах и в узких долинах трепетали деревья. Трепетали по всей удивительной земле, так скупо одаренной благами, точно она предназначалась не для людей!
Редкие прогалины, редкие вырубки, огороженные плетнями, и, как божье чудо, на всем огромном пространстве всего несколько домов. Они ютятся в тесных складках, глубоко прорезанных водой, и связаны меж собой тропинками, колеями и узкими мостами.
Земля, будто стыдясь собственной бедности, нахмурила скалистое чело. На кручах цепляются корнями за камни буки, грабы и сосны. Живут тут трудной, суровой жизнью мох и ломонос, орешник, терновник, ежевика.
Бедно, дико и пустынно в этом забытом Богом углу толминского края, затерявшегося в лабиринте бесчисленных ущелий. Обилие камня, свидетельствующее о необычайной суровости здешней природы, обилие лесов. Все живое судорожно цепляется за жизнь.
Искривленные, узловатые деревья, обнимающие корнями скалы и льнущие грудью к земле. Когда среди них пел топор? Кто отважился забраться в скалы? Когда последний раз застонало дерево и покатилось вниз, увлекая за собой дровосека? Глубокое ущелье и поныне хранит память о смельчаке. Гнилые корни не удержали камень, часть скалы рухнула в ущелье, сломала фруктовые деревья и снесла угол дома.
Лес внушал страх и уважение. К шуму его ветвей прислушивались, словно к человеческому разговору. Сердце заключало его в объятья, глаза осыпали поцелуями.
— Видишь, какой лес! — вдохновенно произнес крестьянин, стоявший в его грозной тени.
Петер смотрел на стволы и ветви, на купы деревьев, которые, словно безликие существа, молчаливо стояли на гребнях, протягивая ветви в пропасть.
— Ну и красота! — воскликнул он.
Отец с сыном стали спускаться в долину. Солнце, точно исполинский красный шар, застыло на горизонте.
— Грех рубить деревья без крайней нужды, — сказал Продар то ли сыну, то ли самому себе и кривым ножом срезал вылезший на тропинку ломонос. — Не забывай об этом, когда станешь хозяином.
— Кончится война, пойду по свету, — сказал сын.
Отец молчал. Петер уже подумал, что отец оставил его слова без внимания, как вдруг тот убежденно изрек:
— Не гневи Бога!
Тропинка, пробираясь меж скалами и круто петляя, шла вниз. Местами ее пересекали голые корни.
Глазам путников открылась узкая извилистая долинка с тремя одинокими домами и жавшимися к белым отмелям убогими пашнями. Посреди долинки, вскоре снова теряющейся в ущелье, из-за ив и орешника блестела речка.
— Я тут жил, и ты будешь, — снова произнес отец. — Пирогов каждый день не поешь, но захочешь — жить можно.
Они подошли к высокой белой скале. Наверх вели высеченные в камне ступеньки. Скала напоминала человеческий череп. В верхней ее части чернело два углубления: одно было засыпано землей и заросло кустарником, другое зияло пустотой и служило людям убежищем в непогоду. На дне его лежали сложенные для просушки дрова. Мертвой скалой называли ее люди.
— Мой дед тут прятался, — сказал Продар и, бросив на землю охапку хвороста, сел на нее. — Я никому про это не говорил: мой дед бежал от солдатчины. Прибежал сюда в проливной дождь и нашел под скалой девушку — она одна уцелела, всю ее семью вместе с домом унесла вода.
Сын смотрел на отца. Под скалой даже тихие человеческие голоса звучали необычно громко.
— Они поженились и стали работать. Поставили дом, мой отец его расширил, а я подновил. Тебе уж не придется об этом заботиться. Видишь, там, — Продар показал на долину, — стояла лачуга, которую унесла вода. Там, где пень…
Сын смотрел невидящими глазами. Багряная заря погасла, из долины подымался густой мрак.
— И дед сказал моему отцу: «Смотри не бросай того, что я начал».
Продар встал во весь рост над сыном и поднял руку. Голос его дрожал от волнения:
— И я говорю своему сыну, которого тянет в белый свет: смотри не бросай того, что начал твой дед!
Петер молчал. Медленным шагом возвращались они в долину, уже объятую тьмой. Горели только окна дома, освещая ближние деревья.
2
Дорога берет начало у железнодорожного полотна и вьется между высоких гор, полных обрывов, скал и кривых деревьев. Потом взбирается вверх, но вскоре снова сбегает вниз к реке, где стремительный поток воды подмывает ее насыпи. Однако и тут ненадолго задерживается — круто изогнувшись, она уходит от русла реки и врезается в горы, оставляя за собой зеленые вспененные волны, плещущиеся между скалами и обдающие белой пеной узкие, шаткие мосты.
Нет конца дороге. Порой кажется, что вот-вот она выведет на простор, но тут же горы сдвигаются еще теснее, вселяя в душу тоску и уныние.
Крутые склоны долины изрезаны узкими распадками, по ним бежит вода, вливаясь в главное русло. Лишь в немногих можно увидеть колею или уцелевший от наводнения мост. Кое-где мосты переброшены со скалы на скалу, обложены камнями и привязаны лозой. Узкие тропинки проложены в земле или в камнях.
Связанная мостами и испещренная тропами долинка, над которой высится Мертвая скала, трижды меняет свое название. В самом начале, в десяти минутах ходьбы от главной дороги, она сужается в теснину, прозванную «Клещами».
Две отвесные, поросшие лесом горы подступают к самой воде, продолбившей себе русло в камне. Тропа идет вдоль реки, дважды переходя с берега на берег, петляя, поднимается между орешником и ломоносом на пузатую скалу, глядящую на реку, и уже оттуда беспрепятственно спускается в низину.
После часа ходьбы долина меняется лишь чуть-чуть. Горы раздвигаются. Справа появляется несколько пашен, фруктовые деревья и у самой горы — дом с подслеповатыми оконцами. За домом — крутая луговина, окруженная соснами и лиственницами.
Это усадьба Кошанов. Откуда пришли эти люди? Рачительностью они не отличались. Дом у них был неказистый, хотя земля — лучшая в округе. Их поля, расположенные на солнечной стороне, были плодороднее, леса гуще. Хозяин, вялый, сухонький человечек, до страсти любивший хмельное, напивался при каждом удобном случае. Работал спустя рукава и вообще больше походил на смиренного работника, нежели на хозяина.
Жена Кошана была ему полной противоположностью — могучая, как дуб, широкоплечая, с твердыми чертами лица и мужским характером. Хозяйством управляла она. Муж привез ее из лесной глуши, и, оказавшись в такой же глуши, только в долине, она в первый же день взяла бразды правления в свои руки. Сама покупала и сама продавала, выдавая мужу несколько грошей, как пастуху. Однажды она послала его на ярмарку продать корову, и он вернулся лишь после того, как пропил все до полушки. Однако это был единственный случай.
Дочь Милка и сложением, и твердостью характера пошла в мать. От отца она унаследовала некоторую ветреность, серые мечтательные глаза да склонность к пустым фантазиям. «Вот кабы мне такого мужа, — сказала она как-то матери, — чтоб жить при нем барыней». — «Кабы не кабы, так и мы б были цари», — ответила Кошаниха, не любившая праздных мечтаний.
Брат Милки был поздним ребенком, он родился, когда Милке минуло уже четырнадцать лет. Сейчас ему шел пятый год. Живой и вертлявый, точно лист на ветру, он был баловнем сестры и отца и бельмом на глазу у матери, недовольной его появлением на свет.
Полоса земли, идущая вдоль реки, за усадьбой Кошана сужается и исчезает. Дальше река жмется к горе, на солнечной стороне возле самой серебристой ленты воды лежит клочок ровной земли, в дождь волны почти захлестывают ее. Бурные воды год за годом выдалбливают русло и снова засыпают его.
Дом Продара почернел, из-под облупленной штукатурки проступает камень. Стоит он на ровном месте и потому кажется высоким и для тех мест почти господским. Сразу за домом стоит отвесная скала высотой в полдома, почернелая, покрытая мхом.
Продар смолоду работал не покладая рук: как крот, рыл землю, убирал камни и корни и даже воде указывал дорогу. В доме он был полновластным хозяином; всякий, кто хотел жить с ним в ладу, должен был честно трудиться. Послушных он награждал любовью, которую, однако, открыто не выказывал. То, что попадало к нему в руки, он уж не выпускал. Провинности прощал с трудом.
Жена Продара была женщина безответная, покорная, намного моложе своего мужа. Она хорошо знала все его достоинства и недостатки, за тридцать лет их совместной жизни они не сказали друг другу ни одного худого слова.
Из всех рожденных ею детей в живых остались только двое — Петер и Францка. Фигурой Петер пошел в отца, что же до характера, то тут лукавая природа почтила обоих родителей, соединив в их сыне самые противоположные черты. Однако смесь упорства и робости, податливости и стойкости пошла ему скорее во вред, чем на пользу. Францка была целиком в мать, как побег на том же дереве, дающий те же плоды.
От дома Продара дорога тянется вдоль крутой горы среди зарослей ежевики. Узкий, качающийся мостик ведет на другой берег реки, где расположено самое плодородное в долине поле, правда плохо защищенное от воды и того хуже обработанное. Над ним отвесный склон, а чуть выше, на ровном уступе стоит бревенчатая избушка. В ней жила старая нищенка со своим увечным сыном, прижитым Бог весть от кого. Полузабытое предание гласит, что побирушка была дочерью одного из Кошанов. От отца ей досталось поле и небольшой участок на склоне, где она кое-как вместе с сыном хозяйствовала. Дважды в год она обходила с сумой округу, сын же с грехом пополам сапожничал.
Высоко в горах выпас и фруктовый сад; там же, в ложбине, прячется одинокий запущенный дом, где живут брат с сестрой. Других домов поблизости нет. Долина сужается и начинает подниматься. Река, приближаясь к своему истоку, становится все уже и стремительнее. Возле мощного родника долина кончается, образуя широкую воронку; появляются песчаные проплешины, покосы, кое-где вырубки. Редкие дома лепятся на косогорах. Бурные потоки стремятся к перевалу. За перевалом — Ровты.
3
Кошаны и Продары и кумились друг с другом, и дружили, и враждовали. Когда водили дружбу, при встрече перебрасывались двумя-тремя словами, когда враждовали, молча проходили мимо.
В школу никто не ходил. Читать и писать учились кое-как по старым книгам. Церковь посещали только по воскресеньям, да и то от каждого семейства по одному человеку, ибо до церкви было часа три ходу. Домой возвращались поздно вечером. Остальные молились дома.
Редко кто выбирался на большак, чтоб купить в придорожной лавке муки и всего необходимого. Еще реже бывали на базаре в селе, а уж в городе — почти никогда.
Нелегко жилось в горах. Жалких крох хлеба, вырванных из песчаной земли и корчевья, не хватало. Копченое мясо, картошка и капуста едва утоляли голод в зимние дни. Разведение скота на продажу не окупалось, лес превращать в деньги тоже было трудно.
Полная оторванность от внешнего мира наложила на людей особенный отпечаток. Они жили так, словно были одни на целом свете. Изредка уединение их нарушали сборщик налогов да жандармы. Они чувствовали себя счастливыми, когда в долине не было чужих.
Вести извне доходили до них весьма редко. Приходского священника они едва знали в лицо. Каждая принесенная с дороги новость быстро облетала окрестные горы, два дня о ней говорили, на третий забывали.
Мировая война внушала им страх всего несколько дней, потом к ней привыкли. Новые волнения начались в тот день, когда жандармы угнали Петера, и продолжались все время, пока приходили красные открытки от Петера. Когда тихими вечерами из-за горизонта доносился грохот канонады, люди в страхе поднимали головы и прислушивались.
Солнце в ущелье вставало поздно и, посветив несколько часов, вскоре после полудня заходило. На долину ложилась тень. В этой тени люди росли, жили и умирали…
4
В один из пасмурных ноябрьских дней Петер с котомкой за плечами вышел на дорогу. Месяц миновал с тех пор, как они с отцом, стоя на вершине горы, оглядывали окрестности. Он был уже совершенно здоров и полон безудержной радости жизни. На щеках, как и прежде, играл легкий румянец.
Он шел, чтоб раздобыть муки или зерна. Нехватки добрались и до этой глуши, нагоняя на людей тоску. Деньги утратили цену, припасы кончились, надвигался голод.
— Стелить мне их, что ли, под себя! — пробурчал Продар и не глядя швырнул ассигнации на стол.
— Дайте их мне, — сказал Петер. — Я попытаю счастья. Может, удастся проесть их.
Вернулся он под вечер. Котомка была пуста, но лицо его сияло.
— Война кончилась!
Новость была столь ошеломляющей и неожиданной, что ему не поверили.
— Люди говорили… Да я и сам видел — солдаты домой возвращаются, — пояснил Петер.
После этих слов все словно забыли про голод. На следующий день Продар увидел Кошана. Тот возвращался из долины, куда отправился еще до света.
Продар подошел к мостику, сложил руки рупором и крикнул:
— Правда, что война кончилась?
Из доносившихся до него обрывков слов Продар узнал, что войска валом валят по дороге. Повсюду стоят брошенные обозы с грузом и лошади.
После полудня долиной проходил солдат с тяжелой кладью. Он присел передохнуть на камень как раз против дома Продара.
Петер смотрел на него, как на чудо.
— Ты, приятель, заблудился.
— Я из Ровтов, не заблужусь. Дорога здесь похуже, да зато короче.
— Так это правда? — спросил Петер, готовый без конца находить подтверждения радостной вести.
— Не веришь, ступай посмотри. Заодно и едой разживешься. Харч прямо на дороге валяется.
На другой день к вечеру вернулся с шоссе Продар, шмякнул на скамью набитую продуктами котомку и сел.
— Как в долине?
— Так, — сказал Продар, отирая пот со лба. — Народная власть там. Везде флаги висят.
Продариха пыталась по его глазам прочесть, хорошо это или плохо.
— Только б войне конец, — заметила она осторожно, — а уж какая будет власть, все равно.
У Петера заблестели глаза. Продар кивнул.
— Сколько отдал за муку? — спросила Продариха.
— Шиш на постном масле, — ответил Продар, счастливо улыбаясь. — Ты, Петер, с Кошановой Милкой пойдешь завтра в долину. Может, еще чем разживетесь.
— Ежели так пойдет, — сказала ошалевшая от радости жена, — хорошо будет жить при новой власти.
5
Наутро Петер с Милкой отправились в путь. Пустынная дорога в теснине тянулась и тянулась, сужаясь с каждым шагом. В детстве они были неразлучны — вместе играли, вместе сидели за букварем. Тогда Петер не любил Милку. Она была младше, но выше его и сильнее и часто обижала его и колотила. Но без него не могла обходиться, и когда он убегал от нее, всегда на него жаловалась.
Достигнув отроческих лет, Петер стал держаться независимо и частенько показывал ей спину. В Милке, уже отошедшей от детских игр, тоже развилась девичья гордость, теперь она стыдилась ходить за ним по пятам. Тут грянула война.
Увидев Милку после войны, Петер обнаружил, что она сильно изменилась. Крупная, деловитая, во всем похожая на мать, только глаза были обращены куда-то внутрь. Он постоянно чувствовал исходившую от нее какую-то неизъяснимую, подавляющую его силу. Возможно, это ощущение сохранилось у него с детских лет. Но он еще не оправился от ужасов войны и старался не замечать ее зовущих взглядов, предпочитая одиночество.
Теперь он выздоровел, жизнь в нем била ключом. На Милку он уже смотрел другими глазами. Она была, как никогда, желанной. Он чувствовал себя целиком в ее власти, но сейчас эти оковы не были ему в тягость, как в детстве, напротив, они были ему приятны.
Они говорили, обсуждали всякие обыденные вещи, но ненароком прощупывали словами сердца друг друга, то словно бы расходясь, то снова ловко нападая. Делая вид, что защищаются, они шли навстречу друг другу. Поздно вечером, сгибаясь под тяжелой ношей, они вернулись домой…
6
Бело-сине-красные флаги висели уже четырнадцать дней. Все это время войска безостановочно днем и ночью шли на север.
Но вот людской поток схлынул. Дороги опустели, вымокшие на дожде флаги понуро висели в хмурых осенних сумерках.
Новые вести всех взбудоражили. Люди вышли на пороги домов и смотрели на сизую дорогу. В один из дней вдали показалась черная точка, которая росла с каждой минутой. Жители попрятались по домам.
Это был отряд солдат. Низкорослые, в зеленых мундирах и железных касках, они шли мелкими, частыми шажками, впереди несли зелено-бело-красное знамя с гербом посередине.
Дойдя до селения, они остановились. Люди со страхом взирали на них, прислушивались к чужой речи. Немного передохнув, солдаты двинулись дальше. За ними пришли другие.
В тот день Петер необычайно быстро и с пустыми руками вернулся домой. Насупившись, ходил он по горнице; домашние смотрели на него вопрошающе, но он упорно молчал.
— Ничего не принес? — спросил отец, не дождавшись, когда он заговорит.
— Нет, — ответил Петер и, немного помолчав, добавил: — Нашей власти больше нет. Пришли итальянцы.
Воцарилось молчание. Продариха пыталась понять эту новую перемену, никак не укладывавшуюся у нее в голове. Продар спрашивал о подробностях, но Петер больше ничего не знал.
— Что ж теперь с нами будет? — робко спросила Продариха.
— К нам они не придут, — заверил ее Продар. — Мы слишком далеко.
Слова Продара породили страстное желание, чтоб жизненные бури обошли стороной этот забытый богом край, где от рождения до смерти, из рода в род они с трудом добывали себе кусок хлеба.
Целую неделю никто не показывался на дороге, никто не отваживался спуститься вниз.
— Что я говорил! — сказал Продар.
На следующий день итальянцы пришли.
7
Горы покрылись тонким снежным ковром, доходившим до самой долины. Река замерзла, дороги заледенели. Солнце сверкало на горных вершинах, не спускаясь в долину, от реки веяло ледяным холодом. Снег скрипел под ногами, лес в горах глухо стонал.
Итальянцы стали на постой в обоих домах, только избушка оставалась свободной. Кошаны ютились в боковушке; горницу и полкухни заняли солдаты. Продары мерзли в каморке на чердаке, боковушку пришлось отдать офицеру, горницу — солдатам, в сенях толклись все вместе.
В ущелье пришла новая жизнь. Между обоими домами с утра до вечера шла перекличка. Солдаты отдыхали от трудных переходов, от недавно покинутых окопов.
Им хотелось поразвлечься, они насвистывали и пели, поглядывали на обеих девушек, глазами и жестами стараясь растолковать им то, что не могли объяснить словами.
Тяжело было на душе у Продара: в собственном доме он чувствовал себя гостем. Солдаты безжалостно рубили деревья, волокли их к дому. Весь день в очаге полыхал огонь. Продар возненавидел пришельцев. Не в силах смотреть на их бесчинства, он с утра до вечера бродил по лесу, охраняя лучшие деревья. Дом оставлял на Петера.
Однажды вечером он увидел, как Францка простодушно шутила с солдатом. Он стал как вкопанный и с трудом сдержался, чтоб не вспылить.
После ужина Продар позвал девушку в каморку, на чердаке. Дочь по глазам его поняла, что дело плохо, и, вся задрожав, потупилась.
— Францка, посмотри на меня!
Девушка медленно подняла глаза.
— Францка, у тебя один дом, один отец и одна мать!
Францка молчала.
— Так или не так? — Продар повысил голос. Дочь упала на колени. — Отвечай, так или не так?
Она кивнула.
— Но ежели у тебя один отец, одна мать и один дом, то смотри, как бы тебе их не потерять!
— Что я сделала?- — зарыдала девушка.
— Пока ничего особенного, — сказал отец. — Я не потерплю, чтоб на мой дом пал позор: ни большой, ни малый. Да к тому же с этими!.. — отчеканил он, отбивая каждое слово ногой.
Продар был неумолим. В словах его звучала гордость. Он не допускал ни малейшего пятна на своей чести. Порядочность составляла единственное богатство его рода во всех поколениях. Ни с кем, и уж меньше всего с солдатом!
— Ступай, — сказал отец после долгого молчания.
Дочь ушла, обливаясь слезами.
8
За три недели до Рождества вся округа окуталась снежным покровом; ударили морозы, деревья стонали, люди забились в дома. Узкая тропинка вела от дома к дому, потом к дороге и дальше по склону горы к далекой приходской церкви.
Петер поравнялся с домом Кошана. Кошаниха, возившаяся в сенях, окликнула его, приглашая войти. Милка стояла у очага и улыбалась.
— А ты, Петер, все такой же, — сказала Кошаниха. — Куда пойдешь завтра к мессе?
С тех пор как пришли солдаты, Петер не заходил к Кошанам, потому что им с Милкой никак не удавалось поговорить с глазу на глаз. Однако он продолжал думать о ней. Исподволь, почти подспудно родилась в нем мысль, что Милка могла бы стать его женой. С каждым днем он укреплялся в этом желании, хотя и не мог себе представить, как все произойдет. И все же при мысли о женитьбе одна Милка вставала перед глазами. Возможно, потому, что других девушек он попросту не знал.
— В приходскую, — не сразу ответил он.
— Гм, — произнесла женщина и посмотрела на дочь. — Наш хозяин пьянствует где-то в долине. Если б вы с Милкой пошли в село… может, заодно и его б нашли…
Петер взглянул на девушку, не сводившую с него глаз.
— Пойду, если Милка пойдет.
Едва занялось утро, Петер с Милкой уже взбирались по узенькой тропинке над рекой; было скользко, под ногами громко скрипел снег; они запыхались и почти не говорили.
Выйдя на дорогу, они разговорились. Петер рассказывал о своих военных приключениях, Милка о том, как все это время жилось дома. Незаметно разговор перешел на солдат.
— Добрые они, — сказала девушка, — ласковые, совсем как дети. Веришь, — она вскинула глаза на Петера, — они дают мне все, что я захочу.
Петер молчал.
— Знаешь, а один даже сватался ко мне, — засмеялась девушка.
От неожиданности у Петера перехватило дыхание.
— Кто? — спросил он, стараясь не выдать своего волнения.
— Унтер-офицер… Дом у них богатый, — подчеркнула Милка, — и человек он хороший.
Петер молча смотрел в землю, считая следы на смерзшемся снегу. Дорога плясала у него перед глазами.
Девушка опять взглянула на него.
— Но я ему отказала. — И, немного помолчав, добавила: — На побывке сейчас. Не знаю, вернется ли. Уж пора бы.
Молча ступили они на бесснежное шоссе. Разговор не клеился. Скоро они пришли в село.
После мессы Петер с Милкой обошли все трактиры. Кошана нигде не было. Петер нахмурился, чувствуя, что его провели. Повеселел он лишь после третьего стаканчика вина. Щеки разрумянились, ему стало хорошо и приятно.
Милка казалась ему необычайно привлекательной. Волосы, падавшие на лоб и щеки, точно занятные игрушки, все больше волновали его кровь по мере того, как он пил стакан за стаканом. Глаза Милки блестели. Лицо смягчилось, суровая складка возле рта исчезла.
Уже спускались сумерки, когда они вышли из трактира. Петер поскользнулся на льду, Милка схватила его за руку.
— Так убиться можно!
— А тебе-то что, если и убьюсь? — Петер взглянул на девушку.
Он просто хотел испытать ее, и она поняла это.
— Ты бы обо мне так думал, как я о тебе…
Слово за слово, и, точно завороженные, они пошли рука к руке. И там, где тропинка была у́же всего, недалеко от дома Кошана, под покровом темноты, они прильнули друг к другу. Петер весь пылал, не выпуская девушку из своих объятий. Проснулся ли в нем мужчина, или это была любовь?
— Приходи к нам, — сказала на прощанье Милка.
9
Несколько дней Петер ходил как потерянный. Все его чувства пришли в волнение. Бессонные ночи и мысли, осаждавшие его за работой, утвердили его во мнении, что ему пора жениться и что женой его будет Милка. В последние дни он так свыкся с этой мыслью, что уже живо рисовал будущее, начиная с женитьбы. Он не любил менять своих решений, болезненно переживая любую перемену в них.
Петер стал захаживать к Кошанам. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Молодые люди нашли укромный уголок, где могли разговаривать без помех. Однако девушка была неспокойна и несколько раз прогоняла его. Впрочем, изгнание длилось недолго. Дважды над ними нависала тень, но скоро исчезала.
Как-то Милка сказала ему:
— Не ходи к нам каждый вечер, некогда мне сейчас. Я скажу, когда можно будет.
Петер недоумевал, изо всех сил стараясь понять причину этого запрета. Несколько дней подождал и снова пришел. Милка не прогнала его и очень удивилась, когда Петер спросил:
— Что, унтер вернулся?
— Ах, этот! Вернулся… — И, пренебрежительно махнув рукой, задумалась.
Как раз в то время солдаты схватили Продара, дубиной прогнавшего их от своих дров. Петера дома не было, мать с Францкой плакали. Повели его к Кошану, где квартировал офицер, который с помощью словаря допросил его и, сделав соответствующее внушение, отпустил.
Это происшествие усилило ненависть Продара к чужакам. Дождавшись сына, со страхом смотревшего на него, этот тихий, угрюмый человек сжал кулаки и изо всех сил затопал ногами, давая волю своему гневу.
— Она тоже надо мной смеялась, — сказал он, успокоившись.
— Кто? — еле выдавил из себя Петер.
— Милка, — ответил Продар угасшим голосом.
На сердце Петера лег камень. Между Продаром и дочкой Кошана годами тлела глухая беспричинная вражда. Продара, человека строгих правил, коробил озорной нрав девушки.
В тот же вечер Продар спросил жену:
— Куда ходит наш Петер?
— К Кошану, — ответила она.
Спустя несколько дней Продар чинил ясли и сломал сверло. Он отправился к Кошану попросить другое.
В сенях толпились солдаты, в горнице никого не было. Продар кашлянул. Никто не отозвался, только из боковушки доносилось женское хихиканье, да еще он уловил сказанные по-словенски слова:
— Никого нет?
Продар подошел к дверям, взялся за ручку и потянул ее на себя. Но тут же отпрянул, словно ошпаренный, и закрыл дверь.
С минуту он стоял в полной растерянности, не зная, что делать. Потом повернулся и вышел во двор.
Кошан был возле дома.
— Сверло у меня сломалось, может, одолжишь свое. Сам дашь или у жены спросить?
Слова, намекавшие на подчиненное положение Кошана в доме, не обидели соседа; напротив, он даже повеселел.
— Что-что, а в этом я тебе услужу. В сенях висят. Выбери сам.
Кошан ушел за дом, Продар ступил в сени.
В эту самую минуту, поправляя волосы, из горницы вышла Милка. Взгляды их встретились, и они на мгновение застыли. В глазах девушки сверкнули ненависть и досада. Милка опустила глаза, безразлично передернула плечами и, поджав губы, прошла мимо.
Продар все понял. Он стоял словно пригвожденный. Забыв про сверло, он повернулся, вышел во двор и зашагал по мягкому, поскрипывающему снегу.
10
В тот же вечер часов около десяти Продар запер дверь и пошел вслед за женой в боковушку. Они были одни. От них солдаты уже ушли, оставались только у соседа.
— Чего это ты дверь запер? — спросила Продариха.
— Потому что это мой дом.
Жена пригорюнилась. Впервые в жизни муж ответил ей так грубо. Продар почувствовал укоры совести, но извиняться не стал.
— Петера еще нет, — заметила жена через некоторое время.
— В другой раз явится домой пораньше.
— Под замок ведь его не посадишь. Взрослый, жениться в пору!
— В пору! — Продар снял жилет и бросил его на кровать. — В пору! Да только не на всякой.
Продариха смотрела на мужа, не понимая, что его рассердило.
Продар не знал, куда себя деть. Подошел к окну. Глазам его предстали темная полоска реки, белый снег, черные силуэты деревьев…
— Куда, говоришь, он ходит?
— К Кошану.
— Сама видела?
Жена помолчала.
— Куда ж еще? Других девушек поблизости нет.
— Нет других девушек! — передразнил ее Продар.
— Милка здоровая, сильная, работящая…
— Это ты так думаешь! — оборвал ее муж. — Я думаю по-другому! — Он остановился возле жены. — Ежели хочешь знать…
Он собрался выложить ей то, что знал, но в последнюю минуту передумал.
— Мне про нее больше известно, чем тебе.
Слова мужа свинцом легли на сердце Продарихи. Таинственный намек разом погубил все ее радужные мечты о молодухе, которую она бы с радостью взяла в свой дом. Она не сомневалась в том, что Петер любит Милку.
Продар ждал сына. Заслышав шаги, он встал. Кто-то тщетно старался открыть дверь. Раздался троекратный стук, с каждым разом все более громкий и настойчивый. Перед домом, глядя на темные окна, за которыми лишь тускло мерцал огонек, стоял Петер.
— Францка! — позвал он.
Забравшись с головой под одеяло, Францка слышала разговор родителей и не отозвалась.
Продар видел, как сын пошел за дом. Он долго ждал и уже хотел снова лечь, как вдруг услышал за стеной шум. Раздался прыжок и удар в стену.
Продар распахнул настежь дверь. Сын вошел, удивляясь тому, что отец еще не лег.
— Как ты вошел в дом?
— Через заднюю дверь. В сенях было заперто.
В обращенной к скале стене наверху была дверь. С земли к ней приставлялась лестница, а со скалы перекидывался мостик. Через эту дверь в дом вносили сено, пока на чердаке не выгородили еще комнату о трех окнах. Снаружи под крышей висела длинная лестница, привязанная лозой к балкам и перекладинам.
Продар прибавил огня; тени на стенах стали отчетливее.
— Где был?
— Ходил в гости.
Сын почувствовал неловкость при этом признании.
— К кому?
Петер не таился; он отлично знал, что родителям известно, куда он ходит. И все же сказать об этом было трудно.
— К Кошанам.
— Тебе, конечно, пора жениться, — сказал отец. — Можешь жениться, когда хочешь. Только как следует выбери себе невесту. Выбери себе такую невесту, чтоб все было честь по чести, а не как попало.
Продар хотел выразиться покрепче, но не нашел нужных слов. Это придало Петеру храбрости.
— Жену я выбираю себе, а не вам! — отрезал он.
— Себе? — Продар вытянулся. — Да, себе! Коли тебе будет хорошо, то и нам понравится.
Петеру было не по себе.
— А чем Милка не хороша?
Ответ вертелся на языке, но Продар понимал, что сейчас лучше не говорить об этом. Сказать, что они с Милкой ненавидят друг друга? Или что она смеялась над ним, когда его арестовали? Или назвать самую важную причину, затрагивающую его честь, если не самые устои его семьи?
Продар мучился и терзался, не смея высказать того, что было у него на душе.
— Не знаете, так и не запрещайте.
— Кто сказал, что я не знаю? — вырвалось у отца. — Знаю, да только сейчас не скажу. Она не для тебя! Этого довольно!
Сын побелел как полотно, но не сдался.
— Нет, не довольно!
— Она гулящая! — выпалил отец и сел.
У Петера задрожали колени. Сомнения, которые он гнал от себя, встали перед ним с новой силой.
— Забудь туда дорогу, ежели хочешь найти вечером открытую дверь. Не женись на ней, ежели хочешь получить после меня дом!
Сын повернулся и вышел из горницы. Отец слышал, как он поднялся в каморку на чердак и в чем был бросился на солому.
11
В тот вечер Петер почувствовал себя зажатым в тиски. В семье господствовала воля отца. Воспротивиться ему — значило подрезать сук, на котором сидишь. И все же Милка так крепко запала ему в душу, что, отделаться от мыслей о ней было невозможно; каждая попытка выбросить ее из головы причиняла боль.
Многое беспокоило его. Слова отца подтверждали и усиливали его подозрения. Унтер, его сватовство… Просьба ходить к ним пореже… Минутная вспышка любви и новое охлаждение, в тайну которого он тщетно старался проникнуть…
Что знает отец? Что он может знать? Тысячу раз собирался он пойти к нему и спросить и тысячу раз не решался. Щадя скорее себя, чем отца.
Мучаясь и страдая, Петер все крепче присыхал к ней сердцем. Вопреки всем страхам, томившим его душу, мечты о девушке становились все более пылкими и были тем сильнее, чем больше кровоточила его рана.
Петер не ходил к Кошанам. И не только потому, что боялся отца. Гораздо больше удерживала его уязвленная гордость. Пусть грязь сотрется с ее образа!
Тишина и подавленность царили в доме Продара. Разговаривали по привычке приветливо, но прежней сердечности не было. Лишь со временем жизнь вошла в свою колею.
Петер немного успокоился. По ночам перед ним витал образ Милки. Однажды ноги его сами собой зашагали через кусты к дому Кошана. Едва он завидел Милкину фигуру, как любовь с прежней силой всколыхнулась в его груди.
Петер колол дрова под Мертвой скалой и рубил хворост. Складывая за колодой груду поленьев, он невольно бросил взгляд в долину. Намеки отца давно уже забылись, остался лишь страх перед ним. И он почувствовал угрызения совести оттого, что так давно не был у Кошанов.
Как-то после полудня из кустов вышла женщина; это была Милка. Подойдя к Петеру, она остановилась и посмотрела на него, как на уличенного в воровстве мальчишку. Петер точно окаменел, щеки загорелись румянцем.
— Почему не приходишь? — спросила Милка.
— А я у вас ничего не забыл.
Один вид ее вмиг рассеял все его сомнения. Он не верил собственным глазам, что видит Милку не во сне, а наяву.
Милка сидела на бревне и без умолку болтала. Петер несколько раз порывался сказать ей, почему избегает встреч, но что-то мешало ему.
«Предлагает себя», — подумал парень и тут же подавил эту мысль, целиком отдавшись чарам, которые излучали ее слова и тело.
— Придешь? — спросила она.
Петер ощутил сладость поражения; он испытывал бы блаженство, даже если бы она его била.
— Приду, — пообещал он.
Ни в этот, ни в следующий вечер Петер не пошел к Кошану. На третий день он незаметно улизнул из дому, но отлучка его длилась не больше часа. На четвертую ночь он вернулся под утро, но не от дома Кошана, а с противоположной стороны.
Отец стоял на пороге.
— Далеко ходил? — сказал он.
— Далеко, — ответил сын, не глядя.
12
В начале марта, когда первые косые лучи солнца уже пробились к дому Продара, солдаты ушли и от Кошанов. Другие не пришли. Они оставили за собой истоптанную землю, валявшиеся повсюду консервные банки, забытую кем-то каску.
Люди вздохнули с облегчением и попытались зажить прежней жизнью. Несколько дней их не покидало чувство, будто часы в доме остановились; было одиноко, еще более одиноко, чем до прихода солдат.
Нищенка после долгого перерыва опять пошла с сумой.
— А Кошанова Милка слезы лила по солдатам, — бросила она, проходя мимо Продара и его сына.
Продар многозначительно повел глазами, Петер до крови закусил губу.
Вечером Петер снова был у Кошанов и поздно ночью кружным путем вернулся домой. Дверь была открыта, он влез на печь. Вид у него был мрачный, нещадно билось сердце. Он проспал до полудня.
Душевное смятение доставляло ему жестокие страдания. Все ему теперь виделось в другом свете. На него напало странное ослепление. Эта женщина вольна была делать с ним что угодно.
— Ты и вправду плакала? — спросил он Милку.
— Правда, — простонала она. — Из-за тебя плакала. А ты думаешь о чем-то другом… Обманываешь меня…
Петер обнял ее, стараясь успокоить, но Милка становилась все безутешнее. Прошло немало времени, пока на нее подействовали его ласки и уговоры, — от первых сумерек до полуночи, от первого объятия до того исступленного самозабвения, когда человек теряет контроль над собой.
Был уже полдень, когда Петер проснулся и, точно ужаленный, спрыгнул на пол. В груди его клокотали вопросы, на которые он тщетно искал ответа; они стегали его бичом, не давая минуты передышки.
Петер забивал возле поленницы кол; погруженный в думы, он не заметил, что кол уже уперся в скалу, и все колотил и колотил, пока кол не разлетелся в щепы…
Под вечер, возвращаясь с работы, в конце поля, у самого мостика, он увидел в кустах Милку.
Добрая половина терзавших его сомнений вмиг была забыта. Петер подошел к ней.
— Что ты здесь делаешь?
— Уж и подождать тебя нельзя?
Выражение лица ее было необычным.
— Можно, — холодно ответил Петер.
— Отец дома?
— Зачем он тебе?
Петеру не понравилось, что девушка спрашивает об отце.
— Я знаю, — она смотрела на него в упор, — что он видеть меня не может. И не по своей воле ты сказал, что больше не придешь.
— По своей.
— Раньше надо было говорить, теперь поздно.
— Могу и сейчас, — бросил он с досадой. Воспоминание о прошлой ночи жгло огнем.
— Сейчас? После вчерашнего? Что никогда больше не придешь? Что знать меня больше не хочешь?
И на Петера градом посыпались заранее приготовленные неприязненные и злые, но вместе с тем справедливые слова. Смущенный и приниженный, он застонал, готовый выполнить любое ее желание.
Петер с Милкой не заметили, как от дома тихо отделилась тень. Перед ними стоял Продар, в темноте он был похож на тень прибрежной ивы.
— Вы что тут делаете? — спросил он.
Парень с девушкой оторопели от изумления. В самую решительную минуту между ними встал посторонний, не дав сказать последнего слова. Милка повернула искаженное лицо к Петеру.
Петер смотрел на отца невидящими глазами. Продар был неподвижен, страшен в своем безмолвии, весь окутан тайной.
— Честные люди приходят в дом, — сказал Продар, обращаясь к девушке, — для тебя же нет места ни в нашем доме, ни здесь.
Милка в смущении молчала.
— Найдется и для меня место! — вдруг крикнула она, метнув взгляд на онемевшего Петера.
— В моем доме нет!
— Найдется!
— Только не для тебя! — во всю мочь завопил старик.
— Для меня!
Милка уже стояла на середине моста и резко и грубо отвечала ему из полутьмы.
Отец оглянулся на сына, хотел что-то сказать, но только топнул ногой и ушел.
Петер готов был провалиться сквозь землю.
13
Слова девушки не на шутку взволновали Продара. В сыне он видел ее молчаливого союзника. Лжет ему Петер или он и впрямь не ходит к ней? Откуда в век такая уверенность?
Отец с сыном ходили насупившиеся, не глядя друг на друга. Мать безуспешно старалась их примирить. Медленно и опасливо, словно ожидая подвоха, шли они навстречу друг другу.
Петер больше не ходил к Кошанам. Он стыдился Милки и боялся отца. Милка, завидев его издали, не махала ему рукой, как прежде, а тут же поворачивалась к нему спиной, что и радовало его и печалило. Презрение девушки задевало его, ибо, несмотря на размолвку, она все еще владела его мыслями. Временами память воскрешала незабвенные минуты, которые с непреоборимой силой влекли его к Милке.
Как-то он встретил Кошаниху. В ее пронзительном взгляде Петер прочел укор. Прежде чем он успел сообразить, что к чему, она быстро затараторила:
— Что-то ты нас совсем забыл, ежели о чем серьезном думал…
Сказано было ясно, без обиняков. Петер молчал.
— Наш дом всегда открыт для тебя, — добавила женщина и пошла своей дорогой.
В тот же вечер Петер снова был у Кошанов; Милка, казалось, ничего не помнила, только на отца его злилась.
— Петер, когда думаешь сыграть свадьбу? — спросила Кошаниха.
Петер отшутился, не ответил ничего определенного. Мать выразительно посмотрела на дочь.
— После Пасхи, — сказала Милка, — не позже!
Петеру не понравилось, что она опередила его с ответом. С Милкой они говорили о любви, не о браке. Он не сватался, и его не сватали, но об этом он только подумал, сказать не посмел. Сейчас же речь шла о свадьбе как о деле давно решенном.
Петер умолк и вскоре распрощался. Легким шагом дошел он до середины мостика и тут же увидел на противоположной стороне темную фигуру отца.
Петер вернулся, присел на корточки на сухую отмель и стал ждать, пока отец уйдет.
После разговора с Милкой и ее матерью все ему там опостылело. Больше он не ходил к Кошанам.
Началась борьба между Петером и двумя женщинами, стремившимися навязать ему свою волю. Она не прекращалась ни на один день. Ни вражда двух семейств, ни странное поведение Петера не мешали им неотступно его преследовать. Стоило Петеру пойти в долину, как где-нибудь в пути его догоняла Милка. Если он работал в лесу, то вдруг поблизости раздавался шум раздвигаемых ветвей, и взору его являлась Кошаниха.
В Петере, в отличие от отца, не было стойкости. Он был способен служить и богу и черту — не в силах ни отмахнуться от уговоров женщин, ни воспротивиться отцу. И жестоко страдал от этого.
Отец понимал мучения сына и решил на время увести его из дома, хотя большой нужды в том не было.
— Я подрядился на работу, — сказал он Петеру. — Пойдешь со мной. Уходим на три-четыре недели.
На следующий день с первыми петухами они отправились в путь.
14
Работали в темном, заснеженном сосновом бору. Ветер стонал в верхушках деревьев. Кругом были чужие, незнакомые люди. Отец и сын снова сблизились, привязались друг к другу. Вернулись взаимное доверие, смех, шутки, откровенные разговоры.
Временами Петер становился молчаливым и задумчивым. Отец смотрел на него, желая проникнуть в его мысли, и говорил:
— А ну проснись! Спать надо ночью, тогда не будешь клевать носом днем!
— А я спал, — возражал Петер, улыбаясь при воспоминании о том, как провел ночь.
— Как же, спал, — говорил Продар, обрубая ветки и закрывая глаза при каждом ударе, чтоб в них не попала щепка. — Скажи кому другому, я-то знаю, когда ты пришел.
За шуткой отца крылась самая что ни на есть истинная правда, но Петер нисколько не смутился. Напротив, добродушие отца даже ободрило его.
— Сказал бы лучше, какая у тебя завелась зазноба? — полушутя-полусерьезно спросил отец.
— Как молоко, бела, как кровь, румяна, — шутливо ответил сын словами песни и взялся за работу, чтоб скрыть свое смущение.
Петер чувствовал, что краснеет от неловкости за это полупризнание.
Отец смеялся про себя.
— Только дурные женщины предлагают себя, — сказал он, продолжая обрубать ветки, — запомни это.
Вечером он сделал вид, что не заметил, как сын, пожелав ему спокойной ночи, ушел в лес.
Ветер метался в верхушках высоких деревьев и пел песню, то затихающую, то возникающую вновь. Петер ступил на неровную дорогу, петляющую меж скал. На нее падали громадные тени, шепот листьев доносился из темноты. Сердце Петера сжималось от страха, но, углубившись в мысли, он забыл об ужасе одиночества, которым дышали скалы и деревья.
Наконец лес расступился. На поляне стоял дом. Он обошел его, и из-за деревьев показался другой дом, окруженный садом. Где-то неподалеку били церковные часы — признак того, что поблизости находится село.
Калитка была открыта. Ветерок теребил листья герани на подоконнике. Зеленые ставни, точно два крыла, распластались на белой стене. У растворенного окна никого не было. Прождав с минуту, Петер постучал в ставень. Послышались легкие шаги, и в окне показалось бледное лицо девушки, закутанной в большую красную шаль.
— Не ждала меня сегодня, Кристина, Кристиночка, — ласково корил ее Петер.
— Я не могу тебе верить, ты обманываешь меня, — молвила девушка. У нее были печальные глаза и красивые губы.
— Нехорошо ты говоришь! — с обидой сказал Петер.
— Это правда? — спросила девушка. В голосе ее было столько подкупающей мягкости, что вся досада его прошла.
— Что правда?
— Что у тебя есть другая, мне люди про то сказали. И ты забудешь меня, как только вернешься домой.
Петер молчал, глазами лаская девушку. Он боялся вымолвить слово, боялся голосом выдать себя.
— А когда уйдешь, что будет со мной? — спросила вдруг Кристина.
— Буду ходить к тебе.
— Четыре часа в один конец?
— Четыре часа. Всю ночь буду идти, но увижу тебя.
Кристина улыбнулась счастливой улыбкой.
— А ты будешь думать обо мне? — спросил Петер.
— Сочти звезды на небе! — сказала девушка.
Петер не понял, зачем ему считать звезды.
— Я не могу.
— Столько моих мыслей будет с тобой каждую ночь. — И девушка тихо заплакала.
Петеру стало вдруг так хорошо, что он готов был закричать от радости. Он взял ее руку и держал в своей, как крошечную трепещущую пташку.
Всю обратную дорогу Петер размышлял, вновь переживая радость свидания. Перед ним в зеленой раме окна стояла белолицая девушка с бездонными глазами и ангельской душой.
Отец еще не спал, когда он вошел в избу.
— Гулял? — кашлянув, спросил Продар.
— Да, — ответил Петер и лег.
— А ведь раньше думал, что других девушек и на свете нет.
Слова отца были ему приятны. Они удивительным образом совпадали с его чувствами.
Через несколько дней они отправились домой. В последний вечер Кристина дала Петеру бумажный цветок, привязанный красной ниткой к зеленой веточке.
— Думай обо мне! — всплакнула она.
Петер обещал. И думал о ней всю дорогу от лесного заказа до своего ущелья. Возле дома Кошана он увидел Милку. Взглянув на цветок в петлице, он почувствовал нестерпимую боль.
15
Приближалась Пасха. Снег стаял; вода, добиравшаяся во время весеннего паводка до дома Продара, спала. Ивы и орех пустили молодые побеги, на залитых солнцем горах зацвели примулы, в кустах из-под прелых листьев прокладывал себе путь к солнцу морозник. Воздух дрожал над влажной землей.
Между корнями деревьев дышала согретая солнцем и как бы ожившая земля. Время от времени от нее отрывался ком и, шурша листьями, катился вниз. Камни, которые раньше сковывал мороз, освободившись от пут, летели в долину. На деревьях набухли первые почки.
От земли шел теплый дух, будоража природу и человека. Играл в крови, проникал в души. Сердце билось сильнее, руки невольно раскидывались в стороны, словно хотели обнять весь мир.
В Петера тоже вливались живительные силы весны, кружили голову. Уже несколько дней он был дома, но к Кошанам не ходил. Как-то под вечер сердце заставило его пройти четыре часа ради трех слов и улыбки. Под утро, измученный, он вернулся домой, но внутри у него все пело.
Временами его осаждала мысль, убивавшая прекрасную песнь природы, весны и любви, и тогда он стонал, как под ударами хлыста.
Какой-то безотчетный страх отравлял ему жизнь, тоскливое предчувствие преследовало его даже во сне. Ему казалось, будто его жизнь сплелась в тугой узел, который он сам распутать не в силах.
Была Страстная суббота. Петер увидел направлявшуюся к их дому Кошаниху и содрогнулся.
Войдя в сени, где вокруг очага сидела семья, женщина поздоровалась и сразу же прошла в горницу. Петер притаился в темном углу. Прежде чем заговорить, Кошаниха оглянулась; разговор был тихий, с глазу на глаз.
— Петер, ты думал несерьезно…
— Меня же не было дома.
— Но ты уже вернулся и уходил каждую ночь. Ты, конечно, можешь делать, как тебе хочется. Никто тебе не навязывается. Только ведь раньше надо было думать.
Петеру показалось, что его хватают за горло, он чуть не застонал от бессильной ярости.
— Я и сейчас могу подумать, — вспыхнули в нем гордость и упрямство.
— Сейчас? — Женщина повысила голос, словно уж больше не боялась, что ее услышат. — Сейчас, — повторила она и от волнения затеребила край передника. — Сейчас уже поздно. Приди сначала за тем, что у нас оставил, а уж потом думай о другой.
В голове у парня стало проясняться. Дело было до очевидности простым, и все же что-то ускользало от его сознания. Он молчал, молчал упорно, упорнее мрака, который, надвигаясь, глядел в окна.
Женщина поняла, что попала в точку.
— Ты должен прийти, чтоб позор не вышел наружу, — закончила она, пробуравив Петера своим колючим взглядом.
16
Петер не ощущал теплого воздуха, струившегося от реки, не слышал журчания воды, словно перебиравшей струны, не чувствовал разлитого вокруг благоухания.
Голоса природы не доходили до него. Жизнь внезапно повернулась к нему своей худшей стороной. И виной тому несколько блаженных часов, к сладости которых примешивалась горечь полыни.
Денно и нощно думал Петер обо всем этом. В душе его попеременно возникали и протест, и радость, и сознание долга, он даже думал о бегстве. Из-за себя, из-за отца, из-за Милки, у которой в суровой складке у рта скрывалась какая-то тайна. О том, чем все это может кончиться, он не думал.
Из сумятицы мыслей и чувств перед ним вставал образ, который он гнал от себя. Девушка в окне, закутанная в шаль, с доброй улыбкой на губах. «Ты обманываешь меня. У тебя есть другая…»
Было время, когда ему казалось, что он порхает среди ветвей высокого дерева, не видя ничего, кроме прекрасных девичьих глаз. Теперь жизнь сбросила его на землю.
После ужина он взял шляпу, вынул из петлицы цветок, смял его и швырнул на пол.
Петера мучили угрызения совести, но чем ближе подходил он к дому Кошана, тем все больше забывал о них и все отчетливее видел нечто другое.
Поглощенный собственными переживаниями, он и не заметил, что неискренние слезы на глазах Милки высохли при первом же проблеске надежды. Не сомневаясь в своей вине, он считал своим долгом спасти дом от позора. Внутренняя порядочность, отличавшая их род, решила дело. Даже на секунду не заподозрил он обмана.
— Когда? — спросила Милка.
— После Пасхи, — ответил Петер.
— Сегодня же скажи отцу!
— Скажу, — пообещал он, и сердце его при этом сжалось от боли, словно он увидел родной дом в огне.
17
По мере приближения к дому Петера все больше покидало мужество. Выпитая водка время от времени придавала ему храбрости, но ненадолго. Он смеялся, злился, принимал решения, убеждая себя в их правильности, и тут же отказывался от них.
Мысленному взору его то и дело являлась черноокая девушка с грустной улыбкой на лице. Видение было до жути ясным и осязаемым. Петер останавливался, отгонял его от себя и шел дальше.
Дом был заперт, в горнице горел свет. Петеру показалось, что отец стоит у окна. Собравшись с духом, он так забарабанил по двери, что гул покатился по всему дому.
Отец впустил его. Огромной тенью стоял он в темных сенях, глаза его горели.
— Оставался б там, где был.
— Мой дом здесь, — ответил сын.
Продар шумно закрыл наружную дверь. Вошли в горницу.
— Петер, сегодня я буду говорить с тобой серьезно.
— Я с вами тоже, отец.
— Ты? — опешил Продар.
— Я женюсь, — дрожащим голосом выпалил Петер. — На Милке! — добавил он, предваряя дальнейшие расспросы.
Продара чуть удар не хватил.
— На ней? — вскрикнул он, выходя из оцепенения. — Да она ж терпеть нас не может. Смеяться станет, что провела нас. Будет считать каждый кусок, что я съем, и ждать моей смерти.
Петер возражал, как умел.
— Неправда! Ничего она не будет считать. Никого не…
— Не допущу в свой дом нечестную!.. — взорвался старик, слишком ясно представлявший себе последствия столь безумного шага.
В эту минуту отец с сыном впервые почувствовали себя врагами.
Продариха, слышавшая их объяснение, поднялась с постели и, сойдя вниз, полуодетая, встала в дверях, переводя испуганный взгляд с мужа на сына и обратно.
— Что у вас с Милкой? — не унимался Петер. — Скажите, что вы о ней знаете?
— Лучше скажи, что у тебя с ней? — вопил отец.
— Коли она и была нечестная, так со мной. И мы сраму не оберемся, ежели дела не поправим.
Удар попал в цель. Мать схватилась за косяк, чтоб не упасть. Отец разинул рот, не находя слов. Он все понял. Гораздо больше, чем сын. Отныне Милка стала ему еще ненавистней.
— Нет! — отрывисто заговорил он, немного придя в себя. — Нет!.. Такой ценой — нет! Пусть лучше позор!
Мать с сыном вздрогнули. Они ждали чего угодно, но только не такого богохульства.
— Матевж, — воскликнула пораженная жена, — что ты говоришь!.. Опомнись! Что ты говоришь!
— Что говорю? Я знаю, что говорю. Шлюху берем в дом, вот что.
Сын бросился на отца. Тот поднял руки, собираясь пустить в ход кулаки. Мать с криком встала между ними.
Крик матери, звавшей на помощь Францку, отрезвляюще подействовал и на отца и на сына. Продар умолчал о самом страшном, приберегая его на крайний случай. Да и чего бы он добился? Был бы в глазах Петера клеветником. Жизнь стала б еще невыносимее. Да и в душу сына навеки заронил бы яд сомнения.
Петер нахмурился. У него было такое чувство, будто его раздели донага. Он не знал, куда деваться от стыда. Францка смотрела на него укоризненно.
Воцарилось тягостное молчание.
— Чтоб не навлечь на дом еще худшего проклятья, будь по-твоему! — медленно выдавливая из себя каждое слово, заговорил отец, немного успокоившись. — Женись на ней! Но дом ты получишь только после моей смерти. Так и знай!..
Сын не ответил. Он смотрел в пол, боясь собственных мыслей.
18
Между двумя семьями установилось еще большее отчуждение, чем раньше. Петер служил мостом между ними. Отец не говорил о свадьбе; целыми днями работал, возвращаясь домой лишь поздно вечером. Сразу после ужина ложился спать.
Мать страдала оттого, что невеста с боем приходит в дом. Прежде она сама желала этого брака, теперь словно тяжкий камень лег ей на душу. Однако она все это носила в себе, никому не поверяя своих страхов и скорби.
Радость по случаю предстоящей свадьбы царила лишь в доме Кошана. Это утешало Петера, и он до поздней ночи засиживался у соседа. Правда, временами его мучил один вопрос, от которого он никак не мог отделаться.
— Отец охотно согласился? — спросила Милка.
— Согласился, — коротко ответил он и тряхнул головой.
— Когда перепишет на тебя дом?
— Потом, — солгал Петер, — когда ребенок родится. Не верит мне.
К счастью, свадебные хлопоты и приготовления не оставляли времени для иных забот. Наступила весна, поля призывали рабочие руки, свадьба приближалась с каждым часом.
Петера порой одолевали невеселые думы. Милка требовала у него ремонта дома и новую, господскую мебель. Едва удалось уговорить ее подождать, пока он станет хозяином дома и сможет продать лес.
Нужно было много денег. Он думал, где бы призанять, и по совету Кошанихи отправился к одному ее родичу. Тот смерил его с головы до пят, чем привел Петера в крайнее смущение, поинтересовался стоимостью его имущества и наконец дал согласие.
Как-то в воскресенье Петер пошел к мессе в соседний приход, чтоб договориться об оглашении, и заодно подписал заемное письмо. За этим последовала выпивка, разумеется, за счет должника. Возвращаясь лесом домой, Петер вдруг услышал за спиной легкие шаги.
— Петер! — окликнул его звонкий голос.
Он оглянулся и увидел Кристину.
Время от времени он думал о ней, но девушка представлялась ему лишь красивой мечтой. Ее образ, который он упорно гнал из памяти, постепенно стирали будничные заботы.
Сейчас он видел перед собой запыхавшуюся девушку. Ему было неприятно, как бывает неприятно человеку, осознающему свою вину.
— Кристина! — сказал он мягко. — Это ты?
Девушка потупилась, но через несколько минут снова обратила на него свои печальные глаза.
— Что нового? — спросила она, еле сдерживая слезы.
— Что нового… — повторил Петер. И почел за благо сказать правду — спокойно, жестоко и открыто: — Женюсь вот.
Изумление ее было так велико, что она остановилась. По смущению Петера, не смевшего поднять на нее глаз, она поняла, что это правда.
— Видишь, я знала, — вливались в его сердце полные горечи, укоризненные слова. — Другая у тебя была, лгал мне. Нехорошо это. Но я не желаю тебе худого, пусть Бог не наказывает тебя за это.
От этих слов у него перехватило дыхание. Петер взглянул на девушку и, чтоб как-то утешить ее, хотел погладить ее по щеке. Странно и удивительно было у него на душе.
— Оставь меня! Оставь! — вскрикнула Кристина. Голос ее дрожал от обиды.
Она бросилась он него, как от зачумленного. Платье на ней развевалось, волосы рассыпались золотыми прядями.
— Кристина! — кричал Петер, испугавшийся, как бы она не наложила на себя руки.
Девушка не остановилась, не обернулась. Вот она свернула с тропинки в лес, и ее гибкая фигура затерялась среди деревьев, серых скал и зеленых ковров мха.
Петер вернулся домой подавленный.
— Что с тобой? — спросила Милка. — Денег не достал?
— Достал, — сказал он, выкладывая ассигнации на стол.
— Зачем они мне? Они тебе нужны. — И Милка отодвинула их от себя.
Петер был мрачен, сердце его разрывалось на части.
Через три недели после Пасхи играли свадьбу. По желанию Кошанов было очень шумно. Полдня провели в приходе, потом пировали у Кошана и лишь к вечеру следующего дня пришли к Продару.
Это было нарушением обычая, притом оскорбительным для семьи жениха, но Продар нисколько не обиделся. Напротив, он радовался в душе, что мог не ходить в церковь и к Кошану. Из родни Петера при обряде присутствовали только Францка да глуховатый старик из Ровтов.
Вино и музыка постепенно сгладили все вызванные свадьбой недоразумения. Петер влюбленными глазами смотрел на Милку, казавшуюся ему красивее, чем когда-либо, и танцевал с ней до упаду.
Веселье прервалось лишь на миг, когда Милке вдруг сделалось плохо. Она села, музыка утихла.
— Сейчас все пройдет, — сказала Кошаниха.
Среди воцарившейся тишины подвыпивший родственник Петера из Ровтов наклонился к брату Кошана и, забыв о том, что другие вовсе не глухи, прокричал:
— Говорят, в тягости она. Бабы пронюхали…
— Эх, экой ты… — смущенно оглядываясь по сторонам, сказал тот. — Знаешь ведь, какие люди!
Наступившую неловкость развеяла Милка. Еще не совсем оправившись от обморока, она поднялась и припала к Петеру.
— Давай танцевать!
Запищал кларнет, завизжала гармоника, музыка и топот заглушили плохое настроение Петера.
На следующий вечер молодую повели к Продару. Пьяная Кошаниха повисла у него на шее и разрыдалась.
Продара трясло от омерзения. Освободившись от ее объятий, он вышел из дому и сплюнул.
19
Жизнь в доме Продара во многом изменилась. Петер с Милкой поселились в верхней горнице о трех окнах. Старую мебель вынесли частью в каморку рядом с боковушкой, где спали родители, частью в коридор. Францка спала в нижней горнице на печи.
Уныло и мрачно стало в доме. Куда девались согласие, шутки и смех, долгие годы оглашавшие эти стены. В дом вошел чужой человек. Его присутствие ощущалось ежеминутно.
И только между молодоженами царили мир и лад. Прежде Петера пугали всякие тяжкие мысли, теперь он целиком посвятил себя жене. Милка чувствовала его безграничную любовь и нерассуждающую преданность и вела себя так, будто в доме никого, кроме них, не было.
Мать старалась как-то сблизиться с ней, но Милка держалась неприступно, надменно, молчаливо. Нередко Петеру приходилось за нее спрашивать, за нее отвечать.
Уже через несколько дней по наущению Кошанихи она начала вести дом и исподволь вникать в хозяйство в той мере, в какой позволял ей страх перед Продаром. Ей предоставили все делать по-своему, хотя нелегко было отказаться от привычного уклада жизни. Невестка не считала нужным приноравливаться к обычаям дома, в который пришла.
Доили и кормили скот теперь в другое время. Молоко Милка снимала утром. Белье сушила в горнице внизу, тогда как раньше его сушили на чердаке. Миски ополаскивала холодной водой, не обдавала их кипятком. Еду готовила непривычную и невкусную.
Продар с женой только головой качали. Петер все видел, глубоко страдал, но говорить не решался.
Однажды Продариха сказала Милке, что у них это делалось так-то и так. Та надулась и до самого вечера слонялась по дому с видом оскорбленной невинности.
Как-то Продариха взяла вымытую миску и еще раз помыла ее в горячей воде. Милка заметила это и с такой силой швырнула на очаг глиняный горшок, что от него остались одни черепки.
Тысячи мелочей отравляли жизнь. Глядя на отца, Петер читал в его глазах: «Я ведь предупреждал, что так будет».
Петер злился на родителей, полагая, что они кругом виноваты. Жене, донимавшей его вечными жалобами, обещал навести порядок, но как за это взяться, не знал. Раз в жаркий день Продар с Петером вскапывали последний кусок вырубки высоко в горах. Домой вернулись в полдень, усталые и голодные, и в ожидании обеда сели на скамью.
Прошло полчаса, но обеда все не было. Продар бросил на сени сердитый взгляд: «Обед сегодня будет иль нет?»
— Поздненько ты сегодня! — сказал Петер жене, когда она поставила на стол кашу.
— Молоко снимала. Не разорваться же мне!
— Молоко снимают вечером, — сказал Петер, злой от усталости и голода, но тут же умолк под взглядом Милки.
Продар взял в рот кашу, пожевал и спросил:
— Сколько варила?
— Голод проймет, и это сойдет, — огрызнулась Милка, взглянув на мужа.
— Воду поставила, когда вы пришли, — пояснила Продариха, даже не присевшая к столу.
— Сырое есть не будем. — Продар положил ложку и встал.
Францка последовала его примеру.
Наступило тягостное молчание. Милка с Петером продолжали есть. Наконец и Петер отложил ложку. Милка скривила губы, собираясь заплакать, и, схватив миски, кинулась в сени. В дверях она остановилась и крикнула:
— Все вы против меня!
Потом села на скамью у очага и разрыдалась.
Продариха вышла в сени, налила воду в горшок для кофе и поставила на огонь. Милка поднялась, взяла горшок и вылила воду в огонь.
В дверях появился Продар. Жена устремила на него беспомощный взгляд. Несколько секунд он молчал, потом отрубил:
— Я еще здесь хозяин…
— Пожалуйста, — сказала молодуха, — только помыкать собой я не дам.
— Успокойся, — сказал Петер, входя в сени. И, не зная, что произошло, повернувшись к отцу, спросил: — Чего вы от нее хотите?
Все, что скапливалось постепенно, грозило разом выплеснуться наружу.
— Не стану я на вас батрачить. Лучше уйду. — Милка снова зарыдала. — Мы с Петером гнем спину, а за стол садятся пятеро.
— Молчи! — крикнул Петер, ужаснувшись ее словам.
— Меня ты не попрекай! — взорвалась выбежавшая в сени Францка. — Работаю я с тобой наравне, а ем меньше. Глаза бы мои тебя не видели.
Милка вскочила и бросилась вон. Оставив позади сад, она пробежала по мосту и умчалась в сторону дома Кошана.
У Продаров воцарилось убийственное молчание. Поздно вечером Милка вернулась и как ни в чем не бывало принялась за работу.
20
Спустя две недели Петер увидел, как Францка собирает в узел свои пожитки, а мать вся в слезах ходит по дому.
— Ты куда? — спросил Петер.
— Пойду в услужение.
Петеру стало не по себе.
— Еще этого сраму не хватало! — вскипел он.
— Мне не стыдно, а тебе и подавно.
Петер помолчал и уже мягче спросил:
— Куда идешь?
— В город. — В голосе Францки звучала гордость: из этакой глуши да сразу в город!
Милка презрительно хмыкнула.
— Смотри, — сказал Петер, считавший своим долгом наставить сестру, — не принеси в дом позора.
— Такого, какой принес ты, не будет, — бросила Францка, увертываясь от кулаков брата.
В доме наступило затишье. Милка молчала. Напуганная словами Продара, что он еще здесь хозяин, она перестала искать поводов для свар.
Петер частенько захаживал к Кошану, Кошаниха то и дело торчала у них. Продар заметил, что она так и ходит за его сыном, поджидает его в ущельях и на мостах и, оживленно жестикулируя, что-то ему втолковывает. Петер, сытый по горло домашними неурядицами, слушал ее, тупо уставясь в землю.
Продар смутно догадывался, что все эти разговоры ведутся неспроста. Кошаниха подкапывалась под него. Как-то раз, проходя мимо них, он навострил было уши, но те, завидев его, растерянно умолкли. Это его еще больше встревожило.
Петер глядел исподлобья, избегал смотреть в глаза. Продар видел, как угрюмо бродит он после работы, как повсюду разбрасывает инструмент, отлынивает от дела и срывает на нем свою досаду.
— Если б знать, для чего работаешь, — обмолвился он как-то.
Вот в чем была причина его угрюмости, вот о чем говорила ему Кошаниха.
Вечером Милка рано ушла к себе. Петер слонялся по горнице, явно готовясь начать серьезный разговор.
— Погодите, мама! — остановил он мать, когда та собралась идти спать. — Я хочу с вами поговорить. С вами обоими…
«Пробил час», — подумал Продар, взглянув на сына, и выразительно посмотрел на жену.
— Когда думаете перевести на меня дом? — спросил Петер, поборов минутное смущение.
— Дом? — изумился Продар. — Дом? Когда умру. Такой ведь был уговор.
— Долго ждать! — раздраженно отрезал сын.
— Значит, смерти моей желаешь?
— Нет, — отмел Петер страшное подозрение. — Только ежели хотите, чтоб я работал, пекся о доме, то переведите его на меня. Ежели не переведете…
Он хотел пригрозить отцу, но не нашел подходящих слов.
— Так ведь ты на себя работаешь, я с собой ничего не возьму.
— А мне побираться прикажете, чтоб купить себе новую одежду? Долг у меня, как его заплатить?
— С нашего хозяйства долгов не заплатишь.
— А лес?
Дотоле спокойный, хотя и острый, разговор сразу накалился. Продар не верил своим ушам. Он наклонил голову, стараясь получше расслышать.
— Ты хочешь продать лес?
— Без нужды я не стал бы продавать, но…
— Ты хочешь продать лес? — повторил Продар и на Петера обрушилась целая лавина слов: — Ты хочешь продать лес, да?.. Оголить гору, как другие, кто уже начал его продавать. Гей, деньги — на тряпки, на кофе, на вино! А сгорит дом — христарадничай, проси бревна. Зимой замерзай! Открой путь ветру! Камни в долину, землю в долину, оползни в долину, все погубишь, что имеешь.
— Этого я не говорил, — защищался Петер от натиска отца.
— Не говорил, да так бы оно вышло! Никто не желает беды, а она приходит. Наш лес не на равнине. Землю тут только корни и удерживают. Сруби ствол, не подумавши, и увидишь…
— Пол-леса свели без всякого вреда.
— Мы рубили деревья так, чтоб не повредить ни лесу, ни себе. Случалась нужда и похуже твоей, да вот перебились, а леса не тронули.
— Не о лесе речь, — сказал сын, понявший правоту отца. — Я говорю про дом — дадите мне его или не дадите?
Страх за лес сделал Продара неумолимым.
— Не дам! — решил он после короткого раздумья. — Умру, тогда хоть всю гору развороти!
Сын понял бесполезность дальнейших разговоров и, хлопнув дверью, ушел к себе.
На следующий день Петер не пошел работать. Послонявшись немного вокруг дома и переделав кое-какие неотложные дела, он ушел к Кошану и просидел у него допоздна. К ужину он даже не притронулся.
— Гречиху надо скосить, — сказала мать, потому что Продар молчал.
Петер не проронил ни слова. Наутро он отправился по пустячным делам в село и вернулся далеко за полночь.
Бессонной ночью Продариха сказала мужу, ворочающемуся с боку на бок:
— Надо перевести. Моченьки моей нет смотреть на это.
— А ты знаешь, что будет потом с нами? — спросил Продар, довольный тем, что жена пришла к нему на помощь.
— Не хуже, чем сейчас.
С трудом, не без душевной муки, Продар сдался:
— Ладно, будь по-ихнему!..
Утром мать подошла к Петеру:
— Когда надумаешь, сходите в село, переведите дом.
21
Петер занял денег на нотариуса. Через несколько дней они с отцом встали чуть свет. Продар сосредоточенно ходил взад и вперед по дому, точно еще и еще раз оглядывал вещи, которые сегодня отдаст сыну.
— Свари-ка нам яиц, — сказал Петер жене. — Путь неблизкий, кто знает, когда придется обедать.
Милка сделала вид, что не слышит его слов, и только когда он повторил их, проворчала:
— Прособираетесь, дело упустите.
Петер от стыда не мог поднять глаз на отца.
— Что ж, пошли!
Было раннее утро. Полная луна плыла по небу, скупо освещая долину, но за горами уже обозначилось слабое дыхание первой зари. На сухой тропинке поблескивали камни. Отец и сын шли тяжелой походкой, то и дело задевая за камни, спотыкаясь на рытвинах. Издали их можно было принять за пьяных.
В теснине тропинка вилась над обмелевшим потоком; вода текла то спокойно, то вдруг принималась бурлить. На склонах там и сям били роднички, и тоненькие звенящие струйки сбегали на тропинку — казалось, это сыплется песок на тонкий лист железа. Повсюду, куда хватал глаз, высоко под скалами и внизу у ручья, росли кривые деревья, их грозные тени вызывали в памяти чародеев, леших и другие призраки, рожденные человеческой фантазией. В кустах заливался соловей; трели его уносились ввысь и там, точно струя водопада, разбивались на тысячи мельчайших брызг.
Шли молча. Предрассветный сумрак, наводивший на душу непонятный страх, как бы лишил их дара речи. Продар смотрел на шагавшего впереди сына и думал свою невеселую думу.
«Гляди-ка, — размышлял он, — мы собрались в село, чтоб перевести дом. Не он мне дает, а я ему. Сказал жене, чтоб приготовила поесть, а она даже бровью не повела, мужа своего не накормила». К этой мысли лепилась другая: «Так она поступила сегодня, когда дом еще принадлежит мне и я могу в любую минуту передумать. И еда, которую она отказалась дать нам в дорогу, тоже моя. Так что же будет, когда дом и все добро перейдут в ее руки?..»
Продар подумал, еще раз все взвесил и решил:
«А так и будет, даже мужу своему не даст. А уж мне и подавно, коли я отойду от дел. И моей жене-страдалице. Будет запирать хлеб и молоко, да, поди, еще сушеные груши пересчитает. Другого от нее не жди…»
Продар вздохнул и посмотрел на небо. Занималась заря, между верхушками деревьев протянулись светлые полосы.
«Почему же я решил отдать? Потому что не могу жить в таком аду и хотел бы видеть в доме мир. И ради мира и пока мне будут отказывать в куске хлеба, в одеже и во всем остальном. За добро отплатят злом».
В душе у Продара шла отчаянная борьба. Впервые в жизни ему было так тяжело, и даже казалось, что до сих пор он вообще не знал душевных мук.
Наконец открылась долина, тропинка расширилась и, круто изогнувшись, зазмеилась вдоль потока, бежавшего навстречу реке. Волны света затопили долину.
Продар с сыном перешли висячий мост и ступили на шоссе, которое петляло среди высоких гор. Они шли почти рядом. Сын на полшага впереди, чтоб отец не видел его лица. Старик, всю дорогу размышлявший, решил наконец, что дальше идти бессмысленно.
— Послушай, — сказал он сыну, замедляя шаг. — Я тут все думал да прикидывал…
Сын взглянул на него и прибавил шагу. Отец едва поспевал за ним.
— Я передумал, — продолжал Продар. — Дом тебе не отдам. Глупо идти дальше. Постой, давай поговорим как люди, не звери же мы. Куда ты так бежишь?
Петер побледнел. Тяжелое предчувствие, томившее его всю дорогу, сбылось. Он шел по-прежнему быстро, словно хотел поскорей прийти в село.
— Что вы надумали? — досадливо спросил он. — Что вы надумали? То так, то эдак. Не дети же мы!
— Да, не дети, — подтвердил отец. — Постой… Сегодня она не пожелала накормить тебя. Не только меня, тебя не пожелала накормить!
— Ну и что с того? — взвился сын.
— А то… Она сделала так сегодня, пока дом еще мой. Завтра, когда она станет хозяйкой, будет еще хуже. Ежели для тебя нет еды, то уж для меня и подавно. У нас так никогда не было. Достаток — для всех, черные дни — тоже для всех.
— Не беспокойтесь, с голоду не умрете! — отрезал Петер, задетый справедливостью слов отца.
— Конечно, не умру. Хотя, как знать, всякое может случиться. Я ведь знаю, что ты не виноват. Ты добрый. Это она все куролесит. Остерегал я тебя, да уж что есть, то есть. Теперь не переделаешь. Тебе все равно, так уж чтоб нам обоим не мучиться, пока я жив… После же…
Продар едва сдерживал слезы. Петера разбирала досада, но сокрушенный вид отца лишил его твердости.
— Не дадите? — спросил он еще раз.
— Не дам! — ответил Продар и остановился.
Несколько секунд отец с сыном пристально смотрели друг на друга.
— Дойдем до первых домов, запьем этот срам! — промолвил наконец Петер.
Молча шли они по шоссе. Над горами встал день; навстречу им попадались телеги, возницы щелкали бичами. Два грузовика обогнали их.
— Срам, да и только, — говорил сын, — семь пятниц на неделе. Кто будет работать?
Отец молчал.
— А что людям сказать? Ведь все смеются надо мной. И кто будет платить, когда придут взыскивать? Вы? Или у вас есть деньги?
Отец все еще молчал. Сын искал новых слов. Не найдя их, он тоже умолк.
Вот и первые дома у шоссе. Завернули в трактир. Выпили по шкалику водки, заказали вина. Петер пил с горя и досады. Продар, полегоньку потягивая вино, смотрел на сына. Каждый раз, когда тот спрашивал, пойдут ли они дальше, он отрицательно качал головой.
В полдень сын уже ни о чем не спрашивал. Продару вино ударило в голову, у Петера горели глаза. Они уже забыли, что их привело сюда.
Вспоминали прежнее житье, сравнивали его с теперешним, незаметно перешли на домашние дела. Хмель развязал языки, и сын, слово за словом, открыл отцу свою душу. Продар понял, что не все ладно в жизни Петера.
— Послушайте, — спросил под конец Петер, — что вы знаете про Милку? Вы что-то такое говорили тогда…
Продару стало жаль сына. Его пьяная откровенность причиняла ему боль.
— Брось это, — сказал он. — Ничего я не говорил. Сейчас не время. Ничего я не знаю.
— Не знаете? — всхлипывал Петер. — А я только догадываюсь. Я точно знаю, когда должен родиться ребенок, ежели он мой. А коли родится раньше, то не мой!..
— Молчи и пей! — Отец пододвинул к нему стакан.
Через час сын положил голову на руки и заснул за столом.
Поздно вечером возвращались они домой. Петер все время спотыкался и нес околесную. Но по мере приближения к дому он становился все трезвее и молчаливее.
Когда перешли через мост и ступили на тропинку, сын напился воды, тряхнул головой и взглянул на непреклонное лицо отца.
— Я молол невесть что?
— Ты ничего не говорил. Успокойся и забудь!
Молча они шли по ущелью. Дойдя до конца, сын остановился.
— Отец, — попросил он, — не говорите никому, что не перевели на меня дом. Скажите матери, ежели хотите, только и она пусть молчит.
22
Продар в самом добром расположении духа искал лозу на горе над домом. Солнце сияло на ясном небе и, пробираясь сквозь густую сеть листвы и ветвей, золотило мшистую землю.
Продар разговаривал с природой. Вот он срезал притаившуюся в зарослях орешника лозу и повел с ней такую речь:
— Ах, попалась, лоза-горяночка, намотаю я тебя на леву рученьку, и пойдешь ты за сестричками.
Бережно, словно драгоценность, нес он лозу, все время глядя по сторонам. Вдруг прямо перед собой он увидел ящерицу. Она сидела на камне, выкатив на него свои ласковые глаза.
— Гуляй, гуляй! А ведь забралась-таки, шельма, ко мне за шиворот. Ну, ежели и не ты, то твоя сестра. Гуляй!..
Продар взмахнул рукой, ящерица чуть сдвинулась в сторону и опять воззрилась на него.
Защебетала птица: чирик, чирик!
— Я не Чирик, я Продар. И даже будь я Чирик, все равно не дело кричать над моей головой!..
Такие минуты бывали у него нередко. Когда земля купалась в неудержимых волнах ароматов и света, он чувствовал, как в него тоже входит что-то лучезарное. Он словно срастался с землей. Мир казался ему прекрасным, и он с детской непосредственностью радовался природе.
Проходя мимо Мертвой скалы, Продар увидел греющуюся на солнышке гадюку. Он хотел пристукнуть ее палкой, но змея мигом скрылась среди камней. Продар срезал еще несколько прутьев, связал их вместе и поднялся на вершину.
Сквозь листву деревьев взгляд его обежал долину и гребни гор. Все утопало в зелени, все было залито солнцем.
Продар сел на камень, положил руки на колени и стал смотреть в просветы между стволами, как в подзорную трубу. Он жмурился, упиваясь красотой мира и ни о чем не думая.
Зашелестели листья. Продар оглянулся. К нему подходил длинный сухощавый человек с обвислой кожей на лице.
— Чуфер! — удивился он. — Откуда ты взялся?
У Чуфера была небольшая усадьба в горах, кроме того, он был охотник, музыкант, жег уголь, известь и вообще занимался всем, в чем была нужда и на что толкали обстоятельства. Поэтому его можно было встретить где угодно, в своей или чужой долине, на всех окрестных горах и соседних усадьбах.
С Продаром они были старые знакомцы. В молодые годы даже водили дружбу. Потом Продар женился на его девушке, но Чуфер, несмотря на это, продолжал ухаживать за ней напропалую. Бедняжка трепетала, как бы чего не вышло. Тогда-то они стали чуть ли не врагами.
Чуфер так и не женился, жил бродягой-цыганом. С годами все старое забылось. В дни юности они все поверяли друг другу; доверие бессмертно, время бессильно убить его.
— Присаживайся, — пригласил его Продар. — Ежели не торопишься.
— Я никогда не тороплюсь, — сказал Чуфер и сел. — Как живешь-можешь?
— Помаленьку. — Продар пожал плечами; ему не хотелось касаться своих ран, чтоб не испортить хорошего настроения. — Долго мы с тобой не виделись.
— Со свадьбы Петера.
— Верно.
Чуфер был на свадьбе музыкантом.
— Ну, как молодуха?
Продар подумал, открыл было рот и снова закрыл. Но через некоторое время все же сказал:
— Уж коли зашла речь, не хочу врать. Скажу прямо, похвалиться нечем.
Чуфер задумался.
— Вся в мать, — вздохнул он. — К граблям привыкла, вил не знает.
— Еду выдает по норме. И то, когда работаю дома, а когда меня нет, то жене моей и в том отказывает. Чтоб ей пусто было!
— Поспешил дом отдать!
— А я и не отдавал. Это она так думает, что я отдал. По пути в село передумал. Петер побоялся ей сказать.
Чуфер прыснул со смеху, но вскоре умолк, вытянул свои длинные ноги и задумался.
— Трудно, — посочувствовал он и заговорил о другом: — Тебе не кажется, что в Присойнике падают деревья? — И он показал пальцем на противоположную гору, где среди зелени виднелась рыжая плешь.
— Рубят, — подтвердил Продар. — Я же говорил, что будут рубить. Итальянцы падки на лес, люди — на деньги.
— Деньги придут в страну.
— И уйдут… Голод все пожрет. Глянь-ка вон туда, глянь… Ты когда-нибудь проходил по песчаным косогорам? Гора рушится и засыпает ущелье. Скоро здесь будет озеро. Ни один кустик уже не растет. Почему? Мой отец видел, как оголяли гору.
Продар поднялся. Рядом с долговязым Чуфером он казался карликом.
— А теперь ни денег, ни леса, ни земли. Кто продал лес, пойдет с сумой. Попомни мои слова — после моей смерти эта гора тоже станет голой.
Мужчины расстались. Чуфер скрылся в просторной горной ложбине, густо поросшей лесом. Продар пошел по тропинке в долину. От хорошего настроения не осталось и следа, губы его шевелились, словно он разговаривал сам с собой.
«Чирик, чирик!» — прощебетала над ним птичка.
Продар не слышал ее.
23
Зарядили дожди. Работа стала. С юга ветер гнал густые, плотные тучи. Зацепившись за горные вершины, они останавливались и проливали частые струи теплого дождя. От сохнущей земли поднимался пар, воздух накалялся, как в печи. Туман заливал склоны.
Но Продар предрекал:
— Дождь еще будет.
И действительно, солнце вскоре скрывалось, снова начинался дождь, снова опорожнялись тучи, и снова на солнце обсыхала земля.
Истомленные духотой, бездельем, ожиданием хорошей погоды, люди помрачнели, насупились, в глазах светилось недовольство, в обращении друг с другом прорывалась злоба, говорили о всяких пустяках.
Над домом Продара сгустилась атмосфера гнева и обид. Собиралась гроза. То здесь, то там вспыхивали зарницы, но грома пока не было.
По глазам Петера, не умевшего лгать, по его поведению Милка с матерью поняли, что усадьба не переписана, хотя ни словом о том не обмолвились. В Милке росло раздражение, проявлявшееся в тысяче мелочей, оскорблявших Продара, его жену и даже Петера.
Беременность сделала ее особенно раздражительной, временами просто несносной. Порой Петер задумчиво смотрел на жену и опускал голову. Однажды мать заметила, как он таращится на ее округлившиеся формы.
— Петер, а не рановато ли? — сказала она и тут же пожалела о своих словах.
Сын встрепенулся и посмотрел на мать. Не выдержав ее взгляда, он вышел из дому.
Милка догадывалась о подозрениях свекрови и только ждала случая, чтобы ей отомстить.
— А что это Францка не пишет?
— Она же написала, что устроилась хорошо.
— Честные девушки никогда хорошо не устраиваются.
Продариха содрогнулась, но промолчала.
— Ты за собой смотри! — сказал Продар. — Слышишь, за собой смотри!
Милка не выдержала взгляда Продара. Его она боялась и вымещала свое зло на Продарихе. Когда Продара не было дома, запирала от нее молоко, не давала обеда.
Гроза собиралась постепенно, как гной в ране. Час за часом, день за днем. Старики знали, что недалек тот день, когда жизнь покажет им свое истинное, отвратительное лицо. Теперь, когда дожди загнали всех в дом, это ощущалось еще сильнее.
Часы пробили полдень. Продар перекрестился и начал читать молитву.
Из сеней пришла Милка, села на скамью у печи и, скрестив руки на груди, уставилась на стучавший по стеклам дождь. Поток вздулся, вода устремилась в сад, подбираясь к крайним деревьям.
— Мост унесет, — сказал Петер, останавливаясь у окна. — До дома дойдет вода…
Часы дрогнули и пробили половину первого.
— Ну! — промолвил он, взглянув на жену. Милка вперила в него свойственный наглецам полугневный, полуудивленный взгляд.
— Что «ну»?
— Неси обед!
— Обед? — наигранно изумилась она. — Обед? Работать не работали, а есть давай.
Продар повернулся к Милке. Он смотрел на нее, как на врага, выставившего себя на посмешище.
Петер понял, что буря, которой он так боялся, грянет сию минуту.
— Не дури! — зло накинулся он на жену.
— Это ты дуришь! Так можно все поесть! — хрипло прокричала Милка и подмигнула мужу: молчи, мол.
Продар заметил это.
— Тайком обедать не будем, — взорвался Петер, испытывавший жгучий стыд перед родителями и перед самим собой. — Если есть что, неси все сюда, съедим вместе.
Милка вспыхнула и пронзила его взглядом: «О чем ты думаешь?»
Слова мужа задели ее за живое. Чтоб скрыть слезы, она повернулась к печи и начала перебирать какие-то тряпки.
— Ступай, свари обед! — сказал Продар жене.
Продариха нерешительно привстала. Милка замерла.
— Ступай! — повторил Продар.
Продариха пошла к двери. Милка заступила ей дорогу.
— Своего добра не дам!
— Твое добро? — гаркнул Продар и взглянул на Петера, помертвевшего от страха перед разоблачением. — Твоего здесь ничего нет. Дом мой. Уйди с дороги! Не думай, что я перевел дом. Нет!
Милка смотрела то на мужа, то на Продара, и по их глазам поняла, что была обманута. И оттого что разоблачила себя, показав свой характер, в ней закипела бешеная злоба.
Забыв про стариков, она вдруг повернулась к Петеру, стоявшему перед ней с совершенно потерянным видом.
— Враль несчастный, — шипела она. — Враль!
— Это неправда, — бормотал муж, не находя иных слов. — Это неправда…
Он искал глазами отца, словно тот мог ему помочь.
— Правда! Все наврал! Больше я тебе не верю. Все вы против меня! Ноги моей больше не будет в этом доме. Я вам не служанка! Не на ту напали! Тьфу!
Милка зашлась от крика, распекая Петера, напоминавшего в эту минуту побитую собаку. Наконец ее визгливые рыдания разнеслись по всему дому. Охваченный жалостью, Петер двинулся было к жене, чтоб утешить ее, но та пришла еще в большую ярость.
— Не люблю тебя! Все вы меня ненавидите! — крикнула она в лицо мужу и, взбежав по ступенькам, заперлась в горнице.
— Как бы чего не сделала над собой, — испугался Петер.
— Ты не знаешь ее, — успокоил его отец.
Молча, неторопко, не глядя друг на друга, они приступили к обеду. Есть уже не хотелось.
24
Между домом Продара и потоком лежала зеленая луговина, которую отделяла от воды каменная ограда. Когда поток вздувался, вода сквозь щели проникала на луг и подбиралась к дому. Стена, кроме того, ограждала луг от камней, которые несла вода, и защищала его от разрушительной работы волн.
Погода не менялась. Солнце чередовалось с проливными дождями, вода то поднималась, то опадала.
Милка незаметно выскользнула из дому. Петер, выглянув в окно, увидел ее, когда она была уже в конце сада, вблизи мостика, ведущего к Кошанам.
Он бросился за ней вдогонку, но Милка уже ступила на мост. Нетвердыми шагами она выплясывала на мокрой и шаткой доске. Под ней крутились и шумели мутные волны. На середине мост под Милкой прогнулся, ноги по лодыжку ушли в воду, потом еще выше. Милка замахала руками, словно собиралась нырнуть.
Петера охватил смертельный ужас. Он раскаялся во всем. Милка благополучно перебралась на противоположный берег и припустила в сторону отчего дома. У Петера с души спал камень.
Сокрушенный и подавленный, стоял он под дождем, не зная, как быть. Душу его жгло раскаяние, он жаждал примирения.
Он ступил на мост и перешел на другой берег.
Продар с Продарихой напрасно прождали их в тот вечер. Наступила ночь, где-то поблизости шумела и плескалась вода. Дождь лил не переставая.
Продар, перебирая четки, смотрел в окно. Сквозь сетку дождя он различал деревья и мерцающий свет в доме Кошана. В нем еще тлела надежда, что вот-вот от ближних деревьев отделится тень и подойдет к дому.
— Теперь уж не придут, — сказал он, перекрестившись.
Жена молчала. Руки ее были сомкнуты, губы шептали молитву за тех, кто остался в ту ночь без крова или «нашел смерть в буйной воде».
— Боже мой, может, кто и утоп, — молвила она.
— Кто? — резко спросил Продар, думавший только о Петере с Милкой.
— Я не про то, — сказала Продариха. — Раз ливень не перестает… Пока не найдут труп…
Продар же думал об одиночестве. С тех пор как они поженились, им еще никогда не было так одиноко. Сначала были живы родители, потом их место заняли дети.
Горько было думать о том, как они кусают друг друга, точно гадюки, но еще горше было одиночество. Люди созданы для того, чтоб жить с людьми. Как бы плохо ни было, еще хуже, когда рядом никого нет. Что бы было, если б в этот вечер кто-нибудь из них умер…
Стекла зазвенели под напором дождя и ветра.
— Боже, будь милостив! — воскликнул Продар.
— Ужасно пусто, — молвила жена. — Надо что-то сделать. Так дальше нельзя.
— Да, — согласился Продар. — Сама видишь, как тут…
— Выговори себе все, что нам нужно. До последней капли молока.
— Какой стыд! — сказал Продар.
Часы отбивали время. Потушили свет, но спать не легли. Дом наполнили мрачные, грозные тени. Временами они обращались в слова, нарушавшие тишину.
— Завтра сходи за ними! — сказал Продар, старавшийся побороть сон.
Продариха дремала, приклонив голову к печи.
Голос мужа разбудил ее.
— Поднимемся, поднимемся… — повторила она конец своих сновидений и вздрогнула. — Ах, что я говорю!
Продар улыбнулся.
Всю ночь, до самого света, боролись они с черными мыслями и сном.
25
Дождь переставал, из туч лишь проливались мелкие, частые капли. Вода затопила сад и подошла к самому порогу дома. Поток больше не поднимался, но и не спадал, с равномерным шумом катились мимо волны, наскакивая друг на друга, кувыркаясь и выплескиваясь на берег…
Мост снесло. Камни, на которых он держался, ушли под воду. На поверхности воды плавали ветки, бревна и сено. Там и сям от горы отрывался кусок и с грохотом летел в ущелье.
В стене, окружавшей сад, образовалась брешь. Вода хлынула на траву, образовав озеро и грозя смести остаток ограды.
— Сад подмоет, — забеспокоился Продар.
— И никого нет, — вздохнула Продариха.
Продар разулся, закатал до колен штаны. Медленно, на ощупь побрел он в сторону от дома; мягкая, мокрая трава наматывалась на пальцы ног.
Там, где вода прорвалась в сад, он почувствовал под ногами огромные камни. Попытался определить размеры нанесенного ущерба. Волны злобно бились в него, обдавая брызгами с ног до головы.
Вода еще не размыла основание стены. Продар натаскал камней, заделал брешь и стал надстраивать ограду. Наконец вода была остановлена, теперь она яростно колотилась о стену, поднимая фонтаны брызг.
Продар был доволен. Он стоял на стене, могучий, как скала, и сосредоточенно смотрел на дом Кошана.
С того берега человек смотрел в его сторону. Уж не Петер ли? Может, тоска по родному очагу заставила его выйти из дому и подумать: «А как там отец?»
Близ деревянной лачуги еще один человек что-то делал, стоял по пояс в воде.
Это был калека, сын нищенки. С северной стороны вода пробила запруду и затопила поле. Все утро он безуспешно воевал с волнами, размывавшими почву. И все же не оставлял надежды спасти хоть самую малость. Мост, прикрепленный к пню старой цепью, с другого конца сорвало. Теперь он, вытянувшись вдоль потока, подобно огромному маятнику, раскачивался на волнах. Вода обдавала его с такой силой, что цепь дребезжала, словно разрываясь на части. Иногда казалось, мост сам пытается прибиться к берегу, но уже в следующую минуту его опять отбрасывало на середину потока.
Калека стоял по пояс в воде, силясь зацепить мост длинным багром и подтащить его к берегу. Дерево было крепкое, багор отскакивал. Наконец багор вонзился в мост, но волны швырнули его с такой яростью, что калека качнулся и упал, выпустив из рук багор. Ликующие волны откинули бревно на середину потока и потом снова стали постепенно прибивать его к берегу, где его уже поджидал смешной человечек с поднятым багром.
Продар наблюдал за этой схваткой. Калека напоминал паука, воюющего с огромной добычей.
— Эге-гей! — закричал он, приставив руку ко рту.
Паук выпрямился, поднял глаза и увидел Продара.
— Эге-гей!
— Оставь, все равно не сладишь… Вода спадет, тогда.
В шуме потока трудно было различить слова.
Вода не спадала. Только небо изменилось, на юге показалась голубая полоска.
Калека понял безнадежность своих усилий, медленно вылез из воды и, опершись на багор, стал смотреть на Продара.
— Эге-гей! — снова крикнул Продар. — Сделай доброе дело… Сходи к Кошану, скажи Петеру, чтоб шел домой… ежели хочет получить дом…
Парень не тронулся с места.
— Ты понял?
Калека кивнул и повернулся. Продар видел, как он поплелся к своей лачуге, прилепившейся к скале.
26
— Съезди в город, — сказала Продариха мужу, когда однажды утром тот собрался в село, чтоб у нотариуса оформить передачу дома, — съезди, посмотри, как-там Францка, все ли у нее ладно.
— Съезжу, — пообещал он н, посмотрев на сноху, добавил: — Чтоб напраслины не возводили!
Милка молчала. С того времени как они с Петером после наводнения вернулись домой, она чувствовала на себе пятно позора. Ее побег, наглость, которую она проявляла, считая себя хозяйкой дома, никак ее не красили. Этого обмана она им никогда не простит. На мужа она затаила глухую злобу.
Продар с сыном управились в селе еще до полудня; в полдень Продар сел в поезд и вскоре уже стучался в дверь на третьем этаже большого господского дома.
Открыла ему Францка. В первую минуту она остолбенела от изумления, потом кинулась к отцу и повисла у него на шее.
Продар смущенно улыбался, глаза его блестели, язык не слушался.
Привыкнув к городской жизни, Францка почти позабыла о доме. Изредка, в одинокие вечерние минуты, лежа в постели, она предавалась воспоминаниям и корила себя за то, что мало думает о родных. Но приходил сон, набрасывая на все покров забвения.
Сейчас она вспомнила детство, дом, луговину, лес, мать и брата. Вся нерастраченная нежность разом прихлынула к сердцу, и лишь непонятная стыдливость помешала ей впервые в жизни поцеловать отца. Глаза ее сверкали от слез.
Отец сидел и улыбался. Его точно подменили. Дома он чувствовал себя могучим властелином, тут же самому себе казался маленьким и ничтожным, умеющим только, как ребенок, сидеть и улыбаться.
Светлая господская кухня с белыми занавесками на широких окнах, дочь в светлом пестреньком платье — так и хочется говорить ей «вы». Если б ей пришло в голову упрекнуть его в чем-нибудь, он бы выслушал упрек молча, без возражений.
— Мать кланяется тебе, Петер тоже, — наконец заговорил он. — Тревожились мы за тебя, вот я и пришел.
— Спасибо, — поблагодарила Францка и поставила перед ним кофе.
— Хозяйка заругает, — отказался Продар.
Францка позвала хозяйку. Продар вскочил. От смущения он не знал, куда себя деть.
— Я очень довольна вашей дочерью, — сказала женщина. — Одно меня беспокоит, как бы она у нас замуж не вышла.
Продар растерянно улыбался, боясь сказать что-нибудь невпопад. Францка залилась румянцем.
Наконец Францка освободилась, и они вышли на улицу. Навстречу им попался молодой человек, вежливо поздоровавшийся с ними.
Продар и Францка походили по городу, потом пришли в парк и сели на скамью под деревьями.
— Кто это с нами поздоровался? — спросил Продар.
— Сватается ко мне, — ответила дочь.
— А ты его любишь? — Отец заглянул ей в глаза.
— Из господ он, — сказала она и через минуту добавила: — И не наш… Если он стыдится, что я словенка, то и любить меня не будет, думаю…
— Видишь, — сказал растроганный отец, — как ты здраво рассуждаешь. За тебя мне нечего бояться…
— А что у вас? — спросила Францка.
Она давно собиралась задать этот вопрос, зная, что отцу трудно начать самому.
— У нас… Плохо у нас…
Продар нашел человека, которому мог до конца излить душу. Он открыл перед ней все свои муки и дурные предчувствия, которые не поверял даже жене.
Дочь слушала его. В горле у нее стоял комок; еле сдерживая слезы, смотрела она на песок под ногами.
— Сегодня отдал ему дом, — закончил Продар дрогнувшим голосом. — Теперь уж я не хозяин. Не знаю, что с нами теперь будет.
Он едва не расплакался еще тогда, когда ставил крест на бумаге у нотариуса. Сейчас некого было стыдиться и он мог дать волю слезам. На душе его полегчало.
— Не плачьте, — сказала Францка. — Не плачьте! Люди смотрят.
— Да я не плачу. — Продар принужденно улыбнулся. — Не плачу, — повторил он, вытирая кулаком бежавшие по щекам слезы.
Вечером, успокоенный, он уехал домой и поздно ночью вошел в дом своего сына — уже не в свой дом.
27
В те дни мир быстро преображался. Но люди в заброшенном ущелье не думали об этом. В мрачные, почерневшие от сырости дома новости забредали редко и обычно тут же, если они не задевали кровных интересов, предавались забвению.
Однако и в этой глуши постепенно появлялись приметы новых веяний, как правило, пугавших население.
В Ровтах среди бела дня обокрали усадьбу. В ущелье убили и ограбили путника, а труп бросили возле потока.
Жителей, не привыкших к грабежам и разбоям, охватила паника. Они и прежде слышали о разных злодеяниях, но в их местах такого еще не случалось. Они боялись оставлять дома без присмотра, на ночь запирались и привязывали к дверям собак.
Любой чужак, проходивший по долине, вызывал подозрения. Если он пускался в разговоры, на него смотрели с недоверием и радовались, убеждаясь в его порядочности.
А чужие люди так и рыскали по долине, шарили по окрестным горам в поисках заработка, заглядывали во все долины и ущелья в надежде хоть что-нибудь урвать и выжать из этой земли…
Законы об охране лесов отчаянно попирались. Поток денег, хлынувших в страну, иссяк. Люди забыли о бережливости, вознаграждая себя за годы лишений. Если денег не хватало, продавали все, что можно было продать. Если в хлеву было пусто, шли в лес.
Застучали первые топоры, и перестук их уже не прекращался. То они стучали на гребнях гор, то на склонах, то в долине, то поврозь, то мощным хором. Со стоном валились деревья, грохоча скатывались через камни и падали в низину. Там их ждали пила и топор; выстраивались длинные штабеля бревен.
Люди работали лихорадочно — и свои и чужие. Низенькие черноволосые люди с перекинутыми через левое плечо плащами шныряли по всей округе, тараторили, сидели в трактирах, бранились, лезли в дома.
Их тугие кошельки пробуждали алчность. Одним глазом они обычно оценивали сметливость или головотяпство продавца, другим прикидывали барыш.
— Требуют долги, а денег нет, — сказал как-то Петер своей жене. — На свадьбу занял, на нотариуса занял, Францке надо выплачивать ее долю.
— Продай что-нибудь! — сказала Милка.
— Корову нельзя продавать, — вслух пустился рассуждать Петер, стараясь навести жену на нужную ему мысль.
— У нас есть лес.
— Придется, — обрадовался он в душе, — даже если отца удар хватит.
— Ты обещал мне новую мебель. И дом не ремонтировали, когда я пришла. Живем как в хлеву.
— Не все сразу, — увещевал ее Петер. — Деньги еще понадобятся на то… Сама знаешь…
Несколько дней спустя Продар сидел под Мертвой скалой и смотрел в долину. Накануне прошел дождь, день был ясный и свежий, далеко вокруг видна была каждая былинка.
Трое мужчин с плащами через плечо вышли из ущелья и направились к дому Кошана. Вскоре показалась Кошаниха. Она быстро побежала к мосту и исчезла между деревьями. Не прошло и пяти минут, как она уже возвращалась назад. За ней шагал Петер. В дом Кошана он вошел прежде хозяйки.
Продар долго ждал. Солнце уже начало опускаться за вершины дальних деревьев, когда незнакомцы и Петер покинули дом. Неторопливо подошли они к мосту, по очереди переправились на другой берег и скрылись из виду.
Продар встал и раздвинул кусты. Они шли не к дому. Он не мог понять, зачем они здесь, но на душе сразу стало неспокойно.
Продар сел. Солнце уже наполовину скрылось за горой, волна золотого света залила небо с плывущими по нему облаками. Синяя тень, постепенно вытесняемая мглой, закрывала весь склон.
Откуда-то с вырубки послышался протяжный крик рабочих, подобно рогу разнесшийся по долине.
Продара охватило нетерпение. Он хотел уже встать и идти домой, как вдруг услышал над собой голоса.
Он сел на пенек в углублении скалы и замер, как деревянный божок. Мужчины даже не заметили его. Трое с лицами цвета ржавчины смотрели из-под широкополых шляп. Они показывали пальцами на стволы, тараторили по-итальянски и смеялись.
Петер шел за ними. Вдруг один итальянец обернулся и сказал по-словенски:
— Хорошие деревья, хорошие деньги!
И тут они увидели Продара и от неожиданности вздрогнули. Посмеявшись над собственной пугливостью, чужаки проследовали дальше.
Продар молчал. Пронзительным взглядом смерил он сына. Петер смущенно отвел глаза и пошел за итальянцами.
У Продара защемило сердце. Он встал и прислонился к стволу дерева, словно к живому, горячо любимому существу. Он чувствовал его тепло и биение сердца.
Продар поспешил в ущелье. В горнице за столом сидели Петер и трое чужаков. Они пили водку и хлопали ладонями по кленовой столешнице. Продар уставился на лежавшие перед Петером ассигнации. Глаза его затуманились.
— Петер, не вздумай потом говорить, что я не остерегал тебя, — молвил Продар, когда все четверо воззрились на него.
— Дело слажено! — отрезал сын.
— Петер, говорю еще раз, — повторил старик, — не жалуйся потом, что я ничего тебе не сказал.
— Вот еще. — Петер пожал плечами.
— Чего хочет старик? — спросил говоривший по-словенски итальянец.
Продар вышел в сени, за спиной он слышал смех чужаков. Петер заключил сделку. В тот вечер он старался не показываться отцу на глаза.
28
Было воскресенье. Петер против обыкновения задержался в селе. Он еще не закончил дела с предпринимателями, которым продал лес; надо было получить с них остаток денег и окончательно оформить купчую.
Итальянцы сказали ему, что на днях начнут рубить; лес надо повалить до дождей, чтоб вовремя спустить его к воде.
Возвращаясь поздним вечером, он хотел по дороге заглянуть к Кошанам, но в окнах было темно, а на двери висел замок. Петер удивился и заспешил домой.
На мосту ему встретилась Кошаниха. Она несла узел и задумчиво смотрела себе под ноги.
— Иисус, Мария, ты ли это? — вскрикнула Кошаниха, столкнувшись с зятем.
Не успел Петер и рот раскрыть, как загадочная улыбка расплылась по ее лицу.
— Новость есть, — выпалила Кошаниха.
У Петера по коже пробежали мурашки — он боялся худых вестей.
— Что такое?
— Не пугайся! Сын у тебя родился.
Новость была не страшная, только что неожиданная. Во всяком случае, сегодня он никак не ждал ее. Примерно через месяц.
— Сын? — уставился он на тещу. — Уже?
— Что с тобой? Поглядите-ка на него… Радоваться должен! Все в порядке.
Петер радовался тому, что все в порядке, но огорчался, что в его подсчетах не все сходилось. И сознание этого было тяжко, так тяжко, что на мгновенье вытеснило все прочее.
— По-моему… — пробормотал он, — по-моему, еще рано.
— По-твоему, — подчеркнула женщина, в темноте заглядывая ему в глаза. — О том, милок, с женой толкуй. Только смотри не озоруй, чтоб не было в доме покойника.
Петер содрогнулся и торопливо зашагал домой.
Мать стояла в сенях у очага. В горнице на печи сидели отец и Милкин братишка, учившийся считать на пальцах.
— Где она? — спросил он мать.
— Наверху. Только не шуми, может, спит.
В голосе матери, в воздухе — всюду ощущалась торжественность, какая бывает, когда в доме покойник или роженица.
Петер взошел по ступенькам и неслышно открыл дверь в комнату. Окна были завешены. На комоде тускло горела лампа.
Он тихо подошел к Милке. Она не спала. Красивое лицо ее было бледным и измученным, суровая складка в уголках рта исчезла.
— Я так боялась за тебя, — едва протянула она, вскидывая на него глаза.
Ее беспокойство, ее голос показались Петеру такими трогательными, что все горькие сомнения и вопросы разом испарились. Он видел только Милку, все вокруг нее дышало теплом и покоем материнства.
— Где мой сын? — спросил он, чтобы сразу поставить все на свое место и свалить тяжесть со своей и ее души.
— Здесь, — шевельнула она головой. — Разверни!
Петер развернул лежавший подле нее сверток и увидел маленькое сморщенное личико спящего младенца. Густые черные волосы падали ему на лоб.
Петер снова завернул его.
Спустившись в горницу, он встретил острый и пронзительный взгляд отца.
29
Рабочие пришли валить лес как раз в ту минуту, когда мать говорила Петеру:
— О чем ты думаешь? Будешь крестить сына? Или некрещеным останется?
— Да я вот собрался в Ровты за кумом.
Не успел он отойти от дома, как к нему подошел краснолицый улыбающийся итальянец.
— Сегодня начнем.
— Сын у меня родился, — сказал Петер. — Надо за кумом сходить.
— Возьми меня, — предложил итальянец. — Чем я не кум, приятель? А сейчас идем с нами. Крестины можно отложить до вечера.
Продар стоял у окна и слушал. «Все идет как по-писаному», — пробормотал он себе под нос, вышел из дому и исчез среди деревьев. Он шел быстрым, решительным шагом, словно его ждало неотложное дело. От поля, прилегающего к мосту, в гору поднималось высохшее русло ручья, похожее на водосточный желоб. У самой вершины оно раздавалось в широкую воронку. Осенью опавшие листья слетали в этот заросший желоб, откуда метельщики сбрасывали их на поля.
Продар поднимался наверх. Ноги скользили на гладкой песчаной земле, идти было трудно. Но он все лез и лез, пыхтя, хватаясь за низкий кустарник и временами останавливаясь, чтоб перевести дух.
Примерно на полпути до вершины он остановился и посмотрел наверх. В трехстах метрах от него сидели лесорубы. На губах у него заиграла улыбка. Улыбка человека, уверенного в своей победе.
Продар поискал глазами наиболее открытое место, прикатил туда валун и сел на него. Здесь должен был пролетать каждый брошенный сверху камень, здесь должно было пройти каждое очищенное от веток дерево. «Здесь я буду сидеть, — сказал он себе. — Пусть валят, ежели у них хватит духу».
Прошло пятнадцать минут, полчаса. Сердце его билось часто-часто. Наверху разговаривали. Продару казалось, что среди других голосов он различает голос сына.
Раздался удар топора. Первый удар. Продара кольнуло в сердце. С трудом превозмог он желание вскочить на ноги и закричать.
В корнях дерева засел камень. Чтоб не задеть его топором, лесоруб отшвырнул его вниз, в ущелье, и по привычке посмотрел, куда он летит. В тот же миг он вскрикнул и застыл, разинув рот от изумления.
Посреди пересохшего русла спиной к горе сидел широкоплечий человек. Камень упал за ним, подскочил и, перелетев через его голову, грохнулся на землю.
Услышав грохот камня за спиной, Продар невольно втянул голову в плечи. Душа его замирала от страха и в то же время смеялась и ликовала.
— Ой-ой-ой! — донеслось до него сверху.
— Что там? — спросили другие голоса.
— Внизу человек сидит. Дурак какой-то, ведь убить могло!
— Точно! Эге-гей! Валяй отсюда, не то убьет!
Продар и бровью не повел, не обернулся. Сердце его зашлось от радости.
Позвали с другой делянки Петера. Он пришел, глянул вниз и обомлел.
— Это мой отец.
— Уведите его отсюда — убьет ведь.
У Петера не хватило отваги подойти к отцу.
— Перестаньте рубить, — сказал он. — Подождите!
Топоры смолкли. Рабочие переглядывались, усевшись на землю, посмеивались над приключением.
Продар слышал, что топоры затихли. Эту тишину его сердце праздновало как победу. Он торжествовал так, будто осуществил свою самую заветную мечту.
Он встал, посмотрел наверх и расхохотался. А потом бросился через кусты к Мертвой скале.
30
В один из темных ноябрьских вечеров, когда в доме всю ночь не гасили свет, возле дома Продара протяжно закричала сова.
Продариха проснулась и испуганно взглянула на мужа.
— Меня зовет, — сказал он.
— Вздор! Ты еще молодцом!
Милка схватила ребенка на руки.
— Неужто он помрет? — спросила она Петера.
— Спи, милая, спи! — сквозь дрему ответил он.
После Рождества, в хмурые последние дни старого года, у Продара святили покойника. Под скромным белым саваном лежала Продариха. По обеим сторонам горели свечи в деревянных подсвечниках. На подоконнике стояли три снятых со стен образа и переселившееся из темного угла распятие. Два цветка в горшках обрамляли их, придавая витавшему здесь кладбищенскому духу капельку жизни. На саване и в изголовье были разложены вырванные из церковной книги картинки с зубчатыми краями. В большой кофейной миске, свешиваясь через край, стояла маслиновая ветвь.
Петер весь день провел в хлопотах, делая необходимые приготовления к похоронам. Теперь он не знал, за что взяться. Милка возилась в сенях, Кошаниха помогала ей по хозяйству.
В запечке сидел Продар и молча смотрел перед собой. Ни одно движение, ни один вздох приходящих не ускользал от его внимания. Итак, он остался один. Нет больше той, с которой он нес бремя жизни. Как тяжело было ему в ту минуту, когда глаза жены остекленели и уста сомкнулись навеки!
Глуховатый свояк из Ровтов пил водку, закусывал хлебом и временами начинал говорить так громко, что всех брала оторопь. Другие-то говорили шепотом, как будто Продариха спала и ее боялись разбудить.
У печи, скрестив руки на груди и бессмысленно пялясь в пространство, сидели две женщины. Они то и дело склонялись друг к другу и о чем-то перешептывались. Выражение торжественной печали лежало на их лицах.
Вошла еще одна женщина. Она тихо поздоровалась, тихо, на цыпочках, приблизилась к покойнице, окропила ее святой водой и опустилась на колени. Помолившись, осторожно взялась за край савана и откинула его, открыв бледное, умиротворенное лицо усопшей.
— Красивая какая! — воскликнула она, обращаясь к тем, что сидели у печи.
— Словно живая!
— Отчего ее так скоро скрутило? Ведь еще крепкая была.
— Эх, — вздохнула одна из женщин и оглянулась, чтоб кто-нибудь не услышал. — Старые люди быстро сдают. Когда ребенок-то родился, молодуха все в постели нежилась.
— А что же Кошаниха?
— Знаешь же. — Женщина снова оглянулась. — Да и Петер на руках ее носит.
Вошла приехавшая из города Францка. От быстрой ходьбы она вся взмокла, раскраснелась и запыхалась. Траур очень шел к ней — в черном платье она выглядела как настоящая госпожа. Францка протянула отцу руку и заплакала.
— Как это случилось?
— Бог прибрал, — вздохнул Продар, и губы его печально скривились.
Обливаясь слезами, Францка окропила мать и прочла молитву, потом сдвинула саван и долго смотрела в застывшее мертвое лицо. Покрыв покойницу, она села, опустила очи долу и скорбно сложила на коленях свои усталые руки.
Женщины с влажными глазами окружили девушку, не зная, что сказать ей в утешение.
Под потолком серой мглой собирался редкий дым, вся горница пропахла свечным духом. Часы стояли, показывая половину второго ночи — время кончины Продарихи.
Смерть снова объединила семью. Продар, Петер и Францка сбились вокруг покойницы, точно с ее смертью потеряли опору в жизни и сейчас искали ее друг в друге. Все свары были забыты. Разговаривали ласково, смотрели друг на друга приветливо.
На похоронах, прощаясь с женой, Продар, из которого трудно было выжать и слезинку, разрыдался. Вернувшись с кладбища домой, он сказал сыну:
— Петер, дальше так нельзя. Давай жить по-людски! Я буду тебе помогать, чем могу, но и ты поступай разумно.
Растроганный до глубины души, Петер готов был выполнить любое желание отца.
— Оставайся дома, если хочешь, — сказал он сестре. — Будешь работать, еды всем достанет.
Францка понимала, что слова эти сказаны под влиянием минуты, но все же посмотрела на него с благодарностью. Предложение брата она отклонила, пожила еще два дня, простилась с отцом, проводившим ее до шоссе, и вернулась в город.
31
В стародавних книгах есть притча о супругах, которые так любили друг друга, что умерли в один и тот же час.
И Продару казалось, что он тоже ляжет и умрет. Тяжело переносил он свое безысходное одиночество и пустоту, которые не оставляли его ни днем ни ночью. Опереться ему было не на кого. Один Петер был рядом, но он думал лишь о жене и ребенке. С отцом держался вежливо и приветливо, однако тому этого было мало.
Продар не привык жаловаться на свои невзгоды и горести, жене и той никогда не плакался. Одна мысль о том, что возле него есть человек, который его понимает и для которого он живет, была ему поддержкой и опорой.
Теперь этой опоры не было, сошла на нет его мощь, он уподобился малому ребенку. Полное безразличие овладело им. Перестали трогать дела сына. Сейчас он не пошел бы на пересохшее русло, не сказал бы ни слова. «Я свое отжил», — думалось ему.
С трудом превозмогал он боль утраты. Привыкал к пустоте. Старался все время что-нибудь делать, чтоб убить время. Ночью подолгу ворочался без сна.
Отношения между Продаром и Милкой не улучшились. Они по-прежнему держались как чужие. Ни одного приветливого слова, ни одного приветливого взгляда он от нее не видел. Порой это была открытая вражда.
Милка не подпускала деда к ребенку, не позволяла ему покачать внука, которого целиком и полностью передоверила няньке.
После смерти Продарихи Милка стала полновластной хозяйкой. Все прибрала к рукам — и кухню и хлев. Она уже не волновалась, что Продариха присматривает за ней, да и влияние Продара тоже ослабло. Петер даже в мелочах советовался с нею. Если не прямо, то обиняками узнавал ее мнение, чтоб потом не навлечь на себя упреки.
Люди, сталкивавшиеся с ними ближе, поговаривали, что у Продара хозяйничает Кошаниха, ловко прибравшая к рукам оба дома. В важных делах она давала дочери советы, которая расплачивалась за них натурой.
Милка, себялюбивое дитя захолустья, вдруг возжелала всего, что когда-либо видела. В ней обнаружилось не только властолюбие, унаследованное от матери, но и страсть к удобствам и роскоши. Еще в девичьи годы она непрестанно мечтала о недостижимых вещах — о красивых платьях, о господской мебели, расписанных комнатах и белых занавесках на окнах. После войны эти мечты пошли еще дальше.
В словах итальянского унтера было столько лести, что Милка возомнила себя достойной королевских палат. Она готова была на любые жертвы, лишь бы получить желаемое.
Однако мечты, волновавшие ее воображение, не сбылись. Обманутая в своих ожиданиях, Милка связала последние надежды с мужем, инстинктивно угадывая, что он по своей мягкости и уступчивости даст ей все, что она потребует.
Только что отошла масленица. На дворе, нагоняя на людей тоску, бесновалась метель, в доме от натопленной печи веяло теплом и уютом.
— Скоро Пасха, а у меня все еще нет новой мебели, — сказала Милка.
— Со свадьбой влез в долг, пришлось отдать, — оправдывался Петер. — Нотариусу заплатил.
— Ты еще до свадьбы обещал купить, — оборвала его жена. — Кровать и шкаф. Старые пора уже выбросить.
— Заплатил налог, крестины, похороны, мессы — все денег требует.
— Да ты, видно, только на обещания мастак… И горницу не отремонтировали, дом не покрасили.
— Выплатил Францке ее долю. Что осталось, отдал тебе на платья.
— Тряпками меня попрекаешь?
— И не думаю попрекать! Просто денег нет! Где я их возьму?
— Продай лес!
— Лучший уже продан. Сразу все нельзя, — мягко возразил Петер. — Еще понадобится.
— Значит, нет? — упрямо твердила Милка.
— Да ведь можно пока обойтись и без этого, — сопротивлялся Петер, но, взглянув на ее лицо, испугался собственных слов.
Милка немного помолчала.
— Мне ничего не нужно! — заговорила она. — Ничего! — в голосе ее дрожали слезы. — Я для тебя пустое место. Мне отказывают даже в том, что получила бы всякая другая. Может, в хлев прикажешь переселиться!
— Милка! — умоляюще всхлипывал Петер. — Милка!
Жена спеленала ребенка, вышла из горницы и заперлась наверху.
Отец и сын переглянулись.
— Навоз надо вывезти, — сказал отец, — пока на санях можно.
— Помолчим, — шепнул Петер, — не то подумает, что о ней говорим.
Под вечер Петер с трудом уговорил жену вернуться в горницу, хотя бы ради ребенка, «чтоб не простыл».
На этот раз Петер сопротивлялся особенно упорно. Но через месяц топоры застучали прямо над домом. Мертвая скала теперь смотрела прямо на оголенный дом.
32
Тоскливые, похожие друг на друга дни бежали из месяца в месяц.
Был солнечный воскресный день. Деревья бросали прохладную тень на луговину, листья игриво подрагивали под легким ветерком. Повсюду царила тишина; казалось, природа отдыхала, дыхание ее было едва слышно.
Петер еще не вернулся из прихода. Задержали дела; заботы одна за другой валились ему на голову, не давая ни минуты покоя. Расплатившись со столяром, он зашел в трактир, чтоб немного рассеяться.
Милка не ждала его. По воскресеньям он редко приходил домой вовремя, хотя пил в меру. Муж выполнял все ее желания, во всем главенствовала ее воля, и она закрывала глаза на многое, что раньше показалось бы ей обидным.
Дом было не узнать. Лесом, срубленным на горе и спущенным по воде, заново обшили стены. Побеленный и расписанный дом выглядел совсем как господский, портили его только тут же образовавшиеся сырые пятна. В горницах внизу и наверху висели новые иконы, на стене покачивался маятник новых часов с кукушкой. Печь разобрали и сложили новую. Завели новые скамьи, даже пол настелили новый, только кленовый стол остался прежний. В сенях поставили плиту. Прокопченную лестницу, ведшую на чердак, заменили новой, широкой. Наверху стояла ореховая мебель. У супругов были господские кровати.
Продар только головой качал. Свою боковушку он не позволил ремонтировать, но Петер с Милкой пока его не было дома, вытащили в коридор постель и побелили стены.
Снаружи дом тоже оштукатурили и побелили. Над дверью сделали небольшую нишу и поставили туда Божью матерь. Дом сверкал белизной, к стыду всех закоптелых лачуг в округе. Однако время шло, и он снова чернел от сырости, исходившей от земли и потока.
Внешний блеск придавал дому видимость полного благополучия. Люди, видевшие его или слышавшие о нем от других, считали Продара состоятельным человеком. Это поднимало его в глазах окрестных жителей.
Слава эта льстила Петеру с Милкой. Редко кто задумывался над тем, на чем держится их мнимое богатство.
Распираемый гордостью, Петер по воскресеньям был рад случаю показаться на людях. Его ничуть не смущало, что люди видят его пустой кошелек и что ему часто нечем заплатить за угощение.
Порой его брал страх перед будущим, но он тут же успокаивал себя тем, что лес ведь снова вырастет. Изредка пробуждавшееся в нем благоразумие шептало ему: «Остановись!»
Милка не знала этих забот, она жила словно во сне, которому, как ей казалось, не будет конца. Ее усердие в работе остыло; несколько раз она просила мужа взять служанку, но эту ее просьбу он пропускал мимо ушей. Многое изменилось в доме, только отношение Милки к Продару не изменилось ни на йоту. Он по-прежнему видел ту же еду, те же слова, те же взгляды.
В это воскресенье Милка собралась к матери. Она принарядила мальчика, воткнула себе в волосы пестрый гребень.
Продар сидел в горнице на лавке, подставив солнцу спину и предаваясь приятной дреме и раздумьям.
— Я пошла, — сказала Милка.
— Гм.
— Идите во двор, я запру.
— Что?.. Угол у меня есть до самой смерти, его ты не можешь от меня запереть.
— Не могу… — Милка на миг остановилась. — Вот и ступайте в свой угол. А дом я все-таки запру.
— Еще что! В доме меня запирать! А ежели что случится?
— Что может случиться? — Милка взяла на руки ребенка, суровая складка залегла возле рта. — Ежели что и случится, так разве только из-за вас. Вам-то ведь нечего терять.
— Из-за меня… ничего не случится, но может случиться другое… — сказал Продар. — Может случиться другое! — Он повысил голос. — Худого я не сделаю, а вот помочь могу. Ты еще попросишь у меня помощи!
— У вас — никогда! — крикнула Милка, высокомерно и озлобленно.
— Как знать, — бросил старик и пошел к двери.
— У вас — никогда! — закричала она еще громче, так что ребенок с перепугу заплакал.
33
Ступив на тропинку, ведущую к Мертвой скале, Продар остановился. Милка заперла дом и пошла к Кошану. Ее светлое платье переливалось на солнце. Держа на руках ребенка, она шла горделивой поступью человека, сознающего свою силу.
Продар ненавидел ее походку, ненавидел ее фигуру, лицо, душу. Гордый и могучий, много лет правивший домом, он отдал свою власть не сыну, не собственной крови, а чуждой самозванке.
Среди деревьев, насмешливо глядя своими красными окнами, сверкал уже не принадлежавший ему дом. Этот дом запирали от него, когда хотели. И все-таки фундамент заложил его дед, отец достроил, он расширил, а сын его — украсил. За счет чего?..
Продар посмотрел окрест себя и увидел, за счет чего. Он пошел по тропинке наверх. Там, где некогда его встречала прохлада, теперь солнце жгло терновник, барбарис, ежевику, ломонос, который стелился по земле, не имея за что зацепиться. Ни одно дерево не радует взор. Несколько молодых буков стыдливо тянут свои девственные стволы. Сосенки, едва проглянувшие из земли. Низкорослый кустарник, низенький граб, уродливый дуб и искривленный кизил. И голые камни, прежде почти невидные, поросшие зеленым мхом. Теперь же солнце пожгло мох, он побурел и сник. Повсюду голая земля, усеянная гниющими сучьями срубленных деревьев.
Не было больше благодатной прохлады, приглушенного говора листьев, птичьих голосов, исчезло ощущение богатства и силы.
В горах стояла тишина, играли стрекозы; на камне у дороги грелась гадюка. Маленькая прогалинка краснела мелкой земляникой и малиной. От всего веяло нищетой.
У Продара защемило сердце. Он сел у Мертвой скалы и устремил взгляд в долину. Вид домов тоже не веселил душу. Он посмотрел на противоположный склон — там рыжела сплошная плешь. Глаза его обратились к северу, где высилась голая гора; весенний пожар уничтожил то, что пощадил топор.
Все было напрасно. Некуда было уйти от бьющей в глаза правды. И он закрыл их.
Продар прислушался. Кругом царило безмолвие, нарушаемое только гудением саранчи, шипением гадюки да жужжанием большой мухи. Он вспомнил, как стучали топоры, пели пилы, перекликались лесорубы, громыхали катившиеся вниз бревна. Раздавались итальянские команды, брань. Потом шум и всплеск воды — бревно падало в реку. И снова тишина…
Продар открыл глаза. Мысленно он заново переживал опустошение долины. Толпы чужаков приходили в ущелье и разоряли клады среди бела дня. Кладоискатели ушли, оставив за собой оголенные горы. Но приходят новые и снова суют в руки деньги.
Теперешние люди ничего общего не имели с теми старыми хозяевами, которые не поддавались никаким соблазнам и цепко держались за землю.
Душа у Продара заныла, громко застонав, он встал.
Поднялся повыше и осмотрелся по сторонам. Ему стало страшно. С природой он уж не разговаривал, как прежде. Он проклинал ее.
Взойдя на гребень горы, Продар увидел человека. Он сидел на камне, сложив руки на коленях и погрузившись в глубокое раздумье. С удивлением Продар узнал в нем своего сына.
Заслышав шаги, Петер поднял голову. Они долго молчали, не зная, что сказать друг другу.
— Помнишь, как я показывал тебе границу? — спросил наконец Продар, чтоб прервать тягостное молчание. — Тогда и над нами, и под нами все было зелено. Теперь так пусто, что за душу берет.
— А лес вырастет снова?
— Нет. Землю обогащать надо, а не разорять.
Петер задумался.
— Куплю поле Байтара, — сказал он через некоторое время.
— Негодящее оно, — отозвался Продар. — Один песок. В половодье смоет. Да и далеко, через поток надо ходить.
— Что бы я ни сделал, вам все не по нраву, — вспылил сын.
Солнце клонилось к западу. Багрянцем окрасился голый гребень, на котором хмуро сидели отец и сын.
34
Петер купил поле за потоком и уже второй год возделывал его. В этой глуши не знали ни плуга, ни волов, в ходу была мотыга да кошница.
— Поспешать надо, — сказал Продар, помогавший сыну. — Погода в любую минуту может испортиться.
— За три дня управимся, — отозвался Петер, смерив глазами остаток поля.
На это поле он возлагал большие надежды. Всю зиму из последних сил боролся он с нуждой, боясь, что слух о его нищете разнесется по всей округе. Едва-едва удалось перебиться до весны.
— Ежели Бог даст, — вслух размышлял Продар, — поле хорошо уродит. Нынче унавозим его получше.
— Ваша правда. С деньгами все хуже и хуже.
— И совсем плохо будет. Разом густо, разом пусто… У всех так. Раньше-то люди откладывали, а нынче только тратят. Поначалу своя власть, даровая мука. Да что там говорить…
После полудня Петера позвали домой. Кошан напился до бесчувствия и лежал в ущелье. Старика принесли домой, у него открылось воспаление легких и грозило свести его в могилу.
Продар остался в поле один. Тяжело переворачивал он песчаную землю, оставляя за собой свежую борозду.
Кошан умер. В общей суматохе было не до работы. Милка полдня проводила у матери, Петер дни напролет носился по делам.
Мать с дочерью не любили Кошана, но это не мешало им лить по нему слезы. Петер не велел жене идти на похороны. Она пошла, а вернувшись, слегла и провела в постели три дня.
— Придется тебе помочь, — сказал Продар сыну на шестой день. — Смотри, облака горят. — Он показал пальцем на вершину горы. — Это к непогоде.
Петер точно потерянный стоял возле дома.
— Дочь у меня, — тихо молвил он.
У Милки случились преждевременные роды. Девочка родилась живая, но была такая слабенькая, что уже на следующий день ее поторопились окрестить. Осунувшаяся, побледневшая Милка почти целыми днями спала.
Жизнь не терпит монотонности. Иногда, после многих дней покоя и докуки, душа вдруг запросит бурь и острых ощущений. И тут судьба, внезапно пробудившись от спячки, развивает такую кипучую деятельность, словно стремится наверстать упущенное.
Не успел Петер снова взяться за мотыгу, чтоб вместе с отцом допахать поле, как его снова кликнули домой.
— Это поле проклято, — сказал Продар, провожая сына глазами. — Что там еще стряслось?
Умерла новорожденная. Продара тоже позвали. Петер ходил по дому как неприкаянный.
— Что поделаешь! — всхлипнул Продар, охваченный сочувствием к его горю. — Что поделаешь…
Через два дня после похорон Петер снова пришел в поле; вскопали с отцом последний кусок, взрыхлили землю, посеяли…
Милка наконец поднялась с постели. Она еще не совсем оправилась от болезни, и это удручало Петера. Удручало также и то, что у него не было денег. Болезнь жены и смерть дочки заставили его снова влезть в долги.
Между Кошанихой и дочерью опять пошли шепотные разговоры. Обе поглядывали на Петера, с беспокойством думавшего о том, что тайные переговоры касаются его. У Кошанихи в глазах стояли слезы.
Вечером жена сказала ему:
— Дай денег моей матери.
— Разве я ей должен? — удивился Петер.
— Нет, не должен. Ты что, не доверяешь? Ей сейчас позарез деньги нужны.
— Мне они тоже пригодились бы.
Петер испугался, дело шло к ссоре. Он вспомнил их первую размолвку и заговорил мягче:
— Не дури! Знаешь же, что я охотно бы дал, если бы они у меня были. Сами сидим ни с чем.
Милка чувствовала, что муж сдается, и усилила нажим.
— И тебе не совестно говорить, что нет денег? Ступай и заработай!
Такое она говорила впервые. Она не шутила; черты лица были суровы и непреклонны.
Петер, шатаясь, заходил по горнице. Он боялся, что любое слово, произнесенное в эту минуту, приведет к непоправимой беде.
Он взял шляпу и веревку и вышел из дому.
Под Мертвой скалой, куда он отправился за хворостом, сидел на пне отец и смотрел в долину.
— Что вы тут делаете, отец? — ласково спросил Петер.
— Думаю, — ответил Продар.
Петер сел рядом, глаза его блуждали по склону и долине, по небу и облакам.
— Ты что? — спросил отец.
— Думаю, — ответил сын.
В эту минуту они были вместе.
35
Стояла середина осени. Месяц продержалась погожая, солнечная погода, а потом небо нахмурилось и хлынул проливной дождь. С юга дул теплый ветер, непрестанно нагоняя новые стаи туч. Солнце не показывалось, с утра до вечера было мглисто и сумеречно.
Ноги вязли в размякшей земле. Ожившие потоки множились с невероятной быстротой, набухая и набирая силу. По тропинкам, колеям, лесоспускам мчались в долину ручьи, утаскивая за собой листья, ветки, землю и камни. Поток теперь стал широкой рекой, вышел из берегов и разлился по полям, грозя размыть землю, запрудить долину и превратить ее в озеро.
Временами тучи расходились, но небо не прояснялось, было по-прежнему хмуро и сумеречно. Небо как бы переводило дух, чтоб с новой силой вылиться на землю.
Теплый ветерок шевелил оголенные ветви. Дуло с юга, все время с юга… Густые серые клочья туч, как стая птиц, опускались на вершины деревьев. Дождь полил сильнее.
Людей охватил ужас. Глаза их испуганно бегали, а за окнами бушевала вода, стучали по стеклам капли, появлялись все новые и новые потоки, с ревом затоплявшие все вокруг.
— Боже, спаси и помилуй! — в страхе стонали люди.
Как-то утром Милка пошла к матери. Мальчик, пригревшись, заснул на печи, и она не стала его будить. Продар сидел за столом и смотрел в окно на серую завесу, сплетенную дождем.
— Чума, война, голод, наводнение… — шептали его губы.
Он видел, как Милка перешла через поток. «Мост еще не унесло», — подумал он и тут же с горы хлынула красная, мутная, вспененная вода, несущая землю и песок, катившая камни величиной с детскую голову. Она залила сад, накрыла тропу, прорвалась сквозь деревья, кусты, ограду и влилась в поток.
Глаза старика обратились к лачуге. Поле Петера, находившееся под ней, было затоплено, и только в одном месте еще виднелась полоска земли. Вода остервенело бросалась на отвесную гору, оголенную, дочиста ограбленную, — на ней не осталось ни единого деревца, ни единого кустика. Словно задавшись целью продолбить здесь новое ущелье, поток отскакивал от склона и снова набрасывался на него с удесятеренной силой.
Ограда, сильно поврежденная во время последнего наводнения, на этот раз не выдержала натиск разбушевавшейся стихии. Камни рухнули в воду, тут же поглотившую их…
Продара бил озноб. В памяти встала молодость, время, когда он еще бегал в коротких штанишках. Воспоминания его уходили все дальше и дальше. Много дождей перевидел он за свою долгую жизнь, но такого ливня, такого страшного, беспощадного разгула воды на его веку не было.
— Войны, голод, наводнения… — шептали его губы.
Продар медленно поднялся и вышел из дому. Он уже закрыл за собой дверь, как вдруг услышал плач ребенка. Мальчик проснулся и, увидев, что никого нет в доме, испугался.
Продар вернулся в горницу, встал на скамью, оперся руками о печь, глянул на плачущего мальчонку.
— Ты что, сынок? Крестный твой итальяшка, поди, и отец тоже…
Мальчик поднял глаза и, увидев, что он не один, весело засмеялся, слезы тут же высохли.
Деда он остерегался любить, мать запрещала, но все же тянулся к нему всей душой.
— Папа, — пролепетал ребенок, протягивая к нему руки. — Папа.
— Я не папа. Твой папа ушел зарабатывать на хлеб. Тебе и маме, вот как! Тебе и маме! Твой папа ушел в город и еще не вернулся. Третий месяц пошел, а его нет и нет.
Мальчик встал на коленки и, вцепившись обеими руками в бороду деда, опять засмеялся.
— Отпусти меня. Бороду выдерешь. Твоему папе пришлось уйти… Боюсь, что все мы отсюда уйдем… Мать его умерла, Францка вышла замуж, я одной ногой стою в могиле… Твой папа должен был уйти… Обобрать обобрали и без хлеба оставили. Все к рукам прибрали, сами хозяйничают… Из-за куска хлеба грызутся…
Мальчик не понимал, о чем говорит дед. Для него это было просто песней, от которой ему становилось весело. Он топотал ножками, обнимал деда и вновь и вновь повторял: «Папа, папа!»
— Не папа, не папа. Мал ты еще, несмышленыш. Кругом одна ложь, обман и лукавство. Ты не виноват, но грех-то, он и на сыновей падает. Даже в третьем колене.
В душе Продара была такая горечь, словно все это он говорил не малому ребенку, а самому себе. Преодолевая неприязнь, он взял мальчика на руки. Тот ему улыбался еще пуще.
— Третье колено?.. — подумав, повторил он свои слова. — Одному Богу известно, чьи грехи я искупаю. Одному Богу известно, чьи…
Продар все пел и пел свою песню, вороша прошлое и тщетно стараясь выискать настоящую причину своего несчастья.
Вдруг стремительно отворилась дверь. Вошла Милка. Увидев сына на руках у старика, она побледнела, бросилась к Продару и вырвала у него ребенка.
— Что вам надо от моего сына?
Старик недоуменно смотрел на нее, словно душой все еще был в прошлом. Горьким было его возвращение в настоящее.
— Не съел же я его!
— Не трогайте его! Не смейте!
— Больше не дотронусь, — сказал старик. — Не дотронусь… до ублюдка!
Милка пронзила Продара свирепым взглядом, вложив в него все, что она хотела сказать.
— Ублюдок! Ублюдок, и все тут! Никто тебе этого не говорил, так я скажу!
Милка вся тряслась, но молчала.
— Пойдем, — сказала она мальчику, заворачивая его в одеяло. — Пойдем к матери! Сегодня придет папа. Вечером придет папа. Так он передал…
И она ушла. Продар взволнованно мерил горницу шагами. Он жалел, что Милка ушла. Ему хотелось разрубить наконец узел, так долго мучающий и его самого, и сына.
Он посмотрел в окно. Дождь не переставал. Возле дома вода доходила до лодыжек. В ущелье на месте потока образовалось озеро. Лишь по середине водной глади шла сильная струя, по которой угадывалось основное течение.
Сквозь густую пелену дождя едва различались отдельные предметы. Милка вернулась, вымокшая до нитки. На лице отчаяние. «Мост унесло», — подумал Продар и захохотал в душе.
Милка забралась на печь. Глаза ее выражали страх и унижение.
Старик слышал, как она начала молиться, мальчик по-своему повторял за ней слова молитвы. Дождь не утихал, вода прибывала.
36
К вечеру ливень прекратился. С неба падали редкие, тяжелые капли, ветер гнал с юга новые тучи.
Вода не убывала, но и не прибывала. Большое озеро посреди ущелья нагоняло страх; оно грозило затопить и поглотить все и вся.
Перед тем как совсем стемнело, раздался глухой шум, похожий на обвал или свист ветра в деревьях. Потом все стихло. Старик и Милка переглянулись.
Продар снял башмаки, закатал до колен штаны и вышел в дождь. Вода доставала до икр. Он шел осторожно, чтоб не провалиться в яму или не споткнуться о камень.
К лачуге, прилепившейся к голой горе, свалилась груда глины; картина была самая что ни на есть плачевная. Черные волны, разбиваясь об оползень, в дикой злобе бросались на противоположный склон. Оползень наполовину запрудил ущелье, соединившись с землей и камнями, пнями и корнями. Волны подмывали, грызли, разъедали, уносили все, что могли унести, но образовавшейся запруды не могли сдвинуть с места. Вода напирала еще злее и напористее, но груда земли и камня отшвыривала ее прочь, и она, не имея возможности разгуляться в узком ущелье, стремительно мчалась к другой горе, чтоб проложить себе ход там, где начинались владения Продара.
Продару казалось, что вода все прибывает и мутные волны все ближе и ближе подступают к дому, белым островом торчавшему посреди озера.
Темный ужас захлестнул его. Бледный, подавленный, он вернулся в дом, глаза его растерянно бегали, как бы взывая о помощи.
Взгляд его упал на часы. Маятник не двигался. Продар недоуменно взглянул на не сводившую с него глаз Милку и вопреки своему решению больше не разговаривать с ней спросил:
— Когда остановились часы?
— Только что, — процедила сквозь зубы Милка.
Дождь снова припустил; наступившая ночь будто открыла все небесные шлюзы. Падавший из окон свет поблескивал на воде. Не было слышно ничего, кроме непрестанного монотонного шума дождевых капель.
Милка отправилась к себе наверх спать. В сенях она вскрикнула — вода была по щиколотку и, протекая под дверью, проникала уже в горницу.
Снова Продар подумал, что такого на его веку еще не бывало. В уме он подсчитал, может ли вода затопить первый этаж или размыть фундамент? Успокоенный, он еще раз прикинул, сколько воды проникнет в дом при запертой двери, хотя в этот вечер он охотно распахнул бы ее настежь, и пошел в боковушку.
Небо лютовало страшно, с неослабевающей силой. Не было ни грома, ни урагана, шумел только непрерывно хлещущий дождь. Воистину хляби небесные разверзлись! Время от времени раздавались наводившие ужас звуки. Стук, плеск, удары по кровле и ближайшему склону. Все сильнее, упорнее, яростнее, и все это в кромешной тьме, под теплым южным ветром, несущим долгожданную весну земле.
Каждая капля падала прямо на землю. Не на деревья, не на листья, не в мох, а в мягкую почву, уже не принимавшую воды. Каждая капля скатывалась в долину, образовывая по пути струи и ручейки. Ручейки сливались в ручьи и стремительно бежали вниз, сметая все преграды и унося с собой все, что попадалось на пути. Каждая капля, упавшая на вершину горы, через десять минут оказывалась в ущелье.
Вода поднималась, пенилась и бурлила. Страшен был ее гнев. Оползни, попадая в волны, пытались сдержать их бег, но разгневанная вода размывала их и рвала на части.
Мосты, сооруженные человеком, разъяренная вода разносила в щепы или увлекала за собой. Взбешенные волны кидались на землю, на человека, на плоды его труда. Небесные струи не иссякали…
Милка, вся дрожа, лежала на постели и смотрела на улыбавшегося во сне ребенка. Временами ей слышался стук в дверь.
«Уж не Петер ли? — думала Милка, но тут же спохватывалась, что Петер прийти не может. Моста больше нет. Бог знает, удалось ли ему дойти до Кошанихи, до ее дома. Лучше бы уж он не пускался сегодня в путь. И зачем она только написала ему, чтобы он пришел?!
Со страхом смотрела Милка в окно. За белыми занавесками хлестал дождь. Непрестанный, равномерный шум наводил на нее панический ужас. Без передышки, словно пила, подрезающая дерево, вода вгрызалась в землю, в камень.
Совсем обезумев от страха, она хотела было закричать и разбудить мальчика, но в последнюю минуту одумалась. Ребенок заплачет, как его тогда успокоишь? Кого звать на помощь? Продара?
Того, кого она смертельно ненавидит и кто платит ей той же монетой? Они не подарили друг другу ни одной хорошей минуты! Еще сегодня она снова оскорбила его. И вот с этим-то человеком она в такую ночь одна в доме. О Боже, чего только не бывает на свете!
При этой мысли страх на мгновение отпустил ее. Милка прислушалась. Никакого стука. Все та же заунывная песня дождя. Различила шум воды. Не потока, а реки. Не где-то вдали — волны хлещут словно о стены дома.
Милка, приподнявшись на постели, прислушалась. Ей показалось, что дом дрожит мелкой дрожью, словно плывет по реке.
Мгновенно проснулся в ней прежний невыносимый страх. На глазах навернулись слезы, тело покрылось испариной. Она уже открыла рот, чтоб закричать, но мысль о Продаре лишила ее голоса.
Разбудила ребенка. Он скривился и уставился на нее сонными глазенками. Потом прислушался, как прислушивалась мать, улыбнулся и пальцем показал на оконные стекла, по которым стучал дождь.
Мать прижала его к себе, чтоб подавить страх, — мальчик отбивался обеими руками.
Но вот мать снова прислушалась, мальчик последовал ее примеру. Толчки с каждым разом становились все сильнее. Вдруг что-то ударило с такой силой, что весь дом затрясся.
Не успела она решить, звать Продара или нет, как услышала новый удар и треск. Что-то рухнуло, упало и потонуло в шуме дождя, в бегущих, плещущихся и пенящихся волнах.
Милка вскрикнула и закрыла глаза, чтоб ничего не видеть. Ребенок заплакал у нее на груди. Казалось, дом рушится и она вместе с ним погружается в неведомую тьму.
Когда все стихло и снова раздавался только мерный шум воды, Милка открыла глаза. Ветер колыхал фитиль лампы, в углу комнаты зияла страшная брешь, вода была слышнее, чем раньше.
— Отец! — завопила она что было силы. — Отец, помогите! — Милка уже ни о чем не думала, в ней говорил инстинкт самосохранения. — Отец, отец, отец!
37
Продар в тот вечер не ложился. Сникший, сокрушенный, сидел он на постели, прислушиваясь к доносившемуся снаружи шуму. Казалось, он чего-то ждет, медленно текли мысли.
Открылось окно, дождь хлестанул его по лицу. На порядочном расстоянии от дома на воде играли тусклые блики света. Посреди светлого четырехугольника слабо вырисовывалась его голова.
С берега, на который обрушилась вода, неслись какие-то звуки — похоже было, что волны уносили осыпавшуюся землю. Продар тщетно старался по звукам определить, что происходит.
Похоже, вода продолжала прибывать. Не затворив окна, он снова сел на кровать, задумался, но вдруг слух его уловил новые звуки. Шум воды приблизился; казалось, волны катились совсем рядом, догоняли друг друга, всплескивали, отходили и опять наскакивали. Раздавалось громкое бульканье, будто вода уходила в чью-то огромную ненасытную глотку.
Продар ждал, держась рукой за край постели. Потом приложил руку к стене и чуть склонил голову, прислушиваясь. Дом дрожал как в лихорадке.
Продар на мгновенье растерялся, но тут же взял себя в руки, встал и вышел в коридор. Открыл дверь, ведущую в пустоту, посветил перед собой и прислушался. С этой стороны тоже плескались волны. Значит, дом со всех сторон окружен водой. Он опять посветил лампой, но свет не достал до воды.
Продар сходил за лучиной, зажег ее и тогда увидел внизу воду. Она не стояла, а текла широкой рекой. Продар бросил лучину — она упала в воду и погасла.
Теперь ему стало все ясно. Для страха не было времени, он напряженно думал. И все же не мог унять бившей его дрожи.
Продар решил спуститься по ступенькам в сени, но, сделав несколько шагов, оказался в воде. Он нагнулся и посветил лампой. Вода в сенях стояла высоко. Она прошла сквозь оконные и дверные щели, а также через отдушину на противоположной стене. Продар кинулся было в коридор, но внезапно остановился. В последние годы он сильно сдал, однако был еще крепок. Сейчас он впервые подумал о смерти.
Подумал он и о Милке, и ее сыне. В первую минуту злорадная усмешка скривила его губы. Но он тут же ужаснулся себе. Нужно что-то делать, нужно что-то делать! Она жена его сына, и мальчик… На этом мысль его оборвалась. В душе шла борьба.
«Почему она не зовет меня? — мелькнуло у него в голове. — Может, спит и ничего не знает?»
Продару показалось, что вода в сенях прибывает, вот-вот подберется к его ногам, а он себе стоит, предаваясь раздумьям.
Продар сделал несколько шагов в сторону горницы и остановился. В эту минуту дом качнулся. Послышался крик, и снова все стихло…
Продар ждал. Он не войдет, даже если пол рухнет под ним. Наконец раздался долгожданный крик: «Отец, отец!»
Сердце его растаяло, душа смягчилась. В одну минуту он все простил. Крик о помощи, порожденный страхом смерти, кинул его к двери.
Войдя, Продар застыл от изумления. Снесло угол дома. В комнату смотрела тьма, дождь поливал пол, нависший над пустотой. Все снесло: штукатурку и кладку, алтарь в углу, все, все… Убогие и голые, висели они между небом и землей, под ногами зияла бездна.
Продар быстро подавил в себе невольный страх и глянул на трепещущую сноху. На душе у него опять посветлело.
— Спасите нас, отец! — рыдая, крикнула Милка.
— Пошли, — сказал он. — Накинь на себя что-нибудь, оденься!
Он взял лампу и повел сноху в коридор.
— В сени нельзя — утонешь! Вот тебе лампа, стой здесь и жди!
Милка взяла лампу и, вся дрожа, забилась в угол. Мальчик плакал и жался к матери.
Мозг Продара лихорадочно работал. Под крышей к стропилам привязана лестница. Он быстро влез на чердак, нащупал в темноте лозу и перерезал ее.
С трудом, из последних сил, втянул он лестницу в дом. Осторожно стал спускать ее в дверной проем, чтоб измерить глубину. Едва лестница коснулась воды, ее дернуло с такой силой, что Продар едва удержался на ногах.
Да, здесь слишком глубоко и течение сильное, этим путем не выберешься, и тут он вспомнил про скалистый выступ на горе. Иногда на него перекидывали лестницу и точно по мостику таскали на чердак сено и корм для скотины. Высота скалы достигала четырех метров. Вода до нее не доходила…
Продар снова втащил лестницу и навел ее прямо на скрытую во мраке скалу. Милка поставила лампу на пол и принялась помогать. Медленно, перехватывая руками перекладину за перекладиной, Продар опускал ее над пропастью.
Дождь не переставал, вода по-прежнему шумела. Чудовищные тени плясали над водой, скрипела лестница. Наконец она уперлась во что-то твердое на другой стороне пропасти. Продар оттянул ее немножко назад и изо всех сил снова двинул вперед. Теперь лестница прочно зарылась в землю. Мост был наведен.
Продар наклонился и еще раз испробовал ее устойчивость. Лестница не дрогнула.
— А ну-ка берись за край и держи крепче! — сказал он Милке.
Перебирая мокрые поперечины, скользившие под руками и ногами, Продар пополз на ту сторону. Дождь хлестал, внизу кипели и бурлили волны, а он полз над пропастью во тьму, в неизвестность.
Наконец руки его коснулись земли. Он бросился вперед, в мокрые низкие кусты.
Убедившись, что лестница прочно засела в мягкой земле, под которой была скала, Продар пополз обратно.
Милка встретила его вопрошающим взглядом.
— Все в порядке, — сказал Продар, забираясь на чердак.
Он сходил за факелом, с какими в былые времена ходили ко всенощной. Посветил в сени — вода не убывала, ухо его улавливало все то же бульканье, какое он слышал и раньше.
— Иди, — сказал он Милке. — Держись крепче, чтоб не свалиться. Ребенка оставь, не то вместе сорветесь! Оставь, я сам его перенесу!
Скрепя сердце оставила Милка ребенка. Прежде чем ступить на лестницу, она испытующе посмотрела на старика — можно ли ему верить? Вся трепеща, сошла она на лестницу и трясущимися руками ухватилась за поперечины. Факел освещал струи дождя, воду, горный уступ впереди и лестницу.
— Я здесь! — крикнула она, достигнув земли.
Это был победный клич человека, спасшегося от смерти, и шел он из глубины души.
38
— Иди сюда! — позвал Продар мальчика. Тот уже не плакал. Засунув палец в рот, наблюдал за происходящим. — Обними меня за шею!
Мальчик бросился к деду и обхватил его за шею.
Продар встал на пороге, в одной руке он держал факел, на другой сидел ребенок. Лицо старика, усталое и напряженное, выражало непреклонную решимость. Он подался чуть вперед и коснулся коленом лестницы, готовый к трудному пути.
— Давайте ребенка! — раздался резкий крик с той стороны. — Смотрите, чтоб он не упал в воду!
Старик вздрогнул, словно его огрели кнутом.
«Самка вопит по своему детенышу, — подумал он. — Он в моих руках, вот она и боится. Опасается, что я отплачу ей за зло злом, как она того и заслуживает. По себе судит, гадина».
Угасшая было ненависть к Милке вспыхнула снова. Вспомнились все обиды, оскорбления, жестокости, злые слова и ядовитые взгляды. Всколыхнулось запоздалое раскаяние, что пустил ее в свой дом, встали в памяти загубленное на свары время, отнятая любовь сына, вырубленный лес, преждевременная смерть жены, бегство Францки в город и в довершение всего — оскорбление, брошенное ему сегодня.
Ничего из этого она не знала, никаких горестей не изведала, сегодняшняя ночь для нее первое испытание.
«Что, сука, тяжело? Чадо твое в моих руках, дом рушится, льет дождь, волны беснуются. Между нами пропасть. Бросайся на меня, гиена, если можешь, рви меня зубами, если можешь…»
В нем все кипело, но мысли не облекались в слова. Он все еще стоял на месте, неподвижный, в одной руке держа факел, в другой — ребенка. Сердце его леденело.
— Давайте ребенка! Ребенка! — вопила сноха, точно заглянула к нему в душу и увидела, что там сейчас творится.
«Извивайся, сука, рыдай, шипи, изрыгай проклятья, между нами бездна. Я могу расквитаться с тобой прежде, чем ты вернешься сюда. Ты лгала моему сыну и принесла ему ублюдка. Видел я, как ты это делала и с кем! Видел и никому не сказал. А ты в благодарность ездишь на мне верхом и, как вампир, пьешь из меня кровь. Чужая кровь станет хозяйничать в нашем доме и смеяться над нашими костями, которым и в гробу покоя не будет. Но для каждого наступает час расплаты. Сегодня пришел твой черед. Извивайся! Не успеешь вернуться, как все будет кончено…»
В душе Продара шла борьба. Он все еще стоял на месте, неподвижный, измученный внутренней борьбой. Силы его были на исходе. На той стороне неясной тенью маячила Милка. Она собиралась перебираться обратно, но боялась.
— Мой ребенок! — раздался в ночи нечеловеческий утробный вопль, рожденный беспредельным ужасом и страхом. — Мой ребенок! О-о-о!
В душе Продара что-то шевельнулось. И хотя он только что излил всю скопившуюся в нем ненависть, ему стало легче. Вопль матери, страх ее за ребенка тронул его сердце.
В эту минуту мальчик протянул руки и закричал:
— Мама, мама!
Продар вышел из оцепенения.
— Несу! — крикнул он.
Продар ступил на лестницу. Вытянув руку с факелом и судорожно сжимая прильнувшего к его груди плачущего ребенка, он медленно, стараясь держать равновесие, перешагивал с поперечины на поперечину. Дождь слепил его, под ним бурлила вода. То и дело взглядывал он вперед, но конец пути был еще далеко…
Но вот и земля. Милка выхватила у него ребенка и прижала к груди.
39
Под Мертвой скалой горел костер. На мягкой, мокрой земле сидела Милка, поддерживая правой рукой голову мальчика, спавшего у нее на коленях. Душа и тело ее были измучены до предела. За одну ночь она изменилась до неузнаваемости. Суровая складка возле рта исчезла. Лицо у нее было такое, как в день родов, когда Петер, взглянув на нее, забыл про все свои муки. Сейчас она была только мать. Глаза ее неподвижно смотрели на красноватые языки пламени.
По другую сторону костра сидел Продар, поставив локти на колени и сжимая ладонями седую голову. Он устало глядел перед собой, точно пытался проникнуть взглядом в какие-то тайны.
Дождь перестал. С мокрой травы над скалой срывались капли и падали на песок. Из долины несся неумолчный шум воды. Дул южный ветер, и все же люди ежились от холода. От вымокшей одежды шел пар.
Прикорнувшая было Милка проснулась от озноба. Стуча зубами, она огляделась по сторонам.
— Скоро утро? — устало спросила она Продара.
Продар пробудился от своих дум, посмотрел на восток, где уже начинало светлеть, и сказал:
— Скоро.
— Когда же кончится эта страшная ночь?
— Она была страшной не только для нас, — сказал Продар и пошевелил огонь.
Над костром взметнулись искры и погасли в висевших на скале каплях.
— Одна утеха, — отозвалась Милка.
— Какая же это утеха! — в сердцах сказал Продар. — Кабы другим было лучше, нам бы помогли. Так-то вот…
— Что скажет Петер, когда вернется? — продолжала Милка свою мысль.
— Петер? — Продар поднял голову. — Петер? А ведь ты говорила, что он хотел прийти сегодня?
— Как же он мог прийти? Может, он у нас… у матери… — добавила она с надеждой.
— В такую ночь ни один мост не уцелеет!
— Значит, он не пошел, — отбрасывала Милка черные мысли. — Остался в городе. Какой дурак в такую погоду пустится в дорогу!
— Хорошо, ежели бы так, — медленно проговорил Продар, понижая голос. — Да боюсь, что не так.
— Не пугайте меня! — горестно воскликнула Милка.
Ребенок проснулся. Он испуганно смотрел на костер, на мокрые поленья, от которых с шипеньем поднимались клубы белого едкого дыма.
Продар встал. Сердце его щемила тоска, в глазах стояли слезы.
— На этом самом месте я сказал Петеру слова, которые мне говорил мой дед: «Смотри не бросай того, что я начал!» А мы бросили. Завтра начнем все сызнова.
Милка рыдала.
— Молчите, отец! — взмолилась она. — Все еще будет хорошо!
Ребенок тоже заплакал и спрятал голову на груди матери.
Продар с жалостью взглянул на сноху. Сейчас он снова чувствовал себя могучим повелителем, как в былые годы.
— Схожу-ка я к дому, посмотрю, что там. Принесу одежду и хлеб. Ждите меня!
Медленным, решительным шагом ушел он по тропе и скрылся в низком кустарнике.
Заря пробила тучи, тусклый свет разлился по долине. Вода дошла до дома Кошана. Деревья, как облетевшие букеты, торчали из нее.
Кругом стояло постепенно убывающее озеро. Поле под лачугой было затоплено. Мимо дома Продара с шумом бежала вода. В стене, обращенной к потоку, зияла огромная брешь, через которую видна была внутренность дома…
Милка встала, взяла ребенка на руки и ступила на тропинку, откуда виден был дом Кошана, ее родной дом.
— Папа, папа! — Мальчик протянул ручонки и запрыгал.
— Где? — спросила Милка, на мгновенье поверив, что ребенок и вправду видит отца.
Но его не было. Дом Кошана одиноко стоял над озером. Перед домом показалась женщина и сразу же исчезла. «Мать», — вздохнула Милка. Она все стояла с ребенком на руках, ожидая, что вот-вот из дому выйдет Петер и помашет им рукой, давая знать, что он жив и здоров.
Милка стояла долго-долго; может быть, это были первые минуты чистой любви к Петеру.
Она ждала долго, так долго, что уже начали спускаться сумерки…
* * *
В душе моей, как на фотографии, остро запечатлелась картина: на телеге лежит труп утопленника, волосы липнут к старой ране, на груди свежий темный шрам; телега повернута в противоположную от его дома сторону…
Перевод И. Макаровской.
Сундук с серебром
1
Ерамов дом стоит на отшибе у подножия Плешеца, точнее, его отрога, протянувшегося к югу и носящего название Слеме. Дом повернут к солнцу, и из его окон видна гора Худи Верх и деревня Новины — разбросанная по склонам, спускающимся к месту слияния двух речек.
Повыше дома — покатый луг, осеняемый густыми деревьями. Над лугом вздымается, царя над долиной, гряда обрывистых скал, по которой карабкаются вверх плети ломоноса и торчат из расселин редкие кусты. Наверху гряды — лес. Дом стоит на уступе, по обеим его сторонам тянутся вниз, к долине, ряды фруктовых деревьев. Тут груши трех сортов — зимняя, бутылочная и кривуля, из яблонь — ранеты, реже попадаются сливы и всего несколько вишен и черешен. Старые, замшелые деревья противоборствуют грозам и бурям, засыхают, дают новую поросль. Сад окаймляют сбегающие с горы ручьи, пересыхающие летом, но бешеные и полноводные во время весенних и осенних дождей.
Ниже дома лежит под солнцем поле, на которое из хлева стекает навозная жижа. И какого только добра не родит оно с весны до осени! Кукуруза и картофель, фасоль, свекла и морковь. Родит все лето, пока не выпадет снег.
Слева от дома — тропа в Новины, такая узенькая, что проехать по ней может только ручная тачка. Тропа бежит вдоль старого, поросшего мхом русла речки, потом по ущелью, вязнет в зеленом болоте и, извиваясь между деревьями, пересекает лес. Из леса спускается на поляну, на солнечный луг, и вот вокруг уже возделанная земля с огородами и полосками полей. Тропа перебегает через речку Брзицу по узеньким мосткам, которые положены на высокие каменные опоры, чтобы их не унесло паводком. На той стороне весь склон холма, спускающийся к реке, занят пастбищем. Здесь тропа расширяется в проселок, ведущий к деревне.
В те времена, к которым относится наше повествование, дом Ерамов представлял собою бревенчатую избу в одну комнату, без кладовки, без дымохода, с маленькими окошечками, забранными деревянными решетками. Дым, подымавшийся от очага, устроенного в сенях, уходил через входную дверь или через люк, который вел на чердак. В горнице было просторно. Кроме большой печи, здесь находились широкая кровать, расписной сундук и стол со скамьями. Яркие краски четырех нарисованных на стекле картин светились в вечно царившем здесь полумраке. Деревянная и глиняная посуда на полках свидетельствовала о непритязательности хозяев, почти о бедности. Единственной роскошью был огонь, целыми днями пылавший на очаге. К дому примыкал сложенный из камня хлев, наполовину вырубленный в склоне холма.
Судя по убогому жилью, Ерамы были бедняками, но на самом деле нужды они не знали, так как владели почти половиной обычного крестьянского надела. Люди не помнили, чтобы кто-нибудь из этой семьи нищенствовал или просил о помощи. Но и достатком Ерамы никогда не хвастались. Много сменилось поколений, а в усадьбе все оставалось по-прежнему. Старый сад, поле и луг вида своего не меняли. На прокопченном бревне над входом в избу была вырезана давняя дата ее постройки. С той поры топор не касался сруба, а мастерок каменщика — каменных стен хлева. Одни и те же работы, один и тот же образ жизни из поколения в поколение, один день как две капли воды похожий на другой. Некоторую перемену вносили только праздники да зима.
В роду Ерамов мужчины были крепкие, плечистые, но сутулые от вечного таскания тяжестей. Редко кого из них признавали годным к солдатской службе. Неуклюжие, с медлительной походкой, они лишь по воскресеньям появлялись в церкви и после богослужения сразу же уходили домой, ковыляя по пустынной, взбиравшейся вверх дороге. Дважды в год спускались в долину на ярмарку, раз в год приходили платить налоги. Больше их никогда не было видно.
В доме испокон веков не водилось ни книг, ни календарей. О праздниках и днях святых, приходившихся на неделю, Ерамы слышали по воскресеньям в церкви. Из устных объявлений им становилось известно, чего требуют от них власти. Если надо было узнать, какая будет погода, они оглядывались на Плешец. На его хмуром челе всегда можно было прочесть надежные, проверенные опытом приметы.
Духовный мир Ерамов был узок, подобно ущелью, над которым стоял их дом. Даже устные предания, переходившие из поколения в поколение, были бедны и убоги. Все события, о которых рассказывалось в доме, относились только к родной деревне и лишь изредка выходили за пределы прихода. В юности сказки о привидениях волновали им душу, и эти сказки по многу раз повторялись в глухие зимние вечера.
Когда семья сильно разрасталась, младшие сыновья разбредались по белу свету, а дочери выходили замуж на отдаленные хутора. В доме оставались лишь старший сын и одна из дочерей, помогавшая по хозяйству, пока братнины детишки были маленькими. Дети росли, а отец, мать и тетка тихо старели. Потом их начинала косить смерть. Первой умирала хозяйка, за ней тетка, последним — хозяин. Если смерть принималась за дело в ином порядке, люди искренне дивились этому.
2
Тоне Ерам родился в сочельник, в тот самый год, когда от тяжести снега сломалась старая груша, росшая пониже хлева. Об этом он узнал позднее от отца и матери, которые хоть и считали его лета, но не запомнили года рождения сына. Он был вторым ребенком в семье. Первенец умер вскоре после рождения. Дочь, появившаяся на свет двумя годами позже Тоне, умерла через полтора года. Других детей не было. Тоне остался один.
Мальчик рос, как крапива под забором. Едва научившись ходить, он был предоставлен самому себе и сколько душе угодно барахтался в грязи и пыли, лепил из глины колобки и фигурки животных, а, съезжая на доске по склону холма, иной раз расшибался в кровь и плакал, но никто не обращал на это внимания. Однако иной раз он вопил так громко, что от противоположного склона холма отдавалось эхо. Мать, работавшая в поле, распрямляла согнутую спину и спрашивала: «Что с тобой, Тонче?» Но тут же снова склонялась, словно уходя в землю.
Как-то раз, когда Тоне исполнилось четыре года, мать в воскресенье пошла в церковь, а они с отцом остались дома. В окна светило зимнее солнце, снег вокруг дома сверкал. Отец сидел у окна, щурился на белый покров, окутавший холм, и перебирал деревянные бусины четок. Тонче, сидя на печи, от скуки дергал кота за хвост, кот замяукал. Отец поднял голову и прикрикнул на малыша, тот испугался и на несколько минут притих в своем углу.
Отец кончил молиться, повесил четки на гвоздик у дверей, сел на прежнее место и задумался. Тонче вглядывался в его костлявое лицо с большим лбом и светло-серыми глазами. Вдруг это хмурое лицо прояснело, губы тронула чуть заметная улыбка. Отец поднялся и подошел к расписному сундуку, стоявшему под окном в ногах кровати.
Этот расписной сундук был единственным, и притом драгоценным, украшением дома. Отец Тоне унаследовал его от деда: никто не знал имени столяра, смастерившего его. Сундук был с добрую сажень длиной, сделан из ореховых досок, на углах были вырезаны улитки, верхняя улитка кончалась головой козленка. Передняя стенка была разделена на три поля, обведенные черными гладкими рамками. По краям бесхитростная, увлекаемая безудержным воображением душа деревенского столяра выразила себя в таком множестве разнообразных фигур ангелочков и чертиков, бесов и ведьм, святых и чудовищ, что это вызывало одновременно благоговение и страх. Все было намалевано красной и синей краской. На темном фоне среднего поля красовалось большое алое сердце, а по бокам от него — узорчатые горшочки, через края которых в изобилии перегибались пышные гвоздики. От старости сундук почернел, да и роспись, когда-то яркая, уже потемнела.
Отец расстегнул пояс, снял с него ключ и отпер сундук. Ерам открывал его редко и никогда не делал этого в присутствии других. Мать лишь в первое время после свадьбы изредка отваживалась заглядывать в него, а Тоне еще ни разу не видел сундука открытым. Теперь он тихонько подобрался к краю печи и глядел во все глаза, приоткрыв рот. Сундук был разделен перегородкой на два отделения. В большом лежала старинная одежда, которую уже никто не носил, а поверх нее — широкополая шляпа покойного деда. В маленьком отделении были сложены пожелтевшие бумаги, в разные времена присланные властями и растолкованные священником; их уже давно никто не трогал и не читал. Отец сгреб обеими руками эту груду бумаг и выложил их на постель. Потом пошарил в углу сундука и приподнял дощечку. Открылось еще одно отделение в две пяди глубиной. На дне его лежали сложенные столбиками серебряные монеты, одни почерневшие, другие блестящие, точно новенькие. При виде их лицо Ерама расплылось в улыбке.
Тонче увидел, как отец запустил руку в сундук, отчего столбики со звоном попадали, видал, как он вынул целую горсть монет, подбросил на ладони, словно желая насладиться их звоном, весом и видом, потом разжал пальцы, так что монеты, звеня и сверкая, посыпались в сундук. Какая музыка!
У мальчика от удивления и восторга замерло сердце; ему и не снилось, что сундук, вокруг которого он любил ползать, ощупывая улиток и козликов, скрывает такие чудеса. Он слез с печи на лавку и стал смотреть, как отец пересыпает деньги с ладони на ладонь, точно проветривая их. Дивные игрушки пели, пели, и голоса их проникали в самое сердце.
Отец, казалось, не замечал присутствия Тонче, и как мальчик ни боялся его, он не мог совладать с собой — слез на пол, на цыпочках подобрался к сундуку и присел около него на корточки.
Отец увидел его и засмеялся громко и добродушно.
— Дайте мне, — осмелился попросить Тоне.
Отец засмеялся еще громче. Он сбросил с ладони монеты, и они звенящей струей упали в сундук, подхватил сынишку, поднял его и усадил прямо на серебряные талеры.
Сначала Тоне испугался. Но, увидев, что отец смеется, засмеялся и сам. Чудесное ощущение какого-то праздника охватило его. Растопырив пальцы, он запускал руки в груду монет, словно месил тесто, зачерпывал их пригоршнями и бросал, так что все пело и звенело.
— Дайте мне, — попросил он снова.
Отец стал серьезным и отрицательно покачал головой.
— Придет время — получишь, — глухо ответил он.
Мальчик не уловил внезапной перемены в настроении отца. В порыве неудержимого веселья он схватил талер и подбросил его к потолку; монета упала на пол и покатилась к печи.
Тогда отец вытащил сына из сундука и молча посадил на пол. Потом отыскал талер и бросил его в тайник. Склонившись над сундуком, он еще долго пересчитывал деньги и складывал их столбиками. Улыбка больше не возвращалась на его лицо, словно его точила какая-то тяжкая забота. И у Тоне, наблюдавшего за ним, тоже стало тяжело на сердце.
Когда монеты снова выстроились блестящими столбиками, отец прикрыл их дощечкой, а поверх нее старыми бумагами. Заскрежетал замок, ключ занял свое место на ременном поясе, без которого Ерам никогда не выходил из дому.
Воспоминание об этих минутах навсегда запечатлелось в душе мальчика. Он видел блестящие игрушки даже во сне, но никогда не заговаривал о них ни с матерью, ни с отцом. Зато он постоянно вертелся около сундука, а иной раз пытался тайком приподнять крышку. Она не поддавалась.
— Чего это он хочет? — спрашивала мать, глядя на сына; у отца под усами играла усмешка, но он молчал.
Тонче вырос из рубашонок, и мать сшила ему из старых отцовских портов первые штанишки. Он уже не лепил пирожки из глины и не катался на доске с холма, а вколачивал гвозди в лавку, забивал в землю колышки, лазил по деревьям, бросался камнями, гонял кошку и кур, портил пилы и топоры.
От этих дней у него сохранилась память о первом наказании.
Дело было так: взяв лучший отцовский топор, он принялся тюкать им об камень перед домом и смотреть, как вылетают искры. Подошел отец, яростно глянул на Тонче и молча вырвал топор у него из рук. Оглядел острие, а потом отстегнул ремень. Так как Тонче еще ни разу не был бит, он спокойно ждал, что будет дальше. Когда же отец схватил его сзади за штаны и поднял, как котенка, спасаться бегством было поздно.
— Теперь я вижу, кто мне щербит топоры! — Отец высоко взмахивал ремнем, тяжело падавшим на спину Тонче. — Задам я тебе перцу!
3
Тонче вырывался, орал и звал на помощь мать, но ее не было дома. Когда отец выпустил его, он зарылся в кучу хвороста около колоды для рубки дров и долго плакал. Этой порки он долго не забывал и чувствовал себя страшно опозоренным и несправедливо обиженным.
С того дня он боялся и даже чуть ли не ненавидел отца. Избегал его. Целыми днями слонялся вокруг усадьбы, возвращаясь домой только к обеду. Отваживался уходить все дальше от хутора. Однажды он провел целое утро возле мостков, перекинутых через грохочущую Брзицу; с тех пор его постоянно тянуло туда.
Над глубоким руслом свисали длинные ветви орешника и ольхи, переплетенные ежевикой и диким виноградом, образуя сплошной зеленый тенистый навес. Манящий шум воды завораживал и влек, как вкрадчивая речь. Водяная пыль от водопадов садилась на лицо. Пестрая обточенная галька, похожая то на плоды, налитые соком, то на монеты, то на драгоценные камни, превращала его в богача. В мелком белом, красноватом и голубом песке скрывались раковины всех форм и оттенков. В прозрачной воде проплывали серебряные рыбы и скрывались меж обомшелыми валунами. Шелестела листва, пели птицы в ветвях, водяной дрозд семенил красными ножками по листьям и переворачивал их клювом.
Тонче казалось, что он забрел в мир сказок. Уединение ему нравилось тем более, что он привык жить в стороне от людей. Что такое товарищи, он почти не знал. Соседи были далеко. Если сверстники встречали его около церкви одного, они забрасывали его камнями. С отцом он еще не помирился, а мать всегда норовила задать ему какую-нибудь работу. У речки же его никто не трогал, и он полюбил ее всей душой. Когда его долго не было дома, родители знали, где его искать.
Однажды мать сказала:
— Будешь учить молитвы.
Несколько долгих дождливых недель он сиднем просидел на печке, и в его детской голове путались и мешались слова «Отче наш» и «Девы Марии». Прежде чем они с матерью дошли до «Верую», небо прояснилось. Учение пришлось отложить до зимы. Мать ушла на работу, а Тонче — к речке, где его ждали пестрые камешки и серебряные рыбы.
Однажды он вернулся домой веселый — принес в руках рыбину.
— Как ты ее поймал? — спросил отец.
— Руками.
Отец довольно усмехнулся, отвел его к речке, смастерил удочку и показал, как удить рыбу.
— Надо тебе заняться каким-нибудь настоящим делом, — сказал он в заключение.
Сын не ответил. Но он был счастлив — близость между ними восстановилась.
И в эту пору с ним случилась беда.
Ясным летним днем отец рубил за речкой кусты, разросшиеся на их лугу и особенно густые у берега. Тонче удил рыбу. Это стало его постоянным и единственным занятием, хотя поймать что-нибудь ему удавалось редко. Он стоял на верхнем валуне сложенной из камней стенки, укреплявшей берег в том месте, где были перекинуты мостки. Шалости ради он качался на валуне так, что тот скрипел под ним и мелкие камни, на которых лежал валун, сыпались вниз. Вдруг валун, соскользнув с места, полетел в воду, а вместе с ним сорвался и Тонче. Он вскрикнул, упал в омут — и больше ничего не помнил.
Открыв глаза, он увидел, что лежит на траве среди кустов. Рядом стоял на коленях отец и испуганно смотрел на него. Увидев, что сын очнулся, он занес свою тяжелую руку, как для удара.
— Несчастный, до чего ты меня напугал!
У Тонче болело все тело, он дрожал от испуга и холода и плакал. Отец взял его на руки, отнес домой, положил на печь. Мать укрыла его. Мальчик тяжело дышал и жаловался на боль в голове и в груди. Долго его отпаивали травяными настоями, разными отварами и молоком, не пускали с печи и из запечка, пока он наконец не оправился настолько, чтобы выйти из дому. Некоторое время он вяло грелся на солнышке, а сам думал только о речке. Как только он выздоровел, его вопреки отцовскому запрету потянуло к воде.
Отец звал его и искал; не найдя, вспомнил, где он может быть, и нашел его у речки — Тонче сидел на мостках, зачарованно уставившись на темную гладь омута. Отец схватил его за руку так крепко, что вырываться было бесполезно, отнял удочку и бросил ее в воду.
— Ступай со мной! — приказал он.
Тонче без возражений пошел, вспоминая день, когда его впервые выпороли. Он не знал, что с ним будет, но ему и в голову не приходило бежать.
Отец подвел его к колоде и показал на кучу поленьев.
— Складывай дрова! — сказал он. — Хватит играть. Будешь работать, ты уже большой.
Тонче молча слушал и складывал поленья. Вечером помогал задавать корм скотине. Так началась для него новая жизнь. Теперь он безотлучно находился при отце. Учился работать. Он рубил хворост для топки, обрубал сучья с буков, таскал на поле навоз, учился косить.
Часто он так уставал, что в пору было повалиться на землю и тут же заснуть, но он не смел признаться в этом отцу, который не знал отдыха. Постепенно сила его росла, грудь становилась шире, руки — мускулистее; ноги стали крепкими и чуть кривоватыми. Грубым здоровьем и силой веяло от него. Он трудился за двоих и все думал о том, как бы превзойти отца.
Это ему удалось без большого труда. Отец работал неторопко и ловкостью не отличался, зато ворочал без передышки, не останавливаясь, — как мельничное колесо. Тоне же брался за дело так, что только щепки летели, а потом с улыбкой на лице представал перед родителем, как бы говоря: «Ну-ка, посмотрите!»
— Ужо обломаешься! — говорил отец, но сам был доволен.
Однако Тонче не унимался. Особенно в первую пору юношества, когда в нем со всей силой пробудилась тяга к девушкам. Целыми днями он работал, а по ночам пропадал из дому. Но как раз в эти дни ему вместе с тайными радостями пришлось хлебнуть и горечи. Он, парень с дальнего хутора, неизвестно почему — просто в силу давнего обычая — наталкивался на такую враждебность со стороны новинских парней, что не смел показаться среди них. Вместе с Йоже Заколкаром из хутора на Худом Верхе он ходил гулять в другие деревни и хутора, расположенные в часе ходьбы, под Плешецем, подвергаясь при этом многим опасностям.
Отец заметил, что парню неймется.
— Жениться тебе рановато, — сказал он как-то.
— А кто это думает о женитьбе? — огрызнулся сын. И ночью снова ушел со двора.
Однажды ясной зимней ночью, когда снег скрипел под ногами, он в полном смятении прибежал домой. Весь дрожа, он залез в сено и не мог заснуть до утра. Они с Йоже пошли гулять в дальнюю деревню, а тамошние парни подстерегли их, пришлось бежать. Всю дорогу позади маячили тени преследователей. Тоне удалось уйти. Йоже на следующее утро нашли мертвым в заснеженном яру. Явились стражники, учинили допрос, но выяснить ничего не удалось. Решили, что парень поскользнулся на обледенелом месте и расшибся. Тоне так напугала смерть товарища, что он перестал уходить по ночам со двора.
Падение в речку и гибель Йоже были единственными потрясениями его молодости. Все, что случалось с ним потом, лишь ненадолго выводило его из равновесия и скоро забывалось. Слухи о событиях, происходивших в мире, лишь изредка проникали в эту глушь. Он слышал рассказы о железной змее, которая вьется по долинам и тащит на себе людей. И о том, что где-то идет война, на которой люди убивают друг друга. Но это происходило далеко и в конце концов могло быть просто вымыслом.
Тоне думал только о работе. Он понял, что со временем должен будет заменить отца, к которому зимой прицепился кашель и не отпускал его до самой весны. И даже когда показалась первая трава, отец не оправился окончательно. Он как-то сразу обессилел и теперь ходил следом за сыном совершенно так же, как сын несколько лет назад ходил за ним. Поднять мог меньше, чем Тоне, и от каждой работы быстро уставал. Постепенно все заботы и труды легли на плечи сына. Теперь Тоне стал вылитый отец — лицом, бородой, походкой, неторопливой, рассудительной речью, только был не сед, а свеж и крепок. Отец хирел на глазах.
— Тоне, совсем никудышный я стал, — сказал он однажды вечером. — Придется тебе невесту подыскать. Может, ты уже какую и приглядел?
— Небось не горит, — недовольно оборвал его сын. Он и в самом деле еще не думал об этом и чувствовал неловкость при разговоре о таких вещах. — Мать-то еще жива.
На этом разговор был кончен, и никто к нему больше не возвращался.
Ерам с женою трижды ссорились из-за того, кто умрет первым. Каждый раз уступал Ерам, зная, что у них в роду первой умирает жена, а не наоборот. На этот раз смерть нарушила порядок, ставший с годами законом, — тяжкая одышка свалила Ерама.
— Помру я, — сказал он сыну, — а ты еще не женился.
Тоне молчал как камень.
— Смотри, как бы материна смерть тебя врасплох не застала, — хрипел отец. — Расписной сундук будет твой, только гляди не промотай то, что я получил от отца и сам скопил. Ключ у меня на поясе. Когда помру, возьми его. И заботься о матери, о матери заботься, Тоне!
Сын кивнул. Отец протянул еще три дня и умер.
— Сходи в приход, — выплакавшись, сказала сыну мать.
Тоне переоделся. Прежде чем выйти, он подошел к покойному, отстегнул пояс с ключом и надел его на себя.
Так он исполнил последнюю волю отца.
4
Отца похоронили, Тоне вернулся домой. Войдя в горницу, он первым делом отпер расписной сундук. Впервые в жизни. Когда ключ заскрежетал в замке, сердце его охватил странный трепет и в голове шевельнулась тревожная мысль: а что, если крышка не поднимется? Но она со скрипом поднялась, и два отделения открылись перед ним.
Несколько мгновений он не решался вынуть пожелтевшие, заплесневелые бумаги, лежавшие поверх потайного ящика. Он не решался взглянуть в сторону печи, с которой доносилось тихое покашливание матери; перебирая деревянные бусины четок, она с молитвой и со слезами вспоминала покойного мужа. Ерам боялся, как бы мать не сказала: «Так-то ты горюешь о покойном отце?» Но сильнее стыда было беспокойство о деньгах, которые прятались на дне сундука, сложенные столбиками и являющие собою отрадное зрелище для жадного взгляда. Тоне живо воображал, как его загрубевшие от работы пальцы зароются в серебро, как он поднимет горсть гульденов и бросит их на остальные так, чтобы звон пошел.
И ему вспомнилось детство. Был воскресный день, когда отец посадил его в сундук, чтобы он побарахтался всласть в серебре. Он припоминал, как взял монету, подбросил ее вверх и она покатилась к печке. И как отец тотчас схватил его и поставил на пол. Только теперь он понял, что сделал тогда что-то нехорошее. Расписной сундук закрылся перед ним, как райские врата.
Отец больше никогда не открывал его при Тоне. Один только раз он, лежа на печи, услыхал, как отец укладывает в сундук новую горсть талеров. В ту пору Тоне было уже восемнадцать лет, и они с отцом только что продали на ярмарке откормленного вола. Отец поменял все вырученные за вола бумажные деньги на блестящие талеры. Золотых монет он не любил, брал только серебро и копил его из года в год. Наверно, он думал, что Тоне спит, иначе не решился бы отпереть сундук. Сын слышал, как он осторожно, изо всех сил стараясь не шуметь, вынимал деньги из кармана и клал на дно сундука. Потом долго не было слышно ни звука, должно быть, старик весь предался созерцанию своего богатства. Тоне, в свою очередь, не решался ни шевельнуться, ни даже открыть глаза.
Парень никогда не забывал о талерах, в которых ему довелось побарахтаться в те времена, когда он еще бегал в одной рубашонке. С возрастом мысль о них все чаще и настойчивее вертелась у него в голове. Сколько их там? Этого он и представить себе не мог. Куда денутся хорошенькие кружочки с орлами и головами императоров? Не возьмет же их отец с собой в могилу?
При мысли о том, что деньги достанутся ему, сердце прыгало у него в груди. Думать об этом было райским блаженством. Он мечтал, как засучит рукава до локтей, погрузит руки в серебро и будет ворошить монеты, сколько душа пожелает.
— А правда, что у вас дома полсундука бумажных денег? — спросил его один парень, когда Тоне еще ходил на деревню гулять.
Вопрос неприятно поразил Тоне. Откуда этому проходимцу известно, что у них водятся деньги? Ведь и знают-то о них только он, Тоне, да мать, а отец не расстается с ключом, не ходит по трактирам и не хвалится перед соседями.
И все-таки по простоте душевной он не мог не сказать правду:
— Не бумажки это, а серебряные талеры.
— Ну, хоть бы и талеры, — сказал тот. — Давай плати за вино! Тебе хорошо, вам Лесковец наделал денег.
Тоне промолчал, но платить не стал. Отец лишь изредка выдавал ему кой-какую мелочишку. Тоне было досадно и тревожно оттого, что люди проведали о тайне расписного сундука. Однажды он задал матери вопрос, которого не посмел бы задать отцу:
— Кто такой был Лесковец?
— Хороший человек, деньги делал для людей, — ответила мать. — А почему ты спрашиваешь?
— Да так. А что, он и нам денег наделал?
— Господи, и что ты такое несешь, — всполошилась мать. — Кабы он их нам наделал, разве стали бы мы жить в бревенчатой избе? Разве не купили бы хорошую усадьбу с каменным домом?
Сын на минуту задумался, но не отстал от нее.
— А он что делал — бумажки или талеры?
— Бумажки. Сидел на мельнице у Тинаца и рисовал бумажки. Хозяин ему каждую полночь приносил еды на весь день.
Тоне больше ни о чем не спрашивал. С этого дня ему все представлялось, как Лесковец сидит на уединенной мельнице и разрисовывает бумажки, представлялись богатые крестьянские усадьбы, расписные сундуки, отец, не снимающий ключа со своего кожаного пояса, что, впрочем, не помешало людям пронюхать о том, какой клад скрывается в потайном ящике под истлевшими бумагами.
После смерти отца исполнилось желание Тоне владеть всем, что хранится в сундуке, пересчитывать свое богатство всегда, когда захочется. Дрожащими руками он вынул бумаги и переложил их в другое отделение. В углу фальшивого дна он отыскал щелочку, в которую едва-едва пролез кончик пальца. Дощечка приподнялась почти без усилия, и у Тоне захватило дух. Перед ним заблестели столбики серебряных монет, уставленные рядами в безупречном порядке. Волнение и радость захлестнули сердце, но тотчас он весь похолодел от страха.
Он не решался обернуться и только прислушался. Стенные часы размеренно тикали, доносился шепот матери, читавшей молитву. Тоне протянул руку к первому столбику и прикоснулся к нему. Потом к другому, третьему, словно хотел убедиться, что он видит все это наяву, а не во сне. Сначала он снял несколько лежавших сверху талеров, пересчитал их на ладони и неслышно положил на место. Потом взял в руку целый столбик и пересчитал все монеты. Хотя он делал это осторожно, монеты все же тихонько звякали, чего он почти не замечал.
Звон серебра долетел до ушей матери. Она перестала молиться и перевела взгляд на сына, склонившегося над сундуком. Лица Тоне она не видела, но представляла себе, как горят его глаза, как его руки перебирают монеты быстрее, чем ее пальцы бусины четок. Ей стало не по себе.
— Тоне!
Тоне выпрямился, рука его замерла. Он полуобернулся к матери.
— Что?
— Что ты делаешь, Тоне?
— Смотрю, — ответил он. — Мыши тут кое-чего натащили, так надо поглядеть сколько, раз уж я хозяин.
— Ну что ж, погляди, — вздохнула мать. — На каждого бережливого свой мот найдется.
Слова ее прозвучали зловещим пророчеством. Сын запер сундук.
— Только не я, — возразил он. — Это уж кто-то другой все прокутит и промотает.
Хотя Тоне не очень горевал об отце, он все же хотел во всем походить на него. И не только в работе и заботах о доме: ему представилось, как он опускается перед сундуком на колени и прикладывает свое серебро к столбикам, оставшимся от отца. При этом он не спрашивал себя — зачем?
5
После смерти отца Тоне перестал спать на сеновале, переселился на печь. Мать ворочалась с боку на бок на широкой постели, вздыхала и шептала молитвы: похоже было, что она целыми ночами не смыкает глаз. Без отца в доме стало страшно пусто. Ткацкий станок вынесли на чердак: покойный был последним ткачом в своем роду.
Шли годы. Мать смотрела на сына, который неутомимо трудился. Тяжело ему приходилось, но он и виду не подавал, все хотел сделать сам. Только весной и во время сенокоса нанимал поденщиков. Тоне не замечал, что силы матери тают с каждым годом. Ее донимала боль в пояснице, мучили головокружения и одышка. Она становилась все слабее и слабее, а отдохнуть было некогда. Когда-то здоровая и крепкая, она теперь высохла как щепка.
Несколько раз она жаловалась сыну на свои недуги и убеждала его жениться. Но Тоне только пожимал плечами и уходил по своим делам.
Но вот однажды мать почувствовала, что силы ее иссякли. Она стояла у очага, и вдруг голова у нее так закружилась, что ей пришлось три раза ложиться, прежде чем она кончила мять картошку в чугуне. Она решила серьезно поговорить с сыном. Вечером, когда стемнело и на столе дымилась похлебка, мать подала голос из запечка:
— Знаешь, сколько тебе лет, Тоне?
Сын, прищурившись, посмотрел на огонь в лампе, коптившей на лежанке, и медленно проговорил:
— По-моему, сорок наберется.
— Сорок два. Когда ты появился на свет, мне было двадцать шесть. Вот и посчитай!
Тоне посмотрел на свои пальцы, потом на потолок и несколько минут соображал.
— А вы старая, мама.
— Это ты видишь, а насчет всего остального ты и глух и слеп.
Последовало долгое молчание.
— А чего бы вы хотели? — наконец спросил он.
— Чертенка себе купи!
Тоне сначала удивился, а потом вспомнил старинную сказку о крестьянине с хутора, который, стараясь уберечь сына от девушек, говорил, что они чертенята, но так и не смог заглушить в нем голоса природы. Воспоминание вызвало на лице Тоне мимолетную улыбку.
— Но вы же еще хорошо себя чувствуете, мама.
— Ничего не хорошо. Придет день, когда я упаду и ты меня уже мертвую с пола подымешь. И тогда хочешь не хочешь придется тебе жениться.
— А кого мне взять?
Он был немного сердит на мать за то, что она взваливает на него лишние хлопоты и заботы.
— Уж жену-то ты должен сам себе выбрать. Не та, так другая за тебя пойдет. Оглядись маленько! Мы на отшибе живем, а вот же отцу-покойнику это не помешало.
— Ему хорошо было. Кабы мне найти такую, какой вы были…
— Не говори глупости! — прервала его мать. — Если бы тебя кто слышал, на смех бы поднял. Не хочешь на деревне искать — так у Ограйничара три девки на выданье, к ним загляни.
— Ладно, ладно, — пробурчал сын.
Так он и замял дело, а потом и думать о нем забыл. Двадцать лет назад молодая кровь в нем кипела, даже после того случая, из-за которого он перестал ходить на деревню. А теперь он был как стоячая вода в заводи.
Мать вскоре поняла, что слова ее пропали впустую. Сын удивлял ее, но о его женитьбе она уж и не заговаривала и думала только о приближающейся смерти. С трудом добралась до церкви и исповедалась. Вернувшись, она зашла в хлев, прислонилась к яслям и потеряла сознание.
Тоне нашел ее лежащей в хлеву на подстилке, перенес в дом, уложил в постель и заварил ей ромашки. Она попила, но встать так и не смогла.
Тогда Тоне впервые понял, как он одинок. Двойная работа свалилась на него. Он и стряпал, и бегал в хлев, и заглядывал то и дело к матери, которая лежала бледная и изможденная, вытянув руки поверх одеяла. Долгим, озабоченным взглядом она следила за сыном, у которого с лица катился пот.
— Может, сходить за священником?
— Я уже исповедалась.
После этого они молчали до вечера.
— Позови какую-нибудь женщину! — попросила мать, когда стемнело.
— Да вам полегчает, — сказал Тоне и вышел из дому.
Он остановился на верху холма, не зная, куда пойти.
Мать между тем забылась беспокойным сном. Когда она в полночь проснулась, сын сидел у печи, опустив лицо в ладони. Так он дремал и думал.
— Ты не спишь? — еле слышно спросила мать.
Тоне поднял голову.
— Нет, — сказал он и подошел к постели. — Может, вам чего нужно?
Она уже не могла ответить и сделала рукой знак, чтобы он молчал. В груди у нее свистело, дыхание поминутно перехватывало.
— Вам хуже?
Мать не ответила.
— Согреть вам чаю?
Ему показалось, что мать кивнула. Потом она снова сделала рукой знак, чтобы он замолчал, точно ее мучили вопросы, на которые у нее не было сил ответить.
Тоне взял лампу и вышел в сени. Он раздул тлевшие в очаге угли, чтобы встряхнуться и отогнать сон. Повсюду лежал густой мрак. В небе мигнула и угасла звезда, в ночной тишине слышалось отдаленное журчание воды, в лесу пролаяла лисица. Тоне запер дверь на засов и вернулся к очагу. Его собственная тень, протянувшаяся по стене до самого потолка, испугала его.
Когда он подошел к постели матери, держа в одной руке лампу, а в другой чашку дымящегося чая, он испугался так, что вздрогнул всем телом. Мать лежала тихая-тихая, такой тихой он еще никогда ее не видел. Грудь ее больше не поднималась, из горла не вырывался хрип, глаза были полузакрыты, словно смотрели из другой жизни.
Тоне поставил лампу и чашку на сундук и склонился к лицу матери. Да, она была мертва.
Горе захлестнуло его, ноги онемели, несколько мгновений он стоял, как вкопанный. Затем с трудом сложил руки, как для молитвы, но не молился. Мысли его путались. Непривычная нежность заливала сердце, что-то жгучее подступало к глазам.
Он поморгал, но слез не было. Овладев собой, он взял лампу, поставил ее в головах матери, закрыл ей глаза, сложил руки и обвил пальцы четками. Потом на несколько мгновений застыл в нерешительности посреди горницы и, словно в поисках помощи, обвел беглым взглядом лица святых, которые смотрели со стен в тусклом свете лампы.
Он сел к столу и замер, глядя перед собой неподвижным взглядом. Его охватило чувство страха и мучительного одиночества. Теперь он остался совсем один. Не в силах одолеть тоску, он вышел в сени и отодвинул засов. Когда дверь заскрипела, его снова пробрала дрожь. Он вышел во двор.
Хмурое небо было затянуто облаками, только над Плешецем светилось несколько звезд. Черная тень самшита встала перед ним, похожая на женщину в широких одеждах. Ветви деревьев раскачивались на ветру, точно руки, которые отмахивались от чего-то. Вдали неумолчно пела вода.
В хлеву замычала корова. Тоне преодолел колотивший его озноб и, проходя мимо самшита, дружески коснулся его рукой. Корова в хлеву оказалась отвязанной и стояла в дальнем углу. Она узнала хозяина и лизнула его.
Еще никогда живое существо не было так дорого Тоне, как эта корова в эту ночь. Он взял ее за рога и, ласково приговаривая, повел к яслям, чтобы привязать. Животное ластилось к нему и все лизало его шершавым языком, а он прислонился к влажной стене и отдался своему горю. Рука его гладила шею коровы, почесывала ей голову между рогами. Плакать он не умел, но ему было тяжело, страшно тяжело.
Когда он очнулся и вышел из хлева, на душе у него стало легче. Войдя в горницу, он посмотрел на мать, лежавшую все так же тихо. Отблески пламени, колеблющегося в лампе, перебегали по ее лицу. Тоне захотелось пить, и он выпил чай, приготовленный для покойницы. Потом привернул фитиль в лампе, стащил с ног сапоги, влез на печь и привалился в угол, спиной к стене: «Авось не засну».
Однако его неодолимо клонило в сон. На веки ложилась усталость, тяжелая, как свинец. Несколько раз он, задремав, испуганно вскидывался, но голова снова падала на грудь. Он попробовал молиться. Какая-то мысль прервала «Отче наш», пришлось начать снова, но до конца он так и не дошел…
6
Когда Тоне проснулся, было совсем светло. Он подвинулся к краю печи и оглядел комнату. Лампа погасла, в воздухе пахло обгорелым фитилем. Дневной свет просачивался сквозь грязные стекла и ложился на мертвое лицо матери. Тоне расчесал пальцами растрепанные волосы и прислушался к мычанию скотины. Потом торопливо соскочил с печи, обулся, шаркая сапогами, пошел в хлев, бросил в ясли немного сена и вернулся в комнату.
Он взял лампу, подлил в нее масла и снова поставил у изголовья матери.
— Завтра утром похороны, — пробормотал он, — надо поспешать.
Он подоил корову, развел огонь и поставил кипятить молоко. Вспомнил о поросенке, визжавшем в свином закуте, нарезал в котел репы, картошки, моркови и повесил над огнем.
Заглянув в комнату, он увидал, что к покойнице подошла кошка, оперлась лапкой на ее плечо и обнюхивает ее, вытянув шею.
— Брысь! — крикнул Тоне.
Кошка испугалась, бросилась через сени вон из дома и взобралась на ближнее дерево.
«Надо кого-нибудь позвать, — подумал он. — В одиночку мне не справиться».
Он вышел во двор. Небо наполовину затягивали облака с пронизанными солнцем светлыми краями. Все вокруг было в осеннем золоте, покрытые выгоревшей травой склоны коричневели, леса уже оголялись, листва кустарника краснела. Видневшиеся вдали домики деревни белели вдоль подымающихся в гору улиц и были похожи на грабельщиц, присевших отдохнуть у длинных валков подсохшего сена. Церковь выглядывала из низины, словно стыдливая девушка, прячущаяся среди деревьев.
Все это было очень далеко, в полутора часах ходьбы по крутым и извилистым тропинкам. Деревня казалась безлюдной, словно вымерла. Все тропы, проселки и ведущие в гору дороги, которые осень открыла взгляду, были пусты. Нигде ни единого человека, некого было окликнуть.
Тоне поглядел направо и налево. Высоко на склоне Плешеца, у самого верхнего источника, привольно раскинулась крестьянская усадьба. Перед домом стоял человек, но будь у Тоне даже легкие великана, докричаться до него он бы не мог. Несколько ниже на маленьком уступе за лесом виднелась залитая солнцем хибарка знахаря Робара, глядевшая окнами с зелеными ставнями на Ерамов холм.
По прямой стежке, бежавшей от хибарки к лесу, шагала женщина с корзиной за спиной. Тоне узнал ее. Это была Робариха, направлявшаяся в лес за листьями.
Тоне обогнул лес и стал ждать, когда соседка подойдет к тому месту, где дорогу пересекал ручеек. Она подошла, перескочила через топкое место и скрылась за пригорком. Тоне все ждал, пока она не показалась на тропинке, подымавшейся в гору вдоль лесной опушки. Тогда он набрал полную грудь воздуха и крикнул. Голос ударился о горные склоны, отдался эхом в лесу и замер.
Женщина остановилась и посмотрела в сторону Ерамова дома. Тоне прокричал еще раз:
— Мать померла!
До Робарихи не сразу дошел смысл его слов. Потом она махнула рукой и скрылась в лесу. Тоне вернулся домой и сел на скамью.
Соседка пришла через полчаса.
— Иисусе Мария, и правда? — запыхавшись, остановилась она в дверях.
— Правда. — И Тоне провел рукой по лбу и волосам. В присутствии соседки в нем громче заговорила тоска, которую он тщательно пытался подавить.
Робариха подошла к покойнице и стала искать глазами святую воду и оливковую ветвь; не найдя ни того, ни другого она перекрестилась и оглянулась на Тоне.
— Когда она умерла?
— Вчера вечером.
— И ты еще никого не позвал?
— Да я же не могу от дома отойти, раз нет никого, — оправдывался он. — Слава Богу, до тебя хоть докричался.
— Надо бы еще кого-нибудь, чтобы обмыть ее и переодеть. Господи, с вечера лежит, уж совсем закоченела, поди! А соседей позвал? А труп освидетельствовать? К священнику ты тоже еще не ходил? Когда хоронить-то думаешь?
Тоне прямо в жар бросило. Ни о чем таком он и не думал. Когда умер отец, обо всем позаботилась мать.
— Наверно, завтра, — ответил он на последний вопрос. — Может ты бы сходила в деревню?
— Не могу в таком виде. Лучше я тут побуду, а ты сходи.
Тоне тщательно умылся и оделся, достал из сундука несколько талеров и положил их в кисет. Тяжело ступая, он зашагал по дороге, ведущей в долину, и несколько раз оглянулся на дом — все казалось, что он там что-то забыл. Сначала он зашел к пономарю, сказать, чтобы тот позвонил в колокол. Потом четверть часа протомился перед священником, который, поглядывая на него поверх очков, записывал что-то в книгу.
— Завтра в девять будут похороны. Понял?
— Как прикажете.
— Соседей-то позвал?
— Нет еще.
— Так чего ж ты ждешь? А гроб? Бьюсь об заклад, вы ее и на стол-то еще не положили.
— Да она только вчера вечером померла, — оправдывался Тоне.
— Вот как? Только вчера вечером? Уверен, что ты ее бросил одну, как скотину, когда отправился сюда. — Голос священника зазвучал жестоко и неприязненно.
— Вот это уж нет, — несколько осмелев, возразил Тоне. — Я Робариху позвал.
— Скажи на милость! — подобрел священник. — От вас, бобылей, ведь всего можно ждать. А почему это ты все не женишься?
Тоне только пожал плечами; священник, смягчившись, проводил его до двери.
Придя домой, Тоне застал покойницу уже на столе. В головах у нее горели свечи, воткнутые в две выдолбленные репы. Женщины, до которых уже дошла весть о смерти Ерамовой жены, пришли задолго до Тоне. Они перерыли весь дом и, обнаружив, что подсвечников нет совсем, а святой воды оставалось только на донышке запыленной бутылки, всласть позлословили, но все же обрядили покойницу для вечного сна. Теперь они сидели на лавке, сложив руки на коленях, и, поджав губы, с осуждением смотрели на Тоне.
Он подошел к матери и окропил ее святой водой, а потом, став на колени, прочел со слезами на глазах «Отче наш». Перекрестившись, он поднялся и обвел комнату глазами.
— А где Робариха? — спросил он.
— Ушла.
— Жалко. Придется к ним сходить; надо еще одного человека — гроб нести.
— Сходи! Чай, нескоро тебе еще придется на похороны звать. Теперь о свадьбе да крестинах думать надо.
К вечеру пришли еще несколько человек из деревни и с хуторов; в их числе регистратор, засвидетельствовавший смерть, и двое соседей, которые вскоре ушли, чтобы сколотить гроб. Тоне принес водки и хлеба на всех.
Ночь тянулась долго. Старик с лохматыми бровями прочел все положенные молитвы и заодно помянул целые легионы покойников, погибших не своей смертью, дабы души их не скитались по свету. За полночь в доме оставалось лишь несколько человек, да и те боролись со сном, перешептываясь приглушенными голосами.
Но вот кончилась ночная дремота, занялся день, огоньки свечей побледнели. В комнату хлынуло солнце, горы стояли, точно выкованные из золота.
Когда покойницу положили в гроб, Топе, как потерянный, застыл посреди комнаты, тупо глядя перед собой. Он чувствовал, как по его лицу ползают взгляды окружающих и жгут ему душу. Ему казалось, будто люди считают его слезы. Он был так измучен, что уже не ощущал горя и хотел только, чтобы все скорее кончилось.
Домой он вернулся поздним вечером, охмелевший от выпитого вина и бессонницы.
— Ну, я пошла, — сказала женщина, остававшаяся сторожить дом. — Корм я скоту задала, корову подоила, так что пока все в порядке. А ты не думай о своем горе и женись поскорее, без хозяйки тебе нельзя.
Женщина ушла, землю окутал густой мрак. Тоне наконец очнулся, зажег лампу и поставил ее на угол печи. Потом сгреб сенник, на котором умерла мать, отнес его на задворки, распорол и вытряхнул из него солому. Ветер подхватил труху, и Тоне почувствовал, как она забивается ему в рот и в глаза.
Почиркав спичкой о штаны, Тоне бросил ее на солому. Языки огня поднимались, лизали солому и опадали; ветерок, тянувший с горы, уносил пепел и дым. Тоне, как черная тень, стоял над догоравшей материной постелью и время от времени подгребал ногой остатки соломы.
Когда погас последний огонек, он вернулся в комнату, не раздеваясь, улегся на печи и заснул как убитый.
7
Смерть матери была великим переломом в жизни Тоне. Не стало неутомимых рук, работавших с утра до вечера и знавших в доме каждую вещь. Тоне пытался все делать сам, но безуспешно. И не только потому, что для домашнего хозяйства он был слишком неуклюж, — просто новое бремя превышало его силы. Иногда он так уставал, что ему не хотелось ни стряпать, ни есть, — в пору было бросить все, запереть дом и уйти куда глаза глядят.
Он сидел и размышлял.
«Так дальше не пойдет, — решил он наконец. — Женщина в доме нужна. Придется жениться».
Это было самое простое и в то же время сложное дело.
В воскресенье, стоя перед церковью, он вглядывался в девичьи лица и падал духом. Он уже был в тех годах, когда помыслы о женщине далеки от человека, когда к ней не влечет ни тело, ни сердце. Теперь он выбирал себе только работницу и мать своего будущего наследника, а это было во сто крат труднее и совсем обескураживало его. Возможно, какая-нибудь из тех, что подходили ему по возрасту, и посматривала на него, но он не был настолько наблюдателен, чтобы заметить это.
Однажды, через месяц после смерти матери, Тоне нес зерно на мельницу. Уходя из дому, он взял из сундука два талера, чтобы купить кой-чего в долине, на обратном пути забрать на мельнице мешок с мукой и вернуться еще засветло. Скотину он загодя напоил и наложил полные ясли корму.
Дорога шла мимо дома Робара, оттуда по склону холма в долину, а там вдоль реки до запруды, где вода стекала по огромному желобу, положенному на сваи, и, дробясь, падала на медленно вращавшееся мельничное колесо. От мельницы, на две трети ушедшей в землю, пропитанной сыростью и поросшей мхом, было еще с час ходьбы до кучки домов, среди которых стояли корчма и лавка.
Закончив свои дела, он завернул на минутку в корчму выпить кружку вина и отправился домой. Пройдя немного, он увидел женщину, присевшую отдохнуть на обочине дороги, хотя ноша ее состояла всего из одного узла. У нее было широкое румяное лицо и крепкая, полноватая фигура. Глаза косили, но не настолько чтобы глядеть в разные стороны. Взгляд был добродушный, как и улыбка.
Она не пошевелилась, когда Тоне подошел к ней, и только опустила глаза в землю.
— Пошли, пошли, некогда нам рассиживаться, — сказал он ей вместо приветствия.
Девушка подняла голову и долго глядела на него.
— И правда, надо идти, — не сразу ответила она и поднялась. — А то дотемна до дому не доберусь.
— Должно быть, ты издалека, раз темноты боишься? — спросил Тоне, приноравливаясь к ее шагу.
Девушка опять помолчала, как будто слова зарождались у нее медленно и она их взвешивала прежде, чем произнести.
— Ты меня правда не узнаешь? — наконец засмеялась она. — А я тебя знаю.
Тоне вгляделся в ее лицо, но не мог вспомнить, откуда она. Ему стало неловко и захотелось узнать, кто она такая.
— Не помню, чтобы мы с тобой когда-нибудь встречались. А если и встречались, выскочило это у меня из головы. Не из Новин ли ты будешь?
— Я Осойникова дочь, — быстро проговорила она и потупила взгляд. — Ну теперь узнаешь? — И она хихикнула.
Тоне взглянул на нее и задумался. В пятнадцати минутах ходьбы от большой дороги ответвлялась тропинка, взбегавшая на гребень горы. За горой в лощине стоял Осойников двор.
— Так вот ты кто, — сказал Тоне, когда ее дом ясно обозначился в его воображении. — А как тебя зовут?
— Марьянца.
— Откуда это ты с узлом? За покупками ходила?
— В людях жила.
Девушка преодолела свою застенчивость и отвечала теперь гораздо быстрее и охотней.
— У кого же ты жила?
— У Лайнара в Планине.
— А теперь идешь домой?
— Домой. Полагалось-то до Юрьева дня жить, да как-то вечером я притомилась, задремала за прялкой. Хозяин меня обругал лентяйкой, я обиделась, собрала узел, да и ушла.
— И он ничего не сказал?
— А что ему говорить? Зимой все равно работы нет, а весной он другую найдет.
Тоне стал соображать. Вот подвернулась работница, и, пожалуй, не стоит ее упускать. Правда, его немного насторожило ее объяснение. Что, если она и вправду лентяйка? Нерадивую женщину не годится брать в дом. Впрочем, успокаивал он себя, на богатого крестьянина сколько ни работай, ему все мало. Какая она ни есть, а без женщины в доме и зимой и летом как без рук.
— Теперь дома будешь жить?
— Дома, — ответила Марьянца.
Они долго молчали, шагая по опавшим листьям, которые ветер намел на дорогу. Тоне было не до разговора, он прикидывал про себя так и этак, и чем больше думал, тем тяжелее и тверже становился его шаг. Обдумав все до конца, он заговорил:
— Иди ко мне служить, Марьянца. Мать моя померла, мне одному не справиться.
Марьянца посмотрела на него. Увидев, что он говорит серьезно, она снова опустила взгляд. Предложение приятное, но сделано так необычно, что она колебалась.
— Да я было домой надумала.
— А разве не лучше будет с места прямо на место? — возразил Тоне. Ему не хотелось упускать случай, раз уж он принял решение.
— Тебе у меня плохо не будет. Живи и за работницу, и за хозяйку, все вместе. Зимой работы мало, только летом придется приналечь. А насчет еды и постели, так чего сама захочешь, то тебе и будет.
Картина предстоящей жизни, которая возникла перед Марьянцей, была еще более заманчивой, чем Тоне старался ее изобразить.
— А что до платы, — доносились до нее его слова, — то я положу столько же, сколько тебе давали в Планине.
Девушка, не отвечая, ускорила шаг, так что Тоне с трудом поспевал за ней.
— Так пойдешь? — нетерпеливо спросил он.
— Обожди малость, — сказала она.
Казалось, Марьянца колеблется, однако про себя она уже все решила.
Они дошли до поворота. Марьянце надо было направо, по песчаной тропке, извивавшейся между кустами лещины и ежевики. Она остановилась и, поставив ногу на камень, положила узел на колено. Под пристальным взглядом ее спокойных, чуть глуповатых глаз Тоне почувствовал замешательство. Похоже, она жалела, что не согласилась сразу. И ждала новых уговоров. А еще лучше было бы, если бы Тоне взял ее за руку и потянул за собой. Но на это у старого холостяка смелости не хватало.
Так они простояли несколько минут, глядя друг на друга. Марьянца теребила край передника, Тоне насвистывал сквозь зубы. В конце концов он поглядел на солнце и заторопился.
— Надо поспешать, — сказал он, — а то и меня ночь захватит. И скотина там одна. Если хочешь, идем со мной.
Марьянца надела свой узел на руку и молча двинулась за ним. Всю дорогу до мельницы они не перемолвились ни словом.
8
К ночи они пришли домой. Дорогой, когда Тоне, забрав на мельнице муку, присел отдохнуть, она взяла у него корзину, закинула за спину и понесла. Он шел следом, слушал, как скрипят на ней заплечные ремни, и довольно усмехался. «С обеих сторон корзины ее видно, — думал он, — значит, на работе от нее толк будет». За этими мыслями он чуть было не забыл, что Марьянца слишком долго несет корзину. Но она не согласилась снять ее со спины и только уж дома поставила ее на лавку.
Выпрямившись, она положила свой узел на стол и осмотрелась. Хотя на дворе уже стемнело, еще можно было разглядеть пыль и мусор на полу, на подоконниках и скамьях. На лавке за дверью стояла немытая посуда, Тоне только слегка ополаскивал ее при надобности. Повсюду валялось тряпье и разный инструмент.
— Поможешь мне? — спросил Тоне, прислушиваясь к мычанию скотины в хлеву.
В тот же вечер Марьянца взялась за работу. Дала корму скоту, подоила корову, принесла дров и воды, вымыла посуду и приготовила ужин.
— Кто будет молитву читать? — спросила Марьянца, убрав со стола.
Тоне в последнее время совсем отвык молиться. Наработавшись за день, он, едва начав «Отче наш», уже задремывал и, наспех перекрестившись, лез на печь.
— Читай ты, — сказал он.
Стоя на коленях у окна, они долго читали нараспев молитвы, глядя на тени голых деревьев, кланявшихся ветру.
— Может, это слишком долго? — спросила девушка, кончив молитву.
— Ничего, ничего, — ответил Тоне и замолчал, оглядывая комнату и раздумывая о чем-то.
Марьянца села у печки, сложила руки на коленях и задремала. Заметив это, Тоне спохватился.
— Тебе надо лечь, — сказал он. — Спать будешь тут, в горнице, на кровати. Возьми-ка вот этот сенник и идем со мной!
Они поднялись с лампой на чердак и набили сенник припасенной там соломой. Потом Тоне достал из сундука чистые простыни и одеяло для Марьянцы.
— А ты где будешь спать? — спросила она.
— Да уж устроюсь как-нибудь, — протянул он.
Тоне вышел во двор, заглянул в хлев. Все было в порядке. Когда он через несколько минут вернулся в дом, Марьянца уже была в постели. Не глядя на нее, как будто стесняясь, он влез на печь и пробормотал:
— Погреюсь немножко.
Тоне прислонился к стене, стараясь не заснуть. Тепло разливалось по всему телу, убаюкивало, голова клонилась на грудь. Он и не заметил, как улегся на печи.
Открыв утром глаза, он сам удивился своему поступку. Но, уверенный, что ни к чему плохому это не приведет и что Марьянца не придает соседству с хозяином никакого значения, он решил, что так и будет спать на печке.
Марьянца уже стояла в сенях перед очагом, в котором плясал огонь. Увидев Тоне, она приветливо улыбнулась. На душе у него стало хорошо и как-то празднично. Он ощутил благотворную близость живой души, избавлявшую его от гнетущего чувства одиночества, и дело было не только в том, что Марьянца взяла на себя половину работы, но и в чем-то другом, неизъяснимом, веявшем от нее; в чем-то таком, что наполняло его и довольством и боязнью.
Девушка была послушна и предана своему хозяину. Мало-помалу они так привыкли друг к другу, точно были знакомы не несколько недель, а годы и годы. Жизнь в доме пошла мирно и размеренно. Хозяин и работница поделили между собой обязанности и неукоснительно выполняли их каждый день. В доме и на усадьбе, в хлеву и на гумне, пожалуй, еще никогда не было такого порядка. Марьянца и правда оказалась не из проворных, но зато работала не покладая рук с утра до вечера, и ее усердие приносило ощутимые плоды. Днем они разговаривали мало, за ужином перекидывались только несколькими словами, а смеялись совсем редко.
По воскресеньям они запирали дом и отправлялись в церковь. К церкви Тоне и Марьянца подходили порознь, чтобы не дать повода для сплетен.
А люди все-таки исподтишка переглядывались.
— Вон Ерамова работница идет. И откуда он ее выкопал?
— Это Осойникова дочка. Может, женится на ней.
— Хм. Уж очень она издалека.
— А на ближней жениться — кумовьев брать издалека.
Ерам не слышал этих слов, но читал их во взглядах соседей. Жениться он не думал. Правда, теперь, когда в доме жила Марьянца, мысль о женщине возникала у него чаще, чем когда-либо прежде. Но плотскому желанию он давал такого щелчка, что оно отступало и не решалось приблизиться к нему. Он был вполне доволен жизнью и думал о том, как в конце года заглянет в сундук, отсчитает Марьянце заработанные ею деньги и попросит ее остаться на следующий срок. И так пойдет год за годом. О том, что будет после его смерти с домом, он не задумывался.
Время от времени кто-нибудь из соседей, приходивших помочь в горячее время, говорил ему:
— Женись, Тоне, женись! Или так до самой смерти холостяком и проживешь?
— А ты знаешь невесту подходящую?
— Да ведь она у тебя в доме, хоть сейчас под венец. Жена даром работать будет, а работнице платить надо.
Эти советы вызывали в Тоне раздражение и замешательство.
— Что ты несешь? — обрывал он непрошеного советчика. А сам при этом каждый раз оглядывался на Марьянцу, которая с удовольствием прислушивалась к подобным разговорам, улыбалась тайком и делала вид, будто ничего не замечает.
9
В сочельник потеплело, после дождя небо прояснилось, солнце начало так пригревать, что Тоне ходил вокруг дома без куртки. В конце недели он посмотрел на вершину Плешеца и долго не отрывал от нее глаз.
— Снег пойдет, и не на шутку, — сказал он Марьянце. — И мороз такой завернет, что хоть три куртки надевай.
И правда, через два дня пошел снег, тяжелыми хлопьями ложившийся на бурую землю, на ветки деревьев, на крыши. Снег валил так густо, что в нескольких саженях от дома ничего не было видно. Снегопад не прекращался целые сутки.
Когда Тоне на следующее утро поглядел сквозь замерзшее стекло на двор, оказалось, что сугробы намело до самых окон, а снегопад все продолжался. Но это были уже не густые, обильные хлопья, а мелкие сухие снежинки, несшиеся по ветру. Мороз крепчал с каждым часом.
Дом Ерама был отрезан от всего мира. Тоне прокопал дорожку к хлеву, к роднику, из которого поили скотину. Большую часть дня они с работницей проводили, запершись в тепло натопленном доме. Марьянца, неуклюже втыкая иголку, латала одежду или надвязывала чулки. Тоне чинил корзины и грабли, делал новые топорища и черенки к мотыгам.
Такая жизнь затянулась из-за новых снегопадов и снежных лавин на целый месяц. За все это время Тоне только однажды попытался добраться до прихода, и это далось ему с большим трудом. Потом они с Марьянцей снова жили бок о бок, и ни одна живая душа не заглянула к ним. Но они по-прежнему оставались лишь хозяином и работницей. Их отношения не стали более близкими, за все это время они не обменялись ни одним сколько-нибудь вольным словом, взглядом или улыбкой.
Разговор их обычно вертелся вокруг соседей или близких и давних событий. Толковали они об этом с такой медлительностью, словно старались расходовать не более одной истории в месяц. Оба они не замечали, что тот или иной рассказ повторяется уже в третий раз и не становится от этого ни более интересным, ни более поучительным, чем в первый раз.
В конце концов, повелось так, что, умолкнув, они погружались каждый в свои мысли, а потом вдруг переглядывались и улыбались друг другу. В безмолвии длинных зимних ночей, когда лампа, догорев, гасла сама собой, а от печи веяло теплом, Тоне преследовала мысль о Марьянце. Все чаще его взгляд невольно останавливался на ее груди, на широких бедрах. От безделья и безлюдья возникали грешные мысли и представления, столь живо встававшие перед его глазами, что он вздрагивал. Проснувшись среди ночи, он прислушивался к дыханию девушки, спавшей у окна. А Марьянца, будто догадываясь о его помыслах, внимательно поглядывала на него и все чаще усмехалась, поднимая глаза от вязания.
Однажды Тоне отпер расписной сундук, поднял потайное дно и подозвал ее:
— Марьянца!
Девушка подошла и, как зачарованная, застыла перед сундуком. Удивленными и немного грустными глазами она смотрела на блестящие столбики монет, и щеки ее горели, как у ребенка. Она вытерла руки о фартук, точно собираясь дотронуться до денег, но не нагнулась и не вымолвила ни слова.
— Ну что? — глухо и сдержанно проговорил Тоне.
— Хе, — коротко засмеялась она и поглядела на него. Горло у нее перехватило, голос оборвался.
— Не придется мне голодать на старости лет.
— Да-а.
У Марьянцы рот наполнился слюной, веки стали тяжелыми. Ей не случалось и мечтать о таких деньгах, а тем более видеть их. О том, что в сундуке у Тоне лежит такое богатство, ей и в голову не приходило. Этот старый холостяк, нескладный вроде нее, неизмеримо вырос в ее глазах. Она хотела повернуться и выйти в сени, но не могла тронуться с места.
Тоне смотрел на нее, но чувств ее не понимал. Он снял с первого столбика большой талер и протянул ей.
— На, — с некоторой неловкостью сказал он. — Пусть он твой будет.
Она взяла монету, посмотрела на вычеканенный там профиль, потом на Тоне и тихо поблагодарила. Тоне запер сундук и повесил ключ на пояс. Выпрямившись, он приложил палец к губам.
— Смотри, никому ни словечка.
— Что я, дура, что ли? — ответила Марьянца и завязала талер в кончик платка.
С этого дня, как заметил Тоне, она ходила будто завороженная, взгляд у нее стал другой, она сделалась молчаливой и задумчивой. Тоне же, наоборот, был теперь разговорчив, что-то веселое и озорное зашевелилось в его душе. Хотя от мыслей о женитьбе он был по-прежнему далек, он искал слов, которые помогли бы ему незаметно сблизиться с Марьянцей.
Как-то вечером он рассказал ей историю о крестьянине, который прятал сына от девушек, а тот все-таки захотел обзавестись «чертенком».
— А это не ты был, Тоне? — засмеялась Марьянца.
Тоне был слегка задет. Он молча встал и полез на печь.
Погасив свет, легла и Марьянца, сон все не приходил к ней. Она беспокойно ворочалась с боку на бок и вздыхала. Тоне прислушивался, и ее беспокойство словно гладило его ласковыми пальцами. И он тоже вздыхал.
10
В начале марта потеплело и на обращенных к солнцу склонах появились проталины. Тоне и Марьянца несколько дней подряд почти не смотрели друг на друга и не перекинулись ни единым словом. Они налегли на работу, точно упустили Бог знает сколько времени и теперь стремились наверстать потерянное. Каждый раз, когда их руки встречались, они их тотчас отдергивали, словно боялись прикоснуться друг к другу.
Однажды в воскресенье, когда из-за оттепели следовало ожидать снежных обвалов и идти в церковь было опасно, они остались дома. Тоне нервно шагал по горнице, а Марьянца, присев к столу, вдруг тихонько заплакала.
Тоне заметил ее слезы, но поначалу прикинулся, будто ничего не видит и не понимает — дурак дураком. Он еще два-три раза прошелся по горнице, а потом все-таки не удержался и невольно заглянул ей в лицо: она утирала глаза передником и сморкалась в него. Тоне не мог больше этого вынести и остановился перед ней.
— Ну, как же теперь быть? — спросил он.
Причина этих слез была ему известна, тянуть из Марьянцы клещами ее тайну не приходилось.
— Как? — Марьянца смотрела на край мокрого передника и всхлипывала. — Сам знаешь как.
Нет, он этого не знал. И если бы даже знал, то в эту минуту не мог бы высказать. В душе он сердился на себя и, пройдясь еще несколько раз из угла в угол, остановился перед изображением святого Флориана, будто собираясь просить, чтобы святой избавил его от того, что уже несколько дней жгло его как огнем.
— А ты думала, что я колода бесчувственная?- — снова разозлился он, но и на этот раз больше на себя, чем на Марьянцу. — Ты бы еще больше стонала да ворочалась на кровати.
И, подзадорив себя такими словами, он вопреки своему обыкновению грохнул кулаком по столу.
— Ты же ни словечка не проронила, ни единого словечка!
Марьянца несколько мгновений изумленно смотрела на хозяина. Ничего подобного она, как видно, не ожидала. Протекло довольно много времени, прежде чем она пришла к молчаливому решению. Слезы снова полились по ее лицу, она встала и принялась укладывать свои вещи в узел. Она делала это медленно, с какой-то покорностью судьбе, без капли ожесточения.
Тоне наблюдал за ней. Боязнь одиночества пересилила в нем раздражение.
— Я не говорил, чтобы ты уходила, — проговорил он.
— Так мне остаться? — спросила она и выпрямилась, обратив к нему свое круглое сияющее лицо, на котором глаза косили больше, чем обычно.
— Раз не сказал «уходи», — значит, оставайся.
— За работницу?
— Если не за работницу, — откашлялся Тоне, — так за хозяйку.
Он был рад, что она подсказала ему ответ, иначе у него не повернулся бы язык.
Марьянца, уже увязавшая свои пожитки, положила узел на лавку и села к столу, благодарно глядя на Тоне сквозь набегающие слезы. На ее толстых губах заиграла улыбка, разлилась по лицу и засветилась в глазах. Тоне отвел взгляд, сознавая всю важность этой минуты. Он спустился в погреб, принес оттуда водки и предложил Марьянце, точно это она сваталась за него. Выпил и сам. Потом он принялся шагать по горнице, медленно переводя свои мысли в слова.
— Завтра пойдем к священнику, — сказал он, — если дорогу малость подморозит. Тебе надо будет дома побывать…
— Так ведь обвалы.
— Я тебя провожу. Можно и подождать денек. А что насчет остального, то мое хозяйство ты знаешь, меня тоже. А с твоим приданым как?
— Сколько-то денег дадут да три штуки холста. И еще отец телку обещал.
— Телка бы пригодилась, — повеселел Тоне. — А то Цикана стара стала, продавать пора.
— Если только отец не передумает.
— А чего ему передумывать? — рассердился Тоне.
Марьянца промолчала.
11
Священник принял Тоне благосклонно. Заметив, что проситель вымок до пояса, он отвел его в кухню посушиться и согреться, налил ему вина. Тем самым у дела, с которым Тоне явился, отпала половина торжественности и официальности. Старый холостяк на четвереньках перебрался через три снежных завала, одолел глубокие промоины, полные талой воды, но все это было ничто по сравнению с тем, что ждало его здесь.
— Что тебя привело ко мне, Тоне? — спросил священник, заметив его замешательство. — Вчера тебя не было в церкви.
«Все знает, — подумал Тоне и добавил про себя: — Ничего от него не скроешь».
Он оглянулся на кухарку, стоявшую у очага. Священник понял его, и через минуту они остались одни.
Тоне откашлялся, вытер пот со лба, но не мог произнести ни слова.
— Говори, говори, как на исповеди, — подбодрил его священник. — То, что должно остаться в тайне, дальше меня не пойдет.
— Беда тут у меня приключилась, — проговорил Тоне.
— Со скотиной?
— Скотина, слава Богу и святому Роху, в порядке. С работницей не все ладно.
— Что ж она, ушла от тебя?
— Нет, отец мой. Вы же знаете, мы одни были в доме. По правде скажу, хоть бейте меня: слишком близко мы оказались.
Священник понял. Он встал и быстро заходил по кухне. Лицо его приняло строгое выражение. Тоне смотрел на него, сгорая от стыда, и готов был провалиться сквозь землю.
— Ты где спишь? — спросил священник.
— В горнице на печке, — съежился Тоне под взглядом священника. — А она на кровати.
— А кровать, конечно, тоже в горнице, аминь! — сурово заключил священник. — И ты еще удивляешься, что это случилось? Где у тебя солома для кровли хранится?
— На чердаке, отец мой, — удивился было Тоне такому вопросу, но быстро смекнул, что тут кроется ловушка.
— На чердаке? А почему не в печке?
— Так она бы загорелась!
— Ага, видишь, недотепа! О соломе подумать ума хватает, а о душе — где там! Что теперь делать собираешься?
— Вот то-то и оно, — простонал Тоне в растерянности, не находя нужных слов.
— И ты еще сомневаешься? Жениться ты должен, чтобы не срамить себя и весь приход.
— Да я насчет этого и пришел.
— Так и выкладывай, раз пришел! — Гнев и суровость понемногу исчезли с лица священника. — Вот и хорошо, что ты наконец женишься. Не вечно же тебе одному куковать на своем хуторе!
— Если бы не вышло такое дело, может, я бы и не женился, — признался Тоне, радуясь, что священник сменил гнев на милость.
— Смотри-ка! — снова вскипел священник. — Он еще грехом похваляется! И без этого мог бы взять ее за себя, и без этого, и только честнее бы все было.
Через полчаса Тоне прощался со священником, державшимся с благожелательной строгостью, но все же дружелюбно.
— Венчайтесь, и все будет хорошо, — говорил он Тоне. — Только она сегодня же должна уйти к себе домой! До свадьбы пусть остается дома. Понял? Сейчас же чтобы шла!
Тоне обещал исполнить все в точности. Он чувствовал себя перед священником маленьким несмышленышем. Но все же возвращался он с более легким сердцем, и путь показался ему короче.
12
Жена Осойника стояла у очага, когда Марьянца вошла в дом. При виде дочери Осойничиха от изумления и неожиданности всплеснула руками и села на лавку.
— Ты, дочка? Да ведь до святого Юрия еще далеко!
— Я замуж выхожу, — выпалила Марьянца.
Она знала, что ее будут ругать, если она расскажет все, как было: отругают и в том случае, если она расскажет хотя бы половину, и поэтому поспешила выложить то, что, по ее убеждению, должно было сразу утихомирить мать.
И в самом деле, Осойничиха не могла вымолвить ни слова. Она была и обрадована и испугана. Быстро оглядев дочь и не обнаружив в ней никакой перемены, она спросила:
— За кого ж ты идешь?
— За хозяина.
— Да ведь Лайнар из Планины не может жениться, он не вдовец.
— А я уже не там. Три месяца как у Ерама на хуторе живу.
— И я об этом ничегошеньки не знаю! — воскликнула мать.
— Так кто ж в этакую зиму будет домой ходить? — оправдывалась Марьянца.
И так как мать, внутренне укорявшая себя за то, что слишком мало думала о дочери, промолчала, Марьянца добавила:
— Я ушла с места, а Ерам встретил меня на дороге и уговорил идти к нему.
— И теперь он на тебе женится? — Осойничиха не могла отделаться от некоторого недоверия.
— Мать у него померла, он остался без хозяйки, — торопливо пояснила дочь, — посватался ко мне, я и согласилась.
— Когда же свадьба?
— Как можно скорее. Недели через три, через четыре.
— Уже? Иисусе Мария! Да у нас же ничего не готово!
Сам Осойник отнесся к новости хладнокровно и некоторое время ходил по сеням, заложив руки за спину.
— Идем в горницу! — сказал он.
Он пододвинул к дочери каравай ячменного хлеба и нож; она отрезала себе ломоть и без аппетита жевала хлеб, глядя на отца, размышлявшего столь сосредоточенно, словно речь шла о спасении души.
— Ерам? — наконец заговорил он. — Он на той стороне, около Новин. Сколько у него скотины-то?
— Две коровы, телка и поросенок. Иногда еще бычка держит, а кур я уж и не считаю.
Осойник молчал: он мысленно взвешивал коров, телку и поросенка, прикидывал возможное количество кур.
— Луг у него за домом, на склоне, — снова проговорил он. — А поля поврозь раскиданы, да? — спросил он, словно от этого зависело, быть свадьбе или не быть. — А дрова откуда берет?
— Дрова из лесу, что повыше дома, прямо над лугом, — объясняла Марьянца, сметая хлебные крошки. — Один луг еще у ручья, там и большое поле…
— Гм, а картошки у него сколько родится?
— Еще есть в погребе, — ответила дочь. — И свекла с морковью тоже есть. И сено. Вполне можно было бы еще одну корову прокормить и поросенка. Вот только хлеба поменьше будет.
— И я так думаю. Дом, поди, деревянный.
— Зато теплый, — возразила Марьянца.
Осойник снова задумался.
— Не знаю, выйдет ли что из этого, — сказал он — не из внутреннего убеждения, а так, для виду, чтобы не говорили, будто он только этого и ждал.
В Марьянце все затрепетало. Даже если бы она не думала о своей беременности, она так сжилась со своей будущей ролью жены и хозяйки, что ее кровно задели слова отца, хотя она и знала, что это говорится только для виду. Кусок застрял у нее в горле, глаза налились слезами.
Отец заметил ее волнение и отвел глаза в сторону. Он уже пожалел, что так сказал, но брать свои слова назад не хотел и принялся ходить по комнате. Увидев, что дочь снова жует хлеб, он остановился.
— А в кубышке-то припрятано у него сколько-нибудь?
— Полный сундук талеров, — не подумав, брякнула Марьянца.
— Что ты сказала? — окаменел Осойник.
— Полный сундук талеров, — повторила она. И поправилась, чтобы было правдоподобней: — Уж полсундука-то наверняка будет.
Дочь смотрела так открыто, голос ее звучал так убедительно, что Осойник не посмел ни в чем усомниться. К тому же он вспомнил, что еще в молодости слышал россказни о Лесковеце и пачках банкнот.
— Ну что ж, выходи за него.
— Ладно.
У Марьянцы камень с души свалился.
— Когда он сватов пришлет?
— Так он уж меня спросил, — сказала дочь.
— И правда. Но свататься-то он все-таки придет?
— А зачем? Я так и так за него пойду.
— Все-таки пришел бы поглядеть, — стоял на своем отец. — Мы же ведь и не знакомы путем.
— Поглядеть придет, — сдалась дочь, — да и насчет приданого поговорить надо.
Осойник ходил по комнате и молчал.
— С пустыми руками-то вы меня, чай, из дому не отпустите. — У Марьянцы задрожали губы. — И телку вы мне обещали.
Отец все ходил по комнате и ответил не сразу.
— Сначала повидаемся да потолкуем, — сказал он не без запальчивости. — Цыганской свадьбы устраивать не будем. Коли я что обещал, то и дам.
После этих слов отец и дочь замолчали.
13
Свадьбу праздновали через добрый месяц. Ерам пришел к Осойнику, и тот все разглядывал жениха и засыпал его вопросами, пока не довел его до полного изнеможения. Отец пообещал дать за дочерью только сотню гульденов, а про телку и вовсе промолчал. Тогда подала голос Марьянца, пролила несколько слезинок и таким образом добилась еще сотни гульденов, телки и нескольких кур. Благодарный Тоне с нее глаз не сводил.
Говорили о веселом и шумном свадебном пире, но за неделю до свадьбы остановились на одном-единственном музыканте. Да и тот так напился в деревенской корчме, что начал безобразничать, разломал гармонику и в конце концов оказался в канаве. Таким образом, приглашенные на свадьбу лишились по его милости нескольких часов веселья, но зато сэкономили несколько гульденов.
Возвращаясь вечером домой, Тоне и Марьянца радовались, что со всем этим покончено. И только от злоязычия соседей, разочарованных скромной свадьбой, к их тихой радости примешивалась капля горечи.
— У наших детей свадьбы будут пошумнее, — утешал Тоне свою молодую.
Назавтра жизнь потекла по-прежнему, с той лишь разницей, что Тоне спал уже не на печи, а с женой на кровати. На разговоры они времени не тратили, трудясь, как тягловый скот: копали землю, чтобы засеять ее, и жали, чтобы было что есть.
От звонкого весеннего ливня до осенних заморозков, первого снега, буранов и обвалов; от подснежников, крокусов, морозника и калужниц, от сережек орешника и заячьих лапок вербы к зеленой листве и щебету птиц, к созреванию хлебов, стрекоту кузнечиков, цикад и шипению гадюк, к аромату трав и мерцанию светляков, через костры Ивановой ночи и дальше, как хмельная, валила жизнь. Мимо земляники, малины, ежевики и терна до первых черешен и груш, мимо всех этих сладких плодов с заманчивыми названиями, плодов, которые Бог рассыпает по холмам, прячет среди шипов, скрывает под листьями и громоздит за заборами, — мимо всех этих благ и красот ступает тяжелая, медлительная и натруженная нога человека, с вязкой пашни на дорогу, с крутого склона в котловину, с луговины на скалу; спина уже с утра ноет от усталости, а после полудня снова сгибается под тяжестью мешка или корзины, так что не взглянешь ни на солнце, в котором купается Плешец, ни на облака, под которыми реет орел. Вечером рука зачерпывает из миски и, едва донеся ложку до рта, устало ложится рядом с другой, пока челюсти неторопливо жуют. А в мыслях одно только завтрашнее утро, начало новой работы, которая ждет неотступно и с которой за один день не управиться.
Все это стократно было пережито Тоне и Марьянцей. Кололи дрова на колоде, укладывали сено под крышу, засыпали картошку в погреб, откармливали скотину, чтоб нагуливала жир, прибавили в сундук еще малую толику талеров; они легли на тот столбик, что сделался пониже перед свадьбой, и снова вырос после получения приданого Марьянцы и продажи коровы, которую заменила телка.
Обманывался Тоне или так оно и было? Ему казалось, что в этот год достатку в доме стало больше. Жена пополнела, выглядела еще сильнее и здоровее, чем прежде, и была мужу надежной помощницей. В разгар страды Тоне не раз с тихой благодарностью вздыхал, думая, как ему повезло, что он ее нашел.
Осенью Марьянце несколько раз делалось так худо, что она поневоле бросала работу и садилась отдохнуть.
— Что с тобой? — спрашивал муж.
— Больно тяжела стала, — улыбалась она в ответ.
Не успели они снять последние груши и убрать под крышу репу и капусту, как Марьянце пришлось лечь.
— Не могу больше, — сказала она. — Сходи за какой-нибудь женщиной.
— Прямо сейчас? — оторопело спросил Тоне; была полночь.
— Завтра может быть слишком поздно. Слишком поздно? Эти слова подхлестнули Ерама.
Он торопливо обулся и зашагал так стремительно, что тень его в лунной ночи скачками неслась за ним: казалось, она и вовсе оторвется от него. «Теперь вот я бегу, — перенеслась его мысль в прошлое, и сердце сжалось от раскаяния. — А когда умирала мать, я и не пошевельнулся». Он смотрел, как подковки его сапог высекают искры из камней на дороге, и думал: «Живому надо помогать, а мертвому уж не поможешь…» Он думал о жене, о ребенке, которого еще не было, и смутно представлял себе свою будущую жизнь.
Занятый своими мыслями и заботами, он не замечал зловещих теней, не боялся призраков, как когда-то. Возвращаясь через час тем же путем, он мчался саженными шагами и злился на женщину, которая семенила позади и, казалось, ничуть не спешила. Когда они добрались до дома, Тоне был весь в поту, и от волнения его знобило.
Как полоумный, он влетел в комнату и увидел жену, которая, стискивая зубы, хваталась за спинку кровати и выгибалась дугой, точно силилась подняться и взлететь вверх.
— Скорее! — крикнул Тоне женщине, неторопливо входившей в горницу.
— Погоди, дай дух перевести! — ответила та и села на лавку. — Да не бойся ты, не помрет она у тебя, еще поживете.
Марьянца родила дочь. Повитуха положила ее на печь. Тоне молча разглядывал старообразное, сморщенное личико. Через некоторое время женщина положила рядом с первой девочкой вторую.
— Две? — удивился Тоне и поглядел на жену.
Она улыбалась.
— Двух работниц тебе принесла, — ворковала повитуха. — А на следующий год бы — двоих работников, вот и довольно будет.
Тоне был рад. Он стоял у постели и смотрел в лицо жены, светившееся теплом и нежностью.
— Марьянца, если дело пойдет так… — сказал он.
— А что, неладно это?
— Да нет, — испугался он, — я ничего не говорю. Лишь бы ты была здорова.
Но Марьянца долго не выздоравливала. Не скоро она смогла встать. Тоне едва справлялся с работой. В доме и в хлеву воцарился беспорядок, присутствие чужих женщин тяжелым бременем ложилось на хозяйство.
Однажды Марьянца поднялась, но ненадолго. Она была еще очень слаба и с трудом дотащилась до хлева. Потом она снова слегла и пролежала два дня. До самой весны она часто прихварывала, румянец никак не хотел возвращаться на ее щеки. Лишь с первым теплом, начав полоть, она почувствовала себя лучше.
— Если работа тебе во вред, отдыхай, — говорил ей Тоне. В глубине души он был доволен, что жена взялась за дело, но из-за детей боялся, как бы она не умерла.
— Мне только на пользу, если я немного подвигаюсь, — отвечала она. — Теперь я окрепну. А знаешь, я уж боялась — что-то со мной будет…
Лето вернуло ей силы. Лицо у нее загорело, она трудилась с утра до вечера. Все же она чувствовала, что здоровье у нее не то, что прежде, но никому не говорила об этом.
14
Девочек, рождение которых стоило матери здоровья, нарекли при крещении Марией и Анной. Обе были здоровые, пухлые, пили молоко, возились в траве и росли не по дням, а по часам.
Мицка, правда, сначала немного прихварывала, но за несколько месяцев выправилась так, словно ничего и не было. Разве что это ее сделало чуть помягче нравом. Мать любила ее не так, как Анку, хотя Мицка походила на нее больше, даже чуть-чуть косенькая была вроде матери. Может быть, именно поэтому Тоне оказывал ей предпочтение; девочка, чувствуя себя любимицей отца, льнула к нему. При каждом удобном случае он брал ее на руки и подбрасывал. Неловок он был притом донельзя и часто забывал, что в руках у него ребенок, а не топор.
— Не понимаю, чего это она хнычет, — дивился он.
— Сам-то ты хорош! — ласково укоряла его жена, с преданной любовью смотревшая на дочек. — Зашиб ее, а еще спрашиваешь.
— Ну ладно, ничего ей не сделается! — недовольно буркал отец.
И каждый раз Марьянце приходилось отбирать у него Мицку и успокаивать ее в своих объятиях. На том дело и кончалось — никогда они с мужем всерьез не ссорились из-за детей. Хватало других забот. С рождением девочек семья выросла вдвое, вдвое выросла радость, а работы стало больше в три раза.
Прежде супруги ложились в постель усталые, спали крепко и утром вставали отдохнувшими. Теперь они просыпались по нескольку раз за ночь. Зажигали лампу и склонялись над большой колыбелью. Порой им случалось утром проспать, и их застигал врасплох дневной свет, лившийся в окна. Работая в поле, Марьянца то и дело подымала голову и прислушивалась, не плачут ли дети. Тоне, косивший траву в саду, вдруг бросал косу и мчался домой, а когда он прибегал, там все было тихо. Беспокойство о дочерях пересиливало заботы о хозяйстве и скотине. Оно переполняло сердца родителей, пронизывало каждую жилку, томило их с утра до вечера, с вечера до утра. Они валились с ног от усталости, чувствовали себя связанными по рукам и по ногам и со страхом думали о приближающейся страдной поре.
— Трудно нам будет, — как-то вечером сказал Тоне. — Может, няньку возьмем?
Марьянца посмотрела на него. Эта мысль уже много раз приходила ей в голову, но она не решалась высказать ее. Да и характер у Марьянцы был такой же необщительный, как у Тоне, и только самый крайний случай мог заставить ее терпеть в доме чужого человека.
— Что ж, я не против, — сказала она.
В воскресенье она отправилась в приход, пробыла там до вечера и привела с собой бледную и робкую девушку. Родом она была из Новин, из бедной семьи, где люди пухли с голоду; из дому она ушла с радостью.
С ее появлением Ерамы уже меньше чувствовали ту большую перемену, которую принесли в их жизнь близнецы. Дети вскоре привыкли к своей тихой, грустной няне. Тоне и Марьянца днем могли работать без помехи. Каждый вечер Мицка и Анка встречали родителей перед домом и хныкали, пока их не брали на руки.
Так миновало самое трудное время, когда Ерамам приходилось нести на себе тройную тяжесть, и бремя, которым были для них Мицка и Анка, становилось все более легким и незаметным. Девочки быстро росли; через несколько лет нужда в няньке отпала. Они уже сами могли сделать для себя, что нужно, когда родителей не было дома: устав, они ложились где-нибудь в тени и засыпали. Они наполняли дом веселым щебетом, говором и смехом, ссорами и плачем.
Тоне улыбался и думал, что в ерамовском доме еще никогда не было такого оживления. Когда дочери подросли, отец стал ими заниматься больше, чем прежде. А они как-то отошли от матери и обратили всю свою любовь на него, потому что он старался их позабавить, подкидывал их на коленях — обеих сразу, поднимал под самый потолок, пел им смешные песенки и делал игрушки.
Конечно, все эти игрушки были игрушками для мальчиков. Хотя Тоне давно забыл о своем детстве, теперь ему живо вспомнились те дни, когда он бегал вокруг дома в одной рубашонке. Казалось, будто и сам он стал немного ребенком. Он учил дочек строить домики и хлевы, плел для них корзиночки, делал маленькие сани и грабли, вырезал им из дерева тележку и маленького бычка, корытце для воды и трещотку. В один из воскресных дней он даже соорудил для них на речке водяную мельницу с колесом. Девочки смеялись от радости, и отец смеялся вместе с ними. Немного сконфузился, когда сосед застал его за этим занятием.
— Дети есть дети, — сказал он в свое оправдание.
У девочек в общении с отцом развился несколько мужской характер. Особенно у Анки, которая по натуре была жестче Мицки, не интересовалась ни кухней, ни куклами и не чувствовала особой привязанности к матери, хотя Марьянца по-прежнему не могла скрыть своего пристрастия к ней. В разговорах сестры не нежничали и говорили друг о друге так, точно они мальчики, а не девочки:
— Он меня ударил, озорник, — жаловалась Мицка на Анку.
— А ты меня первый, камнем, — врала Анка, не останавливавшаяся ни перед чем, когда дело шло о ее интересах.
Тоне и Марьянца, отдыхая от работы, наблюдали, как их дочки копошатся на обочине поля, городят частоколы из палочек, и дивились, что малыши в своих детских потехах более неутомимы, чем взрослые в своей работе.
— Растут, — сказал как-то Тоне.
— Скоро нас перегонят, — вздохнула жена. — Помощницы тебе будут, когда я помру.
У Тоне при этих словах сжалось сердце: он не любил думать о смерти.
— А вот ни помощника, ни хозяина у нас не будет, — медленно и задумчиво проговорил он.
Марьянца долгим взглядом окинула мужа. Она почувствовала — Тоне высказал то, что с давних пор носил в своем сердце. А что она могла ему ответить? Это тяготило и ее тоже, но словами горю не поможешь. Что кому на роду написано, то и сбудется.
15
Летом, когда над землей дрожало знойное марево, когда стрекозы летали с куста на куст и только от леса и воды веяло прохладой, Марьянца жала траву невдалеке от ручья. Сама того не заметив, она наступила на гадюку, и та ужалила ее в голую ногу.
Марьянца вскрикнула и отскочила в сторону, но тотчас же убила змею серпом, перерезав ее пополам. Рана была едва заметной, точно от укола тернового шипа. По ноге текла тоненькая струйка крови, спекаясь над щиколоткой красной ягодой.
Сорвав лист подорожника, Марьянца вытерла кровь и далеко отбросила листик. Потом срезала однолетний ореховый побег, нанизала на него обе половинки пестро разрисованной гадюки и повесила на куст, чтобы отпугивать змей. Мертвую гадюку тотчас облепила мошкара.
Анка, бывшая с матерью, во все глаза глядела на обрубки змеи, висевшие в ярком солнечном свете над ее головой.
— А почему надо обязательно однолетнюю ореховую ветку? — спросила она.
— Иначе гадюка снова оживет.
— Даже если перерезана?
Мать не знала, что ответить. Она продолжала жать, стараясь держать укушенное место на солнце. Нога болела все сильнее, и Марьянце показалось, что голень отекает. Там, где была только маленькая ранка, появилась краснота и припухлость, грозившая разлиться по всей ноге, от щиколотки до колена.
Через некоторое время Марьянца отложила серп и села у тропинки.
— Что с вами, мама? — спросила Анка.
— Нога болит, — ответила та. — Домой надо идти. Собери в корзину то, что я нажала, и иди за мной.
Марьянца двигалась с трудом. Нога совсем онемела. По дороге она выломала палку и шла, опираясь на нее. Подойдя к дому, Марьянца почувствовала, что теряет сознание, и, едва добравшись до лавки, упала на нее.
Собрав последние силы, Марьянца приложила к ранке земли, чтобы унять жар. Боль расходилась по всей ноге; начался озноб, как в лихорадке. Марьянца легла в постель.
Мицка позвала отца, который косил на лугу, повыше дома. Он пришел и, удивленный, остановился у кровати.
— Гадюка меня ужалила, — сказала Марьянца.
— Покажи!
Ему стало не по себе, даже дрожь пробежала по телу. Склонившись, он пощупал ногу жены около раны.
— Ай! — вскрикнула она. — Если не полегчает, то всю ночь спасу не будет.
— Если не полегчает, придется заговорить, — веско заключил Ерам.
Но легче не стало. Мышцы сводило судорогами, боль стала невыносимой. Марьянца стискивала зубы и стонала; время от времени она теряла сознание.
— Надо идти, — решил Тоне. — Пойду! — И наказал Анке: — Смотри за матерью. По дороге я кликну Мицку.
Он зашел за хлев и поглядел на луг. Под дубами Мицка ворошила сено.
— Мицка! — крикнул он, набрав полную грудь воздуха. — Ступай домой!
Девочка побежала вниз по склону. Тоне стремительно зашагал по саду, подобрал по пути зрелую грушу и сунул ее в карман; перескочив через ограду, он угодил в канаву с водой, так что всю дорогу в башмаках у него хлюпало. По лесу он шел напрямик, продираясь сквозь чащу и перебираясь через кучи валежника, пока наконец не выбрался на тропу.
Старый Робар, за которым он шел, ворошил на своем покосе сено, попыхивая коротенькой трубкой.
— Идем скорей со мной! — не помня себя, крикнул Тоне, у которого не выходил из памяти растерянный взгляд жены, провожавший его до дверей.
— Что случилось?
Узнав, что жена Ерама в опасности, старик выбил трубку, сунул ее в карман и положил грабли на плечо.
— Погоди, я сейчас.
Старик пошел к дому. Четверть часа ожидания показались Ераму вечностью. Когда сосед вернулся, они двинулись в гору. Погрузившись в тревожные мысли, Тоне едва отвечал разговорчивому старику Робару.
Они пришли. Широко раскрытые испуганные глаза Марьянцы искали чего-то под потолком. Лицо ее поминутно искажалось судорогой боли. Нога лежала на подушке, голая, распухшая, горячая, дрожащая мелкой дрожью.
— Больно? — спросил Робар.
Марьянца только кивнула.
— Скоро полегчает, — важно сказал старик и снял шляпу.
Он полез в карман и вытащил оттуда маленькую книжечку в пергаментном переплете, огарок тоненькой восковой свечки и кусок свинца величиной с боб.
— Марьянца, гадюка тебя укусила или просто воспалилась нога? — спросил он.
— Гадюка это была, — медленно проговорила Марьянца. — Я ее убила.
Робар зажег свечу и снова повернулся к больной, которая казалась уже более спокойной.
— Марьянца, веришь ли ты в заговор? — спросил он. — Если не веришь, он тебе не поможет.
— Верю, — ответила она истово.
Старый Робар опустился у кровати на колени и положил свинец на рану. В левой руке он держал свечу, в правой — раскрытую книжечку.
— Приготовь кусок хлеба, — оглянулся он на Тоне. — В очаге есть огонь?
— Есть, — ответил Тоне. — А вот хлеб.
Робар сделал над ногой Марьянцы крестное знамение и стал читать по книжечке молитву. Он старался придать своему голосу как можно больше мрачной торжественности, от которой у всех, кто был в доме, холодок побежал по спине.
— О ты, святой Магер! О ты, святой Мариц! О ты, святой Штефан! Яд, откуда ты пришел, туда же и уйди! Прочь, яд, от Марьянцы назад!
Потом он сказал Марьянце:
— Прочти пять раз «Отче наш», пять раз «Богородице, дево, радуйся» и «Верую», а я тоже буду про себя молиться.
Торжественные минуты тихой молитвы тянулись долго. Потом старик взял кусок хлеба и стал говорить над ним.
— Бог отец, Бог сын и Бог дух святой. Яд, заклинаю тебя, — тут он устремил пронзительный взгляд на ногу Марьянцы, дергавшуюся от боли, — иди на этот хлеб, а с этого хлеба иди в гадюку, во имя Бога отца, Бога сына и Бога духа святого и во имя святого Шемпаса.
Он трижды перекрестил хлеб, потом три раза плюнул на него и отдал Тоне.
— Брось его в огонь!
Тоне послушался. Хлеб съежился в огне и почернел. Старый Робар читал дальше, голос его звучал несколько иначе, не так грозно.
— Стоит святая гора, на той горе святой престол, на том престоле святой Шемпас, и держит он в руках святой меч. Пришла к нему матерь Божия и принесла на руках милосердого Иисуса и сказала святому Шемпасу: «Почему ты не поможешь страждущему человеку, страждущей Марьянце?»
Они прочли «Верую», громко, нараспев, слово за словом. Робар поднялся, задул свечу, снял свинец с раны и сказал:
— Коли будет на то господня воля, святой Шемпас поможет тебе.
Робару принесли водки и хлеба.
— Только бы яд до сердца не дошел, — с дрожью сказал Тоне.
Старик налил себе водки и поднял стаканчик к свету, как бы разглядывая, чист ли напиток.
— Если уж так суждено, то ничего не поможет, — сказал он.
— Может, за священником сходить?
— От этой напасти так быстро не избавишься, чтобы как рукой сняло. До утра можно подождать.
Ночью Марьянца потеряла сознание и долго не приходила в себя. Все тело ее так онемело, что она не могла пошевельнуться.
— Священника! — прошептала она чуть слышно.
«Неужто и правда быть беде?» — сжалось сердце у Тоне.
В Новинах появился новый молодой священник, который, чтобы не опоздать с причастием, всю дорогу бежал бегом, по первой заре, под петушиное пение и трели соловьев.
Перед домом стояла Мицка. Увидев отца и священника, она опустилась на землю и громко заплакала.
Тоне все понял. Они опоздали. На него свалилось такое тяжкое горе, какого он еще не знал. Он припал к бревенчатой стене, задыхаясь от слез, струившихся по его щекам.
16
Мицка и Анка остались без матери в том возрасте, когда они уже не были детьми и еще не стали взрослыми девушками. Они были знакомы со всеми крестьянскими работами, но в домашнем хозяйстве ничего не смыслили. Тоне оказался в том же положении, в каком был, когда умерла его мать: снова на него легли и уход за скотом, и стряпня. Девочки робко глядели на него, а помочь не умели.
Как-то раз он был до того утомлен и подавлен, что, переступая как-то вечером порог дома, упал бы, если бы не успел ухватиться за косяк двери и сесть на скамью. Перепуганные Мицка и Анка заплакали. Отец попросил воды, жадными глотками выпил ее, и ему стало легче.
— Что-то у меня в глазах потемнело, — сказал он. — Не ревите!
А сам подумал: «Что, если я тоже умру, и девчонки останутся одни на свете?» Это так его испугало, так потрясло, что он не мог сдержать слез. После смерти жены он очень сдал, ослабел душой и телом, и сам это чувствовал. Так они плакали втроем, а потом сидели молча, пока не стемнело и за садом, в куче выкорчеванных пней, не раздался сиплый крик сыча.
Тогда Тоне подумал, что ни плачем, ни молчанием сыт не будешь.
— Сходи за водой и налей в горшок! — велел он Анке. — А ты, Мицка, разведи огонь! Что дальше делать, я потом скажу.
— Почему это я за водой, а не Мицка? — заупрямилась Анка.
— Мицка боится.
— Я тоже боюсь.
На самом деле она совсем не боялась или боялась самую чуточку. Ей просто не хотелось слушаться. Тоне уже давно заметил, что характеры у его дочек совсем разные. Теперь он в этом с горечью убедился. Мицка такая же, как мать: коренастая и добродушная, немного медлительная в движениях и несловоохотливая. Анка же вытянулась вверх, была крепкого сложения; на ее веснушчатом продолговатом лице застыло жесткое выражение. В работе за ней было не угнаться, и за словом она в карман не лезла. Нет, Тоне не мог себя упрекнуть, что он к ней несправедлив, хотя Мицка была ему ближе. Но все-таки Анка видела, что отцовский взгляд никогда не ласкает ее, а как ласково глядела на нее мать и как нежно гладила ее по голове! Анка чувствовала, что вместе с матерью потеряла все, и потому была теперь еще более строптивой и задиристой.
— Ну, учитесь, — гудел Тоне, сидя у очага. — Мицка, сыпь муку в кипяток! Не всю сразу. Да мешать не забывай! Соль положила?
— Положила. Ой, горячо!
Мицка обожглась. Анка злорадно смеялась.
— Отодвинь горшок! Так… А то вся наша стряпня подгорит. Будете мне помогать. Ты, Мицка, по кухне, а ты, Анка, в хлеву…
— Конечно, я — в хлеву, а Мицка по кухне, — огрызнулась Анка.
— Ну, ну, ладно. Ты посильнее.
— Она лентяйка, ей лень поворачиваться.
— Опять ты за свое, — остановил ее отец. — Не будь ты язвой! Сделаем так: сначала в хлеву поработаешь ты, а потом Мицка, а ты будешь тогда на кухне. Вам надо всему научиться.
На том и порешили. Анка больше не перечила.
В этот вечер похлебка, к огорчению Мицки, подгорела. Тоне зачерпнул три раза и потом облизал ложку и положил ее на стол.
— Ну уж как выйдет, так и выйдет.
Так дело и шло. Девочки хватались за все подряд, были неопытны и неловки. Тоне постоянно приходилось присматривать за ними и помогать. Но он и сам толком не разбирался в домашнем хозяйстве и тем более не мог быть тут учителем. Анка и Мицка действовали по собственному разумению. Все страдали: дом, скотина и люди.
— Как это ты один с девчонками управляешься? — спрашивали Тоне соседи, возвращаясь вместе с ним из церкви.
— Да как Бог на душу положит, — отвечал он. — Они ведь растут. Будь они с каждым днем меньше, тогда бы другое дело.
Молчание. Отойдя, он услышал за своей спиной:
— Говорят, денег у него куры не клюют, а сам до того скупой, что работницу нанять боится.
Тоне стало не по себе, и он еще больше насторожил уши.
— Сундук с талерами? А кто их видел?
— Люди говорят. Да и на что ему работница! Он, глядишь, женится, чтоб ему еще чего перепало. Знаем мы его.
Тоне ускорил шаги, чтобы не слышать этих толков. То, что люди считают его более богатым, чем он был в действительности, одновременно и сердило его, и было ему лестно.
За обедом слова соседей не выходили у него из головы.
— Вы когда-нибудь слыхали, — обратился он к дочерям, — что у нас дома полный сундук талеров?
Сестры переглянулись и некоторое время молчали.
— В церкви, на уроке закона Божия, нас ребята дразнили, — призналась Анка, покраснев до ушей.
— Вот как! — кашлянув, сказал Ерам. — И что же вы сказали?
— Да Анка им дала кулаком по носу, — сообщила Мицка.
Тоне подумал и рассмеялся.
— Ну, а как вы думаете, правда это?
Мицка никогда о деньгах не думала. Анка же видела, как отец, когда надо было платить за похороны матери, отпер расписной сундук и достал оттуда талеры. А продав теленка, высыпал выручку на дно сундука. Тогда Анка, лежа в постели, приподнялась, чтобы поглядеть, но отец быстро запер сундук.
— Правда, — теперь заявила она. — Вон он, сундук-то.
— И что он полон доверху — знаешь?
— Немного не хватает, — ответила она.
Тогда Тоне снял с пояса ключ, отпер сундук и приподнял фальшивое дно, под которым скрывался клад. Нет, сундук не был полон. Лишь один его угол занимали блестящие столбики. И все же серебра было столько, что девочки, имевшие самые фантастические представления о ценности денег, глазели на него, словно завороженные. Мицка застыла в немом изумлении, точно перед сияющим алтарем, а в Анкиных глазах вспыхнула алчность.
Ерам не заметил этого огня, он смотрел только на Мицку. Ему казалось, что дочери чувствуют то же, что чувствовал и он, когда отец посадил его, голопузого мальчишку, на кучу монет.
— Ну, что скажете, а?
— Кому вы это отдадите? — спросила Анка.
У отца перехватило дыхание.
— То есть как это — кому отдам?
— Да так, — смущенно проговорила Анка, — перед смертью.
Отец только теперь увидел жадный блеск в глазах дочери. Он не сказал ни слова, запер сундук и сел на него. Сердце защемила глубокая тоска — он сам не знал, откуда она взялась. Тоне задумался; волнение его постепенно утихло, и в конце концов он усмехнулся над самим собой.
Он снова отпер сундук, достал из него талер и подал Мицке, та начала было отнекиваться. Второй талер он дал Анке.
— Берегите их! — сказал он. — И если кто-нибудь скажет, что у нас целый сундук денег, молчите! Пускай люди думают, будто наш сундук и не запрешь никак, до того он полный.
Девочки кивнули, соглашаясь. Тоне запер сундук и надел ключ на пояс, который по примеру покойного отца никогда не снимал.
17
Приближался день святого Гермагора. Солнце палило с утра до вечера, кузнечики трещали без умолку, на камнях грелись гадюки. Плешец весь горел в золотом сиянии. Было слышно, как на поле отбивают и точат косы. Косцы время от времени протяжно перекликались, а то запевали песню: раздольная и печальная, полная тоски, она уносилась в долину, переливаясь и звеня, как звуки струн.
Тоне в это лето не нанимал косцов, косил сам, участок за участком. Ему помогала Анка. Скошенную за день траву на следующий день сгребали и убирали на сеновал. Над Плешецем время от времени собирались тучи, погромыхивал гром, но дождя не было. Ерамов мучила жажда. У Мицки все во рту пересохло, она искала в кустах землянику и ежевику, чтобы утолить жажду. Анка жевала кислицу.
— Можно, я схожу за водой? — наконец не выдержала Мицка.
Тоне не ответил, пока не обкосил кругом большой камень, выглядывавший из травы.
— Я сам схожу, — сказал он. — Заодно и в хлев загляну.
Он повесил косу на ветку граба, поднял мимоходом пучок сена и помял в руке, чтобы определить, насколько оно высохло, а потом медленно зашагал между кустами к дому, соломенная крыша которого виднелась среди деревьев далеко внизу.
На скамье перед домом он, к своему удивлению, увидел чужую корзину, в которой лежало какое-то тряпье и мешок. Тоне поискал глазами владельца корзины и, никого не обнаружив, пошел в хлев кинуть коровам сена.
Двери хлева были распахнуты настежь, Тоне в изумлении замер на пороге. Возле яслей стояла коренастая женщина, сложением напоминавшая покойную Марьянцу. Лицо ее бороздили крупные складки; Тоне никогда прежде ее не видел. Рот у незнакомки был большой и почти беззубый, — так что при разговоре она шлепала языком по нижней губе. Из-под юбки, подоткнутой на боку, виднелись пестрая исподница и красные чулки. Она ничуть не смутилась, заметив вошедшего хозяина.
— М-да, — сказала она, поднеся уголок платка ко рту, чтобы скрыть отсутствие зубов, — иду это я мимо, слышу, что коровы мычат, вот и зашла им сена подложить.
Тоне подавил зашевелившееся в нем недоверие и, хоть и не знал этой женщины, не стал спрашивать, кто она и откуда.
— Мы на работе, — пояснил он, — некогда было.
— Я так и думала. — Женщина вышла из хлева. — Трудно тебе без жены-то. М-да, что это я сказать-то хотела — хороший скот у тебя, Тоне.
Тоне запер хлев, дивясь про себя тому, что женщина его знает. Он направился с ней к дому, гадая, откуда она может быть. Приставать с расспросами он не любил.
— Ты тут вроде бы ни разу не бывала, — кашлянув, сказал он.
— И правда, — согласилась она, несколько замявшись. — Я в Новинах была, а теперь иду домой. Ты меня не узнаешь? — спросила она, усевшись в горнице на скамью и облокотившись о стол.
Тоне торопился, ему не терпелось кончить косьбу, и он остался стоять.
— Что-то не похоже, чтобы я тебя когда-нибудь видел.
— Да мы же почти соседи, — деланно засмеялась женщина, а ее маленькие карие глазки обшаривали комнату. — Ну, не с тобой соседи, так с Ограйником. Они на бугре, а мой домишко в овраге.
Теперь Ерам припомнил. Как-то раз он слыхал о вдове, живущей в ветхой хибарке по другую сторону Плешеца.
Ее мужа, который, как говорили, был никудышный человек, убило деревом на порубке. Вдова при нужде заменяла повивальную бабку, разносила по домам целебные травы, чтобы прикрыть этим свое нищенство. Слыхал он и еще какие-то пересуды о ней, но пропустил их мимо ушей и не запомнил.
— Ага! — проговорил он. — Значит, ты та самая! Вроде бы Уршей тебя зовут?
— Мретой. Мрета мое имя, м-да, — шепелявила она, уставясь на расписной сундук. — И не боишься ты вот так оставлять дом без присмотра?
— А что?
— Как бы не обокрали.
— Да что у меня воровать-то? — отмахнулся Ерам кисетом, из которого доставал табак. Но на душе у него стало тревожно.
— Говорят, ты человек денежный.
Слух о Ерамовых талерах разнесся по всем окрестным холмам и долинам. Даже те, кто сначала не верил в это, со временем уверовали и стали рьяно убеждать других. Шептали даже, будто Ерам, боясь воров, каждую ночь кладет под подушку топор. А Тоне ничего такого и в голову не приходило. Дом всегда стоял открытый настежь. Теперь Тоне впервые охватил страх перед грабителями. Он поглядел на сундук и уселся на него.
— Да нет, какой там денежный.
Раньше ему льстило, когда говорили о его богатстве, а теперь захотелось, чтобы никто о нем не знал.
— Ну, много у тебя этого добра или мало, — сказала Мрета, не спуская глаз с сундука, точно ее заинтересовали нарисованные на нем картины, — плохих-то людей хватает, зато честных с каждым днем все меньше становится. Ясное дело, ты, как и я, один, работы по горло: коли ты дома, так на поле тебя нет. Уж я-то это знаю, самой приходится дом бросать, чтобы на хлеб себе заработать. Так у меня хоть никто ничего украсть не может, потому что у меня и нету ничего. А если бы что-нибудь было, хоть один-разъединственный талер, то день и ночь бы стерегла…
Ерам начал догадываться, куда она клонит.
— А сына у тебя разве нет? — попробовал он переменить разговор.
— И есть и нет. По Боснии шатается и весточки о себе не подает, окаянный!
— А зарабатывает много? — заинтересовался Тоне; он видел в приходе парня, который вернулся из Боснии и по воскресеньям бренчал в карманах деньгами.
— Зарабатывает-то хорошо, да, поди, тут же все и пропивает.
Мрета спохватилась, что сказала лишнее, и прикусила язык. Она окинула Тоне пронзительным взглядом и, убедившись, что он пропустил ее слова мимо ушей, прямо перешла к делу:
— А почему бы тебе не жениться?
Ерам после смерти Марьянцы еще ни разу не подумал о женитьбе. И теперь он быстро и решительно отогнал эту мысль.
— Стар я уже о всяких глупостях думать, — сказал он, проводя рукой по волосам.
— О каких это глупостях? — загорячилась Мрета. — Кто говорит о глупостях? Тебе хозяйка нужна, а дому сторож.
Тоне начинал раздражаться. Эта женщина чем дальше, тем больше была ему неприятна. Однако он сдерживался из последних сил.
— Да вот девчонки подрастут.
— Конечно, подрастут. И замуж их выдашь. А тебе нужен кто-нибудь, кто бы за тобой ходил, когда ты состаришься. А может, еще и сын у тебя будет…
— Это у меня-то, когда меня уж в дугу согнуло? — Ерам потерял терпение. Он встал с сундука и взялся за бочонок, чтобы отправиться за водой.
— Возьму одного зятя в дом, вот мне и сын.
— Так ведь кабы знать, каков он будет!
— А мы его сначала поглядим со всех сторон.
— Твоя голова, тебе и думать, — нахмурилась Мрета и встала. — Грош на дороге только один раз человеку попадается — не поднимешь, так другой прохожий подберет, — сказала она и, выйдя из дома, взвалила на спину корзину. — Ну, счастливо оставаться.
Тоне процедил сквозь зубы: «С Богом», — и долго смотрел, как она ковыляет по тропинке, ведущей к Робару. Когда Мрета скрылась за поворотом, он сплюнул, но неприятное ощущение не исчезло. Впервые он отыскал ключ от входной двери и запер дом.
18
Тоне и не заметил, как Анка стала выше его ростом и сильнее. Мицка же раздалась в ширину. Она была тихой, работящей и безропотно-покорной девушкой. Анка же голосом и повадками смахивала на парня. Она колола дрова, косила траву, таскала сено, как парень, и даже умела, перекликаясь, играть голосом, как парни. Когда была Анкина очередь стряпать, обед получался скудным и невкусным. За столом она всегда отрезала себе самый большой кусок хлеба.
Тоне косился на нее, замечая, что в клецки с одной стороны шкварок положено больше, чем с другой, и та сторона, что пожирнее, повернута к Анке. Мицка хватала миску и поворачивала ее так, чтобы шкварки оказывались перед отцом. Анке кровь бросалась в лицо, она стукала сестру ложкой, а та принималась плакать.
— Будет когда-нибудь тихо? — ворчал отец. — Постыдились бы!
В пору девичества сестры вступили одновременно: глаза их засветились беспокойным блеском. Они вертелись перед зеркалом величиной с ладонь, тщательно причесывались, даже умываться стали чаще. По воскресеньям шли в церковь, разрядившись в пух и прах. После службы обе теперь задерживались в селе дольше, чем прежде. На новые платья, белые передники и головные платки пошло немало талеров из расписного сундука.
По субботним вечерам и по воскресеньям вокруг дома бывало оживление. Из деревни приходили парни, иногда заглядывали в избу, шутили и смеялись с девушками и наконец уходили. После долгих лет безмолвия в этом безлюдье повеяло жизнью и стало шумно.
Тоне все видел и слышал и тихонько усмехался в усы.
— Отдадите вы за меня вашу Анку? — спросил его однажды наполовину в шутку, наполовину всерьез один из парней.
— Если она захочет, почему бы и не отдать? Одной из них так и так придется уходить из дому.
— Только не мне, — бросила Анка.
Мицка поглядела на отца и промолчала.
Несмотря на разницу характеров, сестры ни разу не поссорились по-настоящему. Может быть, благодаря покладистому нраву Мицки, которая всегда уступала Анке без грубых слов, плача или драки. Только в одном они не могли сойтись. Когда разговор заходил о том, которая из них должна будет после замужества переселиться в дом мужа, глаза обеих загорались одинаковым упорством.
— Ну, ясно же, — говорила Анка. — Старшая останется дома, а младшая пойдет к мужу.
— Смотри-ка! Может, ты и есть старшая?
Они знали, что по возрасту одинаковы, но постоянно забывали об этом. Мицка считала себя старшей из-за своей дородности, а Анка, выросшая почти под потолок, считала это доказательством своего старшинства. Она и в самом деле выглядела старше из-за мужеподобного склада своего веснушчатого лица.
— А может, ты? — кипела Анка. — Ты рехнулась, что ли?
— Уж во всяком случае, я не младше тебя. В один день родились.
Вспомнив об этом обстоятельстве, они умолкали. Мицка всем сердцем была привязана к отцу и к дому, и ей было бы невыносимо тяжело расстаться с родным очагом. Анка же была точно отравлена мыслью о талерах, спрятанных в сундуке. Если она уйдет из дому, ей дадут только приданое. Если останется, то после смерти отца сундук перейдет к ней со всем, что в нем сохранится. Мысль об этом не покидала ее ни днем ни ночью.
— А может, я и правда старше тебя?
— Это как же, хотела бы я знать?
— Не могли же мы сразу обе родиться. Поняла?
— Ладно, — решила Мицка, — спросим отца!
За ужином они несколько раз подталкивали друг друга локтем, но ни одна не решалась заговорить первой.
— Ну, что у вас там еще? — поднял голову отец.
— Да вот нам охота знать, которая из нас родилась раньше, — отважилась Анка. — И мы решили вас спросить.
Тоне недовольно оглядел дочерей. Продолжая жевать, он раздумывал, не зная, что ответить на вопрос. Господи, они же сначала были такие махонькие и такие похожие, что он их почти не различал. Может быть, даже имена, данные им при крещении, потом перепутались.
— Понятно, одна родилась раньше другой, — сказал он. — Да только я не знаю которая. А в чем дело?
— Мы хотим знать, которая останется дома.
— Одна останется. Двум места не хватит.
— А которая?
— Та, которая захочет.
— А если мы обе хотим?
У Ерама екнуло сердце. Никогда в доме не было ссор, а сейчас он вдруг почувствовал, что добром дело не кончится. Он посмотрел на дочерей, глаза которых светились немым упорством. Это встревожило его, он облизнул ложку и со стуком положил ее на стол.
— Грызться между собой из-за этого мы не будем, — хриплым голосом сказал он. — Та, к которой раньше посватаются, пойдет из дома, а другая останется. А если кто не согласен… — И, не договорив, умолк.
Твердость отца подействовала на дочерей, они прекратили спор. Не поднимая глаз, обе молча ели, зачерпывая ложками из миски.
После этого сестры со страхом стали думать о том, что вот-вот порог дома переступит какой-нибудь жених. Но парней они все-таки не прогоняли — у обеих кипела в жилах молодая кровь. Парни из деревни приходили по ночам и стучали в окна. Ерам, который уже несколько лет спал на чердаке, снова переселился на печь. Помня собственную молодость, он не доверял дочкам. При каждом шуме он просыпался.
— Мицка! — постучал однажды кто-то в окно.
Девушки подняли головы.
— Отец спит? — спросила Мицка.
— Не знаю, — ответила Анка. И спросила парня: — Чего тебе?
— Пусть Мицка подойдет к окну.
Мицка тихонько поднялась, накрылась шалью и подошла к окну. Тоне почувствовал, как в горницу ворвалась струя холодного воздуха. Шепоту и приглушенному смеху, казалось, не будет конца. Тоне не вытерпел:
— Что там такое?
Мицка нырнула в постель и притаилась под одеялом. За открытым окном стояла неподвижная тень.
— Будет когда-нибудь покой или не будет? — повысил голос Ерам, слез с печи и запер окно.
Со двора ему ответили сердитым восклицанием.
Встав поутру, чтобы идти в лес за листьями для подстилки, Тоне не мог найти корзины ни в сарае, ни под навесом.
— Отец, гляньте-ка, — показала ему Мицка на вершину самого высокого грушевого дерева.
Все корзины и короба были привязаны к верхним веткам и качались, будто зрелые плоды.
— Вот черт! — разозлился Ерам. — Кто это начудил?
Мицка знала, но молчала. Знал и Тоне.
— Пусть только попробуют еще раз прийти, я их колом по загривку, — клялся он, с трудом влезая на грушу.
Парни пришли, но прогонять их он не стал.
19
После этого между сестрами воцарился мир. Они уже не препирались о том, кто из них останется дома; ждали, что явится жених, и все само собой решится. По крайней мере, Мицка ждала этого, у Анки же в голове бродили другие мысли.
Самые большие холода уже кончались, солнце изо дня в день пригревало все сильнее, и повсюду пробуждалась жизнь, когда в дом наконец постучался жених. Это был Тавчаров Янез, дом которого с прилегающей к нему четвертью надела стоял на склоне горы над Новинами. Янезу нужна была жена, которая бы стерегла дом и ходила за коровой, когда он отправлялся на дальние лесные промыслы.
Парень был красивый и сильный, слыл честным малым и хорошим работником, и Тоне обрадовался ему. О том, что Янез пришел свататься, Ерам догадался по праздничной одежде гостя.
Янез сел к столу, хозяин принес ему хлеба и водки.
— Где девушки? — спросил парень.
Тоне не знал, к которой он будет свататься, так что счел за лучшее позвать обеих. Мицка в это время кидала навоз, Анка в дальнем конце сада рубила сухие ветки и связывала их лозой в вязанки.
— Что такое? — откликнулась она, выпрямляясь, когда отец позвал ее.
— Иди домой! Жених пришел.
— А кто?
Тоне сказал.
Девушка нахмурилась. Она вспомнила, как на ярмарке Янез лишь ей одной покупал гостинцы, а на Мицку не обращал никакого внимания. Больше всего Анке хотелось сейчас остаться в саду, но перечить отцу она не решалась. Она придумала другой выход.
— Сколько приданого вы думаете дать? — спросила она, идя с отцом к дому.
— Да о чем говорить! — отмахнулся Тоне. — Что ты, что Мицка получите столько, сколько положено хозяйской дочке.
— Не сходите с ума! — вскипела дочь. — Раздадите все деньги, а вам ничего не останется. Они же вам нужны будут под старость. А если беда какая в доме?.. Когда помрете, еще будет не поздно кому-нибудь их после вас получить.
Ерам смерил ее долгим взглядом. Ум его был слишком неповоротлив для того, чтобы разгадать ее замысел.
— Ну, уж как-нибудь поладим, — пробормотал он.
Мицка уже сидела у стола и разговаривала с женихом. Когда в горницу вошла Анка, глаза у парня заблестели. Анка, при всем своем неробком нраве, покраснела до ушей; Мицка и отец переглянулись.
Разговор сразу замер. Никто не знал, что сказать. Жених взял ножик и вертел его в руках.
— Пойди, зажарь ему яичницу! — мигнул Тоне Мицке.
— Я зажарю! — отозвалась Анка, прежде чем жених успел отказаться.
Она исчезла в сенях. Это показалось ей наилучшим выходом из неудобного положения, в котором она очутилась. Янез глядел ей вслед. Немного спустя поднялась и Мицка и вышла из комнаты.
Ерам чувствовал себя неловко, но что предпринять, не знал. Ясно было, что Янез пришел свататься к Анке, а она нарочно избегает его, хотя этого не следовало бы делать. Жених тоже был смущен. Он сказал несколько слов о погоде, о плохой дороге и наконец решился:
— Я к вам по делу пришел, Ерам.
— Да и мне так кажется, — ответил хозяин, не без симпатии глядя на гостя.
— Жена мне нужна. Вот я и подумал, не отдадите ли вы за меня вашу Анку. Дом мой вы знаете, обо мне тоже, я думаю, ничего худого не слыхали.
— Кабы все такие были! — поддержал его Тоне. — Все бы такие были! Кто тут что-нибудь против скажет? Только бы Бог здоровья дал!
У парня камень с души свалился.
Между тем в сенях схватились Мицка и Анка.
— Ты чего за мной притащилась! — прошипела Анка. — Сидела бы в горнице.
— Так не ко мне же сватаются.
— А я за него не хочу.
— Почему это не хочешь?
Анка не ответила и сердито загремела посудой. Подав на стол яичницу, она вознамерилась тотчас уйти. Но отец окликнул ее:
— Анка, присядь-ка! Куда тебе торопиться?
— Посуду мыть.
— Погоди! Вот Янез к тебе сватается.
Анка остановилась посреди комнаты. Она растерялась, стояла вся красная, пытаясь сохранить спокойствие, не осрамить дом.
— Так он мне ничего не говорил.
— Ну, так говорит теперь. Разве не самое время?
— Анка… — начал было парень, но девушка больше уже не могла владеть собой и вылетела из комнаты.
Тоне был глубоко уязвлен ее поведением. Он посмотрел на смутившегося парня, тихо выругался, встал и вышел.
— Анка, ступай в горницу! — решительно приказал он. Никогда еще его глаза не горели таким гневом. — Куда это годится!
— Не пойду я за него.
— А за кого ты пойдешь?
— Я… я не пойду из дому.
Тоне остолбенел. От вспыхнувшего в нем гнева и от стыда перед парнем он не находил слов. Мицка, которая в это время стояла на пороге дома и глядела вниз, в долину, резко обернулась. Вот оно что! Сестра обманула ее. Бессовестная! Несмотря на свой мирный характер, Мицка вспыхнула.
— Слыхали, что она говорит? — Губы ее дрожали от обиды. — Мы по-другому договаривались. Та, к которой первой посватаются, уйдет из дому!
— Ну, и выходи за него сама, раз он тебе так люб!
— Он не ко мне сватается. Ты за него пойдешь!
— Ну уж нет. Лучше в работницы наймусь.
Они и думать позабыли о том, что в доме сидит чужой человек; страсти разгорелись, как пожар. Отец махал руками, словно желая примирить дочерей, и оглядывался на дверь, ведущую в горницу. От срама он готов был провалиться сквозь землю.
Девушки вот-вот вцепились бы друг другу в волосы, если бы Мицка вдруг не расплакалась и не скрылась на чердак. Анка, умолкнув на полуслове, тоже разревелась от гнева и убежала в хлев.
Тоне вернулся в горницу, не решаясь взглянуть на гостя. Никогда не доводилось ему испытывать такого стыда, даже в тот раз, когда он перед свадьбой признался в своем грехе священнику. Жених горько усмехался, глядя на лежавший перед ним каравай хлеба.
— Девки что телята, — оправдывался Ерам, провожая его до колоды, из которой поили скот. — Как бы ни хороша была дорога, они все норовят или под гору, или вверх удариться.
20
Не будь Мицка такой покладистой и рассудительной, в доме теперь воцарился бы сущий ад. Но она послушалась отцовских уговоров. Не то чтобы ей так уж хотелось мира в семье, сколько жаль было озабоченного отца, да к тому же он обещал дать за ней в приданое пятьсот гульденов.
— А мне что останется? — нахмурилась Анка, узнав об этом.
— Тебе? — окинул ее отец ледяным взглядом. И ему стало страшно, что он чувствует к ней почти ненависть. — А разве ты не получишь дом и все, что к нему относится?
Мицка прождала женихов все лето, но только под осень перед домом остановилось двое мужчин. Рослые, почти под стреху головой, они были одеты в короткие куртки, их твердые шляпы торчком сидели на макушках, далеко не доходя до ушей. Старший, с резкими чертами лица, носил рыжие баки; младший был еще безус, румян, как девушка, и застенчив.
Они не сразу вошли в дом, а сначала осмотрели его снаружи. Тоне вышел на порог и поздоровался. Мужчина с баками ответил ему, паренек не проговорил ни слова; он смотрел на носки своих сапог и кусал губы.
— Похоже, дождя не будет, — сказал мужчина с баками, поглядев на небо.
— Похоже, — согласился Ерам. — Осень нынче сухая. Может, зайдете в дом?
— Да торопиться особо некуда, — произнес старший гость и посмотрел на парня, глядевшего в сторону сада. — Сколько скотины-то держишь?
— Три головы в хлеву. Можно пойти глянуть.
Они вошли в хлев, потрепали коров по бокам, перекинулись несколькими словами о кормах и снова двинулись к дому.
— Я Колкарев Петер, — сказал мужчина. — А это Матевж, брата моего сын. Их двор вон там, за Осойником, в часе ходьбы отсюда. Млевниками они прозываются.
— Тебя-то я помню, — дружелюбно усмехнулся Тоне. — А Млевники далеко больно, — мерил он глазами парня, как бы оценивая его, — туда меня не заносило.
— Мать у него умерла, вот и ищем новую хозяйку. И забрели в этакую даль. Может, у тебя чего найдется?
— Да нашлось бы, — подтвердил Тоне. — Потолковать надо.
Из сеней вышла Анка с подойником в руке и пошла к хлеву. Матевж, засмотревшись на нее, чуть не споткнулся о камень.
— Заходите в дом! — позвал Ерам.
Гости вошли. Петер, уставясь на матицу, проходившую посередине потолка, остановился.
— Давайте к столу поближе! Мицка, принеси хлеба, чтоб они себе отрезали. Водка на полке.
Девушка, которая до этого стояла, точно окаменелая, выскочила из комнаты, как белка.
— С этим-то успеется, успеется — отвечал Петер на приглашение Тоне. — Сначала надо невесту посмотреть, увидеть да услышать, что она скажет, а тогда и посидеть можно.
Мицка принесла хлеба и водки и поставила то и другое на стол.
— Вот это она и есть, — сказал Ерам, — коли вам подходит.
Девушке было неловко до слез, но все же она не убежала; теребя в руках край передника, она смотрела в окно.
Сваты несколько мгновений смотрели на нее. Матевж, красный как рак, глядел исподлобья.
— Ну, Тевж? — обратился к нему дядя.
— Подойдет, — проговорил парень и скосился через левое плечо куда-то в сторону двери.
— А ты? — спросил Мицку отец. — Не будешь отказываться?
— Зачем отказываться? — покорно ответила она. — Парень, видно, порядочный, и хозяйство у них такое, что жить можно.
— Тут уж можете мне поверить, я за них ручаюсь, — с воодушевлением заговорил Петер. — Правда, целого надела не наберется, малость не хватает. Но зато в хлеву стоит хороший скот, дрова они к самому дому подвозят, вода прямо у порога, поля сразу же за хлевом начинаются и луг под боком. Хлеба у них всегда хватает; мужчины круглый год дома живут, на заработки ходить нет надобности. А парень — сама видишь: не пьет, здоров как бык и крепок как дуб, а об остальном уж сама узнаешь. Правильно я говорю, Тевж?
— О, это-то да, — сказал парень и умолк.
Мицка посмотрела на него, он на нее, и оба одновременно отвели взгляд.
— Ну, добро. — У Ерама от волнения дрожал голос. — Об остальном после поговорим. А сейчас садитесь, пейте и ешьте!
Они сели, налили себе водки и закусили хлебом. Мицка была точно в лихорадке, бегала из сеней в горницу и обратно. Каждый раз взгляд парня следовал за ней.
— Сколько ты приданого дашь? — спросил Петер Ерама.
— Триста я ей назначил, — сказал тот, чтобы иметь возможность накинуть еще.
— Триста? — вскинулся сват, кроша в пальцах хлеб. — Придется порядком прибавить. Столько за любой арендаторской дочкой дают.
— Так мы разве богаче арендаторов?
— А то как же! Будто мы не знаем, что у тебя денег куры не клюют.
— Откуда же мне столько взять?
— Это уж ты сам знаешь. Накинь еще, накинь. Стыдно тебе будет, если девушка пойдет из дому с пустыми руками. И женихов таких поискать да поискать.
— Ну, так и быть — еще сто. Четыреста — и все. Больше не могу.
— Четыреста невесте, которая идет на такое хозяйство, как у Млевников, это все равно что ничего. Знал бы это Матевжев отец — он бы в гробу перевернулся. Самое маленькое шестьсот. И по рукам!
— Нет. Шестьсот — это бешеные деньги. Если я все продам, и то шестисот не наскребу.
— Не прикидывайся! Ничего тебе не надо продавать, ты и так наскребешь вдвое больше. Хе-хе!
Тоне эти упрямые ссылки на его богатство были и лестны и неприятны. Он пожал плечами, точно не зная, что еще сказать.
— Выходит, зря мы за стол сели? — Петер заерзал на скамье. — Этак мы не сговоримся.
— Да подумайте сами! — испугался Тоне. — Откуда мне взять столько? Шесть сотен!
— Ну, тогда пять, — робко подал голос Матевж. Дядя с запозданием толкнул его под столом ногой.
— Говори окончательно, сколько дашь, — пощипывая бакенбарды, заключил Петер. — Чтобы мы знали, оставаться нам или уходить.
Тоне несколько мгновений глядел на сватов. Он побаивался, как бы не расстроить замужество дочери, но и сдаваться не хотел.
— Пятьсот, — с опаской выговорил он.
— И ни гульденом больше?
— Ни гульденом.
— Тогда ничего не выйдет.
Тут уже Матевж толкнул дядю под столом. Тот недоуменно поглядел на парня, но тотчас нашелся.
— Так у тебя же телка есть! Давай телку да справь невесте что положено!
Ерам в мучительном колебании ходил по комнате и потел. Взглянув в окошко, он заметил Анку, шедшую из хлева. При виде дочери он тотчас решился.
— Ну, так и быть. Коли вы люди порядочные, то телки и приданого вам будет за глаза довольно, а коли вам этого мало — то что ж вы за народ?
— Идет, — воскликнул Матевж и протянул руку; этим он в зародыше погубил очередной маневр дяди. Тот с большой неохотой скрепил уговор.
Тоне пошел за Мицкой, отсиживавшейся в сенях.
— Не меньше как на сотню ты сам себя нагрел, — сказал Петер, пригнувшись к племяннику.
Матевж пожал плечами. Ему не столь были важны деньги, как жена. Когда Мицка подала ему руку, лицо его так и засияло от счастья. Он поднес ей стаканчик водки.
— На, выпей!
Девушка тепло поглядела на него своими косенькими глазами и выпила за его здоровье.
21
Мицка без большого шума перебралась к Матевжу Млевнику. В тот же день, когда перенесли приданое, увели и телку. Полученные Мицкой деньги, которые отец выплатил не сразу, вызвали довольно много толков. Одни говорили, что это много, другие, наоборот, не могли надивиться такой ничтожной сумме. Те, кто полагал, что Ерам опорожнил свой сундук до дна, потешались: стало быть, мал сундучок-то оказался. Другие осуждали Ерама: старик просто-напросто скуп и забывает о том, что в могилу деньги с собой не унесешь.
Мицка тосковала по дому и по отцу. Не прошло и нескольких дней после свадьбы, как новобрачная явилась в гости. Она выглядела счастливой, веселой, сияющей и не могла нахвалиться мужниным хозяйством, его старой теткой, жившей в доме, и в особенности самим мужем, у которого было еще множество младших братьев и сестер.
Отец довольно кивал головой, а Анка с досадой выслушивала этот восторженный рассказ.
— Кабы тебе на самом деле было так хорошо, — сердито нахмурившись, сказала она, — ты бы не примчалась через несколько дней домой. — И, поднявшись, она вышла в сени.
Мицка многозначительно взглянула на отца, а тот только пожал плечами.
— Кормит она вас? — тихонько спросила Мицка.
— Да, кормит, — ответил он, проведя рукой по лбу. Что-то видно, лежало у него на сердце, но говорить об этом ему не хотелось. — В воскресенье я приду и принесу твои деньги.
Анка все эти дни следила за отцом, стараясь подстеречь ту минуту, когда он откроет сундук и отсчитает Мицке приданое. Но это случилось в ее отсутствие. Когда он вернулся от Млевников и, усталый, опустился на скамью, Анка и пальцем не пошевельнула, чтобы дать ему поужинать, и не проронила ни слова. Он тоже молчал. И никогда родной дом не казался ему таким чужим, а сердце не переполняла такая горечь, как в эти дни.
После ухода сестры Анка переменилась. Не в лучшую, а в худшую сторону. Правда, трудилась она изо всех сил, работа так и кипела у нее в руках. Она взялась за дело еще горячее, чем прежде, можно сказать, ворочала за двоих: за мужика и за бабу. Отсутствие в доме Мицки почти не ощущалось. Но зато Анка стала еще жестче и грубее, чем раньше. А Тоне, хоть и непривычный к нежностям, был столь же непривычен к резкости и враждебному молчанию. Не раз он с тоской вспоминал Мицку. Из всех Анкиных черт его в какой-то мере радовала лишь ее бережливость. Сам он копил деньги, собирая талер за талером, по примеру отца и деда, из врожденного страха перед неурожаем или иной напастью, боясь, что под старость ему не на что будет жить. Может быть, его толкало на это еще какое-нибудь тайное побуждение, но ни в коем случае не та слепая алчность, которую он теперь замечал у дочери. Он был изумлен и потрясен до глубины души.
Но никому он не пожаловался на это — ни Мицке, ни кому-либо другому. И самой Анке не сказал ни слова в укор. Когда она, случалось, подавала ему, голодному и усталому, подсоленный кипяток на ужин, он принимал это безмолвно, как привык принимать все невзгоды, выпадавшие на его долю.
Так прошла осень; наступила зима. Снег не выпадал очень долго. Весь январь дул студеный ветер, и ручьи покрылись льдом.
В эти холодные январские ночи на хуторе было тоскливо и немного жутко. С вечера до рассвета порывы ветра с такой силой обрушивались на дом, что бревна скрипели в пазах. Отец снова перебрался спать на чердак; Анка, оставшаяся в горнице одна, часто просыпалась. Ее мучила не только мысль о том, сколько денег осталось в отцовском сундуке, — с тех пор как отец начал запирать на ночь дверь дома, ее преследовал еще и страх перед ворами. Ей все вспоминались и будоражили ее воображение рассказы о разбойниках, слышанные когда-то.
Однажды ночью, когда ветер бушевал с особой силой, а с неба светил узкий серп луны, Анка внезапно проснулась. Ей показалось, будто кто-то ломится в дверь. Она рывком села в постели и прислушалась. В окна, за которыми виднелись лишь неясные тени деревьев, лился призрачный свет. Анка уже подумала было, что стучится ветер, как вдруг оконце около двери скрипнуло, створки его, распахнувшись, стукнули об стену. Решетки в этом окне, в которое едва мог бы протиснуться человек, не было. Окно загородила чья-то тень.
От смертельного страха у Анки мороз пробежал по спине и перехватило дыхание. Словно окаменев, она смотрела на человека, который собирался влезть в комнату. Она открыла рот, но крикнуть не могла. Раздумывать было некогда; готовясь защищаться, она стряхнула с себя оцепенение, руки ее действовали сами собой.
Она схватила металлическую лампу, стоявшую на сундуке и что было силы швырнула ее в окно. Послышался тупой удар, и лампа со звоном упала на пол. Кто-то вскрикнул, приглушенно выругался, и в окне снова показались небо и движущаяся сеть ветвей, мотавшихся под ветром. К Анке вернулся голос.
— Отец! — завизжала она. — Отец, воры!
Она дрожала и, кутаясь в одеяло, прижималась к стене. Ее напугал и вид отца, вошедшего босиком, в одних исподниках и сорочке, с поднятым топором в трясущихся руках.
— Что случилось? — спросил он глухо, с ужасом в голосе.
— Вор был… Там, в окне… Хотел влезть в комнату…
Отец повернулся к окну, подняв топор еще выше. Глаза его сверлили мрак, окружавший дом.
— Зажги свет, — прошептал он.
Только тогда Анка отважилась вылезть из постели.
Она подошла к окну, быстро захлопнула его и заперла. Подняла лампу и зажгла ее. Горницу озарил мутный, трепещущий свет. Отец и дочь оглядывали решетки на окнах, точно отовсюду им грозила опасность. Не было слышно ничего, кроме шороха ветвей в саду.
— Убежал… — сказал отец после долгой паузы и опустил топор. — Сегодня уж не вернется.
Они сели на скамью, разом обессилев. Страх понемногу отпускал Анку, но она все еще дрожала и чуть не плакала. Тоне тяжело дышал от гнева. Хотя после слов Мреты ему не раз приходила в голову мысль о ворах и грабителях, он все-таки не верил в это по-настоящему. Теперь в его душу закрался ужас — и не столько перед сегодняшним происшествием, сколько перед тем, что могло еще случиться. В этой глуши, чего доброго, убьют и его и Анку, их крика не услышат ни на ближайших хуторах, ни в деревне.
И, словно не веря, что деньги на месте, Тоне поднялся и отпер сундук. Он нагнулся над столбиками серебра и потрогал их один за другим.
Анка перестала дрожать, взгляд ее не отрывался от сундука. Ей хотелось заглянуть внутрь, но отцовская спина мешала, а подойти ближе она не решалась.
— Не знаю, куда бы мне это спрятать, чтобы было надежно, — сказал Ерам, вытирая пот со лба.
— Тащите все к Мицке, с сундуком вместе, — отозвалась дочь.
Тоне, неприятно задетый, вздрогнул и оглянулся на нее. Он знал, на что намекают ядовитые Анкины слова. Слышать, как его попрекают приданым, которое он дал за Мицкой, было тягостно.
— Зачем же это вместе с сундуком? — недовольно спросил он.
— Да так… раз уж вы его почти опорожнили, — сказала со значением Анка. — Куда топор, туда и топорище.
— Глупости ты говоришь! — сказал отец; он быстро запер сундук и встал с колен. — Талеров там и сейчас столько, что на трех Мицек хватит да еще останется. Нечего ее попрекать — она ведь тоже работала.
Слова эти прозвучали так резко и зло, что он сам изумился своему тону. Но Анку они не испугали и не задели. Она узнала то, что хотела. Денег осталось даже больше того, что получила Мицка, и все достанется одной Анке. Лицо ее расплылось в улыбке.
Ерам не заметил этой улыбки. Он взволнованно шагал по горнице, погрузившись в тревожные думы; время от времени он вздрагивал и всматривался в темноту за окнами. Долго он не произносил ни слова.
— А ты когда замуж пойдешь? — наконец спросил он.
— Да чего торопиться, — протянула Анка. — Пока у вас еще силы есть…
Тоне уже чувствовал, что пришла старость. Ему было около шестидесяти пяти. В последнее время он особенно ясно ощущал, как тают его силы. Волосы его седели. Он боялся, что вот-вот сломится под тяжелым бременем и сляжет. Но не только поэтому мысль о замужестве дочери заботила его. Дело в том, что он слегка побаивался будущего зятя.
— Силы мои уж не те, что прежде, — с горечью сказал он. — Да и нельзя нам больше одним оставаться в доме. Сама ты сегодня видела…
Анка упорно молчала. Правда, слова отца не были лишены основания. Но мысль о браке соединялась для нее с чем-то неприятным, хотя она сама себе не признавалась в этом.
22
Анку тоже начал беспокоить вопрос, выйдет ли она замуж. Она всерьез задумалась над этим. Отец теперь спал на печи; на лавке, прислоненной к печке, стоял наготове топор; окно, под которым оказались следы крови, было теперь забито досками. Но все же девушка часто просыпалась ночью. Ее будило не только волнение в крови, желание, чтобы какой-нибудь парень постучал ей в окно, но и страх, что разбойники вот-вот выломают оконные решетки.
Но за окном никого не было. И парней тоже. Те, что раньше слонялись вокруг дома, теперь нашли себе другие дорожки. И не только потому, что Мицка ушла из дому, — ведь некоторые из них заглядывались на Анку. Но кое-кого расхолодило предположение, что Мицка унесла с собой все деньги. Никому не улыбалось идти в зятья на хутор, где ждали лишь нужда и работа. К тому же стало известно, как оскорбительно Анка обошлась с Тавчаровым Янезом, когда он посватался к ней. По всей округе поползли преувеличенные слухи о ее дурном характере.
Анка не догадывалась, почему парни перестали появляться под ее окном. Но все раздумывала об этом по ночам, стискивая зубы. Еще никогда она не наряжалась с таким тщанием, отправляясь в церковь; там она старалась пристроиться к кружку молоденьких девушек. Когда она пускалась в обратный путь, в глазах у нее стояли слезы гнева. Но она была слишком горда, чтобы навязываться кому-нибудь.
Свое недовольство она вымещала на отце, который молча сносил его и занимался своими обычными делами. Так прошли зима и весна. С великим трудом они справились с летней страдой; на сей раз им пришлось нанимать поденщиков.
В это лето Ерам не смог положить в сундук ни одного талера; наоборот, приходилось брать их оттуда.
Осенью Анка отправилась на ярмарку в Залесье, ближнюю деревню, лежавшую в котловине между гор. Вернулась она оттуда преображенная. Стоя у очага, она улыбалась сама себе и даже принималась петь, что раньше случалось очень редко. Несколько дней она была задумчива, руки ее то и дело опускались, а взгляд устремлялся куда-то вдаль.
От Тоне не укрылась эта перемена. Вспоминая о своих молодых годах, он находил для нее лишь одно объяснение. Но к робкой радости, которая зашевелилась в его душе, примешивалось горькое чувство, и он сам не знал, откуда оно.
Анка теперь неохотно оставалась дома по воскресеньям; почти каждый раз сторожить дом приходилось отцу. Он смотрел, как Анка спускается по тропинке в долину, выйдя из дому на час раньше, чем нужно. Ерама мучило любопытство, но расспрашивать дочь ему не хотелось. Перед началом службы он прислушивался к тому, что говорят люди, но не услышал ни слова о том, что его интересовало.
В первое воскресенье после Нового года, перед тем как выпал первый снег, Анка очень долго не возвращалась домой. Было уже совсем темно, когда она, красная и запыхавшаяся, вошла в комнату.
— Где ты шляешься? — с раздражением спросил отец.
Она не ответила, но и не надулась на его сердитое замечание. Переоделась и приготовила ужин. Отец следил за ней взглядом. Ему казалось, что твердые черты дочери немного смягчились.
— В следующее воскресенье к нам придут сваты, — наконец проговорила она.
Тоне притворился равнодушным — точно для него в этом не было ничего неожиданного.
— Кто придет-то?
— Увидите.
Тоне оглядел дочь. Эта таинственность была ему непонятна, но и не слишком его удивляла. Анка всегда была несколько странной. Он набил трубку, закурил и направился к выходу.
— Сколько вы мне дадите? — спросила его Анка, прервав долгую паузу.
Тоне, уже за дверью, остановился и вынул трубку изо рта.
— О чем это ты? — удивился он. — Ты же остаешься в доме.
— Значит, Мицке все, а мне ничего?
— Как это Мицке все, а тебе ничего? Дом и хозяйство, по-твоему, — ничего?
— Эта развалюха? Благодарите Бога, если кто-нибудь тут останется! Мицка теперь хозяйка усадьбы, а я, по-вашему, чуть ли не батрачкой должна быть?
— Ну-ну-ну, — утихомиривал ее отец, увидев, что она закипает.
— С этой развалюхой меня никто не возьмет. А я тогда дома не останусь, лучше хоть завтра в люди пойду.
— Так я же еще не сказал ничего окончательно, — сдался отец из страха перед дочерью, полыхавшей гневом. — Так не полагается. И я ведь даже не знаю, за кого ты собралась. Сначала поглядеть на него надо.
После этого разговора в доме на несколько дней воцарилось гробовое молчание.
Через день после Крещенья к дому Ерама подошла Мрета, вся белая от облепившего ее снега. На сей раз она была без корзины и явилась в сопровождении видного собой парня. Прежде чем она успела стряхнуть снег, из хлева вышел Тоне.
Женщина поняла по его взгляду, что Ерам ей не рад, но это ее не смутило. Она подала хозяину руку.
— Не бойся, не из-за тебя я пришла, — зашамкала она. — Ты мне и не нужен вовсе, стар слишком.
Ерам не знал, что подумать. Во рту у него стало горько. Он не мог произнести ни одного слова. Все трое вошли в дом.
— Вот мужа тебе привела, — обратилась женщина к Анке, широко осклабившись.
Слова эти предназначались больше для Тоне, чем для девушки, которая уже знала жениха и, ожидая его, приоделась. Но отец не заметил этого, взгляд его не отрывался от парня.
Это был рослый усатый молодец с живыми глазами, смотревшими смело и слегка насмешливо. На лбу, чуть пониже волос, виднелся тонкий шрам. На парне были светло-синий бархатный жилет с костяными пуговицами и зеленая шляпа, украшенная бородкой горного козла. Когда он сел — непринужденно, точно у себя дома, — и закурил сигару, Тоне заметил у него на пальце массивное кольцо и пущенную по жилету толстую серебряную цепочку с талерами вместо брелоков.
От Ерама не укрылось, что Анка не сводит с гостя влюбленных глаз. Отблеск чувства на ее лице поверг отца в отчаяние: он понял, что противостоять ей будет невозможно. А ему этот самодовольный полубарин не нравился ни своей одеждой, ни лицом. Ерам смутно сознавал, что такой зять им не ко двору. Все его существо восставало против мысли о том, что этот человек может войти в их дом. Тоне хотелось бы видеть мужем дочери человека более скромного, в простой одежде, с круглой шляпой на голове и трубкой в зубах.
Мрету встревожило это молчаливое разглядывание: она читала в глазах Ерама каждую его мысль.
— Чего ты уставился? — прервала она молчание. — Или, может, тебе жених ие по нраву?
— По виду о человеке не судят, — ответил Ерам в замешательстве: у него не хватило духу сказать правду. — Сначала надо узнать, кто и откуда.
— Если я тебе скажу, что это мой сын Йохан, тебе сразу станет ясно, кто он и что за человек. Шатался по свету, бывал, как говорится, там, куда Макар телят не гонял. Ну, и от этого шатания в кармане у него кое-что побрякивает…
Тоне вспомнилось, что сказала Мрета о своем сыне, когда впервые появилась в его доме. Может быть, она уже забыла это, а он не забыл! Но что он мог сделать?
— Я ведь тебе его не навязываю, — заторопилась Мрета, смущенная молчанием хозяина. — Наше с тобой дело маленькое. Парень и девка приглянулись друг другу, ну, им и загорелось. Правда, Анка? А мы должны только думать о том, чтобы сыграть свадьбу как положено. Правда, Йохан?
Парень вынул сигару изо рта и сплюнул прямо на середину горницы.
— Такое столпотворение устроим, что небу будет жарко.
Анку захлестнула волна радости, она вылетела в сени. Ерам сидел, не зная, что сказать. Пил водку, и она казалась ему горькой. Исподлобья он наблюдал за будущим зятем, за тем, как он курит, пьет и с презрительной усмешкой в глазах оглядывает комнату. Весь его вид оскорблял Тоне.
Скоро ему стало невмоготу оставаться в горнице. Он поднялся и вышел в сени, где Анка хозяйничала у очага.
— Ты пойдешь за него? — вполголоса спросил отец.
Дочь метнула на него такой взгляд, что он весь съежился.
— А почему не пойти?
— Да так… Похоже, он не той породы, чтобы годился для нашего дома.
— Если не за него, то ни за кого другого, — запальчиво бросила Анка. — А вы бы хотели, чтобы у меня был муж похуже?
— Да не похуже, — сказал отец и ухватился за прокопченную стену, почувствовав внезапную слабость. — Не похуже, — повторил он. — Тебе за него идти, не мне, — сдался он, видя, что ему не справиться с дочерью. — Только бы все хорошо обошлось!
Пошатываясь, как пьяный, он вернулся в горницу и подошел к столу.
— Еще стаканчик, горло прочистить.
Ему было трудно дышать. Он выпил две стопки подряд. Потом опустился на скамью и решил про себя, что не выдаст им ни единого гульдена. Пусть делают с ним что хотят — ни единого гульдена!
23
И все-таки Ерам пообещал Анке двести гульденов — она была этим обязана отцовскому хмелю, Мретиной речистости, самоуверенной повадке Йохана да собственным слезам и попрекам. Протрезвев и опомнившись, Ерам долго корил себя и терзался стыдом; он был молчалив, занимался своими обычными делами и ничуть не заботился о приготовлениях к свадьбе.
Мрета как пришла, так и осталась в доме, пекла, варила и жарила. Всего было наготовлено сверх всякой меры, так что у Тоне сердце кровью обливалось при виде богато накрытого стола. Безудержное обжорство и пляски продолжались три дня и две ночи. Только к вечеру третьего дня гости начали расходиться, унося с собой в узелках гостинцы для домочадцев — пироги и куски мяса.
Ерам только в последний день несколько свыкся с шумом и гамом, воцарившимся в доме и вокруг него. Первое время он стыдился всего этого, точно во дворе его поселился грех, но потом напился в дым. Даже пошел плясать с Мретой, так что гости покатывались со смеху. В конце концов он уселся на скамью и тупо глядел перед собой. Перед глазами у него все вертелось — уставленный яствами стол, гости, музыканты.
Едва дождавшись, чтобы гости ушли, Тоне завалился на печь и заснул. У него было такое чувство, будто он не спал уже целый месяц и все это время тащил на своих плечах тяжелый груз. Теперь он сбросил это бремя с плеч, но тяжесть легла ему на веки; напрасно он старался их поднять — слишком тяжелы они стали.
Йохан тоже был пьян. Он попробовал проводить гостей хотя бы до водопойной колоды, но из этого ничего не вышло. Он вернулся в горницу, повалился одетый на кровать и сразу захрапел.
Молодая присела к столу, уронив руки на колени, голова ее склонилась на грудь. Радость этих трех дней, казалось, разом слиняла, на сердце легла тяжесть.
Заплеванный пол был усеян окурками, трубочным пеплом, обгорелыми спичками, обглоданными костями и хлебными корками. На мокром от вина столе валялись куски хлеба, громоздилась грязная посуда. Весь этот разгром оставили после себя гости, только что ушедшие с трехдневного пира.
На скамье у дверей сидела Мрета. Ее праздничное платье было измято и залито вином. Она прислонилась затылком к стене и задремала с открытым ртом. Довольное выражение даже во сне не сошло с ее лица.
В тишине было слышно только дыхание трех спящих да осторожно двигалась кошка, которая подобралась к столу, оперлась о его край одной лапкой, а другой стянула на лавку кусок мяса. Анка не стала прогонять ее. За окнами лежал снег, освещенный красноватым светом заходящего солнца; синие вечерние тени протянулись по склону, снаружи на подоконник села синица.
Мрета вдруг проснулась, протерла глаза и пугливо огляделась.
— Задремала я. Долго я спала?
— Не очень, — отозвалась Анка.
— А чего ты не ложишься?
— Сейчас лягу, — нерешительно ответила молодая, оглядываясь на мужа, развалившегося на кровати; он лежал неподвижно, только грудь его высоко подымалась и опадала.
— Чего на него глядеть! — сказала Мрета. — Отодвинь его да ложись!
Она подсела к Анке поближе и подмигнула, показывая на печь:
— Спит как убитый!
— Он еще молодцом держался.
— Давай посчитаем деньги, — шепнула Мрета, — посмотрим, сколько у него там в сундуке! Это никогда не мешает знать.
Анка и сама часто подумывала о том же. «На трех Мицек хватит!», — сказал ей отец. Это было неопределенно. Сколько же денег лежит в сундуке? Этот вопрос преследовал ее даже во сне. Но теперь она воспротивилась Мретиной затее.
— Нельзя.
— Почему нельзя? Не возьмет же он их с собой на тот свет. Когда помрет, все равно твои будут. А надо знать, сколько их там. Если тебе достанется мало, ясно будет, что он отдал их кому-то другому.
Эти слова убедили Анку, внутренне она уже согласилась.
— Так у меня же нет ключа.
— А где он у него?
— На поясе.
— Погоди, — шепнула Мрета и влезла на скамью, стоявшую у печи.
— Не бойся, он не проснется.
Ерам глубоко дышал и протяжно, равномерно всхрапывал.
Когда Мрета осторожно расстегнула на нем пояс и сняла ключ, дыхание его стало тише, но он не шелохнулся, не открыл глаза. Потом захрапел громче, так и не проснувшись.
— Ну, смотри! — тихонько хихикнула Мрета, отпирая сундук.
В душе Анки боролись радость и стыд — она понимала, что поступает дурно. Оба эти чувства не покидали ее все время, пока они возились с сундуком. Одна она, возможно, действовала бы без колебания, но ее стесняло присутствие этой женщины, которая с самого начала была ей противна. Анка почти равнодушно взглянула на сундук, а потом на Мрету; а та уже успела снова надеть ключ на пояс Тоне.
— Открывай!
Анка не тронулась с места, так что Мрета сама открыла крышку. С трудом они подняли потайное дно и как зачарованные уставились на столбики серебра. При этом зрелище в душе Анки затих голос, шептавший ей, что она совершает недостойное дело. Ее охватило страстное желание черпать этот блеск пригоршнями, зарыться по шею в серебро. Усталость и сонливость сняло как рукой, никакой тяжести в голове она не чувствовала. Она смотрела на трясущиеся руки Мреты, которая осторожно вынула из сундука первый столбик и стала пересчитывать монеты.
— В каждом столбике сто гульденов, — шепнула она. — Пересчитать легко… Смотри, один, два, три…
Она считала все тише, губы ее едва шевелились, глаза горели, точно разожженные блеском серебра.
— Ты сосчитала? Смотри-ка, он мог бы тебе и побольше обещать.
Анка помрачнела. Ведь это ее деньги, а чужая, алчная женщина роется в них. Она схватила Мрету за руку, отпихнула от сундука и опустила крышку.
— Ишь ты какая! — огрызнулась Мрета, злобно сверкая глазами.
— Оставьте! — зашипела Анка. — Это не ваше дело! Оставьте!
— Не съем же я их. — И Мрета снова подняла крышку. — Дай-ка я еще погляжу.
Анке кровь бросилась в лицо. Не сказав ни слова, она захлопнула крышку с такой силой, что раздался громкий стук. Йохан перевернулся с боку на бок, а отец проснулся. Он приподнялся на печке и увидел женщин, которые с сердитым видом стояли друг против друга и вдруг испуганно уставились на него. Еще не проснувшись как следует, он не мог сообразить, что бы это значило.
С большим трудом Ерам вспомнил, что была свадьба, потом гости ушли, и он, хмельной и усталый, лег на печь и заснул. С тех пор, казалось ему, прошло много, много времени. И он пережил во сне много тяжелого, о чем не мог толком вспомнить.
Вдруг взгляд его упал на сундук. Ведь, кажется, что-то стукнуло? Он инстинктивно схватился за пояс. Ключ висел на месте, только пояс был слабо затянут.
Смутное подозрение заговорило в душе Ерама, хмель мигом слетел с него. Он еще раз посмотрел на женщин, которые отошли к столу, слез с печи и попробовал открыть сундук. Крышка поднялась.
Тоне чуть не вскрикнул. Может, его нарочно опоили, чтобы ограбить? У него отлегло от сердца, когда он убедился, что деньги целы. Но совсем успокоиться он не мог. Он запер сундук и сел на крышку.
24
Зять по-прежнему не нравился Ераму. В первые дни после свадьбы Йохан не брался за работу, доедал остатки праздничного угощения, позевывал и, стоя перед домом, разглядывал лежавшую внизу долину. Анка была молчалива; лицо ее не выражало ни счастья, ни довольства.
Однажды в полдень, когда она поставила на стол миску с ячменной похлебкой, муж нахмурился и отбросил ложку.
— Ты что же, помоями меня кормить собралась? — высокомерно бросил он.
Это оскорбило Анку, и она не могла скрыть своей обиды. Она ела молча, поглядывая на отца, а тот мигал часто-часто, будто хотел этим что-то сказать; ложку он подносил ко рту тоже чаще, чем обычно.
— А что, его мать у нас так и останется? — спросил Ерам Анку, видя, что Мрета, жившая у них уже вторую неделю, держит себя в доме как своя, а не как гостья.
— Откуда я знаю? — ответила Анка. Отец был ей в эту минуту ближе, чем когда-либо раньше. — Я за Йохана выходила, а не за нее.
— Я на ней тоже не женился, — сказал отец, топнув ногой.
Его раздражало то, что Мрета, как и он, устроила себе постель на чердаке и поставила в головах корзину со своим барахлом. Ерам уже надумал было переселиться в хлев, но не решился это сделать — уже надвигались холода.
— Завтра надо будет перевезти навоз на то поле, что у речки, — сказал он как-то вечером.
— Я к такому делу не приучен, — пробурчал Йохан.
— А к какому делу ты приучен? — спросил Ерам.
Хоть работы в зимнее время было меньше, старика возмущало, что зять лодырничает, а еще сильней сердило то, что богатства, которым Йохан похвалялся, до сих пор и в помине не было.
— Я такие дела умею делать, которые вам и не снились, — величественно ответил зять.
— Дай Бог, дай Бог. Так кто же все-таки навоз перевезет?
— А кто его раньше возил?
— Я и Анка. Только мне уж тяжеловато стало санки таскать.
— Не можете сами — наймите работников!
Ерама затрясло от негодования, но он сдержался и посмотрел на дочь, которая все время молчала, не глядя ни на отца, ни на мужа.
— А сам ты что думаешь делать? — спросил Ерам зятя.
— Пойду бродить по свету, — ответил тот, зевая. — На всю жизнь в этой глуши не застряну.
Тут Анка подняла красное от волнения лицо. Если бы ей пришлось выбирать между мужем и отцом, она и сейчас предпочла бы мужа. И все же впервые взгляд ее выразил горькое разочарование.
— В нашем доме еды и работы хватает, — проговорила она срывающимся голосом. — Незачем тебе по свету шататься.
— Может, кому-нибудь и хватает, а мне нет, — отрезал муж так, что Анку передернуло, и, вскочив, она выбежала в сени.
С этого дня отношения в семье стали напряженными. Все молчали и почти не смотрели друг на друга. Какая-то близость сохранялась еще между Анкой и Йоханом, но теперь и они забыли о том, что такое улыбка.
В воскресенье, когда Ерам собрался в церковь, Мрета остановила его на пороге.
— Тоне, когда же ты выплатишь обещанные две сотни? — спросила она.
— Кому это я их обещал? — осведомился Ерам слегка насмешливо, но без злобы.
— Анке.
— Ну, так ей я и выплачу, не тебе же.
— Да я и не говорю, чтобы мне. Дай их Анке или ее мужу, это все едино.
— Анка! — кликнул дочь Тоне. — Так что же, выдать тебе деньги?
Анка не знала, что ответить, и не понимала, что означает подмигивание свекрови. Она все равно не могла бы придумать, куда девать сейчас эти деньги.
— Держите их у себя, — сказала она. — Выплатите, когда нам будет в них нужда. Они ведь никуда не денутся.
— Куда им деваться? — подтвердил отец, довольный решением дочери. — До последнего гроша все получишь. Скорее уж на талер-другой больше, чем меньше.
После мессы Ерам не пошел домой, а решил дождаться вечерни. Он зашел в трактир. За старинными, влажными от вина столами сидели крестьяне, пили и разговаривали.
Тоне за всю свою жизнь лишь несколько раз заходил в трактир: ему жаль было тратиться тут на еду и питье. А теперь впервые деньги ему стали немилы; не то чтобы его потянуло на мотовство, а просто показалось бессмысленным копить и беречь их. Он велел подать мяса, белого хлеба и вина. Сидя в углу у печки, он неторопливо жевал, прислушиваясь к разговорам соседей.
— Ба, — оглянулся на него один из крестьян, — а я было тебя и не заметил. А ведь, почитай, всего второй раз тебя в трактире и вижу. Что бы это значило?
— Обеих дочерей замуж выдал, зять в доме появился, теперь ему ни денег, ни времени девать некуда.
— Гм, — хмыкнул Ерам и опустил глаза.
— Ну, как тебе зятек? — спросил рыжий мужичок по имени Ермол, поднимая кустистые брови, бросавшие тень на его зеленоватые глаза.
— Да ничего, — неохотно проговорил Ерам; распространяться о своих неприятностях он не любил, а врать ему не хотелось.
— Говорили, будто в карманах у него побрякивает, — сказал длинный как жердь крестьянин, неподвижно сидевший на углу стола.
— Я тебе скажу, чем он там брякает, — загорячился Ермол, лицо которого раскраснелось от вина. — Пожрать всласть да выпить, это он умеет! А денег у него нет. Хвастает только.
— Так он же бумажными деньгами сигару раскуривал.
— Ну да, последней бумажкой! — стоял на своем Ермол, косясь на Тоне. Похоже было, что ему неловко говорить об этом в присутствии Ерама, но и смолчать он не мог. — Это я тебе верно говорю, что последней. А иначе зачем ему было две сотни на свадьбу взаймы брать, а?
И Ерам узнал историю о кредитке, которой его зять перед церковью в Залесье раскуривал сигару. И о том, как он в трактире швырял мясо под стол. У Тоне кусок застрял в горле, вино стало горьким, как отрава, по телу забегали мурашки. Захмелевшие соседи разговаривали, не обращая внимания на его присутствие, и только двое из них, те, что жили к нему поближе, сочувственно поглядывали на него. Услышав снова о том, что Йохан занимал деньги на свадьбу, Тоне решился возразить.
— Уж это вряд ли, что Йохан занимал, — нетвердым голосом сказал он. — У него деньги есть.
Он вступался не за зятя, а за свое доброе имя.
— Есть? — Ермол поднял палец и повертел им перед носом. — А ты их своими глазами видал? А не видал, так и не верь ему!
— Видать-то я не видал, — признался Ерам; в глазах у него потемнело.
Ермол встал и, подойдя к нему, оперся на стол.
— А хочешь, я тебе скажу, кто ему взаймы дал? Подлокаров Миха.
Тоне поднес стакан ко рту и медленно потягивал вино. Он был бы рад продлить это до бесконечности, лишь бы не глядеть в глаза соседям.
— Если и правда так, выходит, он меня обманул. — И Тоне хрипло откашлялся.
— Ты его еще не знаешь, — сказал сосед, уткнув ему палец в грудь. — Этого Йохана да его мать никто не узнает, пока сам с ними не столкнется. А если ты хочешь знать, где он возьмет деньги, чтобы долг отдать, так это я тебе тоже скажу.
— Где? — глухо спросил Тоне.
— Ты сам ему выдашь две сотни, которые за дочкой обещал. Под это приданое ему Миха и взаймы дал, иначе бы Йохану и гроша не видать.
— Я тоже ничего хорошего о нем не слыхал, — раздался чей-то голос. — Но я так думаю: когда человек женится, всякое о нем плетут.
Тоне было горько и стыдно. Он не знал, что сказать, и не решался поднять глаза. Нехотя лишь бы чем-то заняться, он доедал то, что оставалось на его тарелке, с трудом скрывая чувства, теснившиеся в его груди.
Ермол вернулся на свое место и выпил залпом стакан вина, которое еще больше разгорячило его, — он сидел красный, как кумач.
— И еще кое-что я слыхал о нем, только сказать не могу, — сказал он дребезжащим голосом, помахивая перед своим носом костлявым дрожащим пальцем. — Разве не был он с моим покойным братом в Боснии? Они поругались в корчме, а потом брата моего нашли мертвым на дороге. Проклятье! — бухнул он кулаком по столу, так что подскочили бутылки и стаканы.
— Нельзя так говорить, — утихомиривал его сосед. — Если он тебя услышит, может в суд подать.
— Знаю, что может. А я ничего и не сказал. Разве я что-нибудь говорю? Ковачев Дамьян мне об этом рассказывал, да теперь и он тоже в могиле. И ни гроша не нашли тогда у моего брата, а ведь он откладывал деньги два года. Если я это скажу Йохану в лицо, он меня засадит, знаю, но никому не стереть того, что у меня тут, внутри, записано, — ударил он себя в грудь.
Он снова выпил, по щекам у него потекли слезы. В трактире на мгновение воцарилась мертвая тишина.
Ерам слушал вполуха, слова смутно доносились до него как бы издалека. Мыслями он был у себя дома. Он вспомнил о своих деньгах и вдруг испугался — ведь в это самое время сундук, может быть, взломали: догадка эта до того потрясла его, что он вскочил, поспешно расплатился и вышел, оставив в бутылке недопитое вино. Вечерней службы он дожидаться не стал.
25
Всю дорогу Ерам спотыкался, хотя нисколько не был пьян. Войдя в горницу, он с порога окинул взглядом сидевших за столом домочадцев. Лица у всех троих были напряженные, и ему показалось, что вот-вот они кинутся на него. Но, заметив, что у него какой-то странный вид, они прикусили язык.
Тоне сел на сундук. Больше всего ему хотелось поднять крышку, проверить, целы ли деньги, но сделать это при всех он не решался. Если бы можно было взвалить на плечо свое сокровище, он тотчас унес бы его куда глаза глядят. Тоне набил трубку, высек огонь и закурил.
— Где это вы были так долго? — наконец спросила его Анка, казавшаяся расстроенной и озабоченной.
— Задержался.
— Тоне, — подала голос Мрета, — когда ты отопрешь сундук и отсчитаешь то, что должен отсчитать?
— Утром узнаешь.
Он посмотрел на дочь, которая сидела опустив глаза. Еще ни разу в жизни он не был так взволнован и едва сдерживался, чтобы не вспылить.
— А мы думали, что ты исполнишь свое обещание, — язвительно сказала Мрета.
— Я свое обещание исполню. Все выплачу. А когда — мы не договаривались.
— Вот мы сегодня и договоримся, — резко сказал зять. — Нечего нас за нос водить.
Это вывело Ерама из терпения. Он встал, но ни на шаг не отошел от сундука.
— За нос водить? Разве это называется за нос водить? Это ты нас одурачил. Покажи деньги, которыми ты похвалялся! Что-то я не слышал ихнего звона.
— Бумажки не звенят, — бросил зять.
— Зато горят! — Ерам уже не мог молчать. — Если ты их все пожег, так хоть бы пепел нам показал.
— Ваших я не жег, — поняв намек, с притворным спокойствием произнес Йохан; пальцы его крошили сигару.
Женщины переглянулись, но не проронили ни слова. Трубка Тоне погасла, он бросил ее на подоконник.
— Моих денег ты на руки не получишь, — громко сказал он. — Деньги получит Анка, когда они ей понадобятся.
— Они ей сегодня нужны, — брякнула Мрета.
— Анка, правда это?
Дочь была настроена уже по-иному, чем во время утреннего разговора. Не смея взглянуть на отца, она ничего не сказала, только кивнула головой. По лицу ее было видно, что она делает это не совсем по своей воле. Отец без труда догадался, что в его отсутствие в семье разыгралось нешуточное сражение, из которого дочь вышла побежденной. Теперь ему стало окончательно ясно, что зять в самом деле взял в долг те деньги, что были в три дня пущены на ветер и пропиты с гостями. Такой поступок по понятиям Тоне был чуть ли не смертным грехом. Старик был потрясен, в голове у него мутилось.
— Ха! — сказал он. — Я тебе для того должен отсчитать деньги, чтобы ты их вернул тому, у кого занял?
Йохан был задет за живое, но скрыл смущение под притворной усмешкой.
— Не знаю, о чем вы говорите.
— Не знаешь? А Подлокаров Миха? Ага, вот видишь! — злорадно засмеялся Ерам, заметив, что у зятя от неожиданности дух захватило. — Деньги жжет, хвастает, будто купается в богатстве, а потом занимает под Анкино приданое, которого она еще и не получила… Но меня ты не проведешь! Не проведешь! — погрозил он зятю кулаком.
Йохан покосился на жену, которая сидела с безучастным видом и плотно сжимала губы. Чтобы спасти хотя бы частицу своего авторитета, Йохан швырнул сигару на пол, вылез из-за стола и подскочил к тестю. Они стояли, глядя прямо в глаза друг другу. Ерам не трогался с места, как вкопанный; на лице зятя трепетала каждая жилка.
— Йохан! — вскрикнула Мрета.
— Отец! — испугалась Анка.
Тоне чувствовал, что если они схлестнутся, то зять, вознамерившийся кулаками оборонять свою честь, его не пощадит. Больше всего Ераму хотелось вытолкать наглеца за порог, но он вынужден был отступить, хотя в нем все кипело. Он жалел, страшно жалел, что в свое время не отказал наотрез такому зятю, а ведь внутренний голос явственно предостерегал его! Но теперь дело сделано, мошенник втерся в дом, стал Анкиным мужем и избавиться от него невозможно. Взгляд Ерама уперся в Мрету. Всему виной была эта баба, она заварила кашу.
Если никуда не денешься от ее сына, то хоть от нее бы избавиться! Жить с ней под одной крышей Тоне Ерам не станет, чего бы это ни стоило.
— Ладно, — сказал он и сел на сундук. — Ладно, я дам деньги, но с одним условием.
Йохан, возбужденно ходивший по горнице, остановился у печи.
— С каким?
— С тем, — нехотя поднял глаза Ерам, — что эта сова, — он указал на Мрету, — уберется из дому. Сегодня же, сейчас же.
Мрета поглядела на невестку, потом на сына.
Так как те молчали, она медленно поднялась с места и дерзко подбоченилась, как бы принимая вызов. Став перед Ерамом, она долго не могла найти подходящих слов.
— Ах, так? — наконец выдохнула она. — Ты меня, значит, гонишь на улицу?
— А что мы с тобой, женились, что ли? Или хоть слово сказали о том, что ты останешься в доме? Не будь у тебя своей халупы, я бы еще терпел. А так — отправляйся! Как жила до сих пор, так и живи.
Ерам говорил решительно, резко, но чувствовал, что силы его на исходе. Мрета по его глазам и голосу поняла, что не сможет противостоять его ненависти. Она поискала глазами Анку, которая в замешательстве прибирала на печке какое-то тряпье.
— А ты что скажешь, Анка?
Анка была согласна с отцом, но открыто в этом не призналась.
— Ничего не скажу, — ответила она.
— Я так и думала, — насмешливо скривила губы свекровь. — А ты, Йохан, — обернулась она к сыну, — неужто и ты ничего не скажешь?
Сын шагал от двери к окну, от окна к двери. Он все еще был взволнован, в груди у него кипело, лоб хмурился.
— Ступайте! — бросил он, не глядя на мать.
Мрета ушам своим не верила. Однако сомнений не было — сын действительно так решил. Она опустилась на скамью, переводя глаза с одного на другого. Никто не удостоил ее взглядом. От гнева и обиды ее прорвало; в голосе было больше злости, чем горя.
— Ступайте, говоришь? — поднялась она, размахивая руками. — А разве ты мне не обещал, что я до самой смерти останусь у тебя? Так-то ты мне платишь за все, что я для тебя сделала? Хорош сынок! Думаешь, я не знаю, почему ты меня гонишь? — пробилась через сумятицу охвативших ее чувств ясная мысль. — Потому что не хочешь, чтобы эти деньги попали в мои руки; а возвращать их ты вовсе не думаешь, а хочешь все пропить и прогулять…
Сын остановился посреди комнаты, лицо его почернело от злобы, он сжал кулак и потряс им у матери под носом.
— А это вы видели? — закричал он. — Убирайтесь сейчас же, а не то…
— Да иду, иду, — испуганно бормотала мать, пятясь к двери. — Не думай, ни одной ночи больше не останусь в этом доме. Разбойник ты, а не сын. Бил ты меня, а больше не придется. Не хочу я смотреть, как вы тут будете обворовывать и убивать друг дружку! — кричала она уже из сеней. — Только смотри, как бы тебе опять чем не запустили в голову, когда ты в чужое окно полезешь! — вопила она с лестницы, ведущей на чердак.
Сын выхватил из-под лавки колодку для снимания сапог и изо всех сил швырнул ее вслед матери.
— Йохан! — крикнула Анка.
Он опомнился и снова принялся ходить из угла в угол, как хищный зверь в клетке.
После отвратительной сцены между матерью и сыном что-то удушливое, тяжелое придавило дом. Анка сидела на скамье у печки, погруженная в свои мысли и чувства, и поглядывала исподлобья то на мужа, то на отца, который понурившись сидел на сундуке.
Старику казалось, что у него онемело не только тело, но и душа. В этот момент он не мог ни двинуться с места, ни произнести хотя бы слово. Будь он один в комнате, у него хлынули бы слезы и он зарыдал бы, как ребенок. В голове Тоне все мешалось; его захлестнули неясные, болезненные ощущения. До него смутно доносились стонущее тиканье часов и чьи-то шаги. В ушах все еще звучали только что услышанные слова. Кто-то затопал по лестнице, спускаясь с чердака. Он поднял голову и посмотрел в окно. Мрета с корзиной, закинутой за спину, шла прочь от дома по тропинке.
Зять успокоился, подобрал с полу сигару, сел к столу и закурил. Через некоторое время Ерам снова поднял голову, словно очнувшись от тяжелого сна. Он отпер сундук, достал узелок, в котором позвякивало серебро. Деньги были уже отсчитаны, он высыпал их на стол.
— Проверьте, — глухо сказал он.
Анка только оглянулась, но не тронулась с места. Ей не хотелось касаться этих денег: она уже поставила на них крест. Зять принялся считать. Ерам стоял у стола и смотрел.
— Правильно, — сказал Йохан.
— Это все, — выпрямился Ерам. Голос его звучал устало и печально. — Больше вы ничего не получите.
Ему казалось, что он вот-вот упадет, силы его таяли. Шатаясь, он направился к двери. И, словно настигнутый на самом пороге мыслью, преследовавшей его все это время, молитвенно сложил руки.
— О Иисусе и матерь Божья! — протяжно и страдальчески прозвучал из сеней его голос. — О Иисусе и матерь Божья! — воскликнул он еще раз, взбираясь по лестнице.
Добравшись до постели, Тоне повалился на нее. Он смотрел на крышу, поднимавшуюся над ним, на светившиеся в ней щели и весь дрожал как в лихорадке.
26
От волнения Ерам не мог сомкнуть глаз. Водя глазами по стропилам крыши, он терзался мыслями, которые то и дело путались и обрывались. Каждое слово, сказанное внизу, в горнице, каждый шаг Йохана и Анки болезненно отдавались в его мозгу. Наконец все стихло, и дом погрузился в ночное безмолвие.
Тишина успокаивала Ерама. Он был измучен, нуждался во сне, но напрасно пытался уснуть. Теперь, когда он пришел в себя и в голове у него прояснилось, ему вспомнились прежние дни, когда в доме было тихо и мирно. Изо дня в день все молча работали, каждый занимался своим делом, не грызлись между собой; а теперь все перевернулось. Его мучило предчувствие, что перемены к лучшему не будет. И все из-за этого Йохана, хвастуна и обманщика, проникшего в дом.
Он не забыл, слов, сказанных Мретой сгоряча. Слова эти ужаснули его. Сто раз за этот вечер Тоне про себя поворачивал их так и этак и находил им только одно объяснение — недаром же рассвирепел Йохан, услышав их. Никогда Тоне не забыть той ночи, когда Анка позвала его на помощь. То, что сегодня говорил в трактире Ермол, сейчас не казалось Тоне таким уж невероятным. И от всего этого мороз подирал его по спине.
Мрету он прогнал, и хорошо сделал, а вот зятя прогнать невозможно. Ераму казалось, что он попал в капкан, из которого ему не вырваться. Деньги у него отберут и, Бог знает, может, самого загубят. Лучше вынуть деньги из сундука, отнести в лес и зарыть в укромном месте. Если его выгонят из дому (теперь эта мысль уже не казалась ему дикой — все могло случиться!), он хоть будет обеспечен. Еще хорошо, что он землю на них не переписал. Надо будет при свидетелях составить завещание, чтобы дом перешел к Анке только после его смерти.
Тоне обдумал все это, и тут на него нашла такая тоска, что он не мог удержаться от стона. Он сложил ладони и стал горячо молиться, читая раз за разом «Отче наш». Слова молитвы начали путаться и рассыпаться, и он погрузился в беспокойный сон.
Был уже день на дворе, когда Тоне проснулся. Он прислушался: в доме стояла тишина, и ему пришла мысль: а что, если Анка и Йохан взяли деньги и скрылись? Хотя его трясла лихорадка и во рту стояла горечь, он быстро встал и спустился вниз.
Анка убирала постель. Она стояла к отцу спиной, но по ее движениям Ерам понял, что она злится. Он оглядел все углы, посмотрел в окно и прислушался.
— Где Йохан? — наконец спросил он.
— Ушел, — глухо отозвалась Анка, не повернув головы.
— Куда?
— Почем я знаю! — ответила она с таким раздражением, будто вопросы отца выводили ее из себя.
— С деньгами?
Анка не ответила. Но Ераму и так все стало ясно. Некоторое время он смотрел на дочь, а потом торопливо отпер сундук. Нет, все-таки его не ограбили. И ему даже стало стыдно за свою подозрительность. Особенно когда дочь обернулась и презрительной усмешкой дала понять, что догадалась о его опасениях. Он сел на сундук, следя глазами за дочерью, возившейся у печки.
Анку он никогда особенно не любил. А последнее время даже чувствовал к ней едва ли не ненависть за то, что она внесла в дом тревогу и беспокойство. Он понимал, что ненавидеть дочь грешно, и мысленно много раз просил прощения у Бога. В такие минуты ему вдруг становилось жаль Анку. Он знал, что она жадная, что она охоча до денег, и представлял себе, какой поединок вчера вечером, по всей вероятности, разыгрался между нею и мужем. Да, теперь она наверняка раскусила Йохана, только не хочет в этом признаться. Муж ушел от нее, это ее грызет и мучает. Ерам был доволен. Теперь не надо будет вынимать деньги из сундука и прятать в лесу. По крайней мере, до тех пор, пока зять не вернется. А это, может быть, произойдет не так-то скоро. Хорошо бы, если бы он не возвращался никогда.
Он почувствовал слабость, его бросало то в жар, то в холод. Лучше всего было бы лечь в постель, но он остался сидеть на сундуке. Ему хотелось спросить дочь, слышала ли она слова Мреты и правильно ли их поняла. Но когда он собрался заговорить, голова у него закружилась, в сердце закололо — так уже было однажды, когда он с трудом поднял и еле дотащил до места тяжелую ношу. Позднее эта боль возвращалась трижды, но не с такой силой, как в первый раз. А теперь он обеими руками схватился за грудь и громко застонал.
— Что с вами? — испугалась Анка, увидев, что он побледнел как полотно и глаза его широко раскрылись от боли.
— Ничего, — ответил он, пытаясь встать и снова падая на сундук. — О Господи, помоги!
Анка встревожилась — в кои-то веки забеспокоилась об отце, и заботливость, которая прозвучала сейчас в ее дрогнувшем голосе, была ему приятна. Видно, отец стал ей хоть немного ближе после того, как она разочаровалась в своем муже. Сильная, она подняла отца, словно ребенка, и уложила в постель. И возвращаться на чердак не позволила. Это так растрогало Ерама, что он готов был склонить голову к ней на плечо и заплакать. Вчерашние события подорвали его силы, и он чувствовал себя разбитым более душевно, чем физически.
К молоку с хлебом, которое принесла ему дочь, Тоне не притронулся. Он пластом лежал на кровати, дышал медленно и тяжело. Анка испуганно смотрела на него и все спрашивала, что с ним и чем ему помочь.
— Священника бы мне, — попросил он. — А Мицке ничего не говори, чтобы не напугалась. Ничего страшного нет.
Анка отвернулась и нахмурилась. Забота о Мицке, выказанная отцом, ранила ее в самое сердце. Но все же она исполнила его волю.
Ерам исповедался. Кроме того, в присутствии священника, пономаря и соседа Робара он объявил свою последнюю волю. Это принесло ему такое облегчение, что вскоре он почувствовал себя лучше. Через два дня он встал, ощущая только некоторую слабость, и ему даже было немного стыдно, что он не умер, а зря поднял такой переполох.
Тоне теперь подолгу сидел перед домом, щурясь на весеннее солнце, заливавшее ярким светом все окрестные холмы. Он глядел на посеревший снег, еще державшийся на северных склонах. Вдыхал запах земли и слушал щебет синиц. Мысли его беспокойно вертелись вокруг дочери и зятя. Если бы он и захотел думать о чем-нибудь другом, это было бы невозможно. Но Анке, которая то и дело поглядывала на дорогу, словно поджидая мужа, он за все эти дни ни слова не сказал об Йохане. Ерам и сам часто смотрел на тропинки, поднимавшиеся к дому. И каждая мужская фигура, появлявшаяся со стороны долины или приходского села, вызывала у него страх; он боялся, что это зять.
Однажды он увидел на тропинке какого-то мужчину, за которым шла Мрета с корзиной на голове; Тоне бросило в жар. Он решительно встал им навстречу. Они поравнялись с его полем, и Ерам узнал Подлокарова Миху, но взгляд его по-прежнему не отрывался от Мреты, которую он считал виновницей всего позора и несчастья, обрушившегося на его дом.
— Эй, Мрета, чтоб больше ноги твоей не было ни на моей земле, ни в моем доме! — крикнул он, чувствуя, как вся кровь прилила к лицу и к сердцу. — Слышишь, ты?
— Слышу, чай, не глухая, — огрызнулась Мрета, поставив корзину на сложенную из камней ограду. — Не на твоей земле стою, на дороге, а она общинная. Вот с этим, — кивнула она на своего спутника, — свидетельницей иду, что он моему сыну и в самом деле дал взаймы две сотни.
Ерам остановился на тропинке между садом и полем. Подлокаров Миха, старый холостяк, который много лет ходил на заработки и, по слухам, давал в долг деньги под проценты, подковылял к нему.
— Может, и мне нельзя на твою землю ступать? — смеясь, спросил он. — Мне бы с Йоханом поговорить надо.
— Ищи его в другом месте, у нас его нет. Не знаю, куда ушел.
Миха оглянулся на Мрету, стоявшую на дороге, и ничего не ответил. Тогда Ерам добавил:
— Зря ты ему деньги давал, ведь ты знал его лучше моего. Теперь в суд его тащи, если хочешь что-нибудь получить.
Миха только махнул рукой.
— Землю вы на него не переписали? — спросил он, помолчав.
— Такой беды я еще не наделал, — коротко хохотнул Ерам.
Когда он вошел в дом, Анка сидела перед корзиной картошки и обламывала белые ростки, появившиеся в тепле подвала. Вид у нее был задумчивый. Ерам поглядел в окошко на дорогу, где Миха и Мрета бурно объяснялись, размахивая руками. Теперь все вокруг будут говорить о деньгах, беспечно потраченных на свадьбу, и немалая доля сраму падет на его дом. Ерам поглядел на сундук. После того как двести талеров было выброшено на ветер, ему было уже не так жаль денег, как раньше. А не заплатить ли долг Йохана этому Михе? По крайней мере, собьешь спесь с зятя, когда тот вернется.
— Миха! — быстро приняв решение, крикнул он в окно.
— Отец, не надо! — вскочила дочь, перехватив его взгляд и угадав его намерение.
Ерам оглянулся на Анку, увидел алчный огонь в ее глазах. И словно этот огонь перекинулся на него, он тотчас отогнал мелькнувшую было мысль.
— Подавай на него в суд! — закричал он Михе, уже спускавшемуся по тропинке. — Подавай, пусть его посадят!
Он сел на скамью и снова посмотрел на дочь, лицо которой помрачнело. Видно было, что последние слова отца ее задели. Выходит, он понял ее только наполовину, а до конца разгадать не мог. Он мечтал только о том, чтобы зять никогда больше не появлялся в доме и пусть бы Анка и думать о нем забыла. Все эти дни он носил в себе разоблачение, которое то и дело собирался сделать, но никак не мог отважиться на это.
— Ты слышала, что тогда сказала Мрета? — наконец проговорил он. Слова так и застревали в горле. — Ты ее поняла?
Руки дочери замерли, она на мгновение подняла глаза. Что-то тяжелое, невыразимое словами было в ее взгляде. Вдруг лицо ее сморщилось, она вскочила и выбежала в сени.
Отец, остолбенев, смотрел ей вслед. Ему стало ясно, что Анка все слышала и все поняла, но по-прежнему любит Йохана, будто ее приворожили, и примет его, если он вернется. Он покачал головой и пожал плечами: похоже, что он совсем уже не понимает жизни.
27
Однажды, в теплую ночь, когда по небу плыл серп молодого месяца, внезапно вернулся Йохан.
Уже настала весна. Снег сошел, только остатки лавин, лежавшие в ущельях под Плешецем, медленно таяли на солнце, источая мутную воду. Зелеными веерами раскрывались молодые листья, из молодой травы поднимались цветы. От пашни веяло запахом земли, из леса доносилось кукование кукушки.
Ерам и Анка работали вдвоем, как это было до ее замужества. Тоне чувствовал, что силы вернулись к нему. Если порой и возникала боль в груди, она быстро проходила. Хоть Тоне и не совсем еще успокоился, он был бы рад, если бы и дальше шло так, как теперь. Поденщиков он не нанимал и вообще избегал людей, боясь расспросов и любопытных взглядов. Даже по воскресеньям он часто оставался дома, возился около скотины и читал раз за разом «Отче наш». Еще никогда он с таким усердием и так горячо не обращался к Богу, как теперь. Его мучил какой-то тайный страх, он сам не знал перед чем, но избавиться от этого страха не мог.
Анка ходила теперь в церковь другого прихода, хотя добираться туда надо было два часа. Она делала это не только потому, что, как и отец, избегала соседей, но и потому, что надеялась выследить Йохана. Забыть его Анке не удавалось, по ночам она тосковала о нем. С отцом она уже не была такой доброй и терпеливой, как в дни его болезни, стала раздражительной и резкой. Когда она возвращалась из церкви, отец каждый раз заглядывал ей в лицо. Нет ли чего нового? Нет! Он радовался. Зять подался в какие-то дальние края, вестей о нем долго не будет. Ерам так убаюкал себя этой мыслью, что уже перестал боязливо посматривать на тропы, ведущие к дому. И только Анка ни на один день, ни на одну минуту не переставала ждать Йохана.
И в ту весеннюю ночь, когда ее разбудил легкий шум на дворе, она сразу же подумала: не Йохан ли это? Увидев в просвете окна его голову, она вздрогнула. Она ждала мужа со смешанным чувством желания и страха, сама еще не зная, какой прием окажет ему. Голова, появившаяся в окне, оживила в ней неприятные воспоминания. Страх пересилил влечение, в душе зашевелилось чувство, близкое к ненависти. По своей натуре она была переменчива и стремительно переходила из одной крайности в другую: то гроза, то ясное небо. Она сидела на постели, словно деревянная, не говоря ни слова и затаив дыхание.
Йохан тихонько окликнул Анку, и очертания его головы исчезли. Только тогда она стряхнула с себя оцепенение, точно вместе с черной тенью исчезло и воспоминание. Она выбежала в сени, отодвинула засов и тут же убежала обратно.
Муж вошел и увидел ее уже в постели. Он похудел, оброс бородой, одежда была измята. Все это Анка заметила позже — лампы она зажигать не стала и более того: лежала, повернувшись лицом к стене, сдерживая дыхание, как при боли в груди.
Она чувствовала, что он стоит у постели, смотрит на нее и недоумевает. И чувствовала также, что он робеет и совсем не так самоуверен и заносчив, как прежде. По комнате он двигался осторожно, словно боясь, как бы тесть не заметил его прихода. Усмехнувшись какой-то своей мысли, он тотчас согнал с лица улыбку. Его сердило, что жена не обращает на него внимания, и лоб его хмурился все больше.
— Хоть бы свет зажгла, — буркнул он.
Анка молчала. Йохан зажег лампу и снова посмотрел на жену.
— Поужинать у тебя ничего нет? — загудел он, едва сдерживая гнев.
— В сенях клецки остались, — ответила она, не оборачиваясь. — Полей их простоквашей. Больше ничего нет.
Анка слушала, как он собирает себе ужин и чавкая ест. Видно, проголодался. Потом он отыскал в шкафчике трубочный табак Ерама и свернул себе толстую цигарку. Он курил, почесывал голову и сплевывал на пол.
— Что нового? — спросил он, стараясь говорить тихо.
— Козу я купила, — ответила жена после долгой паузы. — С козлятами она. Вот-вот опростается.
Они замолчали. Хотя в Анкином сердце тоска по мужу все еще боролась с ненавистью к нему, она почувствовала, что лед между ними уже сломан. Йохан уселся поудобнее, вытянув перед собой ноги, и с усмешкой думал о новом женином приобретении. Да, она любила скотину, хотела, чтобы скотины было много. Он бросил окурок на пол, придавил его ногой, подошел к постели и уставился на жену. К вожделению у него примешивалась злоба, вызванная холодным приемом. Он протянул руку и грубо ткнул Анку в спину.
— Оставь меня, если по-другому не умеешь! — сердито дернулась она.
Он стоял и молчал. Анка испугалась, что оскорбила его и он сейчас же уйдет. Это положило конец ее колебаниям, ее страху и внутренней борьбе. Она обрадовалась, услышав, что Йохан раздевается. Он лег и обнял ее за плечи. Она вздохнула. Все-таки он был ее муж, и столько месяцев она томилась по нему. При мысли о ночах, которые она провела в этой кровати одна, в глазах ее погас последний отблеск укора…
Потом они, примиренные, тихо лежали рядом. Анка смотрела в лицо мужа, освещенное тусклым светом лампы, стоявшей на сундуке. После того как страсть была утолена, в Анке снова пробудился страх перед этим человеком, но такой слабый, что ей нетрудно было совладать с ним. К тому же она чувствовала, что любит Йохана таким, каков он есть и каким она его узнала и полюбила. О деньгах, которые он промотал, ей не хотелось вспоминать. Она уверяла себя, что больше не выпустит мужа из рук.
Она отвела ему волосы со лба и нечаянно коснулась шрама. Йохан очнулся от дремоты и так поглядел на нее, что она испуганно отдернула руку и опустила глаза.
— Куда ты дел деньги? — спросила Анка, стараясь скрыть, что думает совсем о другом.
— Вернул.
— Вовсе ты их не вернул, — разозлилась она. Было неприятно, что он солгал. Если бы Йохан мужественно признался, что он негодяй, она бы любила его ничуть не меньше, лишь бы он с нею был хорош. — Зачем же тогда Миха за деньгами приходил? Ты их промотал.
Йохан некоторое время молчал, сжав губы и глядя в потолок.
— А раз сама знаешь, зачем спрашиваешь? — наконец процедил он сквозь зубы и, помолчав, спросил: — Что он говорил?
— Что в суд на тебя подаст.
Наступила долгая пауза.
— Не подаст. Я уйду.
У Анки сжалось горло.
— А я? — спросила она почти беззвучно. — Или я не жена тебе? Или мы для того поженились, чтобы ты шлялся по белу свету, как цыган какой-нибудь, хоть и надобности в этом нет?
— Ты тоже можешь со мной идти.
— С тобой, — вскинулась она. — Бродяжничать?
— А чего там, — нетерпеливо шевельнулся муж. — Неужто нельзя как-нибудь по-другому зажить? — вырвались у него слова, которые он, видимо, давно носил в себе. — Не для меня эта лачуга. К такой жизни я не привык, нету мне в ней никакой радости. Мне бы настоящее хозяйство, где не надо все на своем горбу таскать… Тогда бы ты увидела… Продают тут один надел…
Анка слушала, не спуская с него глаз.
— Где это? — забыв обо всем, спросила она. — Где продают?
— У Йожковеца в Планине.
Жена задумалась. Йохан не солгал. Она и сама слыхала, что Йожковецу грозит распродажа с молотка, а потому он ищет покупателя. Ей тоже хотелось иметь настоящее, богатое хозяйство. Не только потому, что она завидовала Мицке. Анка любила землю, хотела, чтобы было много земли и много скотины. Она замечталась, глядя в потолок.
— А деньги где взять? — внезапно очнулась она.
— Так у отца-то разве нет?
— Есть-то есть, — разочарованно протянула она, чувствуя, как соблазнительная картина, созданная ее воображением, меркнет и исчезает. — Но мы их получим только после его смерти, если что останется.
— Если что останется? — гневно сверкнув глазами, переспросил Йохан. — А разве они не лежат тут, рядом с нами, в сундуке?
Анка всматривалась в его лицо, точно желая уловить его тайную мысль, которая не давалась ей в руки, будто скользкая рыба.
— В сундуке-то в сундуке, а что проку? — задумчиво протянула она. — Отец ключей из рук не выпускает.
Йохан коротко хохотнул.
— Будто уж сундук нельзя без ключа отпереть.
Анку задел его презрительный тон, а еще больше то, что слова эти прозвучали так просто, словно он сказал: подавай обед на стол! Правда, деньги были все равно что ее собственные, но все-таки взять их сейчас значило в Анкиных глазах то же, что и украсть. Неужели он думает, что отец смолчит, увидев, что сундук взломан? А раз Йохан этого не боится, значит, он задумал что-то недоброе. О покупке земли он говорит только для того, чтобы добраться до денег и удрать с ними. А тогда его долго не будет, может быть, никогда. Она потеряет деньги и мужа, а ей не хотелось лишаться ни того, ни другого. Анке показалось, что она окончательно раскусила Йохана. В ней вспыхнуло такое бешенство, что она чуть не закричала и не ударила мужа по лицу. Но она пересилила себя, лежала, не двигаясь, и молчала.
— Так, может?.. — глухо спросил муж.
— Нет, — отрезала она.
Анка слышала, как он злобно сопит, лежа рядом с нею и глядя на нее из-под полуопущенных век. И знала, что так просто он со своей мыслью не расстанется. Она оказалась в тупике и не ведала, как из него выйти. От напряжения и растерянности ее прошиб пот.
— Почему ты лампу не гасишь? — спросила она.
Йохан не ответил. Боясь уснуть, Анка не закрывала глаз. Но она очень уж устала от дневной работы и от душевного смятения. Когда она меньше всего этого хотела, веки ее опустились. Она тщетно пыталась проснуться, открыть глаза… Только услышав треск ломающегося дерева, она вздрогнула и очнулась.
Как всегда, когда ей случалось внезапно проснуться, она и на этот раз посмотрела на ближнее к двери окошко. Там ничего не было, сквозь стекла мерцал мутный свет. В комнате горела лампа; спросонья Анка плохо различала предметы. И вдруг она увидела, что муж, присев на кровати у сундука, силится приподнять топором крышку. Бросив на Анку быстрый взгляд, он продолжал трудиться, стиснув зубы и стараясь производить как можно меньше шума. Одетый и обутый, уже в шляпе, он, как видно, собирался тотчас же уйти прочь.
— Оставь! — злобно прошипела она, подымаясь на постели.
Йохан зыркнул на нее белыми от ненависти глазами и продолжал свою работу.
— Отец! — закричала Анка, соскакивая с кровати. — Отец, деньги!
Муж положил топор на пол и поднялся. Он ударил Анку в лицо с такой силой, что она, вскрикнув, упала навзничь на кровать. На мгновение она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, мужа в горнице уже не было.
На пороге показался отец в одном белье, с испуганным взглядом.
— Что тут такое?
— Ничего. — Анка вытирала кровь, лившуюся из носа на сорочку. — Что вам тут надо? — закричала она на отца, который поднял с полу топор и пробовал, заперт ли сундук. — Не лезьте! Видите ведь, ничего не случилось. Идите ложитесь!
Ерам не послушался бы ее, но при виде лихорадочно горящих глаз Анки и ее окровавленного лица он ощутил такой страх и смятение, что силы покинули его. Дрожа всем телом и бормоча что-то невнятное, он зашлепал босыми ногами в сени и вскарабкался по лестнице на чердак.
28
Тоне с трудом дождался утра. О сне не могло быть и речи. Было уже совсем светло, когда он наконец услышал, что в горнице зашевелилась Анка. Она тоже не спала, а сидела на скамье, уронив руки на колени и устремив куда-то вдаль застывший взгляд. Тоне быстро встал, но не успел он спуститься с лестницы, как Анка ушла в хлев.
Когда она вернулась с мрачным и опухшим лицом, неся полный подойник молока, Ерам сидел на сундуке. Он весь согнулся понурился подбородок его почти что касался груди.
— Может, вы заглянете в хлев? — сказала Анка чуть изменившимся голосом. — С козой что-то неладно, наверно, всю ночь промучилась.
Отец поднял голову, глаза его долго не отрывались от дочери. Что она сказала? Он едва понял. Мысли его были далеки от забот о скотине и доме.
— Йохан вернулся? — спросил он.
— Да, — ответила дочь, занявшись в сенях каким-то делом, чтобы не смотреть отцу в лицо.
— Где он?
— Станет он мне говорить, куда опять ушел!
Некоторое время оба молчали.
— Почему ты ночью кричала?
Анка ходила то в горницу, то в сени, хотя никакого дела у нее в горнице не было. Она молчала, борясь с собой. К рассвету она успела немного успокоиться и впервые по-настоящему и надолго прониклась ненавистью к мужу. Догадка о том, что он только из-за денег, крадучись, вернулся домой, догадка, которую она сначала отгоняла, теперь, как червь, грызла ей душу. Как ни горько это было, Анка понимала, что она теперь ни девушка, ни мужняя жена. Если Йохан когда-нибудь и вернется, то только ради денег. При мысли об этом ее охватывали и страх и злоба. Она не стала таиться от отца.
— Он сундук хотел взломать, — сказала она необычно тихо.
Отец закрыл глаза, едва удерживаясь на ногах от слабости, и не знал, что сказать. В нем поднялась лютая ярость против зятя, кулаки сжались сами собой. В то же время он почувствовал себя глубоко несчастным, в груди у него защемило, защипало глаза. Отец и дочь не смотрели друг на друга и не могли проговорить ни слова.
— В хлев вы пойдете? — наконец спросила Анка.
— Не могу, — выдохнул Ерам.
Анка нахмурилась и ушла…
Ерам чувствовал слабость, есть ему не хотелось. В голове вихрем проносились беспорядочные мысли. Он уже раньше решил, что, когда зять вернется, деньги надо убрать из дома. Теперь это время пришло. Но не подстерегает ли Йохан где-нибудь в засаде и не кинется ли на него, как разбойник? Подумав об этом, Тоне вздрогнул и огляделся по сторонам. Надо было действовать.
Он отпер сундук и расстелил поверх одежды, лежавшей в большом отделении, синий платок. Низко нагнувшись над сундуком, он трясущимися руками вынимал столбик за столбиком и укладывал их в платок. Каждый раз, когда талеры слабо позвякивали, его охватывало странное чувство. Совсем не так бывало у него на душе в прежние времена, когда он пересчитывал деньги.
Нет, его трясущиеся руки, перекладывавшие монеты, не были руками скупца. Не были они похожи и на руки деда, положившего начало маленькому богатству. Тоне хорошо это понимал, хотя знал деда только по рассказам отца. Дед, как говорил отец, заплакал от радости, когда эта земля стала его собственностью. А ведь годы, которые последовали затем, были страшно тяжелы. Выплата долга за землю, налоги, неурожаи. Ели крапиву с молоком, жили в тяжкой нужде. Экономили на еде и одежде, берегли каждый крейцер, чтобы скопить талер. Много прошло времени, прежде чем в сундук лег первый серебряный талер, а за ним второй и третий… Помня о черном дне, дед ни одной монеты не потратил с легким сердцем.
После смерти деда сундук достался сыну — отцу Тоне. Он унаследовал вместе с сундуком бережливость старика Ерама и страх перед неурожаями и налогами. Да еще родилась у него в душе гордость своим богатством. А он, Тоне? При этом вопросе легкая усмешка скользнула по его лицу. Ему вспомнилось, как после смерти отца он впервые отпер сундук и обеими руками ворошил талеры. Вместе с ключом от сундука к нему навеки перешли дедовская и отцовская бережливость, беспокойство о будущем. Сколько раз случалось, что в дороге ему хотелось есть и пить, но в корчму он не позволял себе зайти. К табаку подмешивал буковый лист и чемерицу. Двадцать лет надевал по воскресеньям одну и ту же шляпу. Редко-редко ел мясо — только когда резал поросенка, если тот оказывался слишком тощим и не годился для продажи. Единственным его скромным наслаждением бывал иной раз стаканчик водки. И никогда Тоне не спрашивал себя, зачем он во всем себе отказывает. Нынче спросил в первый раз и в первый раз дал на это ответ. Если он прямо держит голову и не боится ни беды, ни старости — то лишь благодаря талерам, лежащим в сундуке. Не для того копили деньги три поколения, чтобы кто-то развеял их по ветру, как полову. Он верил, до последних пор крепко верил, что деньги останутся при нем, будут множиться, а если какая-то часть и уйдет, то только на постройку нового дома, на приданое дочерям, если их Бог пошлет. Да!
А теперь? Он выкладывал столбик за столбиком на разостланный платок и ужасался. Пустой ящик зиял, как широкая рана. Если вспомнить происхождение каждого талера в отдельности, то оказалось бы, что ни один из них не добыт нечестным путем — на каждом следы кровавого рабочего пота и тяжких лишений. Но теперь Ераму думалось, что, должно быть, деньги сами по себе несчастье, как ни трудно было в это поверить. Разве не из-за них впервые поссорились его дочери и в доме укоренился раздор? Разве слух о его деньгах не разнесся по всем долинам и не возбудил алчности у других людей, так что ему, Тоне, пришлось, в конце концов, запираться, точно богачу, и спать с топором у изголовья? И разве… Нет, всего и вспоминать не хотелось, — это причиняло слишком сильную боль. Он чувствовал, как в нем зарождается ненависть к Анке, которая принесла в жертву своей жадности судьбу отцовского дома. И он даже не ужаснулся, когда осознал это чувство. Он возненавидел и деньги. В это мгновение он готов был отнести свое богатство к реке и бросить его в омут. Или же позволить своим домочадцам перегрызть друг другу горло из-за этих денег.
Завязав монеты в большой, тяжелый узел, Тоне поднял его, будто намереваясь выкинуть в окно. Придется уйти из дому, подумал он. Даже если закопать деньги в лесу, все равно придется бросить дом. Слишком стар Тоне Ерам, слишком тяжело ему жить среди ссор и препирательств. А куда идти? На что жить?
Тоне втащил узел на чердак, приподнял тюфяк и положил деньги на доски кровати. Потом сел на постель, положил руки на колени и погрузился в тяжелое раздумье.
Куда идти? На этот вопрос он ответил себе не словами, а образом Мицки. Две недели назад Мицка была у него. Она услыхала, что отец болен, что даже посылали за священником, но не сразу смогла навестить его из-за своего грудного ребенка. А когда пришла, то все глядела на отца и не могла наглядеться, расспрашивала, как ему живется. Больше спрашивала глазами, чем словами, так как Анка все время вертелась поблизости. Так хорошо ему было с Мицкой, так покойно. На ее расспросы он ответил: «Неплохо мне, нет», — а глаза говорили совсем другое. «Переходите ко мне, — шепнула она ему на прощанье, — и не беспокойтесь ни о чем!» Он махнул рукой в ответ на это приглашение, но слов ее не забыл. Теперь они на сто голосов зазвучали в его памяти. Но трудно было уходить из дома, в котором он родился, из дома, которому он отдал столько сил.
Он почувствовал голод, спустился в сени, налил молока, отрезал хлеба и поел. Анка забыла о завтраке. Вернувшись из хлева, с руками по локоть в грязи, она долго плескалась в сенях. Потом вошла в горницу и стала вытираться тряпкой, висевшей у печи.
— Коза околела, — сказала она, — один козленок тоже. Второй жив.
Ерам вздрогнул, пораженный в самое сердце. Да, ему в самом деле следовало бы пойти в хлев, женщины не умеют управляться со скотиной. Но тут же он снова замкнулся в себе. Разве это теперь его хозяйство?
Анка удивленно посмотрела на сундук, который отец нарочно оставил открытым. Его пустота говорила красноречивей любых слов.
— Что это значит? — спросила она.
— Это значит, что там пусто, — натужно кашлянув, ответил отец. Он знал, что ему не удастся сохранить спокойствие до конца разговора. От волнения сердце у него болезненно сжималось, а лицо горело.
Анка прикрыла глаза и задумалась.
— Куда же вы дели деньги?
— Куда дел, туда и дел. — У отца от раздражения перехватило горло.
Дочь смотрела, как он встал и заходил по комнате, видимо не зная, куда себя деть.
— Козу надо ободрать и закопать, — сказала Анка; голос ее дрожал от волнения.
— Некогда мне.
— А что вы собираетесь делать?
— Уйти. Прочь из дому.
Ерам остановился у двери. Отец и дочь смотрели друг на друга.
— Куда вы пойдете? — спросила Анка прерывающимся голосом.
Ераму трудно было дышать. Он отмахнулся обеими руками, просеменил к окну и обернулся к дочери.
— К Мицке, — выдохнул он.
Глаза Анки широко раскрылись. От множества мыслей и чувств, нахлынувших на нее, она была сама не своя. В сердце вскипели гнев и обида.
— Когда же вы вернетесь?
— До смерти не вернусь. А после смерти и подавно.
— И деньги заберете? — выкрикнула она со злыми слезами.
Ераму было стыдно, что он не может спокойно, рассудительно договориться с дочерью. Ее крик раздражал его, а раздражение усиливало неприязнь к Анке, уже угнездившуюся в его сердце. В памяти ожило воспоминание о всех тяжких минутах, которые он пережил из-за нее.
— А разве деньги не мои и я не имею права их забрать?
Он поднял руки и снова опустил их.
— Если бы вы были люди как люди, мне бы никогда не пришлось уходить из дому. А жить в вечном страхе и ссорах я не могу. Стар я уже… Покой мне нужен… Вы бы меня в гроб вогнали… — Негодование и горечь нарастали в его душе. — Не хочу я, чтобы меня кто-то из милости кормил, а другой в это время проматывал то, что я с трудом скопил. Лучше я это серебро в воду брошу, — затопал он ногами. — Лучше в воду, в воду… — повторял он, обливаясь слезами, не находя-больше ни сил, ни слов.
Дочь, не помня себя, глядела на отца. Она ни разу не видела его в таком волнении; никогда такой ненавистью не горели его глаза. Увидев его слезы, она была близка к тому, чтобы пожалеть его; если бы она хоть на минуту вдумалась в его слова, она внутренне согласилась бы с ним. Но какое-то затмение нашло на нее, она думала лишь о том, что отец уйдет из дому и заберет с собой деньги.
— Я вас не пущу, — завизжала она, сжав кулаки. — Никуда вы не уйдете с деньгами! — кричала она ему вслед, когда он, в страхе перед ее яростью, спотыкаясь, заспешил в сени. — Уж не думаете ли вы отдать Мицке и дом тоже? — вопила она, когда Ерам ступил на лестницу, отмахиваясь обеими руками от ее слов. — Скорее я сама его спалю… Скорее спалю… Подумайте лучше…
Старик добрался до постели, рухнул на тюфяк и зажал уши руками. В груди у него хрипело, губы беспрестанно повторяли: «О, господи! Господи!» И все-таки он ни на секунду не поколебался в своем решении.
29
Захлопнув за отцом дверь, Анка заметалась по горнице, хватаясь за голову и крича. Обезумев от ярости, она не сознавала смысла слов, срывавшихся с ее языка. Вдруг она умолкла, с каким-то недоумением огляделась вокруг, несколько раз глухо всхлипнула, опустилась на скамью и уставилась в одну точку, уронив руки на колени.
Обдумать все трезво она не могла — в голове долго не прояснялось, и с тем большим упоением она отдавалась ненависти. Непрочная внутренняя связь, которая установилась было между нею и отцом, порвалась навсегда. Она чувствовала себя обманутой и отверженной, но это не лишало Анку отваги и злобной решимости, порожденной черными мыслями.
Время от времени она подымала голову, взглядывала в окно и прислушивалась. Она боялась, как бы отец потихоньку не выскользнул из дому. С чердака доносились тихие стоны. Это ее не пугало. Ей хотелось, чтобы отец заболел, как несколько месяцев назад. И умер. Эта мысль не заставила ее содрогнуться. Даже успокоила ее.
Анка вспомнила о козе, встала и, тряхнув головой, пошла в хлев, захватив с собой острый нож. Козу и околевшего козленка она оттащила на край пашни, стараясь не терять из виду дом и особенно входную дверь. Не зная, как освежевать животное, она все-таки, стиснув зубы, принялась за дело.
Она думала об отце. Она хоронила воспоминания юности и раздувала в своем воображении бессчетные маленькие обиды, нанесенные ей отцом. Уверовав в собственные измышления, Анка пришла в ужас: с тех пор как она себя помнит, для отца существовала только Мицка. Теперь он отнесет к Мицке деньги, хотя та уже получила свою часть. Анке мерещилось, что отец давно надумал сделать это и происшествия последних дней тут ни при чем. Почему она не догадалась сама взломать сундук и взять деньги? Почему не позволила Йохану сделать это?.. Она замотала головой. Нет, нет! Это было бы неправильно. Но что предпринять теперь она не знала. Мысль ее лихорадочно металась, не находя выхода; каждый раз преградой стоял отец…
Анка порезала себе палец и бросила работу. Она сдавила пораненное место, и кровь закапала на весеннюю траву. Оторвав от нижней юбки лоскут, она завязала палец. Несколько минут Анка, держа нож в руке смотрела на козу, шкуру которой уже попортила. Потом сходила за лопатой, вырыла с краю поля яму и закопала обе туши.
Козленок, оставшийся в живых, блеял в хлеву. Анка слышала его, но была так измучена работой и волнением, что едва держалась на ногах. Она присела передохнуть, и ей вдруг стало горько до слез. Все же она овладела собой, пошла в сени и развела в очаге огонь. Хотелось есть. Глядя на пляшущее пламя, она стряпала обед.
«Пожалуй, лучше было бы договориться с отцом по-хорошему», — думала она. Но притворство не давалось ей, она с трудом заставила себя подняться на несколько ступенек, а смягчить голос так и не смогла.
— Отец, обед на столе, — проговорила она враждебно.
Прошло много времени, прежде чем последовал ответ:
— Я не хочу.
Пригнув голову, Анка некоторое время постояла на ступеньке, потом поднялась на чердак.
— Когда вы думаете уходить? — спросила она сдавленным голосом.
В темноте она не сразу разглядела, что отец лежит на постели одетый по-воскресному. Рядом с ним — большой узел. На старом сундуке — миска молока с накрошенным хлебом и сало.
— Когда пойду, тогда и пойду, — ответил он глухо и неприязненно.
Он чувствовал слишком большую слабость и стеснение в груди, чтобы тотчас тронуться в путь. Кроме того, он знал, что дочь ни на минуту не спускает глаз с двери. Он ждал удобного момента.
Анка поняла, что ее уловка не удалась, и злоба еще сильнее сдавила ей горло. Не чуя под собой ног, она спустилась в горницу, села за стол и начала есть. Каждый кусок был горек, точно пропитанный желчью. Она несколько раз зачерпнула из миски и швырнула ложку на стол. От страшной мысли, которую она в своем ожесточении не стала отгонять от себя, ее бросило в жар, на лбу и висках выступили бисеринки пота.
Она пошла в хлев, подобрала с подстилки козленка и прижала к груди. Еще ни к одному существу она не выказывала столько нежности! Козленок блеял и все искал материнское вымя, тычась ей в щеку. Она снова опустила его на подстилку и пошла на гумно, где хранились старые корзины. В полутьме она увидела Йохана, лежавшего на ворохе соломы. Он только что проснулся и с выражением растерянности и недовольства таращил на нее заспанные глаза.
Анка не ждала увидеть его здесь. Она еще не думала, как поступить, если он вдруг появится. Теперь она почувствовала, что ненавидит его ничуть не меньше, чем в ту минуту, когда он ударил ее кулаком в лицо. И все же она обрадовалась, ибо он словно услышал призыв ее темных дум. Но обнаруживать свои чувства она не хотела.
— Ступай обедать, — сказала она, не глядя на мужа, и, взяв худую корзину, вернулась в хлев. Подстелив в корзину мягкого сена, она положила туда козленка и понесла в дом.
Через минуту вошел Йохан и обвел горницу вороватым взглядом. Потом всмотрелся в лицо жены, точно стараясь прочесть ее мысли. Не понял ничего. Сам он не решился бы войти в дом, по крайней мере, днем и теперь был доволен, что его позвали. Но при виде открытого сундука лицо его потемнело от гнева.
Он сел и взялся за ложку.
— А ты не будешь?
— Не хочется мне. — Жена выглянула в сени и притворила дверь.
Она старалась совладать со своим волнением, боясь, что муж заметит, как ее трясет. Взяв на руки козленка, она раскрыла ему рот и стала туда вливать с деревянной ложки молоко. Малыш давился, вырывался из рук, искал сосцов матери, не понимая, что ему хотят спасти жизнь. Анка делала свое дело с таким материнским терпением, что на нее было приятно смотреть. Однако душа ее не участвовала в этих заботах. Одна-единственная мысль — если то, что владело ею, еще можно было назвать мыслью — не оставляла ее, и Анка дрожала мелкой дрожью. На мужа она не взглянула ни разу.
Йохан с презрительной гримасой следил за нею.
— На что он тебе сдался? — насмешливо спросил он.
Она не ответила, продолжая черпать молоко ложкой, и все чаще проливала его на передник.
— Что, отец заметил? — наконец не выдержал муж, кивнув на сундук.
Она и сама хотела заговорить об этом, но не знала, как начать. Вопрос мужа помог ей.
— Еще бы! — прошептала она. — Теперь так и лежит на деньгах.
— Как это на деньгах? — Муж замер с ложкой в руке.
— Взял их из сундука. К Мицке думает отнести.
Йохан гневно сверкнул глазами и положил ложку на стол. От такой вести любая еда застряла бы у него в горле. Ему показалось, что он понимает причину перемены, которая произошла в жене. И его обуяла ярость, он позеленел.
— Вот чего ты добилась! — почти крикнул он.
— Тише! — Анка подняла голову и посмотрела на потолок. — Того, чего ты хотел, я бы все равно не допустила.
— Чтобы я купил усадьбу?
— Кабы так! — прошипела она, и в глазах ее вспыхнула ненависть, которую она не могла скрыть. — Ты и не собирался покупать усадьбу. Обмануть меня хотел, взять деньги и уйти на все четыре стороны. Думаешь, я не знаю, зачем ты на мне женился? Больше меня никто не обманет, ни ты и ни кто другой.
Опершись обеими руками в стол, Йохан пристально глядел на Анку. Его бесило, что она разгадала его до конца и осмелилась прямо сказать ему об этом. Он бы вспылил, если бы взгляд жены, горевший яростью, не нагнал на него страху. Йохан почувствовал, что он бессилен перед ней.
— Это тебе приснилось, — сказал он неуверенно. — Ты не дала мне взять деньги при тебе, ну, я и решил их тайком взять!..
— Не говори ты мне ничего! — прервала она. — Не говори, я больше ни одному твоему слову не верю. Деньги отцовы и мои. Мои, не твои! Если мы с тобой их получим, мы их вместе возьмем, сторгуем усадьбу и положим хозяину на стол. Слышишь?
— Слышу. — Муж преодолел свою растерянность, встал и принялся тихонько расхаживать от дверей до окна. — Теперь мы можем языком трепать, сколько душе угодно. — Лицо его скривила нехорошая усмешка. — Денег-то в сундуке все равно нет.
— В сундуке нет, зато в доме есть, — вырвалось у Анки.
Они переговаривались свистящим, злобным шепотом и готовы были вцепиться друг в друга.
— В доме, — передразнил жену Йохан. — Как же, стоит только на чердак подняться, и старик мне их сам предложит… На, мол, дорогой зятек. — И он тихонько захихикал.
Анка, задетая этой насмешкой, окинула мужа ненавидящим взглядом, но смолчала. Она перестала поить козленка и гладила его по головке, глядя куда-то под стол и кусая губы.
— Или ты думаешь, что он не подымет крика? — продолжал муж. — С деньгами нужно смыться незаметно, словно тебя ветром сдуло.
— Как ты и собирался сделать, — подняла голову Анка. Помолчав, она добавила чуть слышно: — После его смерти деньги так и так будут мои.
Йохан прислонился к печи и смотрел на нее исподлобья.
— После смерти? — глухо повторил он. — Как это после смерти, если он собрался унести их из дому?
Анку передернуло. Она встала, положила козленка в корзину, отнесла ее в сени и поставила в угол под лестницей. На секунду она задержалась, прислушиваясь, потом вошла в горницу и плотно затворила дверь. Она заметила, что муж не отрываясь наблюдает за ней, но не подняла глаз. Собрав посуду, сна поставила ее на подоконник, вытерла стол и повесила полотенце на веревку у печи. Потом растерянно огляделась, точно отыскивая себе еще какое-нибудь дело, и наконец посмотрела прямо в глаза мужу.
— Как это после смерти? — повторил он, пронзая ее взглядом.
Она несколько мгновений смотрела на него, и глаза ее выражали не только безмерную ненависть, но и нечто более страшное. Губы ее были плотно сжаты; казалось, она навсегда лишилась дара речи.
— Так ведь не обязательно, чтобы он уходил из дому, — наконец выговорила она почти беззвучно, повернулась к печи и трясущимися руками начала перекладывать какие-то тряпки. Муж, сощурившись, смотрел ей в спину; странная усмешка исказила его черты. Потом он подошел к ней и заглянул сбоку ей в лицо.
— Убирайся! — внезапно разъярилась Анка, сжимая кулаки. — Ступай вон, негодяй! — прошипела она, понизив голос. — Видеть тебя больше не хочу. — Она раскаивалась, что выдала себя Йохану; в каждой черточке его лица — наглая насмешка, он будто хочет сказать: ты ничем не лучше меня, ты еще хуже. — Убирайся, откуда пришел! Чтобы я тебя никогда не видела.
Она замолчала, шатаясь, подошла к кровати и легла лицом к стене, дыша взволнованно и часто.
Йохан молча шагал по комнате. Он старался сохранить серьезный вид, с трудом сдерживая загадочную усмешку, упрямо набегавшую на его губы. Наконец он остановился перед Анкой.
— Где у него спрятаны деньги? — еле слышно спросил он.
Жена не смогла ответить — у нее вдруг перехватило горло. Йохан сел на скамью, тихонько насвистывая какой-то мотив. Так они не тронулись с места до вечера.
30
Анка провела эту ночь точно в лихорадке. Легла, не поужинав, не зажигая огня, и сразу же очутилась в аду. Ее трясло от тайного ужаса, ангел и дьявол боролись в ее душе. Ей чудилось, будто она ступила на бревно, перекинутое через пропасть, и уже не может и не смеет повернуть назад. Муж, на которого она за весь вечер ни разу не взглянула и которому не сказала ни слова, босиком расхаживал по горнице. Анка укрылась с головой одеялом, чтобы не слышать его шагов.
Это не помогло. Непонятные, таинственные, глухие шорохи доходили до нее. Она начала молиться. О боге она при этом не думала. Молитвенным шепотом ей хотелось заглушить все звуки, доносившиеся извне. И свой внутренний голос тоже. Она жалела, что не выпила водки, не напилась до бесчувствия.
Прошло много времени (ей показалось — целая вечность), прежде чем муж улегся в постель. Когда он прикоснулся к ней, Анка вздрогнула и отодвинулась к стене. Странная напряженность отпустила ее, все в ней расслабло. Она лежала как мертвая, даже мысли стали сонными и тупыми. Она заснула. Но сон был неглубоким и то и дело прерывался мучительными видениями, от которых она испуганно вздрагивала и пробуждалась. По-настоящему она проснулась, когда на дворе уже совсем рассвело.
Анка была так измучена, будто всю ночь таскала тяжести. Поспешно встав и одевшись, она прислушалась. Слышно было протяжное сопение мужа и блеяние козленка, который перевернул корзину и, дрожа, прижимался к стене. У двери тикали часы, их старинный циферблат смотрел в комнату, как темное лицо. Кроме этих звуков, ничто не нарушало мертвой тишины. В окна светило весеннее солнце. В его бледных косых лучах Анке мерещилось что-то жуткое.
Ужас преследовал ее; в это утро ее глаза не могли видеть ничего, кроме ужаса. Но он был не таким, как в прошлый вечер и минувшую ночь. Это был стремительно нараставший, как лавина, ужас человека, который, внезапно протрезвившись, ясно видит перед собою свое злодеяние и его последствия. Множество опасностей, о которых она раньше не подумала, нависли над ее головой, как петля, и грозили ей гибелью.
Она прижала руку к груди, тихонько застонала и устремила немигающие глаза на мужа, который лежал на спине и спал с раскрытым ртом. Он спал мирно и крепко, как всегда. Анке подумалось, что все тяготы он взвалил на нее. И ее захлестнула такая бешеная ненависть к его здоровью и душевному спокойствию, что она готова была схватить его за горло и задушить.
Анка встряхнулась и быстро вышла в сени. Ей хотелось забыться в работе, чтобы не чувствовать томившего ее страха. Не смея даже взглянуть на чердачную лестницу, она развела огонь на очаге и поставила горшки. Потом задала корма скотине, подоила коров и напоила козленка. Все это она делала так быстро, что не успевала думать ни о чем другом.
Когда она принесла завтрак, Йохан уже встал.
Стоя у стола, она глядела на мужа. Сначала его лицо не выражало ничего, самое большее — какую-то хмурость. Не было на нем и вчерашней загадочной усмешки. Он казался чужаком, зашедшим в дом по ошибке. Анка не боялась его, но чувствовала, что всякая связь между ними порвана. Не только душевная, но и физическая. Ей хотелось, чтобы он ушел и никогда больше не возвращался.
Они не перекинулись ни единым словом. Скороговоркой прочли «Отче наш», сели за стол и начали есть, иногда исподлобья поглядывая друг на друга. Анка вдруг почувствовала, что должна что-то сказать, но слова застряли в горле, а молчание тяготило ее все больше.
— Отец еще не встал? — наконец заговорил Йохан.
— Нет, — ответила она дрожащим голосом. — Может, он уже ушел?
— Пойди взгляни.
Анка молча положила ложку и встала. Но вдруг зябко передернула плечами и села на свое место, прошептав:
— Пойди лучше ты.
— Сама иди! — рявкнул муж так грубо, что Анка подскочила.
Она вышла, оставив дверь в сени открытой. Легче было бы пойти на смерть, но она не понимала странного поведения мужа и хотела избавиться от тягостного недоумения. На середине лестницы она остановилась, не решаясь подняться выше.
— Отец! — позвала она, прижав руку к колотившемуся сердцу, и прислушалась.
Голова у нее вдруг закружилась, и она чуть не упала с лестницы. Прошло несколько мгновений прежде чем сверху донеся вздох, казалось, с величайшим трудом вырвавшийся из груди.
— Что такое? — послышались два слова, разделенные паузой.
Этот голос Анка услышала всем своим существом; он, как острая игла, вошел в ее сердце. Минуту назад она не знала, как воспримет смертное молчание или отклик на зов. И сейчас она еще не знала, как отнестись к отклику. На миг-другой она потеряла сознание, а потом ощутила душой и телом, как рассеялись страх и ужас, терзавшие ее с минуты пробуждения. Она чувствовала себя как убийца, который жаждал, чтобы его жертва ожила, и вот чудо совершилось. Из груди ее вырвался такой громкий вздох облегчения, что его слышно было в горнице.
Минуты две она еще постояла на лестнице, а потом, решившись, поднялась наверх. Шла она спотыкаясь, точно пьяная. Отец лежал на постели, одетый и обутый, ничем не накрытый, недвижимый, изменившийся в лице. Он сдерживал дыхание из-за острой боли в груди. Только вблизи можно было расслышать тихий стон, сопровождавший каждый его вздох. Так, без всякой помощи, он и пролежал всю ночь.
— Вы заболели? — Голос Анки дрожал от мучительного волнения.
— Заболел, — посмотрел он на нее суровым взглядом, говорившим о том, что давешнее его отношение к дочери не изменилось. — Шевельнуться не могу, — со стоном прошептал он, едва двигая губами. — Кто это был ночью… на лестнице?
— Не знаю, — ответила дочь тоже шепотом, чтобы ее не было слышно в горнице. «Да ведь это же был Йохан», — ужаснулась она в душе. Тяжело было видеть неприязнь, написанную на лице Ерама, но, помня о своей вине, она не смела корить отца.
— Может, сварить вам что-нибудь? — спросила она.
— Да, хорошо бы, хорошо…
Он заметил перемену в дочери и был удивлен; взгляд его потеплел, стал мягче, но в глубине зрачков все еще таилось недоверие.
— Может, за священником сходить? — спросила Анка; не смея взглянуть ему прямо в лицо, она смотрела на край постели.
— Сходите, — попросил он. — Вроде бы мне хуже, чем в последний раз… хуже… Да за Мицкой бы послать…
Дочь не возразила и не поморщилась, когда он упомянул о сестре. Полная смутного чувства благодарности — сама не зная кому, — Анка, как во сне, спустилась с чердака и вошла в горницу.
Йохан уже кончил завтракать: он сидел за столом и курил сигарету. Когда жена появилась на пороге, он смерил ее долгим взглядом. Анка тоже несколько мгновений смотрела на него. Казалось, они исповедуют друг друга. Анка первая отвела взгляд.
— Ступай к Робарам, пусть позовут священника для отца, — глухо проговорила она. — А потом сходи за Мицкой!
— Никуда я не пойду, — ответил он, отчеканивая каждое слово.
Тогда Анка откинула голову назад, глаза ее грозно сверкнули. Этот человек, сидящий перед нею, довел ее до таких помыслов, что она никогда не осмелилась бы в них признаться, а теперь в душе насмехается над ней. Сознавать это было невыносимо. Даже если она ему простит все остальное, этого ей не забыть никогда. И ее злоба на мужа перелилась через край.
— Иди! Ты же видишь, что мне больше некого послать! — закричала она. — Убирайся, или я тебя топором прогоню, — озиралась она, ища, чем бы на него замахнуться. — И не показывайся мне больше на глаза!
Йохан, разъярясь, взялся за чашку, чтобы швырнуть в жену.
— Анка! — прерывисто донеслось с чердака.
При звуке этого голоса Йохан вздрогнул и выпустил чашку из рук. Она упала на пол и разлетелась на куски. Он еще со вчерашнего вечера начал побаиваться этой бабы, а теперь ее угрозы и ее бешеный взгляд испугали его не на шутку. Он схватил шапку и вышел из дому.
Анка смотрела ему вслед. Да, он повернул к Робару. Она заварила для отца липовый цвет, хранившийся в ситцевом мешочке, приподняла Ераму голову, и он долго пил торопливыми, жадными глотками. Анка поставила пустую чашку на сундук и села на край постели, сложив руки на коленях. Отец устремил на нее вопрошающий взгляд, а она, потупившись, глядела на грязные половицы.
— Трудно тебе будет с Йоханом, — тихо проговорил отец. Очевидно, он имел в виду громкую ссору в горнице, которую только что слышал. Похоже было, что отец снова смягчился и вчерашние суровые слова позабыты. В его неподвижном взгляде появилось выражение сострадания и озабоченности.
— Я с ним скоро разделаюсь, — решительно тряхнула головой дочь.
Наступила долгая пауза.
— Анка, — заговорил наконец Ерам, объявляя свою последнюю волю. — Смотри, тут, у меня в головах… под тюфяком… узел… Возьми его!
Дочь вздрогнула, помедлила секунду, точно не понимая, потом встала. Вытащив из-под тюфяка тяжелый узел, она замерла, изумленно глядя на отца.
— Береги его! — сказал Ерам прерывающимся голосом. — Это твое, Анка, — добавил он, почувствовав, что силы покинули его; перемена, происшедшая в дочери, тоже повлияла на его решение. — Мне это не понадобится… не понадобится больше… Но смотри… Деньги все равно что огонь… Могут пойти на пользу, а могут и беду накликать. Не давай их в руки тому… не позволяй ему…
Он утих, сдерживая дыхание, причинявшее ему боль, и чуть не заплакал. Анка не выказывала радости. Этот узел потерял для нее то значение, которое имел еще вчера. Она понимала, что вместе с деньгами принимает на себя новую, тяжкую заботу. Но сейчас она не могла думать об этом. Образ отца, каким она видала его, припоминая причиненные ей маленькие обиды, вдруг в корне изменился. То, что он отдал ей все свое достояние, обрадовало ее. Теперь она верила, что отец ее любит. А она-то призывала на него болезнь! И смерть! И еще худшее, чем это… Давеча, когда отец откликнулся ей с чердака, она освободилась от страха, что увидит его мертвым, от боязни возможных последствий. Где-то глубоко в душе зашевелился ужас. Как она могла?.. Ведь это отец… Ведь это все-таки ее отец… Она задрожала и разразилась громкими рыданиями.
Ерам был тронут. Сдерживая дыхание, он старался ослабить боль в груди. Случалось, Анка плакала от злости, но вот такими скорбными слезами она не плакала никогда. Он не узнавал своей дочери.
— Анка, что ты, Бог с тобой? Чего ты плачешь?
Она не отвечала. Узел с позвякивающими монетами она опустила на пол, отошла в угол, чтобы спрятать лицо, и сотрясалась от рыданий.
Отец так и не узнал, почему плакала дочь, хотя не мог забыть об этом до смертного своего часа.
31
Ерам переселился в горницу, из которой его и вынесли через некоторое время на кладбище. К нему привели священника, который исповедал и причастил его. Навестила его и Мицка и плакала у его изголовья. Все твердили ему, что он поправится, как в прошлый раз. Однако Ерам не поправился — да ему и не хотелось этого, — но и не умер сразу. Тело противилось смерти, хотя он таял день ото дня, и уже не мог без посторонней помощи подниматься с постели.
Никто толком не знал, что с ним. В болезнях хуторяне не бог весть как разбирались. Выздоравливали или умирали без врача, нередко вообще без чьей-либо помощи, точно звери в лесу; кончались от болезней, названия которых зачастую не знал и регистратор умерших. Причину отцовского недуга лучше всех разгадала Мицка, которая однажды сказала Ераму:
— Покой вам нужен, отец, покой.
— Да меня ничто и не беспокоит, — устало усмехнулся он. — И уход за мной есть. Анка совсем другая стала.
— С тех пор, как вы ей отдали деньги.
Ерам промолчал. Он чувствовал, что в таком объяснении не вся правда. Мицка пожала плечами. Она была проницательна, и от нее не укрылась озабоченность, мелькавшая в его взгляде.
Да, Анка в самом деле переменилась. С того дня, когда она разрыдалась у постели отца, она была сама не своя, не решалась взглянуть ему в глаза. Все же она часто подходила к нему, спрашивала, как он себя чувствует и не надо ли ему чего. Он просил не беспокоиться за него. Если ему что-нибудь понадобится, он ее покличет.
Часто он искал дочь глазами, ему было жаль ее. Все заботы о хозяйстве лежали на ней. А он знал, что это значит. Спала она на печке и просыпалась при каждом его стоне. Похудела так, что стала костистой и желтой, глаза у нее провалились. Она перенапрягала свои силы. С людьми она держалась более сердечно, чем раньше, в особенности с сестрой. Когда Мицка, проведав отца, возвращалась домой, Анка провожала ее до конца сада.
— Если ему станет хуже, сразу же пошли кого-нибудь за мной, — сказала ей однажды Мицка.
— Не говори мне о смерти, — вздрогнула Анка.
Она и в самом деле не могла слышать о смерти. Каждый раз ей казалось, будто тонкая игла пронзает ей сердце.
Она чувствовала, что легко примирилась бы с кем угодно, только не с Йоханом. Когда он, выполнив ее поручение, вернулся домой от Мицки, она удивилась, но тут же догадалась, что его пригнали назад расчеты на наследство. Все это время он взглядом спрашивал Анку о чем-то, но она избегала говорить с ним и даже смотреть на него. Она заметила, что муж как будто побаивается ее. С тех пор как она перешла спать на печь, а он в хлев, Йохан не пытался и сблизиться с нею. Иногда он брался за какое-нибудь дело. Увидев его как-то с лопатой в руках, Анка подумала, как было бы хорошо, если бы он был таким, как другие мужчины. Тогда она бы все ему простила. Она уже начала было мечтать об этом, но однажды он спросил:
— А что с деньгами?
— Я их не видала, — ответила она, не глядя на мужа.
— Не вынес же он их из дому, — резко возразил он, глядя Анке в лицо, которое выдавало ее.
— Может, он их в ту ночь где-нибудь закопал.
У Йохана опять заиграла под усами странная усмешка, смысла которой никогда нельзя было разгадать. Он перестал расспрашивать жену, не желая слышать в ответ пустые слова. Если бы Анка не знала, куда делись деньги, она не была бы так спокойна. Ха!
В тот день, когда Анка так плакала у отца на чердаке, она, однако, не оставила узел с монетами на полу. Куда их спрятать, чтобы никто их не нашел, она не знала. Запереть в сундук, который так легко взломать? Или засунуть в сено, где их кто-нибудь случайно может обнаружить? Когда настал вечер и Йохан уже крепко спал в хлеву, она тихонько выскользнула из дому, прихватив с собой лопату. На краю луга она выкопала яму, опустила в нее узел с деньгами и завалила землей. Сверху, чтобы скрыть всякий след, набросала кучу хвороста. Кому придет в голову искать там деньги? Но она боялась Йохановых глаз, которые бегали вокруг, точно ища чего-то.
Лето миновало в заботах и тяжелом труде: в начале осени зарядили проливные дожди, речка не раз выходила из берегов. Потом небо опять прояснилось, вода спала, и в эту пору внезапно умер ночью Ерам. Днем он выглядел крепким, много говорил и раз даже засмеялся, но вечером снова почувствовал слабость. Анка сидела у постели и смотрела в его изможденное лицо, освещенное мерцающим светом лампы.
Он прикрывал глаза, дышал медленно и с трудом, по телу его время от времени пробегала дрожь. Под утро дочь задремала, прислонясь к краю постели. Вдруг руки отца судорожно ухватились за нее. Анка вскинулась и увидела, что больной борется со смертью. Он еще пытался приподняться, но голова уже запрокинулась, и белки закатившихся глаз уставились на потолок.
Анка зажгла свечу и стала, плача, молиться у изголовья отца. Он отошел, когда первые лучи солнца брызнули в окна. Анка выбежала во двор и закричала:
— Отец умер! Отец умер!
Ее охватило невыразимое горе.
Собрался народ, покойника обрядили и положили на одр. Мицка, с печальным лицом, всхлипывая, принималась прибирать то там, то тут. Родственники и знакомые, окропив покойника святой водой и прочтя молитву, усаживались по лавкам, отведывали водки и хлеба и приглушенно перешептывались.
— Отмучился, — сказал кто-то с таким выражением, точно имел в виду не только болезнь.
— Он-то отмучился, а кое-кого другого мученья еще только ждут.
— Тяжело ему досталось под конец, тяжело. Он этого не заслужил.
Все поглядывали на Йохана, расхаживавшего вокруг с мрачным видом. Где бы он ни оказался, он был всем в тягость.
Анке некогда было слушать эти разговоры. На нее навалилось столько дел и забот, что горевать не было времени. Денег на похороны и поминки у нее на руках не было. Она этим летом с трудом свела концы с концами. А в доме толпился народ, и Йохан еще никогда не был таким вездесущим. Анка ума не могла приложить, как ей незамеченной добраться до луга.
Поздно ночью, когда в горнице оставалось только несколько человек, а Йохана нигде не было видно, Анка взяла лопату и осторожно, стараясь не шуметь, вышла из дому. Через некоторое время она вернулась, задыхающаяся, дрожащая, покрытая грязью, и села в угол у печки. Волнения и спешка так ее издергали, что слезы сами собой покатились по ее щекам.
Когда на следующее утро начали заколачивать гроб с телом отца, она, заплаканная, вышла в сени и увидела там Йохана, стоявшего у двери в затрапезном виде. Они поглядели друг на друга.
— Разве ты не пойдешь на кладбище? — спросила Анка, утирая слезы.
— Должен же кто-то остаться дома.
— Так ведь Робариха останется, приберет тут.
— Приберет да уйдет. И что тогда? Ведь на хуторе живем, кругом никого.
Это было странно. Никогда Йохан не проявлял такой заботы о доме. Не будь вокруг людей и не лежи отец в гробу, она бы закричала, замахнулась чем-нибудь и прогнала мужа прочь. Теперь же надо было сдерживаться. Ей бы остаться дома, а нужно идти на кладбище. Анка сверлящим взглядом впилась в самую глубину Йохановых глаз, точно желая прочитать какие-то тайные его намерения, но он отвернулся в сторону.
Горе Анки почти целиком утонуло в тревожном предчувствии, терзавшем ее всю дорогу. Ни разу мысль ее не вернулась к отцу, не оторвалась от денег, зарытых в землю. Никогда еще путь до приходской церкви не казался ей таким томительно долгим. Заупокойная служба тянулась бесконечно. Анка сама сознавала, что ее нетерпение и рассеянность — большой грех, и каждый раз, опомнившись, просила прощения у Бога. У могилы из глаз ее потекли слезы, которых сама она почти не чувствовала. Священник все никак не отпускал ее из церковного дома.
На поминках в трактире, где было подано белое вино и хлеб, она сидела точно на угольях.
— Ну, Анка, теперь ты сама себе хозяйка, — сказал Робар.
— Не совсем так, — сдержанно усмехнулась она.
— Что уж там не совсем! Небось я сам был на свадьбе свидетелем. Теперь могу говорить. Будь у меня этот ваш сундук, отдал бы тебе все, что у меня есть.
Анка посмотрела на сестру, которая без зависти улыбалась ей, и, застеснявшись, опустила глаза.
— Коли есть деньги, найдется и дыра, через которую они уйдут, — подал голос Ермол, тоже ходивший хоронить Ерама.
Анку всю передернуло, ей неудержимо захотелось поскорее оказаться дома. Она расплатилась с трактирщиком, поблагодарила всех и попрощалась с Мицкой, возвращавшейся к себе через долину. Не дожидаясь Робара, кричавшего ей вслед, Анка как безумная помчалась вниз по дороге, так что сборчатая юбка развевалась и била ее по ногам.
32
С утра небо хмурилось, но воздух был неподвижен. Теперь же, в полдень, вдруг занепогодило, по небу, как большие белые псы, побежали облака, студеный ветер дул Анке в лицо и обдавал холодом вспотевшее тело.
Дверь дома была распахнута настежь. Войдя в горницу, Анка увидела Мрету, сидевшую на печи с четками в руках. Ее нижняя челюсть шевелилась в такт беззвучной молитве. Когда она увидела Анку, лицо ее точно окаменело и вопрошающий взгляд остановился на снохе.
— Ты, чай, меня не прогонишь? — заныла она. — Я подумала — отца теперь нет, почему бы мне к вам не вернуться? В последнее наводнение у меня половину хибарки унесло, мышам и то теперь жить негде. Нету у меня уголочка, где бы голову приклонить, ни единого уголочка.
Эта женщина была отвратительна Анке, теперь — больше, чем когда бы то ни было. Ничего не сказав в ответ, она быстро оглядела все углы и уставилась на свекровь.
— Где Йохан?
— Я его не видала. Пришла, а дверь открыта.
Она молола еще что-то, но Анка ее не слушала. Торопливо, трясущимися руками, она стащила с себя праздничное платье и набросила обычное.
Повязывая на ходу черный платок, она выбежала из дому.
— Куда ты? — крикнула ей вслед Мрета.
Анка не слушала. Она остановилась перед домом, на осеннем ветру, заслонила глаза рукой от слепящего солнца и долго смотрела в сторону луга. Бурая куча хвороста по-прежнему лежала между двумя грабами, больше ничего разглядеть не удалось.
Она приподняла спереди юбку, чтобы не наступать на подол, и стала подниматься вверх по склону. Вся запыхавшись, красная, с колотящимся сердцем, она добежала до раскиданного валежника, до пустой ямы и до лопаты, брошенной на кучу рыхлой земли. В дикой ярости она кинулась на землю и заколотила по ней кулаками. Это принесло Анке облегчение, точно она била того человека, который ограбил ее.
Отбушевав, она, вконец обессиленная, села, уперев подбородок в ладони. Постепенно, капля за каплей, возвращались к ней разум и способность рассуждать. Значит, он вчера вечером выследил, как она под прикрытием темноты ходила за деньгами? Наверно, он догадывался, что в ее кошельке пусто. Все эти месяцы он только и ждал случая. И оказался хитрее ее. Анка была рада, что теперь Йохан больше никогда не посмеет показаться ей на глаза. Но деньги… О, у нее просто сердце разрывалось! Попытки собраться с мыслями не успокоили ее, а напротив — вызвали новый прилив бешенства. Она вспомнила о Мрете, поднялась и, сжав кулаки, побежала вниз, к дому.
— Вы сговорились! — закричала она, ворвавшись в горницу; ее переполняло желание излить на кого-нибудь свою злобу. — Так я вам и поверила, будто вы его не видели!- — кричала она, возбужденно меряя горницу крупными, мужскими шагами. — Сговорились… Он с деньгами на все четыре стороны, а вы в дом…
Мрета была в полной растерянности. Сначала она не поняла, о чем говорит сноха.
— С какими такими деньгами?
— Еще спрашивает! Не прикидывайтесь! С деньгами, которые я закопала, чтоб он их не пропил. А теперь он их унес, и вы знали об этом.
— Вон оно что! — Глаза Мреты сердито вспыхнули, но она постаралась сдержаться. — Вон что! Деньги? И я об этом знала? Да если бы я знала, — повысила она голос, — разве бы я ему дала их унести? Только не кричи ты на меня так, Анка, не кричи! — Голос ее стал тише, и в нем прозвучал горький упрек. — По пути я Робариху встретила. Она мне сказала, что сын дома. Но только я его не застала и не повстречала. Истинная правда! А Йохан жулик!.. Господи прости, что я своего родного сына так называю.
— Теперь вы говорите, что он жулик, а раньше нахвалиться им не могли, — чуть не плакала Анка.
— Верно, хвалила я его. А какая же мать не хвалит свое дитя? Или ты думаешь, я знала, какой он есть? Кабы знала, не стала бы ни хвалить, ни хаять.
— Врете! — топнула ногой Анка. — Как вы можете так врать? Вы и раньше были в сговоре, — обрушивала она на мать ненависть, которую чувствовала к сыну. — Он затем и женился на мне, чтобы добраться до денег. И вы его на это уговорили!
— Иисусе и матерь Божья! — ужаснувшись, прервала ее свекровь, осеняя себя размашистым крестным знамением. — Грех-то, грех-то какой. Да простит тебя Господь, Анка! Что ты плетешь! Разрази меня гром, если в твоих словах есть хоть крупица правды. Я ему, понятно, сказала, что у вас денежки водятся, чтоб он не воротил нос от вашей халупы. Парень он был, верно, никудышный, но я ему хотела добра, а ведь сколько ребят после женитьбы за ум взялись! Конечно, я и о том думала, — тут она утерла слезу, — чтобы под старость не куковать одной в своей развалюхе. Да ты, чай, сама видела, как он мне отплатил за все. Мне не так горько было, что твой отец меня из дому выгнал, как то, что родной сын… сын…
Она умолкла, сморкаясь в передник. Анка опустилась на скамью. Может быть, свекровь тогда и вправду думала и чувствовала так, как говорила сейчас. И видно было, что она боится, как бы сноха не выгнала ее из дому. Анке стало ее жаль. Ей вспомнился день, когда эта женщина впервые показала ей своего сына. Это воспоминание было и сладким и горестным. Какое необычное чувство она испытала, увидев его, — ни с чем не сравнится ощущение горячей волны, пробежавшей тогда по ее телу. А сейчас!.. Какая холодная ненависть захлестывает ее!
Память о прошлом вытеснила злобное возбуждение, и сердце до краев заполнилось горем и тоской.
— Сколько я за него молитв отмолила! — уже успокоившись, продолжала свекровь, видя, что сноха не указывает ей на дверь. — Это мой покойник — царство ему небесное — парня испортил, — шепелявила она, стараясь снять с себя всякую вину. — В трактир его с собой брал; а когда парень, бывало, что не так сделает, отец только смеется. Да и я не без греха, Господи прости; но ведь Йохан меня ни во что не ставил — сыновья только на отца глядят. Во всем. И в хорошем и в плохом. И по белу свету он пустился слишком молодым. Правда, он не такой, чтобы напиться как свинья и валяться в грязи, — этого за ним не водится. Хвастовство его губит, как погубило отца; поит тех, кто к нему подлизывается, сует нехорошим женщинам деньги за пазуху…
— Замолчите! — подняла голову Анка.
— Да уж молчу, — окинула ее свекровь проницательным взором. — А все же он не такой, чтобы заниматься делами, о которых я вслух и сказать-то боюсь… Буду молить Бога, чтобы Йохан когда-нибудь вспомнил о тебе и вы бы зажили, как все люди живут…
— Да молчите вы!
— Так они из меня сами собой лезут, слова-то, — спохватилась Мрета. — Отче наш, иже еси на небеси. — И ее голос потерялся в беззвучной молитве.
Анка встала с места и вышла во двор по хозяйству. Вечером она снова села за стол и задумалась. Сидела в темноте, не зажигая огня. Ужина не готовила, так как голода не чувствовала. Мрета перестала молиться; голодными глазами она шарила по горнице, не отваживаясь заговорить с Анкой.
— Ты что же, на кровати не ляжешь? — наконец спросила она.
— На печке лягу, — ответила Анка; ей было страшно ложиться на кровать, на которой умер отец.
— Тогда я лягу, если пустишь, — сказала свекровь, догадавшаяся о том, что происходит в душе снохи, и слезла с печи. — Когда моего мужа убило, я ничуть не боялась. А ведь говорили, будто дух его вокруг Осойникова двора бродил… Ужин готовить не будешь? Да и правда, тебе, бедняжке, не до того.
Сноха не отвечала. Когда Мрета улеглась, натянула одеяло до подбородка и удовлетворенно вздохнула, Анка влезла на печь, но не легла, а уселась в углу, сложив руки на коленях. Некоторое время она сидела так, совсем отупевшая. Хотелось спать, но уснуть она не могла.
Казалось, свист осеннего ветра стал во сто крат сильнее. Ручей шумел, как настоящая река, падающая с высоких скал. Шелест листьев был таким явственным и громким, точно на ветру хлопали огромные простыни. Часы тикали так громко, что Анке чудилось, будто ее бьют молоточком по вискам. Звуки, которых днем почти не слышно, ночами усиливаются и пугают. В эту ночь они казались Анке оглушительными.
Ей никогда не приходилось углубляться в себя. Днем она работала, ночью спала. Теперь, когда сон бежал от ее глаз, она погрузилась в размышления о самой себе. Перед ней предстала вся ее жизнь. Ей сделалось стыдно — до сих пор это чувство было ей почти незнакомо, — что она так гналась за деньгами. Даже об отце с самого утра ни разу не подумала.
Анка оглядела горницу, в которую сквозь маленькие окна проникал тусклый свет, и вздрогнула. Она зашептала заупокойную молитву, просила у отца прощения. И он встал перед нею таким, каким был незадолго до смерти. Господи, все последние дни она не решалась посмотреть ему прямо в глаза. Боялась, как бы он не увидел некой вины в ее взгляде… Анка зажмурилась и несколько раз подряд шепотом прочла «Отче наш», точно надеялась молитвой заслужить себе отпущение грехов.
В горнице раздавался мерный храп Мреты. Осенний ветер завывал за стенами, шумел в ветвях деревьев, сбивал плоды, которые с глухим стуком падали на землю. Время от времени оконные стекла вздрагивали и дребезжали, сверху доносилось приглушенное на ветру хлопанье, и жалобно скрипела на ветру дверца сеновала, которую она забыла запереть. В паузах между порывами ветра становилось слышно стонущее тиканье часов.
Эти звуки больше не тревожили Анку, а, напротив, клонили ее в сон. На нее нашло какое-то успокоение, точно она раз и навсегда дала отчет перед своей совестью. Лишь изредка в душе возникала боль. Была в Анке живучесть, цепкая, как у сорняка, который, сколько его ни выпалывай, отрастает снова и снова. Никогда она не предавалась надолго отчаянию и апатии. Надо жить. Усталость одолела ее, и, сама того не заметив, она, продолжая шептать молитву, погрузилась в сон.
33
Наутро Анка прибрала в хлеву, переоделась в праздничное платье и, глядясь в стекло открытого окна, причесалась. Мрета тем временем приготовила завтрак и накрыла на стол.
— Куда это ты собралась? — спросила она сноху. — В церковь?
— Нет. Если я к обеду не вернусь, сварите себе чего-нибудь сами.
Анка взяла деньги, оставшиеся от похорон, и вышла. Она собралась в Планину — хотела окончательно кое в чем убедиться. Несмотря ни на что, в глубине души у нее еще таилась тень надежды, но такая смутная, что разочарование уже не страшило ее.
Погрузившись в свои мысли, она не чувствовала холодного ветра, не видела осенних красок, которыми горели на солнце склоны холмов, не обращала внимания на вспенившуюся и шумную речку, вдоль которой она шла — сначала по тропинке, а потом, в долине, по проселку.
Дойдя до Планины, Анка остановилась перед домом Йожковеца. Увидев на пороге хозяйку, она так смутилась, что не знала, как начать разговор.
— А что, ваш дом еще продается? — спросила она.
— Да, — ответила женщина, смерив ее взглядом с ног до головы.
— Я хотела спросить, не приходил ли к вам вчера покупатель? — выдавила из себя Анка. — Мне сказали… Не было его?
— Нет.
Анка поторопилась проститься, чтобы женщина не задала ей вопроса, на который она не могла бы ответить.
Значит, дело сделано. На обратном пути, подымаясь к себе в гору, она горько усмехнулась. Все ясно, все кончено. На душе было тяжело и гадко, и в то же время она чувствовала какое-то облегчение. Может быть, так оно и лучше. И пусть будет так.
Когда она вошла в дом, свекровь впилась в нее глазами. Но лицо Анки было задумчивым и спокойным, на нем ничего нельзя было прочесть.
— Йохана не видала? — спросила свекровь.
Анка устремила на нее испытующий взгляд. Свекровь, похоже, догадывается, зачем она ходила.
— Не поминайте мне о нем, — глухо процедила она сквозь зубы. — Слышать о нем больше не хочу! Никогда…
Мрета испуганно воззрилась на сноху. Господи, ведь она, чего доброго, за одно слово из дому выгонит, так страшно у нее глаза сверкают.
С тех пор Мрета никогда не поминала в Анкином присутствии ни Йохана, ни того, что так или иначе было связано с ним. Казалось, ее совместная с Анкой жизнь началась только после похорон Ерама…
Каждую весну и осень, когда погода стояла нежаркая, а тропинки просыхали, в Мрете просыпалась былая тяга к странствиям. Хотя у Анки она не терпела никакой нужды, все-таки она закидывала за спину корзину с целебными травами, собранными ею на пастбище и на лугу или выращенными на обочине поля, и, спустившись вниз, в долину, начинала обход ближних и дальних деревень.
Однажды осенью она, то торгуя травами, то собирая милостыню, забрела далеко и неожиданно повстречала своего сына. Увидев стоявшую у большой дороги корчму, она зашла туда. В сенях не было никого, в горнице же у печи храпел пьяный, а за большим столом один-одинешенек сидел Йохан. Угрюмый и хмельной, он таращил глаза на стоявший перед ним шкалик и вполголоса пререкался с кем-то невидимым.
Услышав шаги, он поднял мутный взгляд, узнал мать, попробовал пошире раскрыть опухшие глаза и, смеясь, осклабил черный, щербатый рот.
— А, это вы, птица перелетная. — Он было приподнялся, но тут же снова плюхнулся на скамью, словно решив, что не стоит утруждать себя. — Присаживайтесь! Вы, поди, мне рады, как гвоздю в пятке? Верно?
— А почему бы мне и не порадоваться, — сказала мать, оглянувшись на пьяного у печки. — Мы ведь давно не виделись.
На самом же деле она и сама не могла бы сказать — обрадовала ее или испугала такая встреча с сыном.
— Давно. — Язык Йохана слегка заплетался. — Не обращайте внимания на этого там, — кивнул он на своего товарища, — дрыхнет, как колода. Выпить хотите? Да тут уже пусто. Дайте мне на шкалик, мать!
— Вели принести! — сказала мать, спустив с плеч лямки корзины, и не без робости присела у краешка стола.
В комнату вплыла хозяйская дочь, налила в бутылку водки и удалилась, не сказав ни слова. Мать и сын снова остались одни.
Мрета смотрела и смотрела на Йохана, охваченная странной робостью и трепетом. Встреться они на улице, она бы не узнала его. Ничего молодеческого не осталось в нем, ничего такого, что позволило бы ей гордиться сыном, как прежде. Постаревшее лицо покрылось морщинами, он был растрепан и небрит, одежда протерлась на локтях и коленях, и только шляпа, ухарски сдвинутая на затылок, была почти новой. Говорил он шепелявя и заикаясь. Хоть он и был пьян, ум его был ясен, а глаза бегали, точно выискивая повода для ссоры. В его повадках, в смехе, в разговоре было что-то отталкивающее, и лишь затаенная горечь, сокрытая на самом дне души и минутами сквозившая в его взгляде и в отдельных словах, вызывала жалость к нему. И чем-то совсем новым был появившийся у него терпкий юмор, юмор висельника, которым он раньше совсем не отличался.
Мрета не стала пить, несмотря на уговоры сына; горло ее сдавила непонятная тоска. Йохан пил. Потом он положил локти на стол и уставился на мать насмешливо мигавшими глазами. Казалось, он обрадовался появлению матери, как забаве и развлечению в этот скучный осенний день.
— Ну, как вам живется, мать? — насмешливо прозвучал его голос. — Как идут дела?
— Да так, — отвечала она. — Хибарку нашу совсем унесло в последнее наводнение. Я у Анки живу.
Йохан на минуту стал серьезным. Он смотрел на мать, которая показалась ему не такой речистой, как прежде.
— Так Анка еще жива?
— Господи Боже, почему же ей не жить? Она ведь еще молодая. Может, ты уже забыл, что она тебе жена?
Сын пожал плечами и сплюнул под стол.
— Наверно, и ей не больно-то надо, чтобы я был ей мужем, — с кривой улыбкой сказал он. — Ведь не поджидает же она меня. Если бы я вернулся, она, думаю, приветила бы меня сковородкой по башке и приласкала колом, правда?
— Да ты только того и заслуживаешь, — слегка рассердилась Мрета; она не скрывала, что ей чем дальше, тем тяжелее становится на душе. Она жалела, что повстречалась с сыном. Лучше было считать его мертвым, чем видеть таким опустившимся забулдыгой. — А ты чего ждал? Ведь ты что с ней сделал — унес деньги, ушел, оставил одну мучиться с хозяйством. Разве такую обиду Анка забудет?
— И не надо, чтобы забывала. Скажите ей, чтоб она не беспокоилась, — я не вернусь. — В словах его прозвучала горечь, ибо он понимал то, в чем еще не хотел себе признаться. — Не потому, что я ее боюсь, — внезапно вскипел он и ударил кулаком по столу. — Не боюсь я ее, — уже тише сказал он, — а просто плевать мне на этот хуторишко.
— Угол бы у тебя был на старости лет, — печально проговорила мать.
— Угол? — насмешливо откликнулся сын. — Больно мне нужен такой угол! Углов на свете хватает. Где сядешь или ляжешь — там и угол. И когда помру, мне в нем не откажут, — захохотал он.
Мать долго молчала. Ей трудно было выносить взгляд и смех сына. Она сидела, опустив глаза, и разглаживала на коленях фартук.
— Каково-то тебе помирать придется? — робко поглядела она на Йохана.
Он промолчал, только отхлебнул глоток водки.
Пьяный, спавший возле печки, проснулся и поднял взлохмаченную голову, показав свое бородатое, заспанное и отекшее лицо.
— Добром-то уж не кончит, — заявил он; маленькие заплывшие глазки перебегали с матери на сына. — Погубит молодца его ядовитый язык. Без башки оставит…
— Молчи, Каифа![3] — крикнул ему Йохан скорее добродушно, чем сердито.
— Если я Каифа, так ты Пилат!
— Сиди себе тихо да плачь о своем наделе!
— Бесстыжая харя! — рассвирепел пьяный и хотел было подняться, но ноги его не держали. — Сто раз я тебе обещал, сто раз, — погрозил он кулаком, — что отлуплю тебя за твой длинный язык. Да только когда пьян — не могу, а когда трезв — нигде тебя не сыщешь.
Йохан уже не обращал на него внимания.
— Это сущий олух, — сказал он, обращаясь к матери, — пропил землю, а теперь как вспомнит об этом, так слезы льет.
Пьяный крестьянин воззрился на Йохана, хотел сказать что-то еще, но голова его вдруг упала на руки.
Мрета сидела, сжав губы. К тоске, хватавшей ее за сердце, присоединилось смутное ощущение своей вины. Ощущение это ширилось и росло. В прежние времена Мрета не стала бы так расстраиваться, но теперь, когда ее одолевали мысли о прошлом, ей становилось жутко.
— Обещаешь ли ты мне одну вещь? — кротко спросила она.
— Знаю, знаю, чего вы хотите, — разгадал он ее мысль. — Ничего я не обещаю. В том, что я такой, какой есть, вы тоже виноваты… Отец меня учил пьянствовать да драться, а вы — воровать…
— Господи помилуй! — Мать сложила руки и оглянулась на пьяного у печки. — А ты знаешь, — спросила она тихо, — что нам есть было нечего?
— Ну, в таком разе все правильно. — Сын наслаждался смятением, в которое поверг мать. — Теперь уж поздно меня учить. И я не хочу, чтобы вы все валили на отца. Отец учил меня драться, но не убивать… Да нет, вы тоже не учили. А вот одна женщина… Одна женщина меня подговаривала убить человека…
Он замолчал и допил водку, оставшуюся в бутылке. У старухи по спине побежали мурашки. Последние слова сына заставили ее насторожиться.
— Это какая такая женщина? — спросила она сдавленным голосом.
Сын искоса смерил ее злобным взглядом.
— Какая женщина? — переспросил он и помолчал, словно погрузившись в раздумье. — Какая женщина? Во всяком случае, не вы. А, все равно, — махнул он рукой и, открыв рот, опрокинул над ним пустую бутылку. — Я хоть и не бог весть какой человек, а не смог этого сделать со стариком, чтобы потом вытащить у него деньги из-под подушки. Сердце не позволило… — Он пронзительно посмотрел на мать. — А вы любите слушать разные истории? — засмеялся он, но тут же вновь помрачнел. — Дайте мне еще на шкалик.
— Закажи, — сказала Мрета, не отрывая взгляда от сына.
После этого они перекинулись еще несколькими словами и расстались.
34
В доме Ерамов жизнь текла буднично и мирно, как раньше, в те времена, когда Анка и Мицка были маленькими и их не смущало ни волнение в крови, ни мысль о талерах, запертых в сундуке. Казалось, будто прошлое забыто, будто никогда над домом не сгущались темные тучи. Анка выглядела такой же твердой, как прежде, была горяча в работе; в руках у нее все так и кипело. Но сердце ее уже не было таким жестким. Мрета поначалу ждала, что жизнь с Анкой окажется адом, а на самом деле им никогда — кроме одного раза — не случилось поссориться.
Чтобы отогнать от себя тяжелые воспоминания, время от времени омрачавшие ее душу, Анка трудилась не жалея сил. Работы же было столько, что сил не хватало. Хотя Анка была крепкого сложения и умела с толком использовать каждую минуту, она все же не могла управиться с хозяйством. Только теперь она по-настоящему оценила, как много значил отец в доме. Нанять работника или работницу ей не приходило в голову. Да и чем бы она стала платить им? Талеров в сундуке больше не было. Если Анке и удавалось порой отложить малую толику денег, они вскоре расходились на уплату налогов и покупку нужных вещей. Время от времени она нанимала поденщиков. Иногда Мицка посылала ей на помощь своего Мартинека.
Как-то раз в начале лета, когда приближались косьба и жатва, Мрета, придя домой, увидела, что на скамье у калитки сидит, отдыхая, какой-то человек. Рядом с ним стояла коса.
— Иду в горы косить, — сказал он, не дожидаясь вопроса с ее стороны и точно оправдываясь. — Да вот притомился дорогой.
И в самом деле парень был бледен. Молодой годами, он уже сутулился.
— Заходи в дом, если хочешь простокваши и хлеба.
— Да я уже напился воды, — сказал он, но отказываться не стал.
Он с аппетитом ел, а Мрета расспрашивала его. Оказалось, что зовут его Лука. Он с маленького хуторка близ Планины, их семеро братьев. Трое уехали, а остальные кормятся, как могут… Поев, он перекрестился и с робким любопытством огляделся вокруг.
Анка сидела с краю стола, подперев голову рукой и стараясь не глядеть на Луку. И все-таки она его видела. Она не знала его, встретила впервые, но инстинктивно чувствовала, что это смирный и работящий человек. Чем-то он ей напомнил покойного отца. Не лицом — оно было у него продолговатое и украшено не бакенбардами, как у отца, а длинными закрученными усами, — но фигурой, ширококостной и крепкой, несмотря на худобу. Это сходство не оттолкнуло, а, напротив, сразу же расположило ее к Луке. Летом работника в их местах найти было трудно. Хорошо бы оставить в доме пришлого человека. Но Анка не решалась заговорить об этом и поглядела на Мрету.
Та, точно угадав ее намерение, одобрительно мигнула.
— Остался бы ты у нас до осени, — сказала Анка не без смущения, — а то мы тут вдвоем, одни женщины.
И он остался. С этих пор уже редко приходилось нанимать поденщика. Лука на хорошей пище вскоре настолько окреп, что трудно было представить себе лучшего работника. Поутру он первый был на ногах и сразу шел к скотине. Потом копал, косил, таскал до самого вечера и последним ложился у себя на сеновале. Говорил он мало, был скромен и признателен. От него веяло чем-то благодушным, умиротворяющим.
Поздней осенью, когда главные работы закончились, Лука однажды вечером заикнулся о расчете.
— Скоро я тебе уже буду не нужен, — сказал он, когда они были вдвоем с Анкой.
— Страдная-то пора кончилась, это верно, — ответила Анка и покраснела. — Но только у нас круглый год работы хватает. Если не очень дорого запросишь, оставайся за батрака.
Лука некоторое время смотрел на носки своих сапог, как бы считая неприличным тотчас принять предложение.
— Уж как-нибудь столкуемся, — пробормотал он.
Анка вся горела от смущения, даже говорить не могла. О жалованье они условились позже. Мрета забеспокоилась, узнав, что в доме будет батрак; это ей не очень понравилось, но возражать она не посмела. Да, впрочем, это бы и не помогло, раз Анка так пожелала; она была довольна, что в доме есть мужчина.
Йохана Анка еще не совсем забыла. Но мысли о нем не воскрешали в ней ни волнения первых дней знакомства с ним, ни тех чувств, которые она стала питать к нему после смерти отца. Не осталось ни любви, ни ненависти. Лишь гнетущее воспоминание о тяжелом времени и о том, как постыдно Йохан ее обманул. Ей никогда больше не доводилось слышать о муже. Прошлой осенью, когда Мрета вернулась из своих странствий, Анка угадала по ее лицу и глазам, что есть какие-то новости. Но знать их она не хотела. Опасалась, что старуха заговорит сама, но та не проронила ни слова. Первое время Анка часто со страхом думала, что Йохан вернется. Понемногу эти опасения исчезли. Как бы она поступила, если бы он вдруг вошел в дом? Этого она не знала. Все бы решил случай. Она знала только, что как мужа она бы его не приняла. Тут у нее было против него надежное оружие.
Лука ничем не походил на Йохана. Анка уже перестала удивляться тому, что она часто думает об этом. Действительно, он был полной противоположностью ее мужу. Уж он-то никак бы не мог быстро и грубо подчинить себе человека: он как бы исподволь, мягко охватывал его, как первая зелень исподволь одевает весенний лес. Каждый день они с Анкой работали вместе и крепко привязались друг к другу. Анка и сама не заметила, как в сердце ее укоренилось чувство, подобного которому она не испытывала с той поры, как была влюблена в Йохана. Однако чувство это было совсем другим. Более спокойным, трезвым, свободным от всякого страха и подозрений. Раньше Анку не беспокоила мысль, что она — ни девушка, ни мужняя жена, а теперь мысль об этом жгла ее, как огнем. Анке нравилось смотреть на Луку, нравилось слушать его; она опасалась, что уже не может скрыть свое отношение к нему. Часто она ловила на себе острый взгляд Мреты.
Как-то весной в воскресенье Анка и Лука возвращались из церкви; подойдя к дому, они остановились у изгороди и взялись за руки. За всю дорогу они, как и раньше, не обменялись ни единым словом любви, и руки их нашли друг друга сами собой. Это прикосновение сопровождала смущенная улыбка, глаза говорили красноречивее слов.
Случайно Анка обернулась и увидела Мрету, стоявшую на крыльце. Ей стало стыдно, он отняла руку и побежала домой. В сенях она наткнулась на свекровь, и та не ответила на ее приветствие. Анка быстро переоделась и заторопилась с обедом. Чувствуя себя виноватой, она заговаривала с Мретой, заглядывала ей в глаза. Старуха не смотрела на нее и отвечала только сухим «да» или «нет».
Тогда замолчала и Анка. Когда свекровь вернулась к ней на житье, Анка ее несколько побаивалась. Но Мрета с годами изменилась, все глубже погружалась в свои думы и молитвы. Ощущая свою вину, старуха робела перед Анкой, боялась, как бы сноха ее не выгнала. Мрета не сидела без работы, бралась то за одно, то за другое. Весной и осенью, собирая подаяние, она подкапливала немного деньжонок. Анка держалась с ней не как с чужой. Нередко они пускались в откровенности. Не раз Анка даже слушалась советов свекрови. Теперь, хоть Анке и было неловко за себя и Луку, поведение свекрови раздражало и сердило ее. В ней пробуждались прежнее непокорство и гневливость.
— Что это вы надулись как мышь на крупу? — бросила Анка сквозь зубы.
Свекровь выпрямилась и несколько секунд пристально смотрела ей в глаза.
— По-моему, Анка, ты еще замужем.
— Вы знаете, что я и вправду замужем? — Анке кинулась кровь в лицо. — А где мой муж?
— Он жив. Я его видала.
Анка почувствовала, как что-то уже совсем забытое вдруг поднялось из могилы и встало перед ней.
— Ничего не хочу о нем слышать! — закричала она. — Я вам это уже говорила. Иначе убирайтесь вон из дома!
Мрета была глубоко уязвлена. Она злобно прищурилась.
— Что ты сказала, Анка?
— Чтобы вы замолчали или убирались вон. Сегодня же! Здесь я хозяйка и не позволю, чтобы меня попрекали и мне указывали!
Это было сказано решительно и сердито: не приходилось сомневаться, что Анка так и поступит. Мрета стояла перед ней, дрожа всем телом и язвительно кривя рот. Она не рассказала Анке о встрече с сыном, так как ей слишком больно было вспоминать о нем. Но его слов она не забыла. Никогда бы они не сорвались у Мреты с языка, но теперь у нее не было другого оружия.
— Я уйду, — сказала она, тяжело дыша. — Конечно, уйду. Только сначала я тебе скажу, — она ядовито отчеканивала каждый слог, — что мне говорил Йохан. Может, ты уже позабыла, но другие знают… другие знают… — Она на секунду остановилась.
Анка поняла все, прежде чем Мрета договорила до конца. То, что никогда не было окончательно погребено, внезапно воскресло, наполнив ее ужасом. И тотчас ее захлестнул такой отчаянный гнев, что она занесла над Мретой кулаки, но не ударила ее, а затряслась, разрыдалась и убежала на чердак.
Мрета осталась в доме. Некоторое время женщины не смотрели друг на друга. Потом снова начали разговаривать, но уже не так откровенно, как раньше. Поняв, что Анка не осмелится ее выгнать, свекровь больше не бралась ни за какую работу. Анка же действительно не могла указать ей на дверь. И это мучило ее.
Осенью Анку вдруг вызвали в суд. Придя домой, она не могла скрыть чувства огромного облегчения, — оно было написано на ее лице. Мрета не спускала с нее глаз, томясь каким-то предчувствием. Так как сноха не заговаривала с ней, она не удержалась и спросила:
— Чего им от тебя понадобилось?
— Йохан умер, — ответила Анка совершенно спокойно.
Свекровь несколько мгновений смотрела на нее, точно не веря. Но это была правда. У Мреты замерло сердце, подкосились ноги, она опустилась на скамью, перекрестилась и прошептала короткую заупокойную молитву за сына.
— Отчего он умер?
— На дороге нашли, — видно, убил его кто-то.
Они долго молчали. По лицу Мреты катились слезы.
— Теперь мне надо уходить, — наконец проговорила Мрета с печальным смирением. — Только куда я пойду?
— А кто вас гонит? — сказала Анка.
В ней все трепетало от тайного торжества.
После великого поста в доме Ерама была свадьба.
Когда весной новый хозяин продал телку, он отпер расписной сундук и положил на дно горсть серебряных монет. Анка наблюдала за ним. «Совсем как отец», — подумала она. Только ключ Лука не надел на пояс, а положил в стенной шкафчик. Вновь ожило у Анки тягостное воспоминание, и она поежилась, как от холода.
— Зачем ты туда деньги положил? — спросила она.
Муж удивленно посмотрел на нее и несмело ответил:
— Новый дом надо строить.
— А ведь и правда, пора, — улыбнулась жена.
Сруб уже совсем обветшал и во время зимних буранов сотрясался в пазах. Надо было приниматься за дело, которое поколение за поколением все откладывало.
Перевод Е. Рябовой.
Мать
1
В трактире становилось пусто. Постояльцы разошлись по своим комнатам. Только в углу еще шептались два старых чиновника, редко уходившие до комендантского часа. С кухни доносился звон посуды и приглушенные голоса. Девятнадцатилетняя бледнолицая служанка Тильда принялась наводить порядок в буфете. Поставив вымытые стаканы, она прислонилась к буфету, скрестив руки на груди, и задумалась. Взгляд ее полузакрытых глаз блуждал в каком-то далеком, таинственном мире.
К вечеру шумного базарного дня площадь опустела. Дома дремали, точно хмельные. Колокол на ближней церкви ударил так резко, что казалось, будто тяжелый стальной брус грохнулся на мостовую.
Тильда вздрогнула и посмотрела на стенные часы. Одиннадцать! Чиновники встали, надели пальто и ушли. Служанка осталась одна. Некоторое время с улицы слышались слова и звуки шагов, но вот и они стихли. Лишь часы, вздыхая, равномерно тикали на стене.
— Тильда! Тильда!
Звали с кухни, потом снова наступила тишина.
Тильда не ответила, лишь пошевельнулась на мгновение и опять застыла. Рука ее машинально потянулась к карману передника, под пальцами зашуршала бумага. Это было полученное сегодня письмо. С самого утра она крутилась как белка в колесе, присесть не могла, но все же урвала минутку, чтоб пробежать глазами строчки. Писал ей Дольфи. Слова она успела забыть, лишь одна фраза врезалась в память: «Знаешь ли ты, что такое любовь?»
Что такое любовь? С тех пор как пьяные гости начали говорить ей о любви, она тысячу раз задавала себе этот вопрос. И лишь редкими одинокими вечерами отчетливо представляла себе ответ. На ее ночном столике лежал читаный-перечитанный роман. В нем ясно и понятно, красивыми словами объяснялось, что такое любовь, однако повторить она не могла бы. Сладость и в то же время страдание, горечь и радость. Она смеялась и плакала, воображая себя героиней романа, а героем того, кого она еще не знает, но кто обязательно придет к ней из сладостных грез. Как часто, лежа в постели, упивалась она, точно нежным благоуханием цветов, сладостными мыслями о любви!
По утрам, когда она спускалась в зал, грезы улетучивались. Начиналась беготня. До самого вечера ее провожали наглые взгляды, сальные шуточки, оплаченные чаевыми, откровенные подмигиванья, подогретое вином вожделение. Несмотря на свою совсем еще детскую душу, Тильда была уже не столь юна и наивна, чтоб не понимать этих заигрываний, вызывавших у нее отвращение и ненависть. Неприязнь к настырным посетителям порой переходила во враждебность.
Думая об этом, она вспоминала детство, вспоминала стыд и горечь, которые она испытывала, когда мать посылала ее в трактир за загулявшим отцом или в лавку, чтоб взять в долг муки. Пьянчужки усаживали ее за стол и наперебой предлагали выпить. Лавочник разражался таким хохотом, что его жирный подбородок делался еще толще, муки же ей тайком от отца насыпал Дольфи. Тогда он был бледным мальчиком с добрым сердцем, и она охотно разговаривала с ним, поверяя ему свои маленькие тайны. Потом она нередко заливалась краской, вспоминая свою детскую откровенность.
Так было тогда… Несмотря на огорчения, она жила словно во сне. Тем тяжелее было пробуждение — перед ней во всей своей неприглядной наготе вставало то, о чем раньше она лишь смутно догадывалась… Когда-то она с болью в сердце смотрела, как дома у них ловили мышь. Плотно прикрыли дверь и начали охоту. Мышь металась по полкам, по углам, тщетно ища спасения. Окруженная с трех сторон, тяжело дыша, она жалась к стене, мордочка ее дрожала, налитые кровью глаза трогательно молили о пощаде. Бедняжка понимала, что погибла. Сделала последнюю попытку вскарабкаться по стене и сдалась…
Временами Тильда представлялась себе такой вот загнанной мышью, которая бежит, бежит, а убежать не может. Никак не шел из ее головы один пьянчужка, который насильно обнял ее и поцеловал. В этом первом в ее жизни поцелуе не было ни сладости, ни счастья, напротив, она испытала лишь гадливость и омерзение. Она походила на человека, который всей душой рвется ввысь, а сотни рук тянут его вниз к земле. Тильда чувствовала, что неудержимо падает. Первый поцелуй, о котором так много говорилось в романе, был стократ осквернен. Она больше не верила книге, бывшей для нее настоящим откровением, и бросила ее в огонь.
Вскоре после того как она сожгла роман, она увидела среди посетителей Дольфи. Кровь прилила к ее щекам. И хотя она не без стыда вспоминала некоторые их детские разговоры, теперь, встретившись с ним после долгой разлуки, сразу все забыла. Перед ней сидел совсем другой человек. Высокий, совсем взрослый мужчина в спортивном костюме, с бездонными сияющими глазами, стекла его очков казались ей прозрачными крышками двух колодцев, на дне которых горит загадочный огонек. Лицо его не было таким бледным, как в детстве; на щеках играл легкий румянец, кудлатые волосы, делавшие его раньше таким смешным, потемнели, были зачесаны на косой пробор и лишь чуточку встрепаны… Он узнал Тильду и улыбнулся ей. Но улыбался он теперь совсем по-другому. В улыбке его уже не было прежней насмешливости, она стала спокойной и доброй, внушавшей доверие.
Они смущенно улыбались друг другу и изредка обменивались взглядами, в них была не только радость встречи друзей детства. Тильду влекло к парню, как влечет на свет ночную бабочку, которая, кружа над огнем, все ближе и ближе подлетает к пламени. Она только боялась, что не достойна его. Наконец они заговорили. Дольфи сказал, что служит в городе. Тильда засыпала его вопросами, но он отвечал коротко и скупо, а глаза его по-прежнему таили в себе загадку. Пожимая ей на прощанье руку, он обещал писать, но она не поверила. Так ей говорили все, желая подольститься к ней, а писем она еще никогда не получала. Правда, в глубине души она все же надеялась, что Дольфи не похож на других.
Четыре дня прошло в томительном ожидании, на пятый почтальон принес открытку: парень с девушкой, утопая в цветах, не сводят друг с друга глаз. А слова в открытке были точно такие, какие писал своей любимой герой в романе, который она бросила в огонь… С того дня она сильно переменилась. Глаза ее уже не щурились, как прежде, теперь они смотрели смелее. Речь ее стала уверенной, окружающий мир, казалось, больше для нее не существовал, даже недовольство гостей и хозяина она едва замечала. Втайне ей даже хотелось, чтоб ее прогнали. Высоко подняв голову и улыбаясь, она ушла бы в город, чтоб быть поближе к Дольфи… ведь он… любит ее… В ней зарождалась робкая трепетная надежда. Стал бы он ей писать, если б не любил? Она избегала каждого слова и каждого взгляда, могущего осквернить воспоминания о юноше, одна мысль о котором делала ее счастливой.
В этот день она получила от Дольфи письмо, написанное несколько неровным нервным почерком. Она с нетерпением ждала вечера, чтоб, заперевшись в своей каморке, с благоговейной сосредоточенностью насладиться каждым словом. Но именно сегодня все будто сговорились против нее. Трактир полон постояльцев, ни одного свободного номера. Весь божий день она только и слышала: «Барышня, барышня! Тильда, Тильда!» Словно все знали, что у нее в кармане письмо, зовущее ее в новую жизнь, и хотели помешать ей в одно прекрасное утро выйти с узелком на дорогу.
— Тильда, Тильда!
И Тильда бегала, несмотря на все свое презрение и неприязнь к постояльцам…
Она все еще стояла у буфета, погруженная в свои мысли. Вынула из кармана письмо.
— Тильда, Тильда!
Резкий крик уже в третий раз раздался из сеней. Часы пробили четверть двенадцатого. Тильда снова сунула письмо в карман и пошла на кухню. Ее сестра Юстина, трактирщица, сидела у плиты и молола кофе. Десять лет тому назад она, совсем еще юной худенькой девушкой, вышла замуж за хозяина трактира, вдовца Бобовеца. По натуре она была беспечна и ленива, а за годы бездетного супружества еще и погрузнела.
— Уже ушли? — спросила она Тильду, щуря свои черные, глубоко посаженные глаза.
— Да. Зачем звала?
— Отнесешь кофе, — сказал трактирщик, который, заложив руки в карманы, ходил по кухне, тряся своими тучными телесами.
— Кому?
— В седьмой.
Глаза Тильды загорелись упрямством. Сестру Юстину она все же немного любила, но ее мужа ненавидела в такой же мере, как и боялась.
— В такой поздний час? Осыпьте золотом — не пойду.
Юстина мигала так часто, будто ей щипало глаза. Она кончила молоть и всыпала кофе в кипящую воду. Бобовец молча уставился на Тильду, словно не находя подходящих слов, чтоб хорошенько ее отчитать.
— Тильда, доченька, — донесся вдруг из-за плиты пьяный голос ее отца. Он развалился на стуле, голова его покачивалась на груди. — Перечить своему хозяину… Разве так можно? На что это похоже, я тебя спрашиваю? Нельзя этого! Нельзя! Порядок… порядок должен быть!
Отец хотел было встать, но снова свалился на стул. Тильда смотрела на него с жалостью… Считается, что он пришел навестить дочерей, на самом же деле его влекло сюда вино Бобовеца, которое он мог вдоволь пить несколько раз в году. Когда он бывал пьян, все на нем опускалось: волосы падали на лоб, щеки оплывали, нос повисал, усы сникали, — длинные натруженные руки болтались у колен, и только высокая фигура его тянулась к потолку, если, конечно, он еще держался на ногах.
Глядя на него, Тильда вспомнила детство. Шахтерский домик на сыром холме, задыхающаяся от кашля мать, пьяный отец в трактире, лавочник, не желающий дать в долг муки. Отца она не любила; перед ним она испытывала один лишь страх, родившийся в ней в ту пору, когда она хмурыми вечерами вела его из трактира домой и получала от него тычки и колотушки. В душе ее, словно жгучий ком, засела память о незаслуженных побоях. Вспомнилась ей также смерть матери. В гроб ее положили в шелковом платке. Тильде жаль было платка, она плакала, просила отдать его ей, ее побили. И еще вспомнила мачеху, которую она так и не смогла полюбить, хотя та была с ней добра и ласкова. Горестных воспоминаний было куда больше, чем приятных! А потом пришел день, когда отец посадил ее в телегу и отвез к Юстине.
— Вот тебе, получай…
Сейчас этот сломленный, как кукурузный стебель, человек был для нее совсем чужим — по какой-то нелепой случайности он вошел в ее жизнь и присвоил себе право кричать на нее и приказывать. Кровь прихлынула к ее лицу.
— Чего орете? — огрызнулась Тильда. — Мы не глухие.
— Что? Что это тебе не понравилось?
— Глупости болтаете — вот что!
— Как? Значит, по-твоему, я глупости болтаю? Ну, погоди, девка!
Пьяница встал и по стенке двинулся к Тильде, которая, сжав губы и опустив глаза, стояла у очага. Юстина, уже налившая кофе, снова усадила отца на стул.
— Сядьте! Вы же на ногах не держитесь. Оставьте Тильду в покое! Она устала, весь день крутилась… Велика беда! Я сама снесу кофе…
— Ты не пойдешь, — спокойным, но решительным тоном заявил трактирщик.
Жена крепко сжала губы, но смолчала.
— Тильда, — с трудом держа глаза открытыми, говорил пьяница в сторону очага. — Не прекословь отцу… нельзя так с отцом… Ты слушаться должна. Почему ты не бьешь ее, Бобовец? Баб нужно бить.
— Да, бить и ласкать, — засмеялся трактирщик.
Тильда взяла поднос с кофе и вышла в сени.
На лестнице горел свет. За Тильдой двигалась ее тень. Поднявшись на несколько ступенек, она заметила, что тень поравнялась с ней и намного ее переросла. Потом тень забежала вперед, поднялась до самого потолка и пропала. Но в освещенном коридоре снова резко обозначилась.
Коридор был длинный и узкий. В самом конце в небольшом тупичке за поворотом находилась комната Тильды. Справа и слева шли номера.
Тильда отлично знала, почему гости требуют кофе в номер. «Поставлю на тумбочку и сразу назад», — решила девушка. Она старалась идти как можно тише и неслышнее, но, несмотря на все ее старания, туфли скрипели, а платье шуршало. Перед дверью седьмого номера она остановилась и постучала.
Никто не ответил. Тильда вошла: под потолком горела лампочка, кровать была пуста. Вздохнув с облегчением, она поставила кофе на тумбочку и бесшумно выскользнула в коридор. «Сейчас лягу, — думала она, направляясь к своей каморке и предвкушая удовольствие от чтения письма, — и больше не выйду, хоть тресните».
Дойдя до своей комнаты, она остановилась пораженная — дверь была приоткрыта и в щель выбивался сноп света. «Неужели я забыла утром запереть?» — подумала Тильда и, подойдя на цыпочках ближе, заглянула в комнату. У ее столика сидел чернобородый господин и читал газету.
Тихо, на цыпочках, она отошла от двери, прошла по коридору и остановилась у лестницы. Куда идти? Только не на кухню — там опять придется слушать пьяного отца… Как они ей все ненавистны! Лучше здесь, на лестнице, прочесть письмо. А тем временем тому, чернобородому, надоест ее ждать…
Спустившись до той ступеньки, над которой висела лампочка, Тильда прислонилась к стене и прислушалась. Из кухни доносились приглушенные голоса, среди которых она временами различала и отцовский… Тильда села на ступеньку и развернула белый листок с вишневой каемкой. Почерк был тонкий, такой же тонкий, как кожа на его щеках. Каждое слово вызывало доверие и легкую боль.
Сидя она не могла читать. Она встала и снова прислонилась к стене.
Дольфи писал:
«А я было уже совсем позабыл тебя…» И еще: «Ведь тогда ты была такая маленькая и — не в обиду тебе будь сказано — такая деревенская. Когда же я теперь тебя увидел, то сначала подумал, что это не ты…»
— Как и я, — тихо проговорила Тильда. — Не он и все же он…
Душу ее охватило чувство блаженства и покоя. Боясь поддаться этому чувству, она соскользнула по стене и села на ступеньку.
«После новой встречи я уже не могу забыть тебя. Твой образ я унес с собой. Сначала мне казалось, что мы, как и прежде, будем всего лишь добрыми друзьями, но через два дня после того, как я послал тебе первую открытку, я спросил себя: «Почему так сильно бьется твое сердце? Сейчас, когда я пишу тебе эти строки, мне так хочется быть рядом с тобой. Я готов идти всю ночь, лишь бы увидеть тебя…»
На глазах у Тильды появились слезы. Она с упоением вчитывалась в каждое слово, как будто ждала их целую вечность. В них ей виделось спасение. Никто ей так не писал, никто ей так не говорил. Она чувствовала, что волна счастья подхватила ее и вознесла над всем земным и грязным. Отдавшись благостным грезам, она думала о том, что письмо Дольфи стократ возместило ей за все плохое. Нет, романы не лгут, жизнь прекрасна, просто она слишком редко является человеку во всей своей красе.
«Если я не выберусь к тебе, то приезжай ко мне ты. Раз уж ты должна служить, то не все ли равно, где — в местечке или в городе. Приезжай, прошу тебя. Напиши мне, и я подыщу тебе место. Тогда мы будем часто видеться, хотя бы раз в неделю. Я люблю тебя! А знаешь ли ты, что такое любовь? Я теперь знаю… Подождем, пока все устроится разумно и по сердцу, и тогда будем вместе каждый день, каждую минуту…»
Тильда дрожала. То, чем дышали эти строчки, было для нее столь великим, что казалось едва ли достижимым. Но разве смелые мечты не сметут все преграды на своем пути? Тильда уже видела их осуществленными. Да, письмо это круто повернуло ее жизнь к лучшему, от которого ее отделяла одна ночь.
Тильда встала и, словно на крыльях, полетела вверх по лестнице.
На последней ступеньке она остановилась — кто-то ходил по коридору — и так же быстро помчалась вниз. В один миг развеялись все ее мечты, перед ней снова была жестокая действительность.
— Напишу ему и как-нибудь ночью уйду отсюда, — прошептала она решительно и прислушалась к идущим из кухни голосам. Бобовец громко хохотал… Тильда повернулась и снова пошла наверх…
Она шла, стараясь ступать как можно легче… Ни одна половица не скрипнула. Дверь ее каморки была плотно прикрыта, сквозь щель внизу не пробивался свет. Девушка вошла к себе, и вдруг дверь, словно по какому-то волшебству, захлопнулась, и она услышала чей-то торжествующий смех…
У Тильды часто бывало такое чувство, будто она стоит на высоком утесе и смотрит на волны. Здесь, наверху, жизнь, внизу — бездна, скрывающая в себе тайну, а в сердце — смутное желание постичь ее. Так уж устроен человек — как магнит, притягивает его все новое и неизведанное, даже если оно чревато роковыми последствиями. Несмотря ни на что, жаждет он приоткрыть завесу и ждет только малейшего толчка извне, чтоб очертя голову ринуться вниз. Наперекор здравому смыслу исполняет самое что ни на есть сумасбродное желание.
Именно это и случилось с Тильдой.
Ложась спать, Юстина почувствовала вдруг какое-то смутное беспокойство. Почему Тильда не вернулась в кухню? Она собралась было сходчвычить к ней в каморку, но, решив, что девушка уже спит после трудного дня, передумала.
Но она уже не смогла бы спасти сестру.
2
Прошло несколько месяцев. Запахло первой травой, по вечерам летали светляки, ночь оглашали песни парней. Но Тильда не слышала песен, перестала смеяться, горько сжимала губы. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, опухшие глаза всегда были полузакрыты.
Та осенняя ночь уничтожила все ее мечты. Острой болью отзывалось в ее душе воспоминание о ней, и она всеми силами гнала его прочь. Как-то раз она села, чтоб написать Дольфи и во всем ему признаться. Но, оросив недописанный лист слезами, скомкала его и швырнула на пол. Дольфи прислал еще одно письмо, но и оно осталось без ответа. Поддавшись горю и отчаянию, она даже пальцем не пошевельнула, чтоб спастись. Жизнь ее до самого того дня в конце июня, когда парни и девушки праздновали Ивана Купалу, напоминала пляску на краю бездны, над черной пучиной моря. В тот день она с утра почувствовала глухую боль. Вся трепеща от страха, Тильда старалась унять ее всей силой своей воли. Приближалось рождение ребенка, которого она носила под сердцем. Никто не знал о нем, а сама она едва ли отдавала себе отчет, кто его отец.
Когда под вечер ее позвали в зал, Тильда вдруг ощутила нестерпимую боль. Чтоб не застонать на людях, она выбежала в сени, крепко стиснув зубы. Взглянула на часы. До ночи еще далеко. Стрелка медленно, слишком медленно двигалась вперед.
— Не вынесу, не вынесу, — прошептала Тильда и пошла было в кухню, но новый приступ боли заставил ее остановиться.
— Тильда, что ты стоишь? — крикнула сестра. — Тебя гости зовут. Не слышишь?
— Иду, иду.
И Тильда быстро пошла в зал.
В начале беременности она судорожно отгоняла от себя мысли о будущем. Страх и тревога точно парализовали ее. Где он, чтоб пойти к нему и сказать: «Твоего ребенка ношу под сердцем, утешь меня!» Тильда едва помнила его лицо, а имени не знала. С той ночи она его больше не видела. Где ей взять опору? Иногда вспоминала она Дольфи, мучительно переживая свое предательство и вину перед ним. И хотя она тщательно скрывала беременность, ей казалось, что все вокруг смотрят на нее. Никто не сказал ей ни слова, кроме соседки Ольги, серые глаза которой то и дело упирались в ее живот.
— Тильда, это правда? — полюбопытствовала она как-то.
— Что?
Тильда сделала вид, что не поняла вопрос. Земля уходила у нее из-под ног. Только бы не покраснеть!
— Да ты вроде поправилась.
— А мне это не к лицу? — спросила Тильда и, стараясь скрыть смущение, принужденно засмеялась. — Как вы находите?
— Не ты первая, — протянула женщина, не сводя с нее взгляда. — Ты же знаешь…
Тильда повернулась и ушла в дом. Когда она через минуту вышла на балкон, у нее закружилась голова. Люди все знают, она погибла. Куда она денется, когда пробьет ее час? А вдруг Юстина выгонит ее на улицу? Куда она пойдет с ребенком?
Внизу, под балконом, протекал ручей. Две девушки полоскали белье. Одна, черноволосая, служила в соседнем трактире, другая, рыжая потаскуха, то и дело меняла хозяев. Еле двигая руками, они оживленно болтали. До Тильды доносились обрывки разговора.
— Только помалкивай, — сказала черноволосая. — Тебе одной говорю…
— Разве ж я такая?
— Куда я пойду с ребенком?
Вопрос словно сорвался с Тильдиных уст и повис над водой.
Рыжая грубо расхохоталась.
— А разве надо куда-то идти? Какое ты еще дитя! И разве так уж обязательно иметь ребенка?
Девушки оглянулись по сторонам — не слышит ли кто. Тильда невольно отпрянула и скрылась за дверью…
Это было два месяца назад. Все это время Тильда словно раскачивалась над пропастью. Она ничего не поняла, нет, все поняла. Так трудно было принять решение, хотя она была полна решимости. Собственно, она уже решила, понуждаемая страхом и желанием спастись, но душа ее никак не могла согласиться с рассудком…
— Барышня, счет! Тильда!
Тильда вздрогнула. Она не помнила, каким образом очутилась в темном закутке, где пыталась подавить физическую боль, пробуждая душевную.
Толстяк, завсегдатай трактира, часто бывавший в местечке по делам, сидел развалясь на стуле. Он стучал по столу и оценивающим взглядом смотрел на нее сквозь полуоткрытые веки… Тильда стояла перед ним с карандашом в руках.
— Счет? Что вы заказывали?
— Погодите! Чего вы сегодня такая задумчивая?
— Работы много, сударь.
Тильда заставила себя улыбнуться — в ее обязанности входило быть приветливой и любезной с гостями.
— Да? — Толстяк перечислил свой заказ… — И не забудьте, что пятнадцатый номер, — тут он выразительно подмигнул, — рядом с вашей комнатой.
— Хорошо. Спасибо!
Тильда взяла деньги и пошла прочь.
— Тильда! Барышня! — снова услышала она за спиной его голос. — На минутку. Дайте мне руку!
И Тильда снова заставила себя улыбнуться и дала гостю руку. Он крепко сжал ее и долго не выпускал. «Когда же это кончится, — думала девушка, — отпустил бы он меня с миром!» В эту минуту ее опять пронзила острая боль. Она вырвала руку и выбежала из зала.
— Тильда!
— Оставьте меня наконец! Зачем я вам понадобилась, хотела бы я знать?
В сенях она столкнулась с Юстиной.
— Что случилось?
— Не знаю, что ему от меня надо? Не могу больше.
Сестра посмотрела на нее долгим испытующим взглядом.
— Тебе нездоровится?
— Голова болит. Просто мочи нет.
— Ступай ляг. Я сама управлюсь.
Юстина посмотрела вслед сестре, — та поднялась по лестнице и больше в тот вечер не выходила.
Тильда заперлась в своей комнате. Наконец она была одна! Ничего ей так сейчас не хотелось, как побыть наедине с собой. Если б еще и вокруг никого не было, чтоб она могла кричать сколько ее душе угодно, выплескивая свою боль. Столько крика скопилось в ней, столько подавленных воплей, что, казалось, дай ей волю, она завоет, как фабричный гудок.
Однако она не смела кричать, не смела дать выход своей муке. Скрипя зубами, вся в слезах, металась она по постели. Стоны, все более громкие, рвались наружу, размыкая ее крепко сжатые губы… Но тут же Тильда вспоминала, что должно быть тихо… тихо…
В промежутках между схватками перед глазами ее вставал образ прекрасного, как ангел, младенца. Как-то, в минуту просветления, когда будущее казалось ей светлым и лучезарным, она нашла старую рубашку и разрезала ее на куски. Она плохо себе представляла будущего ребенка, однако твердо знала, что пеленки ему понадобятся.
Тильда встала с постели, подошла к шкафу и стала искать спрятанные там пеленки. Несколько пеленок и жалкий свивальник…
У шкафа ее резанула такая боль, что она едва доплелась до постели. Слабые проблески материнских чувств, поднявшиеся было в ее душе, вновь отступили перед родовыми муками. Она вдруг истошно закричала. В безумном страхе зажала она рот рукой, притихла и прислушалась — не поднялась ли в доме возня… Час был поздний, хотя время тянулось томительно медленно.
За стеной в соседней комнате раздался шум. Должно быть, толстяк пришел спать. «Рядом с вашей комнатой», — сказал он. Ей стало противно при воспоминании о его мягкой, влажной руке. Он уже разулся и, наверное, босиком или в носках ходит взад-вперед по комнате, о чем-то размышляя. А вдруг он подкрадется к ее двери и попытается войти? Или станет подслушивать под дверью? Впрочем, он и без этого обо всем догадается — ее стоны пробьются сквозь стенку.
— О! — простонала она в страхе от этой мысли.
Тильда вскочила с постели и зашаталась. В трудные моменты решения приходят сами собой. Так и Тильда в одну минуту поняла, что ей делать, куда идти. Быстро окинув взглядом комнату и захватив нужные вещи, она осторожно повернула в замке ключ и вышла, не затворив за собой дверь, чтоб не наделать шума. Все было тихо. Она пошла по длинному коридору…
В крошечном полутемном закутке при глухих, сдержанных криках матери родился человек. Тильда в ужасе держала ребенка на руках. Она вся превратилась в слух. Уж не сон ли это? Только бы прошел этот страх, а там все будет хорошо…
Послышались шаги. Кто-то шел сюда тяжелой поступью еще не совсем проснувшегося человека, но потом вдруг шумно зевнул и остановился. Ребенок сморщил личико, готовясь заплакать; вертел головкой и кривил губы. Наконец из горла его вырвался жалобный писк, лишь отдаленно напоминавший детский плач. Но за ним должен был последовать другой, более громкий, грозивший выдать ее, перебудить весь дом и раскрыть ее тайну.
Страх, мучивший Тильду до сих пор, не шел ни в какое сравнение с охватившим ее сейчас паническим ужасом. Все ее тело полыхало огнем, голова неудержимо кружилась. Чтоб предотвратить рождавшийся крик, она положила ребенка на колени и сдавила пальцами его горло… Тут же ей стало жутко, она почувствовала себя преступницей. И, словно желая заглушить в себе это чувство, с остервенением набросилась на ребенка. Но вина не уменьшалась, напротив, она с каждой минутой становилась все очевидней. Как бы хотела она провалиться сквозь землю, убежать, исчезнуть, забыть содеянное…
Все было кончено… Перед ней лежал трупик ребенка, она смотрела на него глазами, вылезшими от страха из глазниц. На секунду силы изменили ей, руки безжизненно повисли вдоль тела. Она покорилась судьбе — пусть делают с ней что хотят.
Вдруг Тильда встрепенулась, завернула ребенка в тряпки и тенью шмыгнула в коридор. В доме было тихо. Она шла на цыпочках, напряженно прислушиваясь. Ноги сами привели ее к каморке.
Дверь была прикрыта. Тильда вздрогнула. А если там кто-то есть? С минуту она стояла, точно окаменев, потом повернулась и так же, на цыпочках, пошла обратно. Куда? Прочь, прочь отсюда! Ей казалось, что ступеньки ведут в бездонную пропасть. Во дворе она остановилась.
Кругом лежала тьма. Зарычала собака, но, узнав ее, умолкла. Тильда чувствовала себя брошенной посреди огромного безлюдного пространства, объятого тишиной и мраком. Как быть? Она посмотрела на мрачный, хмурый дом с единственным освещенным окошком.
В руках ее лежал мертвый ребенок. Страх, толкнувший ее на безумный поступок, прошел. В темноте, где ее никто не видел, в ней поднялась жалость к существу, которое она родила и убила. Она чувствовала себя безмерно виноватой перед ним.
Чтобы хоть как-то уменьшить свою вину, Тильда подошла к колонке, развернула ребенка и обмыла его жалкое тельце. Искупала среди ночи, шепча глупые слова. Потом снова завернула и задумалась. Что теперь? В голове вертелись обрывки когда-то слышанных разговоров.
— Ах да, — прошептала она. — Как я могла забыть об этом? — И, обнажив голову ребенка, окропила ее водой. — Нарекаю тебя Иваном…
Несмотря на всю бессмысленность этого поступка, на душе у нее полегчало. Она вновь обрела способность трезво рассуждать. То, что ей предстояло сделать, уже не казалось таким страшным. Напротив, это выглядело естественным и неизбежным.
В сарае она отыскала лопату и через расхлябанную калитку вошла в огород. Ощупью дошла до изгороди. Вырыла яму, опустила в нее ребенка и прочла «Отче наш». Потом лихорадочно засыпала могилу и ногами притоптала землю…
И тут только Тильда почувствовала смертельную усталость. Все это время она ни минуты не думала о себе. На лестнице под лампочкой она оглядела себя и пришла в ужас. Вдруг ее кто-нибудь увидит в таком виде. Умывшись в сенях, она поднялась на чердак, где сушилось белье, и переоделась. По ее телу пробежала волна удовольствия. У нее было такое чувство, будто вместе с грязной замаранной одеждой она сбросила с себя все свои прегрешения. Несколько приободрившись, она пошла в свою каморку.
Не успела Тильда войти к себе, как в дверях соседнего номера показался полуодетый толстяк. Загадочно ухмыляясь, он бесцеремонно пялился на нее своими маслеными глазками.
— Тильда, куда это вы ходили? — шепотом, чтоб никто не услышал, спросил он. — Я так долго жду вас…
Тильда смотрела на него с ненавистью.
Меньше всего хотелось ей сейчас видеть людей, говорить с ними. Измученная душа ее жаждала покоя, тело нуждалось в отдыхе. В груди ее бушевал вулкан, который надо было поскорее усмирить, если ей дорога жизнь. А вместо этого ее преследуют… Может быть, он даже шпионил за ней… После всего пережитого она ненавидела всех мужчин лютой ненавистью.
— Что вам от меня надо? — спросила она ледяным сдавленным голосом. — Что?
— Но, но, — проговорил он обиженно и в то же время чуть насмешливо. — Почему я вам так противен? Я не хуже других…
Ни одна жилка на лице Тильды не дрогнула, лед враждебности сковал ее сердце. Слова его задели ее за живое. Измученная страданиями, страхом, она готова была схватить его за горло и задушить, мстя за все выпавшие на ее долю несчастья.
— Убирайтесь! Видеть вас не могу! Прочь с дороги! О вы, вы…
Тильда точно обезумела. Она чуть не выдала себя. Наконец ошарашенный гость удалился в свой номер, и в коридоре показалась Юстина в ночной сорочке… Тильда потеряла сознание…
3
В конце августа в южной части неба появилось странное облако. Оно было похоже на девушку, в смертельном страхе раскинувшую руки, ветер трепал ее развевающиеся волосы. Она бежала на север, а на горизонте непрестанно рождались новые облака, похожие на серых псов с длинными мордами и огромными лапами. Плодились они с невероятной быстротой, и наконец их стало так много, что уже нельзя было разобрать ни морд, ни лап, и все они мчались на север, за девушкой, догоняя ее и норовя укусить. Но она снова вставала целая и невредимая, вырывалась из зубов бешеной своры и бежала, бежала…
Дождь лил не переставая. Тучи-псы бежали низко, без передышки, словно преследовали дичь, — с утра до вечера шла непрерывная бешеная гоньба.
Весь день, с самого рассвета, Тильда смотрела на тучи, на шумящий дождь, на серый печальный горизонт, и странное оцепенение овладевало ею. Ей казалось, что это она — та девушка с развевающимися волосами, за которой гонятся собаки. Они хватают ее за пятки, за икры, причиняя нестерпимую боль. Дождевые капли точно хлыстами били по ее сердцу. Она будто слышала за спиной собачий лай, нескончаемый собачий лай. Даже вечером, даже во сне, даже в ночных кошмарах.
Однажды ночью Тильда проснулась. Она проспала несколько часов, но чувствовала себя еще более измученной, чем накануне. Подумав немного, она решительно встала и оделась. Так больше нельзя — надо что-то предпринять.
Открыла окно. Дождь все еще шел. Вдалеке над крышами горел свет, острым конусом прорезавший небо.
Вдруг Тильда в ужасе отпрянула от окна и словно подкошенная рухнула на кровать. Ведь в самом деле с того памятного дня вся ее жизнь была бегством, настоящим бегством. Она бежала от разоблачения, от людей, хотя ни одна живая душа ни о чем не знала. И тени подозрения, пожалуй, ни у кого не возникло. Обстоятельства помогли ей скрыть всякие следы своего преступления. Целые сутки провела она в постели, и никто не поинтересовался причиной ее внезапного нездоровья. Сестра даже взглядом не спросила, отчего она такая бледная, грустная и рассеянная, отчего стала такой пугливой, отчего вздрагивает от каждого шороха.
Одна Ольга на третий день пронзила ее своими серыми глазами.
— Что с тобой, Тильда? Почему ты такая?
— Какая?
— Переменилась — побледнела, исхудала. Уж не больна ли?
— Нет, я здорова. Наверное, простыла.
Тильда старалась говорить спокойно, равнодушно, хотя по телу у нее пробежал ледяной озноб. Она смотрела женщине прямо в глаза, надеясь прочесть в ее серых зрачках злой умысел. С души ее спала б великая тяжесть, если бы ей удалось разгадать его. Что надо этой женщине? Почему она так упорно буравит ее взглядом? В слепом озлоблении Тильда пожелала ей смерти.
После этого Тильда совсем потеряла покой. Ее постоянно мучил страх разоблачения. Спокойствие первых дней уступило место тоскливой уверенности, что все рано или поздно раскроется. Мысль эта безжалостно и жестоко преследовала ее день и ночь. Она дрожала перед каждым незнакомым человеком, окидывавшим ее внимательным взглядом, пугалась каждого неожиданного шума в доме, вздрагивала, увидев на улице двух разговаривающих вполголоса людей. О чем они шепчутся? Все повергало ее в страх и трепет. Если лаяла собака, сердце ее яростно колотилось.
С вечера она долго лежала, выжидая, пока в доме все стихнет. Во сне ей виделось множество хватающих ее рук. Однажды кто-то расхохотался у нее над ухом, она проснулась в ужасе… В комнате никого не было. В коридоре громко смеялся трактирщик.
Утром, едва встав с постели, она подбегала к окну и смотрела в огород. Где бы она ни была — в кухне или в зале, — каждую минуту взгляд ее устремлялся на ведущую в огород калитку. Как-то собаку спустили с цепи, и та сразу же забегала по грядкам.
— Пошла вон! — крикнула Тильда и, вся красная от волнения и тревоги, побежала выгонять ее с огорода.
Собака упиралась и лаяла.
— Что там пес учуял? Чего это он так разошелся? — спросил трактирщик.
— Ничего. Просто взбесился, кобель проклятый!
Страх доводил Тильду до безумия. Она уже не в силах была переносить страшные, невидимые преследования. И она придумала выход. В тот самый день в конце августа, когда по небу непрерывно мчались с юга на север тучи и дождь не переставая барабанил в окно, в окружавшем ее мраке вдруг появился узенький просвет, словно в непроглядной тьме бурной ночи забрезжил спасительный огонек.
«Так и сделаю, — вздохнула Тильда. — Так и сделаю», — твердила она, стоя ночью у окна и глядя на дождь и на озарявший тучи конусообразный сноп света.
Над домами, резко прорезая ночь, разнесся бой церковных часов. Тильда вздрогнула и закрыла окно. Надо спешить, спешить…
Она собрала платья, белье, несколько дорогих ее сердцу мелочей и безделушек и связала все в узелок. Потом спрятала узелок под тюфяк и тихо приоткрыла дверь. Дрожа как в лихорадке, шла она на цыпочках мимо ряда дверей, замирая от страха, что вот-вот одна из них откроется, кто-нибудь выйдет в коридор и сразу поймет, куда она идет. При этой мысли у нее кружилась голова.
Через калитку Тильда вошла в огород. Стояла кромешная тьма, дождь поливал грядки, барабаня по листьям. Тусклым электрическим фонариком посветила она на мокрую притоптанную могилку ребенка… Пес скулил на цепи и выл…
Через полчаса Тильда снова была во дворе. Наверху трактирщик растворил окно и заорал на собаку:
— Цыц, стерва! Тихо!
Тильда в ужасе метнулась за колонку и присела на корточки, чтоб ее не заметили… Окно закрылось, пес тихонько скулил, не решаясь выть громко.
Дождь все усиливался. Казалось, будто над землей реют исполинские мокрые крылья. Тильда не чувствовала ни своей ноши, ни усталости. Глаза ее напряженно вглядывались в дождевые струи, в черный мрак. Вся во власти своих страхов, она придумала нечто ужасное, и оно должно произойти непременно. Только тогда наступит конец…
Тильда забыла обо всем, совершенно отупев от страха; она двигалась как тень, заботясь лишь об одном — незамеченной дойти до цели и так же незаметно вернуться назад.
И вот она снова стояла у окна своей каморки. Дождь все шел, струясь по стеклам; над крышами, колеблясь на ветру, еще горел фонарь. Крыши, кругом одни крыши. А за крышами, вдали, на склоне горы стоял хлев Бобовеца. Летом туда загоняли на ночь скот, сейчас он был пуст, лишь сено с соломой были под крышей. Тильда пристально вглядывалась в темноту, пытаясь отыскать глазами гору и хлев.
Переодевшись — она вымокла до нитки, — она снова принялась смотреть в окно. Бесконечно долго тянулось время. Каждая минута казалась ей часом непереносимой муки. Того, чего она ждала, не было. Неужели она так ничего и не дождется? Тогда она погибла.
Тильда сознавала это все яснее и яснее. О, как тяжко! За окном разверзла свою пасть тьма…
Она дрожала от нетерпения, душа ее рыдала, сердце разрывалось на части. Ей казалось, что она сойдет с ума. Она уже совсем собралась снова бежать по лестнице вниз, на дорогу, в дождь и тьму, когда за домами, на горе, вдруг появился маленький огонек. Постепенно он разгорался все ярче и ярче. И вот из старой постройки вырвались языки пламени, они лизали соломенную кровлю и, переваливаясь через конек, освещали все вокруг. Трещал исполинский костер, пел и плясал, пожирая все в неудержимом порыве ярости…
Увидев пожар, Тильда чуть не закричала во весь голос. В этом огне горели ее страхи и опасения, ее ужас и муки, пламень поглотил все ее прошлое.
Потом, содрогнувшись, она легла в постель не раздеваясь и, натянув на себя одеяло, крепко сомкнула веки. Затаив дыхание, прислушивалась она, не поднимается ли в доме переполох. Дождь стучал по стеклам, во дворе выла собака. Звук пожарной сирены пронзил ее до мозга костей.
Пожарные…
Тильду так и подмывало выглянуть в окошко, но не хватало духу. В дверь стучали… Кто-то — вероятно, трактирщик — босиком бежал по коридору, по лестнице… По мостовой прогромыхала телега… Вторая… Затем снова все стихло, только барабанил по стеклам дождь да жалобно выла собака.
Тильда до боли сжимала веки. Боже, как ей хотелось позабыть обо всем, что с ней случилось… Временами в ночи раздавался бой церковных часов…
Прошло немало времени, пока дверь в сенях снова отворилась и кто-то вошел. Тильда встала и взглянула на часы. Время еще есть. Она поправила волосы и подошла к окну. На горе за домами тлело умирающее пламя.
Тильда вытащила из-под тюфяка узелок, еще раз обвела взглядом комнату и вышла в коридор. Затаив дыхание и приглушив шаги, она подошла к хозяйской спальне. Хозяин, тяжело пыхтя, ложился в постель.
— Все сгорело? — спросила Юстина.
— Только фундамент остался. Ни одного бревна не удалось спасти.
— Кто поджег?
— Бродяга какой-нибудь. Ночевал на сеновале…
Тильда тихо вышла на улицу. Небо очистилось от туч, улица была пуста. Сквозь серые бегущие облака просвечивала заря, новый день разогнал мрак, жадно цеплявшийся за стены домов.
Автобус уже стоял перед почтой, до отправления оставались считанные минуты. Их-то Тильда и страшилась больше всего на свете. Всей душой рвалась она в незнакомый мир, где ничто не будет ей напоминать о пережитом… Кто-то подбежал к автобусу и крикнул шоферу:
— Подождите!
У Тильды перехватило дыхание. Неужели ее преступление и побег раскрыты и теперь ее хотят схватить?
Подбежала какая-то женщина, вошла в автобус и со вздохом опустилась на сиденье. Провожала ее Ольга. Она стояла у окна и что-то говорила своей знакомой. В эту минуту Тильде хотелось провалиться сквозь землю. Взгляд Ольги был для нее равносилен смерти.
«Только бы не увидела, — твердила она про себя, — только бы не заметила!» Она отвернулась, но испуганные глаза ее так и тянулись к окну…
Ольга заметила ее, когда автобус уже тронулся. В любопытном взгляде ее была бездна вопросов, на которые Тильда вряд ли смогла бы ответить… Через минуту все исчезло: и вопрошающий взгляд Ольги, и почта, мимо пробегали дремлющие дома. Тильде казалось, что тусклый свет наступающего утра несет ей избавление…
И она улыбнулась в душе…
4
Тильде приснился сон.
Она стоит под развесистым деревом, кругом бушует непогода. Вдруг к ней прямо с неба спустилась огромная черная туча, и из нее вышел Дольфи в щегольском костюме и с белым цветком в петлице. Он подошел к Тильде, взял ее за руку и сказал: «Идем со мной!» Дождь еще не перестал, страшно было пускаться в путь, но она пошла, хотя ноги ее разъезжались и тонкие струйки затекали в рукава и за воротник. «Дольфи, — сказала она, взглянув на юношу, — ты сердишься?» Он отрицательно мотнул головой, и она опять сказала: «Дольфи, ты печалишься?» Тогда он вспылил: «С чего мне печалиться?» Сердце ее упало, и она спросила с укором: «Почему ты кричишь? В моих словах нет ничего обидного». Немного погодя она снова заговорила: «Если мои слова не прибавят тебе печали и гнева, то я открою тебе одну тайну». Дольфи ответил, не оборачиваясь: «Я знаю какую…» И умолк, но Тильда видела по его глазам, что ему все известно. Она опустила голову и задумалась. Долго молчала, а потом начала рассказывать Дольфи об одной чете — ей через стенку слышно, как супруги вздыхают и сетуют на то, что стареют без детей. Жизнь им кажется пустой и бесцельной. Тильде хотелось утешить Дольфи. Но он словно ничего не слышал… Между тем они подошли к ручью, вившемуся узкой лентой среди лугов. Дольфи перепрыгнул через ручей, и вдруг русло его так расширилось, что Тильда не отважилась прыгать. «А как же я?» — спросила она. «Прыгай! — смеясь, звал ее Дольфи. — Я уже не могу назад». Вода и в самом деле разливалась все шире, как бывает в пору весеннего паводка. Не успела Тильда и глазом моргнуть, как противоположный берег настолько отдалился, что туда даже голос не доходил. «Что мне делать с ребенком?» — крикнула она. Дольфи уже не слышал ее; он был совсем крошечный, и она едва различила, что он показал на воду.
От боли она рухнула наземь…
Проснулась она на полу, рядом с постелью. Лоб болел от удара, грудь тяжело вздымалась, лицо было мокрое от слез. Где она? Сперва ей почудилось, что она в своей каморке в трактире и Юстина в любую минуту может постучать в дверь… Уже потом она поняла, что находится в городе, по мостовой громыхает телега, кто-то, пошатываясь, возвращается домой. Тильда зажгла свет и окончательно убедилась в том, что она в городе. Губы ее тронула слабая улыбка. Какими далекими казались ей уже те дни, когда она жила в местечке, ведь от них ее отделяли многие месяцы счастья, того зыбкого счастья, когда человек уже посреди бела дня с ужасом начинает ждать, когда его окутает ночная тьма.
Тильда вытерла слезы и взяла с тумбочки записку. «Завтра уезжаю. Дольфи». Как-то на днях, в разговоре, он просил ее не приходить на пристань: обещал писать часто, каждый день, и скоро вернуться. Но Тильда чувствовала, что он будет отделываться одними приветами и никогда не вернется. А ведь она еще не сказала ему того, что в последнее время так радовало и так пугало ее. Раз ей показалось, что он сам прочел это в ее глазах; метнул на нее проницательный взгляд и замкнулся в молчании, предоставив ей самой начать этот тяжелый разговор….
Было еще рано. «Подожду на молу, — решила она и, вспомнив свой сон, забеспокоилась. — Думала об этом полночи, вот и приснилось».
Тильда шла по пустынным улицам; на пристани тоже было безлюдно. Море, спокойное до самого горизонта, изредка мягко плескалось о берег. Из труб стоявшего на причале парохода шел дым. Матросы, напевая и посвистывая, расхаживали по палубе.
С тяжелым сердцем ходила Тильда взад и вперед по молу. Ее мучило предчувствие, что Дольфи уходит от нее навсегда. Но ведь это неизбежно, она всегда знала, что рано или поздно потеряет его.
Мысли набегали одна на другую. Вдруг Тильда содрогнулась и замерла — в эту минуту она походила на человека, стоящего у края обрыва, который забрал себе в голову, что уже летит вниз и от страха ощущает физическую боль. Сквозь прищуренные ресницы, на которых висели слезы, она видела свое прошлое — жизнь в местечке, о котором она давно уже не вспоминала, теперешнюю свою службу, протекавшую в четырех стенах, где никогда не могло случиться ничего неожиданного.
Ее новая история началась в тот воскресный вечер, когда она пошла одна в кино. Еще и сейчас перед ее глазами стоят яркие рекламные щиты у входа и красный свет лампы. Она сидела в тепле, наслаждаясь фильмом; он напоминал ей роман, который она в свое время читала бессчетное число раз, а потом бросила в огонь. На экране развертывалась сходная повесть, только гораздо живее и непосредственней, без вычурных красивых слов. Кино было понятней и словно сладким дурманом наполняло душу. Тильда не видела перед собой людей, не слышала музыки, все ее внимание было сосредоточено на герое, который протянул руку падшей девушке и повел ее к счастью.
Раньше она б ни за что не поверила, что такое возможно; теперь у нее не оставалось никаких сомнений. Артисты уже не были в ее глазах артистами, фильм стал самой жизнью, так захватившей ее, что она вся сжалась и тихо, беззвучно заплакала. Она чувствовала, как в душе ее в муках рождаются новые надежды.
Тильда вспомнила Дольфи. Она думала о нем каждый день с тех пор, как переселилась в город, теперь же ждала, что он выйдет из окружающей ее толпы и окликнет: «Тильда!» Но этого не случилось. Может быть, она встретит его завтра, а может быть, послезавтра. Это ожидание внушало ей и радость и тревогу. Адрес его она забыла, но если б даже и помнила, все равно не решилась бы ему написать. Между ними лежала пропасть, это Тильда отлично понимала. И тем не менее она неустанно искала его глазами среди прохожих. Тысячи людей прошли мимо нее, но его все не было.
Экранный герой ничуть не походил на Дольфи, и все же Тильда улавливала в них что-то общее. Быть может, ей просто хотелось, чтоб Дольфи был таким же — нет, не внешне, а по своим поступкам. Фильм шел, место рядом с Тильдой оставалось свободным. Вдруг кто-то подсел к ней. Она даже не взглянула на соседа. И только когда чужая рука нежно коснулась ее руки, она быстро отдернула ее и вздрогнула. В полутьме она различила улыбающееся лицо Дольфи и, хотя минуту назад ждала его чудесного появления, тут так оторопела, точно увидела рядом с собой покойника. Вскоре фигуры на экране исчезли, зажегся свет, и они дружески поздоровались.
— Я заметил тебя, потому и пересел, — сказал Дольфи.
Тильда едва нашлась что ответить. На глазах у нее выступили слезы, и она, утирая их платком, говорила, что это фильм так ее растрогал.
— Тебе понравилось?
— Да. Только ведь в жизни таких парней не бывает.
— Почему не бывает? — сказал Дольфи и внимательно посмотрел на нее. — А ты стала такая франтиха.
Тильда покраснела, — слова Дольфи льстили ей.
С того дня они часто виделись. К Тильде пришла наконец ее первая и единственная любовь. Девушке казалось, что после долгих месяцев страданий судьба послала ей совершенно особенного, ни с кем не сравнимого человека. Сердце ее трепетало при каждом его слове. Она ощутила сладость первого поцелуя и любви. Впервые в жизни возвращала она поцелуи. Правда, разлад в ее душе еще продолжался, однако она всем своим существом чувствовала, что высоко поднялась над прежней жизнью.
Дольфи любил ее, в словах его было столько правды и ума, и окружала его какая-то тайна. Что-то светилось в глубине его зрачков, но что — она не знала. Он никогда не говорил ей о своих занятиях, не рассказывал, как проводит свободное время. Если она спрашивала его об этом, он отвечал коротко и сразу же переводил разговор на другое. О будущем никогда не заговаривал. Тильда часто думала о его первом письме. Но с ним были связаны воспоминания, которые она в ужасе гнала прочь.
Как-то она вскользь упомянула те строки.
— В том письме — помнишь? — ты писал, что пора устроить жизнь…
Он посмотрел на нее долгим взглядом и немного помолчал.
— Когда я получу другое место, мы поженимся. Хорошо?
В ответ она благодарно пожала его руку, лежавшую в ее руке. Однако сладостное волнение сменилось вскоре горькими мыслями.
Тильда думала, что ее прошлое грозной тенью пролегло между ней и Дольфи. Недостаточно было подняться из бездны преступления на вершину чистой любви. В глазах ее стояло окровавленное дитя — ее неоплаченный счет. Никому еще не поверяла она этой тайны, и даже в минуты наивысшего блаженства ее мучил страх, что рано или поздно ее преступление раскроется и разрушит все ее надежды на новую жизнь.
Однако, несмотря на все свои страхи, Тильда испытывала порой жгучую потребность кому-нибудь исповедаться. Как-то вечером она совсем уже было собралась припасть к плечу Дольфи и, выплакав свое горе, во всем ему признаться. Выложить все без утайки. Она чувствовала, что должна это сделать, ибо ее мучило сознание вины перед ним, усугублявшееся молчанием. Она уже было прильнула к его плечу, но тут же подавила готовое вырваться из груди рыдание, и слова застыли на ее губах…
Сокрушенная и подавленная, желая искупить свою вину перед Дольфи, она отдалась ему без сопротивления. Потом разрыдалась. Напрасно она надеялась, что близость с ним поможет ей открыть ему свою страшную тайну. Сквозь всхлипыванья рассказала она лишь о той ночи, с которой пошли все ее злоключения. Остальные слова заморозило холодное удивление Дольфи.
С того дня Тильда металась между счастьем и мучительным предчувствием его близкого конца. Дольфи все больше окутывал себя какой-то непроницаемой тайной, в глазах его появилось что-то чужое, неприступное. Он словно отгородился от нее колючей изгородью. Между тем к старой тайне прибавилась новая, которую надо было ему открыть. Она говорила взглядами, но он не хотел понимать. Наконец она почувствовала, что стала для него обузой, от которой он не прочь освободиться.
Тильда не удивилась, когда он сказал:
— Я оставил службу. Уеду куда-нибудь в другой город.
Сердце ее рыдало, колени подламывались, но она не заплакала, что весьма озадачило Дольфи.
— Когда ты едешь? — спросила она.
— Через три дня.
— Так скоро? — Тильда и этому не удивилась.
— Я вернусь, — добавил он. Она знала, что он не вернется, никогда не вернется и говорит это только ей в утешение.
Однако Тильда считала, что должна поделиться с ним своей мечтой. О прошлом она говорить не станет — сейчас это не имеет значения. Он выйдет в ясное весеннее утро, конечно, бледный, но сияющий, и она откроет ему душу. Он прижмет ее к своей груди, и она будет ему еще милей, чем прежде. Из-за этого он, конечно, не останется здесь и потом не вернется, но все же одна из ее тайн жарким пламенем будет гореть в его памяти. Он будет знать, что она родит ему ребенка, что она остается совсем одна в чужом городе и все равно ни на что не жалуется!
Машины заработали, пароход задрожал всем корпусом. Из труб повалил густой черный дым и грязной тучей повис над молом. Пассажиры приходили пешком, приезжали в колясках, в автомобилях и по трапу поднимались на палубу. Раздался свисток. До отплытия оставалось четверть часа.
Дольфи еще не было. Тильдой овладело беспокойство. От волнения она растеряла все приготовленные заранее слова. Теперь они не успеют даже наскоро попрощаться. Горечь перехватила горло, затрудняя дыхание.
«Может быть, он решил не ехать», — подумала Тильда, сама не веря в такую возможность. Послышался второй свисток. Оставалось всего пять минут.
Вдруг к пристани подкатила коляска, из нее выскочил Дольфи. Расплатившись с извозчиком, он взял чемодан и только тут заметил Тильду.
Дольфи так изумился, точно увидел ее на том берегу, где ему предстояло сойти с парохода, хотя он мог бы догадаться, что она придет. Дольфи протянул ей руку.
— Видишь, чуть было не опоздал.
Тильда дрожала, все вокруг нее качалось: земля под ногами, дома, пароходы, море и небо… Приготовленные слова застряли в горле, даже попрощаться у нее не было сил.
— Господа отъезжающие! «Леванте» отправляется. Господа, поторопитесь!
Дольфи вздрогнул и снова пожал Тильде руку.
— Прощай, думай обо мне!
— И ты… — с трудом выдавила Тильда.
Кто знает, что еще хотела она сказать, но голос ее замер. Неподвижная, точно статуя, провожала она глазами поднимавшегося по трапу Дольфи. Он обернулся… еще раз… еще… Тильда махала ему платком, почти не видя сквозь застилавшие ее глаза слезы огромный темный корпус парохода.
Пароход медленно отчаливал. Пассажиры все уменьшались и уменьшались и наконец стали такие крошечные, что уже невозможно было различить отдельные фигуры. Люди на берегу все еще махали платками, хотя пароход совсем скрылся в сером сумраке и на спокойной поверхности моря виден был лишь верх труб.
5
Два месяца спустя рыжеволосый веснушчатый полицейский отвел Тильду в участок. Он был немногословен, но зато с большой охотой слушал других. Шел он таким широким, размашистым шагом, что Тильда едва поспевала за ним.
Тильда была легко одета и дрожала от холода. Губы ее скривились в горькой усмешке, лицо выражало страх. А в глубине души полыхал пожар.
— Зачем меня вызывают в участок? — уже в третий раз спросила она.
— Комиссар вас вызывает.
— Что ему от меня нужно?
Полицейский уже дважды говорил ей, что не знает этого, а потому пропустил вопрос мимо ушей.
— Я же ничего не сделала, — всхлипнула Тильда.
Ее провожатый молча свернул с главной улицы на пустынную боковую улочку и оглянулся — не отстала ли Тильда.
Она шагала за ним почти в беспамятстве. Ее одолевали сотни мыслей, со всех сторон подступали страхи, что-то жгучее проникало в сердце, в грудь, в глаза, во рту собралась густая горькая слюна. Тильда давно уже жила в предчувствии страшной, неотвратимой беды. Сейчас она была в положении человека, над которым рушится потолок: он еще жив, но знает, что через минуту будет мертв. Возможно, ее вызывали в полицию по какому-нибудь пустяку, ведь повод всегда найдется, а она уж вообразила бог знает что. Тильда еще никогда всерьез не думала о суде, о наказании, о тюрьме. Только теперь, семеня за длинноногим рыжим полицейским, она представила себе все это так жива, что почувствовала тошноту и остановилась, чтоб не упасть.
Полицейский оглянулся и добродушно засмеялся.
— Вам так трудно идти?
— Нет. А меня не посадят?
— За что? — Полицейский смерил ее внимательным взглядом. — Вы знаете за собой вину?
Тильда испугалась. Ей показалось, что она почти выдала себя.
— Нет, — ответила она глухим голосом. — Но ведь… Если человека вызывают в полицию, он всегда думает о худшем.
— У кого совесть чиста, тому нечего бояться.
Тильда шла по краю тротуара, два раза нога ее соскальзывала вниз. Она не могла понять, почему сегодня все люди кажутся ей такими привлекательными и счастливыми. Все счастливы, она одна несчастна. А ведь несколько минут тому назад, до того как этот человек постучался к ней, она была так спокойна и беззаботна…
Дольфи, как и следовало ожидать, не писал. Прислал две короткие открытки, и ни слова больше. И все же она с обожанием вспоминала человека, которого когда-то так любила, отца своего будущего ребенка. Тильда не знала, как все обернется, одно ей было ясно — на тот страшный путь она больше не ступит. Пусть лучше она окажется на улице, пусть ей придется довольствоваться тем, что протянет ей чья-нибудь милосердная рука, во всем отдаться на волю случая.
Хозяйка, у которой она работала, заметила происшедшую в ней перемену.
— Что с вами, Тильда? — спросила она как-то.
Обливаясь слезами, Тильда рассказала ей обо всем (даже родной сестре не решилась бы она открыться), умоляя не лишать ее своего расположения, не выбрасывать на улицу.
В молодости хозяйка сама была в таком положении и потому проявила к ней участие. Тильде не верилось, что белые руки хозяйки и вправду подняли ее и что она слышит ласковые ободряющие слова.
— Ничего, ничего… Оставайтесь у меня, со временем все устроится. Я вас понимаю, в свое время мне тоже пришлось немало пережить. Не плачьте, Тильда, не надо!
Они плакали вместе — хозяйка, вспоминая прежние дни, и Тильда, растроганная ее добротой. Ей казалось, что эти слезы смыли все ее горькое прошлое, словно бы его вовсе и не было.
Тильда была счастлива; если не считать коротких мгновений любви, она еще никогда в жизни не испытывала такого блаженства. Впервые она по-настоящему думала о ребенке, со стыдом признаваясь себе, что до сих пор заботилась лишь о себе самой.
И вот после надежд на счастье, после сладких снов, в которых она видела свою будущую жизнь, представляла себе, как удивится Дольфи, когда, вернувшись, найдет ее, несломленную, с ребенком на руках, она внезапно упала на землю и снова очутилась в кипящей бездне того прошлого, которое она всегда с мукой гнала прочь, и думала, что оно уже далеко-далеко от нее. Тильда почувствовала на сердце страшную тяжесть и хотела заплакать, но слезы не шли.
Дом, где помещался полицейский участок, глядел на нее хмуро, неприветливо. Полицейский втолкнул Тильду в узкую канцелярию. Сидевший за письменным столом лысый длиннолицый чиновник смерил ее проницательным взглядом.
Всю дорогу Тильда тряслась от страха, но теперь, как это ни странно, она успокоилась. Может быть, потому, что комиссар вежливо предложил ей сесть, хотя выражение его лица ничуть не смягчилось.
Чиновник спросил у нее имя, фамилию, где родилась. Тильда отвечала без запинки, спокойным, ровным голосом. Но когда тот стал дотошно выспрашивать Тильду о ее жизни, о работе, любовных связях, язык у нее начал заплетаться, и наконец она совсем смолкла.
Комиссар, словно бы ничего не замечая, рассматривал лежащие перед ним бумаги. Вдруг он поднял голову и смерил взглядом ее фигуру.
— Барышня, вы ждете ребенка?
В Тильде шевельнулась слабая надежда, что ее допрашивают не из-за того, старого… Может быть, их интересует Дольфи?
— Да, — ответила она, покраснев.
— А когда вы в последний раз были беременны?
Вопрос прозвучал холодно, но быстро. Казалось, он был рассчитан на столь же быстрый ответ. Комиссар хотел, чтоб Тильда не успела подумать. Слова «были» и «в последний раз» он особо подчеркнул.
— Но… но я еще никогда не…
Тильда вздрогнула и изменилась в лице. Комиссар отвел от нее взгляд и с минуту молчал, готовясь к новому нападению.
— Барышня, вы волнуетесь? — спросил он как будто ласково, с ноткой сочувствия в голосе.
— Немножко. — Тильда улыбнулась вымученной улыбкой.
— Однако вы не волновались, убивая своего первенца? — как стрела пронзил ее новый вопрос.
Удар был такой страшный, что Тильда, теряя самообладание, сделала невольное защитное движение.
— Какого первенца?
— Какого? Своего! Вам это лучше знать.
Комиссар не сводил с нее глаз. Тильда заметила, как в морщинах его лица заиграла легкая самодовольная улыбка, и поняла, что своим поведением уже почти себя выдала.
— Я ничего не знаю, — в страхе пролепетала она.
— И того не знаете, что закопали ребенка в саду?
У Тильды все завертелось перед глазами. Чтоб не свалиться со стула, она оперлась руками о стол.
Мозг ее лихорадочно работал. Только теперь ей стало ясно, что люди давно уже кое о чем догадывались. Сразу же после ее отъезда поползли разные слухи. Соседка Ольга не стала молчать. Тильда плохо замела следы в саду. Ее внезапное бегство подтвердило подозрения. Кто знает, как долго ее искали… Она погибла.
— Я не закапывала его в саду…
Тильда остановилась, полуоткрыв рот, словно взвешивая свои слова.
— Мы знаем, что в саду его уже нет. Куда вы его перенесли?
«Не знают, — вздохнула она с облегчением. — Всего не знают. Все это только ловко расставленные сети. Скрывать! Ни в чем не сознаваться! Пусть сначала докажут!»
— Никуда я его не перенесла, — твердо сказала она. — Его вообще не было…
Казалось, чиновник не слышал ее последних слов. Постукивая линейкой по ладони, он резким, отрывистым голосом приводил неопровержимые улики. У Тильды было такое чувство, будто под ногами у нее разверзается бездна.
— Ребенка вы потом закопали в другом месте, опасаясь, как бы в саду его не нашли? Так ведь?
Тильда неотрывно смотрела на бумаги, на исписанные страницы, на руки комиссара… Все вертелось, прыгало, плясало, растворяясь в застилавшей ее глаза пелене слез, в грозных видениях неясного будущего.
— Куда вы дели ребенка потом? Утопили?
— Не знаю, — ответила она из последних сил.
И тут в ней что-то надломилось, и сам собой полился рассказ про беременность, страх, роды, убийство ребенка, про купель у колонки и крещение. Признание облегчило ее, прошли головокружение, стеснение в груди, мысль стала работать яснее. Она смотрела на комиссара, который все писал и писал. Зачем он столько пишет?
— Куда вы дели ребенка?
— Не знаю.
Последнюю тайну она не хотела открывать. Уж об этом-то еще никто не пронюхал.
— В тюрьме у вас будет достаточно времени, чтоб вспомнить, — сказал комиссар. — Распишитесь вот здесь!
Дрожащей рукой взяла Тильда перо.
— Где? — переспросила она. Поставив свою подпись, опять обратилась к нему: — Что со мной будет?
Чиновник, занятый бумагами, даже не взглянул на нее.
— Пока посидите в тюрьме, а потом предстанете перед судом, — сказал он с нажимом. — Вам представится удобный случай хорошенько поразмыслить и исправиться. Теперь понимаете? Именно этого и следовало ожидать.
Да, Тильда поняла. Она была так подавлена, что слова не шли с языка, говорили лишь ее глаза.
6
Тильду посадили в зеленый фургон и отвезли в тюрьму. Шумная улица, которую она видела сквозь зарешеченное оконце в дверях, была ей сейчас милее, чем когда-либо. Прохожие при виде тюремного фургона останавливались и с любопытством смотрели ему вслед.
На скамье рядом с Тильдой, обливаясь слезами, сидела невысокая худенькая девушка, по имени Адунка. Обвиняли ее в том, что она вытащила у пьяного пятьдесят динаров. Адунка упорно отрицала свою виновность. Однако огорчение не мешало ей мечтать о сигаретке. Глядя на сидевшего напротив закованного в кандалы мужчину, она жестами объяснила ему, что хочет курить, — разговаривать запрещалось. Но тот был угрюм и мрачен и не понял ее.
На углу узкой крутой улицы арестанты вышли из фургона. Сходя по лесенке, Тильда оступилась и чуть не упала. Черноволосый полицейский поддержал ее за руку.
— Спасибо! — сказала она, обратив на него благодарный взгляд, и в ту же минуту почувствовала, что ничего худого с ней не случится.
Они поднимались в верхнюю часть старого города, к зданию бывшего иезуитского монастыря, превращенного в тюрьму. Низкие, сводчатые потолки, темные коридоры, толстые железные решетки, запах сырости и четырех столетий. Давно уже забыты прежние обитатели этих стен, возносившие богу свои молитвы, теперь их оглашали вздохи страждущих, меж почерневших стен и под каменными сводами раздавались проклятия. Мирные размышления о боге и догматах веры уступили место горьким раздумьям о свободе и справедливости.
Тильда разглядывала стены канцелярии, толстые книги, в которые заносили сведения о заключенных. Равнодушие, с которым чиновники делали это дело, успокаивало.
Снимая с руки кольцо, она снова задрожала, по телу пробежал холодный озноб. Кольцо было подарком Дольфи. Неожиданно он предстал перед ее мысленным взглядом, она осознала свое положение и вспомнила сцену у комиссара… Отдавать кольцо ей было так же тяжко, как расставаться с жизнью.
— Когда вы мне его вернете? — спросила Тильда.
— Когда вас выпустят. Что вы натворили?
Медленно, с трудом, в самых скупых выражениях рассказала она, в чем ее обвиняют. На лице чиновника заиграла едва уловимая ироническая улыбка.
— Времени у тебя хватит, — сказал он. — Но ничего — золото не ржавеет и не плесневеет.
Тильда часто-часто заморгала, казалось, ее слепили солнечные лучи, проникавшие сквозь низкое решетчатое окно.
На первых двух этажах находились мужские камеры, на третьем — женские. Сводчатый коридор напоминал туннель; по правой стороне его шли окна, выходившие на обнесенный каменной стеной двор, по левой тесно жались друг к другу камеры. Над дверью каждой камеры было крошечное зарешеченное оконце, в котором всю ночь тускло мерцал огонек, похожий на светящегося паука, оплетенного железной паутиной. На противоположной стене узких сводчатых камер было еще одно забранное решеткой окно с намордником, а за окном — свободный мир, солнце и человеческие голоса. Вдоль стен выстроились койки, точно смертные ложа, и на каждую из них ложилось на ночь по живому трупу.
Тильда стояла в коридоре, всматриваясь в полумрак, из которого к ней приближалась маленькая, сгорбленная фигурка старухи надзирательницы. Веснушчатое лицо ее было в бородавках, изо рта торчали длинные зубы. Какая-то арестантка шутки ради окрестила ее Венерой. Другие мигом подхватили это прозвище, хотя далеко не все понимали его значение.
Вся храбрость Тильды мгновенно улетучилась, лишь только она предстала перед этой женщиной. По натуре робкая, как пташка, к тому же разбитая и обессиленная, она сейчас без всякого сопротивления дала бы себя убить. Дрожа всем телом, взяла она тюфяк и одежду и поплелась за семенившей к черной двери надзирательницей. Заскрипел ключ. Нигде ключи не скрипят так страшно, как в тюрьме. Тильда споткнулась о порог и почти влетела в мрачную камеру, уронив при этом тюфяк, и застыла от удивления.
Тильда думала, что будет одна, а нашла здесь весьма пестрое общество. Тринадцатую камеру прозвали камерой «благородных», ибо, кроме проституток, в ней сидели также воровки, сводни, политические и детоубийцы.
Четыре из двенадцати стоявших здесь коек были свободны. На стенах висели полки с глиняными мисками, кувшинами для воды и деревянными ложками. В углу, у двери, за грязной цветастой занавеской, прятались параша и веник.
Арестантки в камере изнывали от безделья. Госпожа Нина, уличенная в сводничестве, сидела на своей койке и очень ловко лепила из хлебного мякиша цветы. Проститутка Адель, высокая женщина с резкими чертами лица, устроилась у нее в ногах и, мурлыкая сквозь зубы какую-то песенку, разминала пальцами мякиш, смешанный с мелко нарезанной цветной бумагой. Толстуха Нада, явная грешница, в десятый раз самовольно вернувшаяся в город, смотрела, непрестанно моргая, через Нинино плечо.
Госпожу Нину в камере не любили. Рыжие крашеные волосы, острый пронзительный взгляд, хриплый язвительный голос, пристрастие к поучениям отталкивали от нее товарок. Одета она была лучше других, меховая шубка придавала ей вид дамы из общества, случайно попавшей в эту компанию. У нее у одной были деньги, и она покупала себе еду. За едой она всякий раз чувствовала на себе голодные взгляды товарок — кормили в тюрьме один раз. Иногда она расщедривалась и давала тем, кто перед ней лебезил и никогда не перечил, какую-нибудь кроху. Делала она это не из жалости, а чтоб помучить других. Желая быть в центре внимания, она громче всех молилась в капелле и при каждом удобном случае целовала монаху руку. Часто вспоминала своего покойного мужа, то притворно вздыхая по нему, то ругая и кляня за неверность. Однако вслед за проклятьями снова раздавалось:
— О, бедный мой муж!
Злейшим врагом ее была повивальная бабка Гедвика, женщина одних с ней лет, но такая маленькая и с такими короткими руками и ногами, что, если бы не большая голова, она вполне сошла бы за подростка. Взгляд у нее был липкий и тяжелый, морщинистое лицо сплошь покрывали прыщи. Носила она зеленую кофту и красную, в крупную клетку юбку, седые волосы были скручены на затылке в пучок, а надо лбом она каждое утро взбивала букли.
— Бедный твой муж! — молвила Гедвика и злобно скривила губы. — И вправду бедный, раз попалась ему такая жена!
— Кто бы говорил! — Сводня вонзила в противницу свои осиные глаза. — Тебя-то муж бросил и дети не любят!
— Я сама его выставила. А ты своего в гроб загнала, с тобой и жаба сдохнет!
— Как было не выставить, когда сама с другим блудила?
Повитуха и в самом деле ушла от мужа, влюбившись в молодого портового грузчика, который вскоре ее бросил. Она страдала, да еще дети писали ей в тюрьму ругательные письма, полные презрения.
— Нечего лезть в чужие дела! — закричала она в ярости. — Лучше на себя погляди. Не на твоей ли руке Нада прочла, что ты обманывала мужа?
— Я? — Сводня изобразила удивление и встала. — Я до сих пор не могу забыть своего бедного мужа! Если б он только знал, что я сижу здесь ни за что…
Повитуха громко захохотала, чтоб побольнее ранить противницу. Нина передала Наде законченный цветок и уставилась на повитуху.
— Чего ржешь? Чья бы корова мычала, твоя бы молчала!
— Вот как? — Гедвика ткнула в нее пальцем. — Вот как? Лучше ты помолчи.
Арестантки, привыкшие к подобным сценам, не обращали на них внимания. Нада, глуповато улыбаясь, разглядывала цветок. Адель беззаботно напевала свою песенку. Лицо ее еще хранило следы былой красоты, но волнистые волосы на висках уже тронула седина. Она носила потертое мужское пальто, которое едва прикрывало ей колени, ходила размашистым мужским шагом, нюхала табак и по-мужски рассказывала смачные анекдоты.
— А ну-ка угомонитесь! — возмущенно крикнула Адель, когда перепалка слишком уж ей надоела.
С Надой ее связывала тесная дружба.
Сухонькую, красноносую и одноглазую нищенку, помещавшуюся у дверей, обвиняли в воровстве. Весь день она неподвижно сидела на койке, что-то бормоча себе под нос. В углу у окна сидела такая же тощая женщина, только моложе ее годами. Она жевала хлебные корки, горячо молилась и часто моргала. Звали ее здесь «Кумой». Обвинялась она в том, что уморила отданных ей на попечение детей.
У окна стояла Зофия, совсем еще юная черноволосая девушка, швея по профессии. Ее миловидное нежное лицо нисколько не гармонировало со строгим и решительным выражением глаз. С арестантками она была ласкова и приветлива, но о внешнем мире судила весьма резко. Она часами сидела на краю койки, скрестив руки и глядя в зарешеченное окно, словно уйдя в какие-то свои тяжелые переживания. А то с утра до вечера читала единственную свою книгу — «Мать» Максима Горького. Товарки звали ее коммунисткой; именно этим она объяснила им свой арест.
Рядом со сводней лежала на койке Пепа, крепкая широколицая женщина. Она только смотрела и слушала, редко вступая в разговор и уж никогда — в ссоры. Мысли ее были заняты оставленными без присмотра детьми и предстоящим приговором.
Перебранка между повитухой и сводней еще не кончилась, когда в дверях щелкнул ключ.
— Венера! — воскликнула Нада и вскочила с койки.
— Пополнение! — обрадовалась Адель и выпустила из рук мякиш.
Каждая новая арестантка была для них большим событием. Прошло уже две недели с тех пор, как они лишились двух товарок, а новеньких пока не было. Новенькие вносили в их монотонную жизнь что-то свежее и новое: новый характер, новое преступление, новый роман, новые разговоры, помогавшие скоротать так нудно тянувшееся время.
Замешательство Тильды очень позабавило обитательниц камеры; Нина с Гедвикой и те мигом забыли свою свару и засмеялись. По всему было видно, что новенькая впервые попала в тюрьму, — она беспомощно топталась на месте между двумя рядами коек, не зная, куда себя деть под взглядами женщин, которые рассматривали ее с нескрываемым любопытством.
Наконец Тильда опустила ношу на кровать и сделала все, как ей указали. Потом села на тюфяк и сложила руки на коленях. Улыбаясь слабой, недоуменной улыбкой, она растерянно смотрела на окружавшие ее лица.
— За что ее посадили? — спросила повитуха Зофию, не решаясь прямо обратиться к Тильде.
Адель подошла к Тильде.
— За что тебя привезли сюда?
— Меня? Не знаю.
— Как это не знаешь? — прохрипела Нина. — В чем-то ведь тебя обвиняют. Или тебя схватили на улице?
— Нет. Говорят, что я убила ребенка, — медленно выговорила Тильда, выдавливая из себя слово за словом.
— Я так и подумала, когда она вошла, — сказала повитуха и хлопнула себя по ляжке. — Все такие смотрят как невинные овечки.
— Оставьте ее! — вступилась за Тильду Зофия, заметив, что у нее дрожит подбородок и на глазах выступили слезы.
— А что тут такого? — не унималась повитуха, сплетая пальцы своих маленьких рук. — Умела грешить, умей и каяться! Или ты уже призналась? Вот видишь. Значит, правда, раз призналась.
Тильда рассказала все, что было известно комиссару, и залилась слезами.
— Поплачь, поплачь! — сказала повитуха. — Хотя постой! — Она смерила Тильду с головы до пят и, хлопнув в ладоши, воскликнула: — Да ты, никак, девка, опять того!
Женщины засмеялись. У Тильды мигом высохли слезы, она покраснела до ушей.
— Осенью будет суд, — продолжала повитуха. — Рано или поздно сядешь за решетку. Так ведь? — Она хихикнула и, склонившись к девушке, понизила голос, но не настолько, чтоб другим не было слышно: — Дура! Почему не пошла к какой-нибудь опытной женщине? Не сидела бы сейчас здесь…
Тильда смотрела на нее непонимающими глазами. Тут был совсем новый для нее, чужой мир, к которому еще надо было привыкнуть.
— Говоришь, не пришлось бы ей здесь сидеть? — спросила Пепа. Голос ее вопреки обычному спокойствию дрожал от негодования.
— Голова садовая, выбалтываешь то, о чем надо помалкивать, — накинулась на нее повитуха. — Из-за таких вот длинных языков и я попала в беду.
— А я не таюсь, как другие. — Пепа со злостью напирала на каждое слово. — Я все рассказала в полиции и судье. У меня четверо ребят. Разве мало? У барынь, как посмотришь, ни одного нет, и им хоть бы хны. А мне роди десяток? При моей-то бедности? Да? Я-то знаю, каково это. Пять братьев было у меня, троих убило на войне, двоих покалечило.
В сотый раз с тем же жаром повторяла она оправдания, придуманные в долгие ночи.
— Припаяют тебе несколько годков. — Повитуха снова обратилась к Тильде.
Девушка задрожала.
— Меня простят, — выпалила она, вспомнив подобные случаи, о которых читала в газетах.
— Про-стят! — протянула Гедвика и подбоченилась. — Чтоб таких прощали? Убить живого человека, жи-во-го человека!
По лицу Тильды опять потекли слезы.
— Оставь ее! — прошипела сводня. — Чего привязалась?
— Чего привязалась? Меня ни за что сюда засадили, а ее чтоб простить?
— Если хорошенько подумать, — злобно сказала Нина, — то твое преступление ничуть не меньше… Верно я говорю? — Она обернулась к Зофии, которая, прислонившись к стене у окна, в десятый раз перечитывала роман.
— Это занятие, когда его превращают в профессию, достойно, по-моему, более суровой кары, — ответила Зофия, не глядя на спорщиц.
Гедвика сделала вид, что не слышит замечания коммунистки, внушавшей всем глубокое уважение. Все знали, что она из иного мира, и никто не осмеливался возражать, когда она произносила свои холодные, веские суждения. Зато Гедвика с удвоенным жаром набросилась на сводню.
— Сравниваешь меня с ней, задушившей живого ребенка? Когда я убила ребенка? Иль, по-твоему, и зародыш — человек? Делаю людям добро, и меня же за это в тюрьму!
И она обратила к арестанткам, хохотавшим над ее гневом, свое побагровевшее прыщавое лицо.
— По-вашему, это не доброе дело? Приходит такая вот девка, с которой приключилась беда… ну, понимаете… и, ломая руки, умоляет ради Бога спасти ее, избавить от позора. Какое надо иметь жестокое сердце, чтоб не помочь ей. А в благодарность получаешь… Уже в четвертый раз меня сажают, а я, дура, по доброте своей все равно никому не могу отказать в помощи. Не смей, — она снова обернулась к сводне и показала на Тильду, — сравнивать нас. И с собой тоже…
Нина, собиравшаяся спросить повитуху, не оплачивалась ли ее доброта наличными, вскипела, как молоко на огне. Щеки ее вспыхнули, а глаза смотрели так остро, словно хотели насквозь пронзить противницу.
— Да уж, конечно, со мной тебя на сравнить, я-то ничего не сделала.
— Ха-ха! Слышали? Она ни в чем не виновата. — Повитуха повысила голос и, разыграв безграничное удивление, захихикала. — А не ты ли сбивала девушек с пути истинного?.. Ты б и собственную дочь… Ты…
Женщины подняли такой крик, что слов разобрать уже было нельзя. Вдруг окошечко в дверях отворилось и показалась Венера.
— Тише, бестии! В карцер захотели?
Сводня и повитуха разом умолкли. Арестантки боялись темного карцера, куда сажали на хлеб и воду. На плече у надзирательницы, нежно касаясь ее лица, сидела ухоженная, полосатая кошка, единственное существо, которое эта женщина любила и лелеяла. Она называла ее Персоной столь же просто и естественно, как арестанток — бабами и бестиями.
Нада подбежала к надзирательнице и потянула руки.
— Барыня, дайте нам кошечку! Персона, Персона, Персона!
Изнеженное животное вспрыгнуло на подоконник.
— Смотрите, бабы, за моей Персоной, головой за нее отвечаете! И накормить не забудьте.
И, закрыв окошечко, она отошла от камеры.
Тильда смотрела во все глаза. Кто из этих женщин мог бы быть ей опорой и поддержкой? Чаще всего она поглядывала на Зофию, которая, оторвавшись от книги, тоже временами бросала на нее взгляд. Эта девушка внушала ей наибольшее доверие.
Под вечер поступила еще одна новенькая, деревенская девушка Катица. Вид у нее был такой, словно она только что встала после тяжелой болезни: лишь на щеках еще сохранился слабый румянец. Она была одной из тех, кто приходит в город искать работы и счастья. Лицо ее дрожало от едва сдерживаемых рыданий.
Едва Катица перешагнула порог, как повитуха сверкнула глазами, вскочила с койки и, уперев руки в боки, двинулась прямо на нее.
— Попалась, птичка, а? — прошипела она, оглядываясь на дверь. — Услышал Господь мою молитву. Так-то ты отплатила мне за добро. Выдеру твои космы, глаза выцарапаю… Зачем ты меня выдала?
Катица тряслась как осиновый лист. Соблазнитель показал ей дорогу к повитухе, и был таков. Потом она попала в больницу. Ей обещали полное прощение, и она рассказала обо всем, выдав повитуху.
— Я… не хотела, — пролепетала в страхе девушка.
— Не хотела? Думала, меня одну посадят, а тебя отпустят, да? Видишь, мы обе здесь… Кабы знать, — с каждым словом Гедвика приходила во все большую ярость, — я б тебя с лестницы спустила… Оттаскала б за патлы… Вот тебе, вот!
И, залепив девушке пощечину, она вцепилась ей в волосы. Катица метнулась к выходу и забарабанила в дверь.
— Пустите! Пустите! — кричала она. — Я не хочу здесь оставаться!
Адель оттащила ее от двери.
— Ты что, рехнулась? — сказала она и обратилась к повитухе: — Хватит с нее!
В оконце показалась Венера.
— Чего расшумелись? Что случилось?
— Ничего, — ответила Адель, с жаром лаская Персону. — Новенькая хочет на волю. Говорит, не хочет здесь оставаться… Кис-кис-кис!
Надзирательница пронзила Катицу строгим взглядом, и оконце закрылось. Адель высунула язык и дернула кошку за хвост.
— Несчастная! — шипела повитуха, глядя на Катицу. — Ты у меня еще попляшешь!
Тильда сидела на койке, сгорбившись и спрятав лицо в ладони. Все у нее внутри сжалось, в голове была пустота.
7
Дни в тюрьме тянулись, похожие один на другой. Воздух был пропитан запахом плесени, пота, испражнений и тухлой пищи. Повитуха ссорилась со сводней, женщины валялись на койках, слонялись по камере, болтали, смеялись сальным смехом. И так с утра до обеда, и с обеда до вечера. Вечером арестантки стелили себе постели, ложились, не сразу затихали, спали беспокойно, часто просыпались и тяжело вздыхали.
Каждая из женщин — когда мирно, когда горячо — раскрывала товаркам горькие страницы своей жизни. Каждая из них принесла с собой в тюрьму большую беду, сближавшую ее с такими же горемыками.
Сюда, за тюремные стены, точно в выгребную яму, стекался весь уличный смрад и грех. Слова, приоткрывавшие темные глубины человеческой души, были обнаженными и беспощадными, чуждыми стыда и приличия.
Снизу, со второго этажа, неслись смех и крик арестантов-мужчин. Крошечным огрызком карандаша, который тщательно прятали от надзирательниц, Нада нацарапала на клочке бумаги несколько слов. Адель стояла на посту у двери. Нада трижды ударила в пол ножкой железной койки — знак, понятный всем заключенным. Потом привязала листок к длинной нитке и спустила его в окошко. Через некоторое время на той же нитке она подняла спички и сигарету, и все курильщицы сделали по нескольку затяжек.
Как-то раз сигарета оказалась обернутой в листок, на котором было написано:
«Люблю тебя. Матей».
Нада ответила:
«Мечтаю о тебе! Нада».
С того дня между молодыми людьми, никогда друг друга не видевшими, завязалась оживленная переписка. Однажды надзирательница застала Наду у окна и на пять суток засадила ее в карцер. Вернулась Нада бледная и осунувшаяся и тут же бросилась на кровать. «Мой он, мы поженимся! — восклицала она сквозь рыдания. — Он вор, я гулящая, чем не пара!»
Успокоившись, она ударила в пол ножкой кровати и настрочила послание:
«Пять дней просидела в карцере, теперь ты мне ближе в тысячу раз. Нада».
От этой необычной любви двух узников в камере повеяло чем-то нежным, ласкающим душу. Никто не сомневался, что влюбленные в самом деле встретятся на свободе. Даже Адель, которая вначале смеялась над ними, стала относиться к их роману серьезно.
У Тильды открывались глаза на жизнь. Иногда, когда в камере ссорились или сквернословили, по телу ее пробегал холодок; слова комиссара об исправлении казались ей злой насмешкой. Многого она еще не понимала, но всем своим существом угадывала, сколько грязи и низости таится на дне жизни.
Ее тянуло к Зофии, умевшей говорить так складно и приветливо, но девушка была чересчур замкнута, и Тильда ее боялась. Как-то Тильда спросила ее:
— А как у других?
— В других камерах? Не рвись туда! Мы «благородные».
И губы Зофии тронула многозначительная улыбка.
Тильда задумалась и посмотрела на заплаканную Катицу, которая с утра до вечера сидела на койке, вспоминая суровую красоту родного края, укрытые среди скал и сосен деревни, горестное лицо матери и временами бросая испуганные взгляды на повитуху, перед которой все еще трепетала. Потом взгляд Тильды перешел на заключенную по кличке Кума. Кума постоянно жевала сухие корки и не переставая молилась в своем углу. Эти три женщины — Зофия, Катица и Кума — нравились ей; на них ей хотелось опереться. Однако ей казалось, что в глазах Кумы нет-нет да и мелькнет что-то лисье.
— Кто она такая? — тихо спросила Тильда Зофию, слегка скосив глаза на Куму. — За что здесь?
У старухи были зоркие глаза и острый слух, она все видела и слышала. Не успела Зофия и рот открыть, как она выплюнула на ладонь обмусоленную корку и заговорила.
— Я? — Она выставила свой единственный зуб, который, точно тупой гвоздь, упирался в нижнюю губу. — Я? Почему Иисус Христос терпел муки на кресте? Из-за злых жидов. Почему я страдаю здесь ни за что ни про что? Из-за злых людей и их мерзких языков. Но ударит трехзубая молния, яко железные вилы, и покарает их. Люди грешат, потом, устыдившись своих грехов, хотят скрыть их от глаз людских. Одни делают, как она вон, Катица, которая теперь плачет, другие поступают, как ты… а третьи приносят ребенка ко мне. Кума, вот деньги, смотри за маленьким, корми его, будь ему сестрой и матерью. Никто не платил мне столько, сколько должны платить добрые христиане. Денег давали на год или два, а потом начисто забывали о бедняжке. А он заболеет да умрет… Бог мне свидетель: зачахнет, заболеет и помрет… Да разве я ему мать, разве я его родила, чтоб выхаживать? Мне его оплакивать? А мать вдруг вспомнит про свое дитя через полгода после его смерти, является ко мне и требует ребеночка. А как я его верну? Лежит он на погосте, в поминальные списки внесен, не съела я его. Подали на меня в суд — нашли-де дома пятерых детей, привязанных к зыбке, к скамье, к столу, и кошку с ними, меня же не доискались. Что ж, я правду не таю — работала в поле, мне тоже на что-нибудь жить надо. Говорят, я их на тот свет отправляла…
Кума все говорила и говорила. Тильда слушала, прижавшись к Зофии; ее била мелкая дрожь. Ей казалось, что в этой камере собрались все тайны рожденных и нерожденных детей, — бедняжки плачут, зовут, но никто их не слышит. Матери думали лишь о том, чтобы обелить себя, а для загубленных ими душ у них не находилось даже доброго слова.
Как-то после обеда повитуха со сводней опять повздорили и начали плевать друг другу в лицо. Адель уже двинулась было к ним своими большими решительными шагами, чтоб их разнять, как вдруг в замочной скважине щелкнуло и в камеру вошла новенькая.
Это была красивая златокудрая стройная женщина, голубые глаза ее сверкали, как два алмаза. Хотя было видно, что в тюрьме она впервые, в ней не чувствовалось ни подавленности, ни робости; напротив — вид у нее был самонадеянный и дерзкий. Положив на пустую койку подушку, она быстрым взглядом смерила всю компанию; глаза ее остановились на сводне, которая тут же потупилась.
Златокудрая подошла к ней. Ноздри ее подрагивали, глаза полыхали огнем.
— Ах, и вы здесь? Не желаете узнавать?
Нина подняла голову и отступила на шаг. Она смешалась, в острых глазах ее уже не было обычной пронзительной силы.
— Откуда мне вас знать? — Она изобразила удивление. — Я вижу вас первый раз.
— Первый раз? Так вы и вправду забыли, кто я такая?
— Арестантка, как и я. Что еще я могу знать?
— Ну, если вы меня не узнаете, то я вас знаю, — сказала красавица, обнажив белые зубы. — Вы Нина Ференц, хозяйка бара и гостиницы. Видите, я не обозналась. Вы все еще не вспомнили меня?
— Много вас таких перевидела я на своем веку.
— Много? Вы хотите сказать: много Ирен, которых вы приютили у себя и… не буду вам напоминать, сами знаете… Нет, Ирена только одна, Ирена — это я! Теперь я вот такая, а тогда была молода и глупа, нуждалась в ласке и добром совете, а вы думали только о своем кармане. Фу, к какой свинье вы меня толкнули! Тогда я вас боялась, теперь не боюсь нисколечко, — рубила златокудрая. — Временами я вас искала… вы, вы, вы! — Стиснув кулаки, она двинулась на пятившуюся от нее сводню. — Вы, вы, вы! — И она ударила ее по лицу.
Нина защищалась обеими руками. Не решаясь закричать, она спряталась было за Тильду, но та отскочила и отошла к повитухе.
Все женщины, кроме Зофии и Катицы, с упоением следили за разыгрывающейся на их глазах сценой. Вступаться за Нину никто не собирался, все питали к ней глухую ненависть. Что же касается Гедвики, то она просто ликовала.
— Видишь, видишь, — говорила она Тильде, покатываясь со смеху. — Здорово ей досталось!
Тильда, не отвечая, отошла от нее и подсела к подмигнувшей ей Катице.
— Не вздумай с ней откровенничать, — тихо сказала Катица, показывая глазами на повитуху, — она злая.
— А я не откровенничаю. Здесь, в камере, только одна хорошая, да ты еще…
Катица посмотрела на нее с благодарностью.
— Плохо я сделала. Хотела как лучше, а вышло хуже… Жалею теперь. Об одном не жалею — что рассказала про ту вон… Забрала у меня все деньги, какие я заработала… и…
Слезы прервали ее исповедь.
— Она-то знала, что это не дозволено, — продолжала Катица, немного успокоившись. — Я не знала… была как помешанная…
Срывающимся от волнения голосом рассказывала Катица о своих злоключениях. Все это время — в больнице и в тюрьме у нее было тяжело на сердце; она жаждала излить кому-нибудь душу, но рядом никого не было. Теперь она ухватилась за Тильду, которая смотрела на нее с сочувствием. Катица исповедовалась, испытывая при этом такую боль, точно из нее силой вырывали признания.
— Мать у тебя есть? — спросила Тильда.
— Есть. Отговаривала она меня ехать в город, но мне словно кто уши глиной замазал. Соседка приехала из города погостить, она была вся в шелку и с перстнями на руках. Тогда и меня уж было не удержать. В городе я берегла каждый грош, чтоб потом показать матери: «Смотрите, сколько я заработала». А про себя мечтала поскорей замуж выйти. Дома жилось хорошо, хотя мы и работали от зари до зари, но мне хотелось устроить свою жизнь получше. И только я собралась ехать домой и сказать матери: «Вот деньги, вот жених, я выхожу замуж», как все рухнуло. Городские парни совсем не такие, как наши. Так красиво говорил, соловьем разливался, пока не получил свое… А теперь обо мне и думать забыл… Бог мой, как мать смотрела на меня, когда я лежала в больнице!
— Она видела тебя?
— Навестила, — продолжала Катица. — Не знаю, откуда она узнала, что я больна, духу не хватило спросить. Пришла уже к вечеру вся в пыли, с раннего утра была в дороге. Сидела и гладила мне руку и волосы. Спрашивала, чего мне хочется поесть, она купит, но я не могла говорить. Спрашивала, что со мной. Слова не шли с языка, но она вся дрожала, и я сказала, что меня бросил парень. Она ничего не поняла, утешала меня, как могла, но больше из меня никто бы не выудил… Она родила пятерых и все же более наивна, чем я… Если б она знала, где я сейчас… Узнает, конечно…
Катица залилась слезами. Тильда тоже всплакнула, прижимая ее голову к своей груди.
— Успокойся, Катица, — приговаривала Тильда, поглаживая ее по лицу, — не плачь, все будет хорошо…
И казалось ей, что утешает она не Катицу, а себя.
Арестантки между тем угомонились. Красавица сидела на своей койке и, презрительно усмехаясь, разглядывала товарок. Нина приводила в порядок взлохмаченные волосы и тихо молила Бога обрушить на Ирену кару небесную.
Адель заметила плачущих девушек.
— Но, но, но, — цыкнула она на них. — Это еще что? Слезы?
Тильда молча подняла голову. Катица повернулась к стене и стала утирать лицо.
— Поглядите-ка на них! Ревы какие! Гуляли с парнями и еще…
— Молчи! — крикнула Нада. — Оставьте их! Я бы рада поплакать, да не выходит.
Стало тихо. Зофия бросала на девушек быстрые взгляды — обе они сидели, со стыда уставившись в стенку.
В тот же вечер Катицу перевели в другую камеру. Вслед за тем явилась новая жилица — Адунка.
8
Тильда полагала, что Катица — тот самый человек, которому она в тяжелую минуту смогла бы открыть душу. Она тоже чувствовала потребность кому-то пожаловаться и исповедаться. Но только она собралась это сделать, как Катицу сменила Адунка, недалекая женщина, которая только о том и думала, у кого бы выпросить окурок. Тильда лишилась всякой поддержки. Повитухи и Адели, распущенных на язык, она сторонилась. Нада целыми днями предавалась мечтам о будущей жизни с человеком, которого она не знала и который сидел за воровство в камере под ней. Она напоминала ребенка, который мечтает о несбыточном, твердо веря, что оно, словно спелый плод, упадет ему прямо в руки. И Тильда попыталась сблизиться с Зофией.
— Что ты читаешь? — спросила она как-то.
— Роман.
— Я тоже читала романы. Но разве они не врут?
— Не все романы врут, — ответила Зофия. — В иных такая правда, что за сердце берет. Хочешь почитать?
Тильде очень хотелось почитать, хотя бы ради того, чтоб убить время, но неловко было отбирать у Зофии единственную книгу. Однако коммунистка сказала, что знает роман почти наизусть и она может спокойно взять его.
— «Мать», — вслух прочла Тильда название. — Наверное, интересный.
— Да. Его написал Горький. Знаешь, кто он?
Тильда никогда не слышала о Горьком. Читая книги, она никогда не обращала внимания на имя автора. Сейчас она жадно слушала Зофию, с восторгом рассказывавшую ей про Максима, выходца из народа, революционера, вдохновителя масс. Многое для Тильды оставалось неясным, но она поняла, что это необыкновенный человек, раз у Зофии так горят глаза.
Она читала роман медленно, постепенно переселяясь душой в новый мир. Временами она забывала, где находится. Отдельные страницы казались ей скучными, но другие словно бы сотней невидимых рук обнимали ее и хватали за сердце, исторгали из глаз слезы. Никогда еще не захватывало ее так печатное слово. Она переживала чужие горести и беды, забыв о собственном несчастье. Забитая мать, мужественная мать! Кое-что ей было неясно: ради чего эти люди так стремятся к чему-то непонятному, подвергают себя опасности, обрекают на муки и смерть? Что заключено в этом непонятном? Какой смысл терпеть и умирать ради других, ради тех, кто придет за ними? Она сама еще порой испытывала глухую неприязнь к ребенку, которого носила под сердцем.
Возвращая книгу, она поблагодарила Зофию так тихо, точно ее душили слезы.
— Неужели все это правда?
Зофия заглянула ей в самые глаза; в зрачках Тильды светилось что-то теплое, смешанное с упреком и скорбью.
— Правда. Жизнь часто еще тяжелее, чем это можно описать.
Девушки сблизились. Наконец-то Тильда могла прижаться к Зофии и тихим, проникновенным голосом раскрыть ей душу. Она рассказала обо всем, что с ней приключилось, даже о пожаре, и слова лились у нее как бы сами собой. Ей хотелось поплакать на груди у Зофии, хотелось, чтоб она тоже заплакала и стала гладить ее по голове.
Зофия слушала ее с сочувствием и пониманием, глаза ее увлажнились. Но того, что ожидала Тильда, не случилось, они не упали друг другу в объятия и не разрыдались. Но все же она хоть немного облегчила душу.
— Всему виной человеческое общество, — заговорила черноволосая девушка и, взяв Тильду за руку, стала перебирать ее пальцы, словно что-то подсчитывая. — Общество убивает лучших людей и толкает их на преступления. Преступников же судят и наказывают еще большие преступники, которых никто не притягивает к ответу. В будущем обществе этого не будет…
В словах Зофии сквозила глубокая ненависть к существующему строю, и все равно Тильда чувствовала, как тепло ее сердца через пальцы передается ей, расходясь по всему телу.
— А почему тебя посадили? — спросила она вдруг.
— Потому что я коммунистка.
Тильда уже слышала это слово и наивно считала, что означает оно что-то запретное, что коммунисты «хотят все разделить». Так она и сказала Зофии.
— Твоей нужды никто не тронет. — Зофия улыбнулась. — Однако ж есть и такие, кто не работает, но пользуется всеми земными благами, а другим не хватает самого необходимого.
Тильда задумалась. Ей казалось, что теперь она понимает, почему одна Зофия делилась с ней всем, что покупает: молоком, мясом, шоколадом.
— Понимаю, — сказала она. — Ты такая же, как эти в романе… А почему ты не ходишь к мессе?
— Потому что Бога нет.
Тильда изумилась. Хорошая, умная, а в Бога не верит. Сама она верила в Бога, хотя в свое время старалась о нем не думать. Ей все еще казалось, что он требует с нее ответа, правда не так строго. Жестокими страданиями день за днем искупала она свою вину. И хотя она сердцем чувствовала, что ее вере угрожает что-то смутное, неясное, слова Зофии так ее испугали, словно у нее отняли что-то дорогое.
— Как это нет Бога?
— Если он есть, почему же он допускает зло и неправду? Почему не карает мучителей и не помогает тем, кто в беде?
Тильда подумала о сводне, каждый день молившей Бога, чтобы гром поразил тех, кто «упек» ее в тюрьму, и об Адели, просившей ниспослать страшные язвы всем, кто лишил ее свободы. И о повитухе… и о Наде, бранившей Бога и взывавшей к нему, точно он был одновременно и слугой ее и властелином. Ей и раньше приходила в голову мысль, что ее Бог немного отличается от Бога этих женщин.
— А они верят в Бога? — спросила она Зофию.
— Верят, как верили в святого Миклаважа и в дьявола… — Зофия быстро отвернулась, глянула в окно и на минуту задумалась. — К чему говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь. Вот выйдешь на свободу, приходи ко мне, тогда и потолкуем.
— А когда это будет? — вздохнула Тильда.
— Не падай духом! Человек должен верить в лучшее.
Потом Тильда много размышляла об этом. Постепенно мысли ее приняли определенное направление. Исповедь Катицы, прочитанный роман, разговоры с Зофией пробудили в ее душе какие-то подспудные, дремавшие в ней чувства, которые росли и крепли, доставляя ей и боль и радость.
Арестанток регулярно водили в тюремную часовню. Два раза в неделю их посещали там две пышные дамы из какого-то благотворительного общества. Вместо еды и белья они приносили толстую книгу религиозного содержания и елейными голосами читали им о житии какой-то добродетельной девицы, которая счастливо почила в бозе.
Узницы по-разному слушали чтение — одни подсмеивались, другие, притворяясь заинтересованными, разглядывали шелковые платья дородных дам и значки на их могучей груди, свидетельствовавшие о твердости веры и политической благонадежности.
Тильда, всегда жавшаяся к Зофии, плохо понимала эти слащавые истории, читаемые на чужом языке. Обычно она рассматривала в это время висевшее на стене распятие, и слова, скользкие, точно рыба, не задерживались в ее сознании. Тучные дамы с преувеличенным жаром рисовали любовь и большую озабоченность властей о тех, кто исключен из человеческого общества, а под конец показывали изображение Марии Магдалины, которая, припав в великой скорби к ногам Иисуса, омывает их своими слезами.
— Исправьтесь и покайтесь, как покаялась Мария Магдалина, чтоб вернуться к жизни добрыми, честными женщинами.
Как-то раз Зофия, воспринимавшая эти беседы как пощечину, вскочила с места.
— Мне не в чем каяться и исправляться, — с ожесточением сказала она, — я не сделала ничего плохого.
Тильда, вздрогнув, отвела взгляд от Христа на стене. Ей стало страшно за Зофию. Присутствующие надзирательницы зашикали на нее, дамы оторопели от изумления.
— В чем-то вы все же провинились, — сказала старшая из дам. — Если бы вы ничего не сделали, вас не посадили бы в тюрьму.
— Я провинилась только тем, что не слушала вашей чепухи, не верила в нее, — сказала Зофия. — Вместо того чтоб таскать сюда свои животы, покажите-ка лучше Марию Магдалину своим мужьям и сыновьям, чтоб они не совращали бедных девушек.
Дамы точно окаменели, взгляды их забегали в поисках помощи. А у Зофии было легко и покойно на душе. Целую неделю готовилась она бросить им вызов, и вот сегодня ее прорвало. Женщины, забыв, где они находятся, громко расхохотались. Они терпеть не могли этих разодетых в шелка толстух. Наконец-то унылое чтение, которое еще ни одну из них не наставило на путь истинный, принесло им хоть небольшую радость. Зофии грозило наказание, и она приняла его спокойно, с презрением во взгляде…
Тильда вернулась в камеру, ощущая, что в душе ее назревает какой-то перелом. Таинственный полумрак капеллы довершил ту внутреннюю работу, которую возбудили в ней сильные впечатления последних дней. Как никогда до сих пор, она погрузилась в себя и стала строгим судьей своему прошлому.
Тильда решила во всем признаться судье, не утаив от него ни единой мелочи. От людей у нее больше не было тайн, оставалось расквитаться с собственной совестью. На смену страху пришло глубокое раскаяние. Перед глазами то и дело вставал ее ребенок, ее кровь и плоть. Рука, созданная для того, чтоб баюкать и нежить дитя, поднялась на него, стала его палачом. Вместо того чтоб осыпать его поцелуями, она испятнала его кровью. Не в теплой воде, в холодной ключевой искупала она малютку и окрестила в неосвященной воде, когда душа уже покинула его. Потом закопала в саду, как падаль, не украсила могилку цветами, не засветила лампадку. Один пес обнюхивал холмик, разгребал его и скулил, точно угадал своим собачьим нюхом, что здесь совершилось злодеяние. Она не брала свое дитя из колыбели, чтоб приласкать его и спеть ему песенку, в дождливую ночь выкрала его у земли и, точно безумная, бежала с этой ношей, которая была совсем легкой, а казалась ей тяжелее горы. Ее сына не согрел огонь любви, он обуглился в полыхающих языках пламени…
— Ой, ой, ой! — все в ней кричало, когда она, заглядывая в душу, видела там свою вину, ворошила озаренную страхом память… Иванчеку был бы теперь годик, он бы уже смеялся, топал ножками и, протягивая к ней ручонки, кричал: «Мама, мама!» И она взяла бы его на руки и прижала к груди… При этом видении невыразимое блаженство разлилось по ее телу.
Тильда так живо, так ярко представила себе это, словно все так и было на самом деле, словно она не убивала ребенка.
Она забыла, что сидит на тюремной койке и придумывает божественно прекрасные картины, и уже видела себя в собственном домике, согретом звонким детским смехом. Улыбка осветила ее бледное лицо, но в эту минуту злой дух шепнул ей на ухо: «А кто бы вас кормил?» Она гнала его: «А как же живут другие, такие же бедняки, как я?»
Образ ребенка мгновенно исчез, она почувствовала под собой жесткий тюфяк… О, если бы не страх перед позором, гневом сестры и яростью отца, перед людскими толками и пересудами! Словно исхлестанная плетьми, она испытывала жгучую боль при мысли, что все это давным-давно отошло бы в прошлое, что первая улыбка ребенка всех подкупила бы, что первое его слово смягчило бы окружающих. Люди быстро вспыхивают и так же быстро отходят, быстро загораются ненавистью и столь же быстро — любовью. Полгода страданий, горя и стыда избавили бы ее от многих лет мук и самобичевания. Но тогда она выбрала преступление, страх и ужас, тюремные стены и годы заточения…
— Боже мой, — заплакала она, — почему так случилось?
Тильда не слышала, как повитуха прошептала Адели: «И еще, несчастная, надеется на прощение…» Ей легче было б трижды родить, чем провести год в тюрьме. Десять лет позора легче, чем страшная скука и общество этих распутниц, мысли которых еще грубее их слов. Если б она могла представить себе хотя бы частицу своих теперешних страданий, она бы не сделала того, что потом так старалась скрыть. Рано или поздно все всплывает наружу, правды не скроешь!
Ребенок под сердцем шевельнулся. Она положила руки на живот, и мысли ее снова вернулись к ребенку. Он снова стоял у нее перед глазами, живой, она шла с ним по горькому пути позора и робко ждала его первой улыбки, первого слова. На сердце у нее стало так хорошо, что она чуть не запела.
Тильда уже любила будущего ребенка. Впервые во весь голос заговорило в ней материнское чувство, заглушая все остальное… Душа ее стонала под тяжестью этой огромной, неистовой любви.
Подавленная и счастливая, предаваясь раскаянию и блаженству, шептала она еще не рожденному ребенку нежные слова, которые благоухали розами и весной, пьянили и дурманили.
9
В муках шли для Тильды дни, недели и месяцы. Временами из-за душевной подавленности она ощущала и физическую боль. В иные минуты физические страдания вызывали боль душевную. Иногда она думала, что не перенесет всего этого.
Поначалу Тильда не хотела верить, что будет рожать в тюрьме — слишком уж неподходящим было это место. Сама мысль об этом представлялась ей глумлением над будущим ребенком. Но постепенно она смирилась со своей судьбой. Надежды на прощение больше не было. На двери камеры были вырезаны слова: «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate»[4]. Буквы от времени заросли грязью и почернели, так что их едва можно было прочесть. Где сейчас женщина, написавшая их в тоске одиночества? Арестантки объяснили Тильде их смысл, и она совсем пала духом.
Однако бывали у нее и минуты душевного покоя и тихого блаженства. С радостью ждала она появления ребенка, готовилась его любить. Образ его отца уже померк в ее памяти, лишь изредка видела она его сквозь пелену слез. Тильда мечтала о том, что ребенок будет ее счастьем и утехой, когда она наконец выйдет из этого обиталища горя и проклятий.
Между тем коммунистку куда-то перевели, и Тильда о ней больше не слышала. Уходя, она подарила ей роман. Нищенку с Кумой выпустили за недостатком улик. Пепа отбыла свой срок. Адунка продолжала безуспешно искать окурки. Нада вздыхала по своему возлюбленному — вору, которого уже не было в камере внизу, так что никто теперь не посылал ей поцелуев и сигарет.
На место выбывших посадили двух проституток, уличенных в воровстве, — толстуху Кармен с сонными глазами и тоненькую девушку по имени Мари. Адель побледнела, от нее остались кожа да кости. Повитуха со сводней по-прежнему враждовали, заполняя свою жизнь бесконечными сварами.
Приближался час родов. Тильда побледнела и подурнела, едва держалась на ногах, но душа ее не сдавалась. Никогда еще не переполняли ее такие бурные, такие удивительные мысли. Они ее радовали и пугали. Ее мучил голод. Питалась она хлебом и водой, обед не лез в горло. С восковым, как у покойника, лицом слонялась она по камере, пожирая все голодными глазами. Но это не она вопила от голода, вопил ребенок.
Временами муки голода становились нестерпимыми. Она останавливалась на своем нескончаемом пути от окна до двери, чтоб перевести дух, но вместо вздоха вырывался крик:
— О, как хочется есть, как хочется есть!
Толстая Кармен с добродушным, всегда заспанным лицом предложила ей как-то шоколад, пробормотав при этом что-то невнятное.
— Не надо, самой пригодится, — попыталась отказаться Тильда, но тут же взяла и не мешкая отправила в рот. Она вся тряслась, и сердце ее таяло от благодарности.
Порой ей безумно хотелось молока. Однажды, когда ей показалось, что ребенок, неутомимо ворочаясь, требует еды, страх за него достиг наивысшей точки, и она начала колотить в дверь.
— Дайте молока, хоть немного, — бросила она в глаза изумленной горбунье. — Для ребенка.
— Где ваш ребенок? Не ломайте дверь!
Дверь затворилась. Девушка села на койку и разрыдалась.
— Не бойся, не помрешь! — крикнула повитуха, не выносившая бабьих слез.
— Где я буду рожать?
— Где все! Увидишь где. Тебе бы быть одной, чтоб придушить младенца, а?
— Молчите! — не своим голосом крикнула Тильда. Впервые за все свое пребывание в тюрьме она вышла из себя. Кровь прихлынула к лицу. — Молчите! Молчите!
Повитуха умолкла, ошарашенная бурной вспышкой обычно спокойной, уравновешенной девушки. Все обитательницы камеры с негодованием смотрели на Гедвику.
Как-то раз к Тильде пришел отец. Она не ждала его, тем сильнее была ее радость. Наконец-то она увидит родное лицо. Словно сквозь дымку смотрела она на отца, — чуть подвыпивший, ссутуленный, сильно постаревший. Охваченная жалостью, Тильда мигом забыла все свои обиды и почувствовала себя перед ним виноватой; от внезапной горечи у нее подкосились ноги.
— Ну и порадовала ты меня, дочка! — словно бы пропел отец; видно было, что он изо всех сил старается быть строгим, подавляя в себе природную мягкость. — Обрадовала, нечего сказать… Не ждал я от тебя такого… Право слово, не ждал…
На глазах его выступили слезы. Тильда судорожно сжала губы, чтоб не разрыдаться. Сейчас она не смогла бы выговорить ни слова, даже если б дело шло о жизни и смерти. Да и отец тащился в такую даль не за тем, чтоб бранить ее. Он хотел еще что-то сказать, но слова застряли в горле. Даже «до свидания» не смог вымолвить; помахал ей на прощанье рукой.
— Добрый он, отец, — говорила Тильда, вернувшись в камеру. Она была растрогана до глубины души, но, боясь, как бы над ней не начали смеяться, сдерживала рыданья; она чувствовала, как слезы жгут ей сердце.
Этой же ночью все и началось…
Она лежала, а ее со всех сторон обступало прошлое, как бы сочившееся сквозь какое-то сито. Вновь и вновь переживала она все свои муки с детских лет и до последнего часа. Яркие картины вспыхивали, точно молнии в бурную летнюю ночь… Они угасли совсем, лишь когда ее скорчили родовые схватки. Стоны сквозь оконце над дверью вырвались в коридор и заполнили все вокруг.
Венера с кошкой на коленях дремала у стола, вздрагивая при каждом стоне. В промежутках опять наступала тишина, которую слегка тревожил приплывавший откуда-то вздох.
Душераздирающий крик потряс коридор. Надзирательница очнулась от дремы и недовольно поджала губы. Кошка поднялась и, словно готовясь к прыжку, выгнула спину.
— Персона, успокойся! Персона, Персона!
По камерам побежал громкий шепот женщин, разбуженных ночным криком. Они ворочались, одолеваемые горькими мыслями, болезненной тоской, и прислушивались к городскому шуму. У моря еще горели фонари, еще бурлила на улицах жизнь. Доносились автомобильные гудки, в гомоне улиц то пропадала, то снова всплывала над домами, уносясь ввысь к звездам, песня гармошки.
Роженица лежала навзничь, упираясь руками в железную койку, глаза ее в смертельном страхе уставились в потолок.
— Не ори! — ворчала Гедвика. — Все равно легче не станет.
Измученная болью, Тильда едва слышала слова повитухи. Она боялась умереть и потому, когда схватки ненадолго отпускали ее, горячо молила Бога помочь ей. Но вот схватки кончились. Только бы их больше не было! Она уже не думала ни о прошлом, ни о настоящем, измученная нестерпимой болью…
На рассвете она родила мальчика.
10
Стояла осень. До суда оставалось три дня.
На улице моросил дождь; серый пасмурный день тяжелым кошмаром ложился на душу. В женском отделении тюрьмы давно уже назревало недовольство. В груди у арестанток что-то кипело и бурлило, грозя в любую минуту выплеснуться наружу.
Женщины притихли, в глазах стояла тоска, навеянная хмурой серостью осенних дней. Они казались какими-то ленивыми и отяжелевшими, но за внешней безучастностью скрывалось внутреннее волнение и беспокойство. Целыми днями они только и делали, что сидели, уставясь в одну точку, ночью же метались на своих койках, преследуемые странными видениями. Слова, которые они изредка роняли, были лишены связи и смысла.
Нада день-деньской сидела на койке, поджав под себя ноги, и грызла ногти. Адель широким шагом мерила камеру, далеко обходя Адунку, которая все время что-то искала. Повитуха обменивалась со сводней свирепыми взглядами. Ирена лежала, закинув руки под голову, и напевала себе под нос старую блатную песню:
…он в тюрьме увидел свет, обмотай-ка ему шею…— Что ты там поешь? — вскипела Тильда, задетая словами песни.
Ирена подняла голову, но ничего не сказала. Тильда опять заметалась по камере, как зверь в клетке.
О суде, до которого оставалось каких-нибудь три дня, она почти не думала. Гораздо больше убивало ее то, что у нее отобрали ребенка… С тех пор как он родился, ей не было так одиноко и пусто в тюрьме. Она носила его по камере или, спеленав хорошенько, клала подле себя на койку. Ночью обвивала его рукой и боялась заснуть, чтоб не придавить ненароком. Если ребенок плакал, она брала его на руки и начинала укачивать.
К радости примешивалась грусть — нечем было кормить ребенка. Пол-литра разбавленного молока в день и дважды в неделю елейные речи тучных дам из благотворительного общества — и это все. Слишком мало. Тильда была похожа на сохнущее дерево, у которого только еще верхушка зеленеет листвой.
Она боялась за ребенка, бывшего рубежом в ее жизни. Сердце ее трепетало, ради него она готова была на любые муки. Ни в чем не повинное дитя обречено было делить с ней ее горькую судьбу, и от этого она любила его вдвойне.
С каждым днем Тильда все яснее понимала, что ей не сохранить ребенка, что скоро она его потеряет. Мальчик чах, словно убегая от этой жизни, где его могут до времени растлить, отравив его душу и тело.
— Не жилец он, — сказала повитуха.
Тильда промолчала, лишь бросила на нее хмурый взгляд.
Мальчик так ослаб, что уже не брал в рот соску. Тюремный лекарь, лечивший все болезни слабительным, осмотрел ребенка, лежавшего на руках матери.
— Поговорю со смотрителем, — сказал он.
В тот же день после обеда пришли за ребенком. Тильда, в несчетный раз уйдя в свои горькие думы, без сил сидела на постели. Мальчика нянчила Кармен, она носила его по камере, осыпая поцелуями.
Присутствие ребенка было для арестанток благодетельным. В камере восстановился мир, исчезли грубость и развязность, самые непотребные слова оставались непроизнесенными. Ребенок словно был зовом настоящей жизни, отсветом той прекрасной стихии материнства, которая незаметно облагораживала душу. Оказалось, что даже гулящие девицы не утратили еще дарованных им природой человеческих чувств и жажды чистой любви. То, что среди них была мать, любившая и нежившая свое дитя, делало их лучше и чище.
— Матильда Орешец, дайте ребенка!
— Что? — Тильда едва понимала, чего от нее хотят. — Ребенка? — Она встала и широко раскрыла глаза. Да, теперь она поняла. Подошла к Кармен, взяла мальчика и хотела выйти с ним в коридор.
— Куда? Дайте его мне! — сказала надзирательница и взяла младенца, а ее втолкнула назад в камеру.
Тильда обомлела — этого она никак не ожидала. Ни за какие блага не рассталась бы она с ребенком.
— Куда вы его уносите? — воскликнула она.
— В больницу. Вот куда! Тихо!
Тильде пришлось сдаться — никакие уговоры не помогли бы. «Может, спасут», — подумала она. У нее было такое чувство, будто она одна в пустыне. Она то неподвижно сидела на постели, то взволнованно ходила взад и вперед по камере.
Лишившись ребенка, женщины стали развязнее прежнего. Опять пошла в ход площадная брань. Гедвика с Ниной возобновили свои визгливые препирательства. Проститутки, истерически хохоча, развлекали друг друга грязными историями.
Тильде каждую ночь снилось, что у нее отбирают ребенка. Проснувшись в страхе, она упиралась диким взглядом в мрачные стены. Днем, когда арестанток выводили на часовую прогулку во двор, она спрашивала надзирательницу:
— Как мой сыночек?
Но никогда не получала вразумительного ответа.
Так тянулось вплоть до того дня, когда женщины вдруг почувствовали себя больными от тоски. Тильда взволнованно ходила по камере. Гнев и страдание, накопившиеся в ее душе, рвались наружу, и она с трудом сдерживала себя. Ей казалось, что земля разверзается у нее под ногами, мучило предчувствие, что она никогда больше не увидит сына. Обычно молчаливая, в этот день Тильда не в силах была скрыть своей тревоги.
— Что с ребенком? — вскрикивала она то и дело. — Я хочу его видеть!
Женщины молчали. Одна Ирена вполголоса напевала. У Нады были такие глаза, будто она вот-вот разразится криком.
— А если он умер? Почему они не говорят мне? — спрашивала Тильда, останавливаясь у двери.
Кто ответит ей? Снаружи был мрачный день, слышался погребальный звон колокола. Лицо Тильды исказило рыдание.
— Я хочу видеть ребенка! — крикнула она, топнув ногой. — Если он умер, то пусть мне скажут!
— Конечно, конечно, — поддержала Нада, уставясь на Тильду. — Наверняка он умер, а от тебя скрывают.
Нада сказала, сама в это не веря, движимая ненавистью ко всем, кто на свободе, кто может сам распоряжаться своей жизнью и от кого можно ждать любой низости. Тильда тоже не верила в смерть ребенка, но, услышав об этом из чужих уст, чуть не упала в обморок. Несколько секунд она стояла как вкопанная, потом рванулась, подскочила к двери и так остервенело забарабанила по ней, что по всему коридору пошел гул.
— Отдайте мне ребенка! — кричала она. — Отдайте ребенка!
Случись это немного раньше, арестантки в страхе перед карцером окружили бы Тильду и умоляли б ее образумиться. Но в этот день никто не шелохнулся. Напротив, давая выход своему гневу, горю и отчаянию, несчастная мать словно снимала тяжесть и с их души и своими криками доставляла им наслаждение.
— Отдайте мне ребенка, отдайте ребенка! — охрипшим голосом кричала Тильда, колотя по двери.
Женщины с хмурыми лицами ждали, что будет дальше.
В оконце показались испуганные глаза надзирательницы.
— Дайте мне ребенка, дайте ребенка, дайте ребенка…
Уже нельзя было разобрать слов — они слились в протяжный вой. Тильда требовала ребенка не только потому, что хотела получить назад то, что ей принадлежало, это был плач по жизни, по человеческим правам, яростный протест против всего, что мучило ее в тюрьме с первого дня.
Надзирательница убежала. Тильда бросилась на койку и протяжно завыла.
— Замолчи! — крикнула Нада. — Не переношу воя! Не то и я сейчас закричу…
И вправду, грудь ее заходила ходуном, словно под напором скопившейся в ней тоски. Тильда не успокоилась.
— Хватит! — воскликнула Адель. — Тихо!
Дверь камеры отворилась, на пороге стоял смотритель, за ним — две надзирательницы. Тильда встала. Она притихла, только в груди еще что-то клокотало. Широко открытыми, покрасневшими от слез глазами смотрела она на раскормленное лицо человека, перед которым трепетала вся тюрьма.
— Что случилось? Чего вам надо?
Его резкий металлический голос, словно отскакивая от стен, бил по нервам арестанток, — дрожа и тяжело дыша, они готовы были всей толпой ринуться к двери.
— Отдайте мне ребенка! — взмолилась Тильда. — Почему у меня забрали ребенка?
— Ребенка? Пять дней карцера!
Именно этого и ждали арестантки; случись что-нибудь другое, они б молчали, покорно опустив головы. Слова смотрителя были каплей, переполнившей чашу терпения, и долго сдерживаемые мучения хлынули через край. Тильда опять просила вернуть ей ребенка, но ее мольбы перекрыл пронзительный крик Нады: «Отпустите нас! Убирайтесь отсюда, звери, сволочи! Вон, вон!» И тут женщины, словно по команде, подхватили ее вопль, замахали руками, закричали, заголосили. Это была мгновенная вспышка той дикой ярости, которая редко, но тем страшнее охватывала заключенных. Все, что так долго сдерживалось, вырывается наружу; арестантки беснуются и кричат, искусывают себя до крови и бьют все, что попадается под руку. Затаенная тоска по свободе вспыхивает, как порох.
Истерические вопли из камеры «благородных» разнеслись по всему этажу. В других камерах, конечно, не знали, в чем дело, но в душах всех узниц жило, затаившись, то же жуткое чувство, которое долетевший до них безумный крик точно спустил с привязи.
Дикие вопли неслись из всех камер, гремели двери, кувшины со звоном летели на пол. Бушевали и два первых этажа, где содержались мужчины. Вся тюрьма сотрясалась от ударов. Слов разобрать было нельзя, слов больше не было…
Смотритель и надзирательницы в испуге отступили. Опасно было приближаться к людям, дико протестовавшим против насилия над человеческой свободой.
Постепенно крик стих, слышен был протяжный плач одной арестантки, но вот и она смолкла. Наступила полная тишина, как бывает после грозы. Все ждали чего-то, снова отдавшись своей судьбе.
Тильда, сжавшись в комок, сидела на койке, отупелыми глазами глядя в пространство.
Дверь опасливо приоткрылась, надзирательница заглянула в тишину.
— Матильда Орешец! — крикнула она. — Ступайте за мной!
Тильда думала, что ее поведут в канцелярию или в карцер, и все же с готовностью последовала за надзирательницей. К ее удивлению, горбунья направилась к больничной палате. Тупой страх перед наказанием сменился тоскливым предчувствием. Силы вдруг покинули ее, и она с трудом держалась на ногах.
Тильда вошла в палату и жадным взглядом окинула койки. На одной умирала чахоточная. На койке у окна лежал ребенок. Возле него стоял монах, по воскресеньям отправлявший службу в тюремной часовне. Увидев Тильду, он изобразил на лице сочувствие и двинулся ей навстречу.
— Я просил позвать вас, чтоб вы могли еще раз посмотреть на него.
До Тильды не сразу дошли его слова. При первом взгляде на ребенка она решила, что он спит, и успокоилась. Но, подойдя к койке, она все поняла. В муках выношенные мечты, надежды на лучшую жизнь — все рассыпалось в прах. Душа ее лишилась единственной опоры, ее не ждало больше ничего, кроме страшных часов без сна, без утешительных дум. Тильда скрестила на груди руки, тяжкое обвинение сорвалось с ее губ.
— Вы убили моего сыночка!
— На то была Божья воля, — прогундосил монах в рыжую бороду.
Тильда склонилась над мертвым ребенком. Терзавшие ее весь день предчувствия, истерический крик вконец истощили ее душу и тело. У нее уже не осталось слез, и все же она плакала. Случилось то страшное, чего она боялась больше всего на свете, и этого уже никогда не исправить.
Тильда выпрямилась и долгим взглядом посмотрела на монаха и надзирательницу. И вдруг ей показалось, что перед ней стоят все, кто мучил ее, как на дыбе, и ей захотелось бросить им в лицо горькие слова, их обвинить в убийстве ребенка, за которого она цеплялась всей душой, как утопающий за соломинку. Она хотела спросить их, почему ее послали в эту грязь, а не к цветам, если они и впрямь желали ей добра и исправления, — ведь в душе своей она наказала себя во сто крат горше, чем способны ее наказать все те, кто вершит суд над людьми… Она молчала, хотя в ней бушевала буря. Тело ее было измучено до предела; внезапно в окне начал меркнуть серый день, и на нее надвинулся мрак…
Она потеряла сознание.
Через три дня Тильда предстала перед судом присяжных. На вопросы она отвечала рассеянно, словно все это ее нисколько не касалось. О свободе она не думала. Она пережила ужас насильственного зачатия, родовые муки, страшные мгновенья убийства и поджога, горечь обманутой любви, испытала сладость материнства и горе утраты. Что может быть хуже этого? Чего стоят после всего этого четыре года тюрьмы?
Когда ей объявили приговор, она улыбнулась так странно, точно душа ее жила на свете уже сто лет.
Перевод И. Макаровской.
Бедняк Михале
Весной, в мае, когда все холмы уже покрылись зеленью, бедняк Михале схоронил свою жену Малию.
Как неожиданно она свалилась, так неожиданно и умерла. Ее смерть, вернее, уже первый час болезни и были началом несчастий.
Немногим больше года назад — на следующий день после Юрьева дня, когда в городке бывает ярмарка, — Михале поднялся чуть свет, еще солнце не выглянуло из-за горы.
— Слушай-ка, — сказала ему жена, когда он вышел в сени, — ступай, отведи корову на ярмарку!
И пристально взглянула на него своими большими карими глазами. Казалось, она хотела прибавить еще что-то важное и горестное, но в последний момент раздумала.
Низкорослый, невидный, в одежде не по росту, похожий на паренька, стоял он перед ней. Его обычно озорные глаза музыканта на мгновение посерьезнели. Он не скрывал своего удивления.
— Но почему я, а не ты?
— Что-то плохо мне.
Малия в самом деле была немного бледна, никогда глаза ее не были такими затуманенными и растерянными. Она отвернулась к очагу, а Михале перешагнул порог и завернул за дом.
Думать всегда было для него мукой, вот и теперь он нахмурил лоб. Продавать корову весной, когда она день ото дня дает все больше молока? Да, в последние годы им трудно жилось, все труднее и труднее. Неужто дела совсем плохи? Малия уже два раза брала взаймы много денег, он никогда не спрашивал у кого. Все заботы по хозяйству он переложил на ее плечи, но слушался ее беспрекословно. И что бы она ни делала, со всем был согласен. Так почему же она с вечера не сказала ему о корове? Может, ей еще не было так плохо. Небось целую ночь думала, но другого выхода не нашла.
Пока жена стряпала, он переоделся. После завтрака пошел в коровник, привязал корове на рога веревку и вывел ее на пригорок у дороги.
Малия вынесла святой воды, перекрестившись, покропила ею и корову и мужа.
Михале был уже довольно далеко, когда она крикнула ему вслед:
— Не уступай! Не отдавай за бесценок!
На ярмарку он попал поздно, половина народа уже собиралась разойтись по корчмам. Покупатели окружили корову, разглядывали ее, ощупывали, выискивали недостатки, стараясь сбить цену: «Сколько он просит за это пугало?» Михале отмалчивался, улыбка дрожала на его впалых щеках. Покупатели сразу поняли, что имеют дело с человеком нерешительным, безвольным, он, поди, ни продать ни купить не умеет, а кричать и торговаться ему и вовсе противно. На него налетели перекупщики, дергали его за руки, орали, будто дело шло о спасении души. У бедняги Михале отлегло от сердца, когда наконец ударили по рукам.
— Мало запросил, — сказал ему сосед, проходя мимо. — Скотинка-то совсем неплохая.
Михале пожал плечами.
Пошли в корчму. Под конец он остался один у залитого вином стола. Покупатель и маклак увели корову, а у него остались деньги, чувство удовлетворения и легкое опьянение. Он заказал еще вина. Выпил залпом, словно весь день его терзала неутолимая жажда. Вино ударило в голову, но сознание еще не совсем замутило. Тихий голос сердца шептал ему, что пора вставать и идти домой; но вскоре этот шепот заглушил другой голос, постепенно, вот уже несколько дней пробуждавшийся в нем. Он продолжал сидеть и пить.
Михале не был пьяницей, что просиживает в корчме каждое воскресенье, а нередко и рабочий день. После тяжелой работы до пота он любил пропустить стаканчик-другой ракии, и только. До войны его почти никогда и не видели пьяным. Но после ранения, — волосы закрывали страшный шрам, — в нем наступила перемена. Иной раз месяцами он не притрагивался к спиртному — противно было. Но три или четыре раза в год его охватывало смертельное желание выпить. Он беспокойно бродил, не находя себе места, мелкие капли пота выступали на лбу, кровь бурлила. Шел к соседям, просил выплатить заработанные деньги, потом пил три-четыре дня, иногда меньше, иногда больше, пока не спускал все до последней лиры.
Как раз на этой неделе он опять попал в цепкие лапы своей страсти, которая лишала его сна. Где взять денег на выпивку? Заработки нынешней весной были плохие, если собрать все, едва хватит промочить горло. У жены он никогда не просил денег. Из того, что она выручала за молоко, а временами за яйца или куренка, она порою давала ему лиру-другую на курево. Когда сегодня утром она доверила ему корову, он сначала обрадовался, а потом вдруг испугался, словно предчувствуя приближение несчастья. Деньги, лежавшие у него в кошельке, ему не принадлежали. Это он прекрасно сознавал. Но вино, глоток за глотком, усыпляло сознание. Нет, обедать он не будет, а деньги, что пришлось бы отдать за еду, лучше пропьет. Малия и слова ему за это не скажет. Умная она женщина… Он заказал четвертый шкалик.
Открывай-ка, девушка, светличку, Знаешь ты давно мою привычку…Он поднял стакан, по корчме разнеслась пьяная песня. Сознание его погасло, как масляный светильник на ветру, глаза выискивали пьяные физиономии. Он подзывал выпивох и угощал их. Спотыкаясь, переходил из корчмы в корчму, а за ним целая вереница любителей выпить на даровщинку. По натуре он был неразговорчивым, но сейчас, как вода из родника, рвались из него шутовские, глупые слова, вызывая общий смех. Утопая в пьяном блаженстве, он забыл о времени, о прошлом, обо всем…
Через неделю, может, днем раньше или позже, он неожиданно проснулся ночью. Лежал он в широкой крестьянской телеге посреди просторного двора какой-то корчмы. Голова гудит, в желудке тяжесть. На душе прескверно, но голова вдруг прояснилась. И как всегда после таких пробуждений его охватило дикое отвращение к себе, стыд, который жег и терзал его до безумия, когда выползали мысли о самоубийстве.
К этим чувствам прибавлялось сознание вины. Среди дороги при лунном свете он обшарил все карманы и нашел только мелочь. Может, его обокрали? Неужто он прокутил все деньги? Он затопал ногами и громко обругал Малию. Чего ради, разрази ее гром, она доверила ему корову? Ведь знала же! Что бы ей поискать его по корчмам, раз он не явился домой? Так ей и надо! Но это не утешило его.
Обычно, возвращаясь домой после запоя, Михале не показывался в хибаре. Ему было стыдно перед женой и соседями, да и смелости недоставало. Хватал топор или какой другой инструмент и без промедления, без понуканий и приказаний жены отправлялся искать работу. Копал и колол до седьмого пота, ожесточенно. Так он истязал себя неделю, а то и дольше, никому не говоря ни слова, пока не выветривалось чувство отвращения и стыда.
В это утро он бесшумно подкрался к своей хибарке. Разгорался день, солнце уже поднялось над горой, осветив сквозь крону деревьев соломенную крышу. Язычок у Малии был острый, но в таких случаях она лишь хмурилась. И все же сегодня Михале боялся ее. Она промолчит, втянет голову в плечи, ни слова не скажет. Хоть бы огрела его поленом! Ему бы только легче стало. Он удивился: дверь открыта, дымка не видать, а Малии нигде нет. Он заглянул в сени, увидел холодный очаг, но войти не посмел. Поднял кирку, лежавшую у стены, и прошмыгнул в калитку.
Скинул куртку, бросил ее на куст и начал копать. Солнце поднялось высоко, светило ему прямо в лицо, кирка звенела, ударяясь о камни, крупные капли пота выступили на лбу. Не отдыхая, не глядя по сторонам, ударами кирки убивал он жгучее чувство отвращения, стыда и вины. Он проголодался, пустой желудок ныл, колокол давно пробил полдень, но жена все не окликала его. С трудом переводя дух, он наконец оперся на кирку и поглядел в сторону хибарки. Над холмом темнела крыша, над ее гребнем ни дымка. Рассердилась Малия, не хочет и видеть его…
Он застал ее в постели. Жена лежала под одеялом иссиня-бледная, с темными кругами под глазами. Синеватые, потрескавшиеся от жара губы шевелились, словно ее терзала жажда… Михале пронзило странное, необычное чувство, какого он не испытывал ни разу в жизни, ноги ослабели.
— Что с тобой? — заикаясь, хрипло проговорил он.
— Видишь же, — с трудом выдавила она сквозь зубы. — Больна я, встать не могу…
Она глядела на него холодно, с упреком. В глазах ее сквозило глубокое, ледяное презрение. И все же она не сказала ему ни слова. Неужто чувствовала себя такой обессиленной, обреченной на смерть, что не считала это нужным?
— Какого черта! — затопал он ногами и швырнул шляпу на лавку. — Как это случилось? Как? Чего же ты меня раньше не позвала?
Она не ответила… Растерянно стоял он перед ней, смотрел, и точно впервые видел ее. И только теперь заметил, как она переменилась с весны, побледнела, щеки ввалились. А уж до чего крепкая была, румяная, живая! Словно бы за все годы, как они повенчались, она ничуть и не постарела. Те же щеки, те же глаза, те же волосы, какие были у нее в девушках, когда он каждую ночь ходил, посвистывая, под ее окнами. Такой же маленький, как и сейчас, с козлиной бородкой на зеленой шляпе и с ружьем за плечами. Дочь справного крестьянина, молодая и красивая, она могла выбрать любого парня, но увлеклась охотником, не думая о том, что он бедняк. Любила его. Любила и потом, когда у него уже не было зеленой шляпы и ружья и когда он стал просто бедняком, человеком без воли и энергии, который с легкой душой свалил на нее все заботы. В глубине души ее грызло разочарование, с годами копилась горечь, она сделалась раздражительной. Но Михале, такая уж у него, музыканта, была натура, все обращал в шутку и тем разоружал ее. Нет, за все эти годы он ни разу не прикрикнул на нее. И если вначале у него хватало тепла и внимания, то со временем он привык глядеть на жену как на вещь, без которой он не смог бы жить. Казалось совершенно естественным ночью ощущать ее рядом, а придет время обеда — она ставит на стол миску. Тяжело, невыносимо было и подумать, что когда-нибудь может быть иначе.
И теперь, стоя перед ней, прикованной к постели, он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Сознание вины, отвращение и стыд — все это отступило назад. К жене он испытывал лишь немного сочувствия, но тем большая жалость пробудилась к себе. В душе родился страх перед будущим, страх, которого он раньше не ведал. Беспомощно, не зная, что предпринять, он стоял перед ней, как перед машиной, в которой что-то испортилось, и втайне горестно упрекал ее.
— Свари мне поесть! — попросила она. — Два дня во рту ничего горячего не было. Постой! Боже мой, да ведь ты не сумеешь. Позови старую Минцу! Надо написать Ангелце в город, пусть приедет.
Ангелца, их единственная дочь, вот уже несколько лет как уехала из дому. На письмо она ответила, что приехать не сможет. Наверное, все не так уж опасно. А врача звали? Если деньги понадобятся, она пришлет немного. Сейчас она у хороших людей, жаль бросать такую службу.
Малии становилось то лучше, то хуже, но подняться она не могла. Позвали врача, который два раза в неделю проезжал на дрожках через долину, хоть и были уверены, что ей от этого один вред. Да к тому же и дорого обходится — целая куча денег. Больная пила отвары из трав, время от времени приходили знахарки. Исхудала она до неузнаваемости, но дух неумолимо светился в глубине зрачков. Ночи напролет, пока Михале храпел на печи, Малия проводила в думах. Каждое утро она тихим голосом наставляла его, что надо сделать. Она видела в нем избалованного, ленивого ребенка, которого силой приходится заставлять взяться за серп или мотыгу.
А он еще никогда не трудился так рьяно, как в это время. Словно хотел заглушить терзавшее душу сознание вины. Сено с луга он продал. Зачем оно, коли нет больше коровы? Как сумел, обработал поле; Минца ему помогала. В погреб засыпал репу, картошку и капусту, но денег взять было неоткуда, нигде ни гроша не заработал.
Однажды, в конце лета, Михале в полном отчаянии свалился на лавку и провел ладонью по лбу.
— Позарез нужно хоть немного денег.
Больная долго смотрела на него. Да, это она и сама знала. Ее исхудавшее, побледневшее лицо прорезали резкие морщины.
— Я знаю, где тебе могли бы дать, — слабым голосом произнесла она. — Пологар не откажет. Два раза мне давал… Жалко мне тебя.
Михале отвел взгляд, ему было неприятно. Она глядела на него с той же нежной, преданной любовью, как в первые дни после венчания. В голосе ее звучала такая забота, будто он был беспомощным ребенком. Постепенно вспомнились прежние дни, и снова в нем заговорила совесть. Да, теперь ему понятно, где она два раза доставала деньги. Может, она хотела избавиться от долга, вот и надумала продать корову. Он снова потер лоб, словно хотел стряхнуть что-то неприятное. «И чего это она, черт побери, — сердито подумал он про себя, — меня жалеет? Вот еще…»
Пологар, ни слова не сказав, взялся за кошелек. Широкий, словно ствол дерева, резкий и самоуверенный, он стоял перед Михале и глядел поверх его головы… Пусть Михале и впредь приходит, если нужда случится; в беде он охотно поможет. Михале удивился. Это ведь человек, который и матери Божьей кусочка хлеба не подаст! Горько сделалось у него на душе, и всю дорогу домой в голове туман стоял… Он добрался до своей хибарки, высыпал деньги на стол и забыл обо всем.
С тех пор он постоянно ходил к Пологару, будто там лежало неисчерпаемое сокровище, о котором, кроме него, никто не знает. В середине зимы его снова потянуло к вину; он пошел в корчму и три дня пил. Малия ничего не сказала, только взглядом мягко упрекнула его. Жизнь Михале, несмотря на болезнь жены, текла гладко, зима убаюкивала его и вернула прежнюю беззаботность. Но однажды, в мае, когда в кладовке не осталось ни крошки муки, он приплелся домой, совсем пав духом. Свалился на лавку, руки, как плети, повисли между колен. Пологар не одолжил ни лиры. Дал, говорит, уже и так гораздо больше, чем стоит все твое добро. И выгнал Михале.
Малия в тот день была особенно плоха, с трудом повернула она голову и долго смотрела на него больными измученными глазами, а он, понурившись, сидел на лавке.
— Мне скоро ничего не будет нужно, — сказала она тихо. — Тебе… тебе самому придется заботиться о себе… как сможешь и сумеешь…
Михале вздрогнул. Мысль, давно и глухо зревшая в его душе, явилась вдруг как совершенно осознанная угроза.
— Не заболей ты, ничего этого не было бы! — затопал он ногами.
Больная широко раскрыла глаза. От удивления у нее перехватило дыхание, грудь, как у мертвой, мирно покоилась под одеялом. Что он сказал? Боже мой, что он только говорит! Чего он еще хочет? Тихое презрение, многие годы оседавшее на дне души и подавленное любовью, сейчас отвратительной пеной всплыло на поверхность. Прежде она никогда не упрекала его, хотя он часто причинял ей боль, но в эту минуту в ней сразу умерли все добрые чувства к нему, вся нежность. Она собрала последние силы, в груди у нее заклокотало, она снова начала дышать.
— Михале! — ее хриплый голос прерывался. — Болезнью меня попрекаешь, точно я в ней виновата… Это мне надо тебя упрекать… Да, мне… Ты не мужчина, ты тряпка! Ты никогда не был мужчиной, как другие…
Михале встал. Изумленно и растерянно смотрел он на жену, а она вдруг неожиданно смолкла, словно исчерпала слова и силы. И закрыла глаза, казалось, ничего больше не хотела ни видеть, ни слышать, только тяжело дышала. Не ожидал он таких слов. Все, что угодно, только не это, а тем более от Малии. Теперь, когда он и сам ощущал свою ущербность, слова жены поразили его в самое сердце. От тоски он не мог ни двинуться, ни слова сказать.
Вскоре, так и не проронив ни слова, Михале вышел из хибарки. Взял топор и побрел в лес за домом. Обида сменилась ненавистью к жене и усиливалась с каждым мгновением. Он так яростно махал топором, словно собирался сокрушить все вокруг. Щепки летели ему в лицо, застревали в волосах.
Под вечер с криком прибежала Минца:
— Михале! Скорее домой! Жена умирает!
— Ну и пусть себе сдохнет!
Ничто не шевельнулось в нем, когда он произносил самые скверные слова в своей жизни. Не скоро начал он оттаивать. Совесть проснулась лишь тогда, когда воображение нарисовало картину смерти.
Малию он застал при последнем издыхании. Она лежала на спине, глядя в потолок, предсмертные капли пота орошали ее лоб. Минца совала ей в руку свечу, плакала и громко молилась. Его тронула эта сцена, он проглотил обиду, грудь залила волна горечи и сочувствия.
— Малия!
Больная, судя по всему, уже не слышала его. Или не хотела слышать. Недвижно глядела в потолок. Так и умерла.
Следующий день был погожий, солнечный, настоящий майский день, и поэтому на похороны пришло очень мало народу. Михале, совершенно потерянный, стоял у гроба в кучке родственников и старух. Худые щеки его еще сильнее ввалились, рыжеватые усы обвисли. В глазах было больше испуга, чем тоски. «Погоди, Малия, увидишь теперь, какой я мужчина», — вертелось у него в голове. Он и сам верил, что отныне будет другим человеком, пусть только окончатся эти похороны.
После убогих похорон он вместе с Ангелцей, приехавшей из города, вернулся в свою хибарку таким же, как и раньше. Робко присел на лавку, втянул голову в плечи. И тут только осознал свое одиночество, в глазах его засветилась истинная, теплая печаль.
Углубившись в мысли, исподлобья и сурово смотрел он на барышню, семенившую в светлых туфельках по неровному полу. Раньше он лишь изредка вспоминал о ней, о том времени, когда она, крохотная, быстрая, как мышонок, бегала около хибары. Девочка его боялась, всегда испуганно глядела на него своими большими глазами. Вернувшись домой после войны, он был поражен. Ангелца за четыре года сделалась девушкой. Уехала в город, писала матери; иногда он случайно узнавал, как она живет. Она пополнела. В городской одежде казалась ему чужой, он терялся перед ней. Дочь напоминала ему Малию, то же лицо, те же волосы, те же глаза. И почудилось, будто что-то забытое явилось издалека, чтобы ласково коснуться его души.
— Теперь тебе придется остаться дома, — сказал он, вздохнув. — По-другому не выходит.
Ангелца повернулась на каблучке и смерила его взглядом с ног до головы.
— Это вы всерьез? — удивилась она. — Чтоб я вернулась в эту хибарку? — И отвернулась. — Больно надо опять мешки таскать!
Покачиваясь, отошла в угол и стала рассматривать картинки на стене. Михале следил за ней глазами. Затаенная мысль, что дочь могла бы заменить ему Малию, навсегда исчезла. Ангелца только внешне походила на мать, а по характеру — вся в него. Лишь сейчас он понял это. Ей нет дела до земли, ее тянет к легкой обеспеченной жизни. Это ему нравилось, но, сообразив, сколько забот ляжет на него, он схватился за голову.
— Да мне со всем не справиться, — заохал он.
— Тогда продайте! Продайте этот нищенский клочок земли!
— А что потом? Чем жить?
Ангелца смахнула пыль с лавки и села. Взглянула на отца. Каким он казался ей беспомощным и неразумным, словно ребенок, заблудившийся в лесу!
— Я выйду замуж, — сказала она. — Думаю, что скоро выйду. Тогда возьму вас к себе. Как только немного устроюсь, напишу… Наколете мне иной раз дровишек, плохо вам не будет…
Михале уставился на дочь. Правда это, или она лжет из сочувствия? Он охотнее верил хорошему, чем плохому. И не ломал голову, за кого она выйдет; перед глазами у него стоял образ барыни, настолько богатой, что она и ему сможет под старость уделить кусок хлеба. Он всегда любил мечтать. Тихая, ясная улыбка скользнула по его лицу.
— Ну, раз так… — пробормотал он.
Дочь уехала. Михале в одиночестве стоял перед домом и с тоской в глазах смотрел на заброшенную землю. Она принадлежала когда-то Гричару. Поссорившись с сыном, старый Гричар поставил хибару. Сени, комната, погреб и хлев. Отрезал себе кусок леса, кусок луга и пашни. Все это он обнес оградой, и получилась маленькая усадьба. Участок от силы мог прокормить двоих, если удавалось еще где-нибудь подработать. Гричар двадцать лет прожил в этом уголке, а потом умер. Молодой Гричар, которому вечно не хватало денег, продал и домик и землю отцу Михале. Для него это было тем проще, что его не мучили угрызения совести, ибо через столько лет ему странной казалась даже мысль, что эта земля его.
Дай себе Михале труд поразмыслить, он бы понял, что хибарка уже не принадлежит ему. Пологар ссудами крепко привязал его к себе. Когда Михале не мог раздобыть денег на похороны, он молил соседа как Бога. Ладно, он поможет ему в последний раз, только пусть Михале перепишет землю на него. Михале обещал бы ему и душу, лишь бы деньги получить.
Правда, он не слишком упрекал себя за эту продажу. Не было у него такой тесной связи с землей, как у его отца или Малии. Разве что глухой страх перед будущим заставлял его в душе противиться. И почему именно Пологару? Не такими уж они были добрыми соседями, еще с юношеских лет остались между ними счеты. Лучше бы землю купил Гричар, она ведь раньше ихняя была. Михале предлагал, но Гричар отговаривался, нет, мол, денег. Боялся, что Пологар будет недоволен. Слух уже прошел по селу.
Михале старался не встречаться с Пологаром. Пусть сам явится. Но Пологар не приходил, ему было не к спеху.
Михале пришлось в последние дни довольствоваться старой картошкой и квашеной капустой, и он бродил по селу пьяный от голода. К тому же подступал очередной запой. Дунет чуть сильнее ветер — ему чудится запах вина. Он долго противился искушению, но сил не хватило.
Пологара он застал в саду за косьбой. Михале плелся за ним, слова застревали у него в горле.
— Давай поговорим, — с трудом выдавил он наконец из себя, — знаешь, насчет земли…
Пологар точил косу и глядел в сторону дома.
— Ладно. Когда скажу, сходишь в город и перепишешь на мое имя.
— Нет, так не пойдет, — испугался Михале. — Дом не отдам.
— О доме я не поминал, да и о пустоши возле него тоже. Это ты себе оставь. Но вырубка моя.
Михале мрачно смотрел, как он размахивает косой. Торговаться ему всегда было неловко и противно, а сейчас тем более. Он бы тут же повернулся и ушел, да неудержимо тянет в корчму.
— И вырубку не отдам. Что же мне тогда останется?
— Да в пустоши земли чуть не в три раза больше. Вот только придется ее очистить.
Михале прислонился к стволу старой груши, ледяной пот выступил у него на лбу. Не до вырубки ему было… Он готов был отказаться и от пустоши… К черту…
— Ты мне все-таки подкинь немножко деньжат.
— Ни гроша, ни полушки. Я и так тебе слишком много дал. Можем оценщиков позвать, если мне не веришь.
Михале молча повернулся и пошел по мягкой траве. Он решил уйти и больше не показываться Пологару на глаза.
— Михале, — услышал он голос за своей спиной. — Я все равно через суд перепишу землю на себя. За долги. А ты еще и проценты заплатишь. Не забудь об этом.
Михале оглянулся и пошатнулся, как подрубленное дерево. Не мог сразу слов найти, лицо у него исказилось.
— Черт побери, Блаже, будь человеком! — вспыхнул он. — Ты дал, кто же отрицает? Но мне-то какая польза была от этого? Никакой! Почти все забрала болезнь жены и похороны.
Пологар пообещал еще сотню; ударили по рукам.
На другой день Михале, уже захмелев, сидел в корчме. Хриплый голос его с дикой силой вырывался из горла и гудел под низким потолком.
Милашка среди моря Хотела быть моей…— Негоже так шуметь и петь, — сказала ему корчмарка. — Малия еще в гробу не остыла.
Михале замолк и таращил глаза, мучительно выискивая что-то в хмельном мозгу.
— Какое тебе дело до моей жены? — разозлился он. — Ты… оставь Малию в покое. Она была хорошая, — сказал он тихим голосом, проникнутым пьяной грустью. — Хорошая, хоть и назвала меня… — Он запнулся и махнул рукой. — Я бы показал, что я мужчина, показал бы, не будь на мне долга… Эх, мне бы музыкантом быть, да отец мою гармонику на колоде разрубил… А егерем я все-таки был, — засмеялся он и тут же посерьезнел. — Никогда не бывать рыбе птицею, рыба летать не может… А?..
Милашка среди…И снова потонул в пьяном горьком разгуле, размахивая худыми жилистыми руками и расплескивая вино…
Проснулся в своем домишке, в постели. Теперь ему не перед кем стыдиться, некого бояться. Один, только старые фотографии да пустые стены с маленькими окошками. Его терзало отвращение к себе. Что он на этот раз сделал? Каких глупостей натворил? Обрывки воспоминаний всплывали в сознании.
— Эх! — Он поднял кулак, словно угрожая самому себе, и изо всех сил стукнул им по постели. — Самое лучшее — ни о чем не думать. — Встал. Не съев ни крошки, взял кирку, вышел из дому и оглядел пустошь. Здесь росла низкая трава, местами неказистые кусты, торчали белые валуны. Иногда он выгонял сюда корову попастись. Три вырубки, сказал Пологар. Михале смерил землю взглядом, мысленно наметил межевые столбы и пошел вниз.
Он копал и корчевал с усердием маньяка, как всегда после запоя. Сталь при каждом ударе звенела о камень. Отбитые куски Михале бросал за спину. Оставалась мелкая растолченная глина, блестящая от влаги. В мышцах он почувствовал весеннюю усталость, его обливал пот, в висках стучало. В полдень прозвонил колокол, но он ни минуты не отдыхал, даже не глядел в сторону дома. Знал, что никто не позовет его обедать. Идти домой и самому разводить огонь — нет уж! Лучше подохнуть!
Наконец он так устал, что его шатало, ноги подкашивались. Оперся на кирку, утер лоб и огляделся вокруг. И сразу же, окинув все одним-единственным взглядом, понял, насколько бессмысленна его работа. Разве когда-нибудь уберешь эти камни? А коли и уберешь, что тут вырастет, на этой бесплодной земле? Здесь и козу не прокормить, не то что человека!
Отчаяние и горькое сознание собственной немощи привели его в ярость. Опустившись на валун, он бессильно ругался, чтобы только отвести душу, и не заметил, что кто-то идет по тропинке. Когда он наконец замолчал и поднял голову, жена Пологара стояла почти рядом с ним.
Пологариха была крупная женщина с обвисшими щеками, ее серые глазки поблескивали лукаво и доброжелательно. Она удивленно взглянула в его сердитые и смущенные глаза… Ей стало неловко, она вздохнула и бросила взгляд на дикую землю.
— Новое поле?
— Какого там черта новое поле! — огрызнулся Михале и сплюнул. И как это женщина застала его в таком виде? — В последний раз я за это взялся. Пропади все пропадом!
— Да, с этой земли и вправду ничего не возьмешь. Одна глина. Тут и картошки не будет.
Михале выпрямился и взял кирку, но снова бросил ее.
— Что поделаешь, — мялась Пологариха. — Конечно, нелегко тебе будет. На что-то жить надо… Небось ты сегодня еще и не ел. Варил что-нибудь?
Михале не ответил. Какое ей дело? Он смотрел поверх деревьев на холм за дорогой, на небо, глаза его щурились. Челюсть мелко дрожала. Пологариха шевелила губами, словно жевала слова, которые не осмеливалась произнести.
— Мужик с кухней никогда не дружит. Мой лучше умрет с голоду, чем возьмется за горшки, — она коротко рассмеялась. — У нас всегда что-нибудь остается. Коли нашим не брезгуешь, приходи когда хочешь.
Михале не оглянулся. Оказывается, ему, одинокому и бессильному, доброжелательно протянули руку помощи. Нужно только принять ее. Но ведь это явное унижение! Душа его возмутилась.
— Не надо мне милостыни, — отрезал он.
— А кто говорит, что даром даем? Поможешь когда в работе.
Михале не ответил. Он упорно смотрел поверх деревьев, пока ее шаги не затихли внизу.
На другой день Михале пришел к Пологару. Веки у него отяжелели, глаза он прятал. Хозяйка поставила на стол миску с едой. Он ел потихоньку, жевал не торопясь, чтобы не выдать, как он голоден. Поел, и тогда Пологариха велела ему накосить в саду травы для скотины.
— Хозяйка нашла мне дело, — заморгал он глазами, увидев проходящего Пологара.
— Так, так. — Пологар, глядя в сторону соседа, подобрал с земли камень. — Видал, что делают куры Гричара? Вечно что-нибудь потравят! Кшш!
Он швырнул камень; птицы с кудахтаньем разбежались.
Вот ведь как — Пологар ничуть не удивился, увидев его с косой в своем саду. Михале подумалось, что Пологариха позвала его к столу по приказанию мужа. Эта мысль наполнила его сердце горечью. И все же у него не хватило мужества бросить косу и раз и навсегда повернуться к соседу спиной.
— Приходи завтра, — сказали ему за ужином. — У нас работа никогда не переводится.
Он пришел. Работа и в самом деле не переводилась. Приближалось лето, старший сын служил в армии, младший пошел по дурной дорожке. И каждый вечер Михале снова слышал:
— Приходи завтра, приходи!
Через неделю его уже и не звали. Сам приходил. Садился к столу как батрак, брался за любое дело.
Михале не привык к тяжелой крестьянской работе, уставал, но постепенно все больше свыкался. Чувство горечи, которое так мучило его вначале, пропало, и он отдался течению беззаботной жизни, которая так соответствовала его натуре. Пришел, подсел к полной миске, и ни о чем не надо беспокоиться. Он не батрак. Батрак не спит в собственном доме. И не поденщик, у поденщика нет постоянной работы. Тихо, удовлетворенно улыбался он себе в усы.
Так он думал и чувствовал в первые дни. А потом эту тихую удовлетворенность стали отравлять капли горечи и унижения. С Пологаром было нелегко ладить. Он был крепким мужиком и в работе не знал ни меры, ни устали. Часто Михале пыхтел, как молодой бычок, которого впрягли рядом с конем. Пологар время от времени покрикивал на него, как на пастуха. Михале косо поглядывал на хозяина, брань и скверное слово готовы были сорваться с языка, но приходилось сдерживаться. Он сам себе удивлялся: день ото дня он становился все податливее, покорнее. Только ночью, в часы бессонницы, бормотал проклятия и сжимал кулаки, все упорнее росла его ненависть к Пологару.
Нет, Михале не упрекал его за землю, хотя ему становилось грустно, когда он ступал на свою бывшую ниву. Где там было сохранить землю человеку с его характером, рано или поздно она все равно уплыла бы из рук. Что касается цены, тут тоже не было обмана; так считали все односельчане. Но где-то в подсознании, где теплилась гордость, все определеннее рождалось чувство безграничного унижения, отнимавшее покой и сон.
Пологар не давал ему ни лиры. Каждый раз, рассчитываясь с поденщиками, он молча обходил Михале как бродягу, которого лишь из милости не гонят из-за стола. У него не было денег на табак; набивал трубку, одалживаясь то у одного, то у другого, или курил сухие буковые листья и чемерицу. Иногда возвращалась старая страсть к вину, он мрачнел и замыкался в себе; оставаясь один, съеживался и плевался от злости. Горечь мутила его мысли и чувства, терзала душу.
Что надумал Пологар? Может, он заплатит в конце года. Хоть бы заикнулся… Михале вопросительно смотрел на него, заводил разговор на эту тему, но Пологар, лукавая лиса, представлялся слепым и глухим, если ему не хотелось чего-либо видеть или слышать. Михале ругал его при соседях: авось передадут, может, дойдет до этого скупердяя. И ничего, хоть лопни! А самому рот открыть не хватало смелости: обходными путями он надеялся избежать разочарования, что караулило его в засаде.
Однажды встретил его Кланчар.
— Хотел было попросить тебя прийти ко мне покосить, — сказал он. — Только как бы Пологар тебя не хватился.
Михале сплюнул с досады.
— Я еще ему не слуга. Спрашивать его не собираюсь! До сих пор гроша ломаного мне не заплатил.
Ночью его мучила совесть, как мальчишку, который собирается сбежать. Встал чуть свет и отправился к Пологару, но неожиданно повернулся и пошел к Кланчару.
Пробыл у него семь дней, потом три дня пил, а четвертый отсыпался. Когда пришел в себя, его охватил такой страх, такое отчаяние, что стиснуло сердце.
Униженно, с опущенной головой и бегающим взглядом явился он к Пологару. Хозяйка, едва ответив на его приветствие, повернулась к нему спиной. Он вошел в комнату. Пологар большими шагами, словно сеял, ходил от стены к стене; вошедшего резанул ледяным взглядом.
— Давненько тебя не было.
— Кланчар меня попросил, — сжался Михале. — Я обещал ему. А потом заглянул в корчму.
Он оправдывался, словно какой-то сопляк. Провел рукой по лбу и в полной растерянности шагнул к столу.
Пологар, расставив ноги и выкатив глаза, остановился перед ним.
— Кланчар попросил? — загремел его резкий голос. — Когда дел невпроворот, ты идешь работать к другому? Может, ты и сейчас пойдешь к Кланчару, а? Иди же!
Михале был потрясен. Вырасти бы до потолка и ударить с высоты, но в присутствии Пологара, которого он привык считать хозяином, он чувствовал себя таким ничтожно маленьким, что еще больше сжался.
— Черт побери, да ты мне и лиры не заплатил! — топнул он ногой.
— О плате мы не договаривались. Работаешь ты, правда. Но ведь за стол садишься и когда на дворе дождь льет. И зимой, когда даже собаке носа из-под крыши не высунуть, тоже сядешь. А слуги мне не надо…
Михале застыл. Предчувствие, которое постоянно мучило его, которое он гнал, как надоедливого пса, приняло совершенно определенный, угрожающий вид. Он не слуга, даже не поденщик. Просто нахлебник. Ему хотелось стучать по столу, проклинать, ругаться самыми скверными словами, которые подступали к горлу. Но он повернулся и молча вышел из дома.
Оказавшись один на тропинке, пересекавшей сад, Михале стиснул кулаки, губы у него дрожали, изо рта вырывались глухие угрозы и ругань.
— Михале! Эй, Михале!
Он уже был у ограды, когда услышал зов. Пологариха! Он не остановился и не обернулся.
— Михале! Погоди, ради Бога! Какой ты, право, горячий.
Михале подождал. Он решил не сдаваться, ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Гляди-ка, вот спешит! — запыхалась Пологариха. — Будто волки за тобой гонятся. Да не слушай ты моего! Ты же его знаешь. Куда ты? Оставайся! Ну что стоишь, будто кол проглотил?
Михале не сводил с нее глаз. Она что, за дурачка его считает? Правда, иной раз ей случалось даже расщедриться. «Пологар послал, — мелькнуло в голове Михале. — Раскаялся». Ничего, Михале ему еще отомстит. Что это там Пологариха болтает о зиме, о голоде? Однако при мысли о будущем ему представились такие ужасы, что мурашки по спине побежали… О, черт побери! Злоба и обида быстро таяли, о чувстве унижения он старался забыть. И потом, ведь они оба просят его вернуться.
— Только пусть он иногда подкидывает мне на табак, — продолжал ершиться Михале. — Большего я не требую.
— Даст, даст, я ему скажу. Не беспокойся!
Михале вернулся, но в комнату не пошел. Взял топор и отправился колоть дрова.
С тех пор он ходил словно подшибленный. Пологар время от времени бросал ему подачку — лиру-другую, и теперь не приходилось курить чемерицу или буковые листья. Но довольство было показным, чтоб односельчане не смеялись. Обиды он терпел, но не прощал. Он копил их в душе, словно стремясь как можно скорее наполнить ее до краев. Время шло, и все чаще выдавались ночи, когда Михале не мог уснуть. Вперив глаза в темный потолок, он корявыми руками хватался за края кровати, точно собирался вскочить. Отец, мать, жена — их образы совершенно отчетливо вставили у него перед глазами. Впервые получилось, что земля принесла ему несчастье. Неужто он до самой смерти будет прикован к Пологару? Горько становилось от таких мыслей. Но как ни ломал голову Михале, выхода не видел.
«Потом я вас возьму к себе», — сказала дочь. Он почти позабыл об этих словах, потому что не совсем верил им. Теперь они были приятной музыкой для его сердца. В той безысходности, которая давила на него, они все чаще и все живее являлись в его сознании. После смерти матери Ангелца всего раз подала о себе весточку. В письме прислала фотографию и деньги. Расспрашивала, как он живет, но ни словечком не упомянула ни о себе, ни о замужестве. Деньги Михале пропил, а фотографию, которая вконец истрепалась у него в кармане, показывал людям. Ангелца — барышня с вьющимися волосами — на фотографии была в сто раз красивее, чем в жизни. Раньше он никогда не говорил о ней, а теперь рассказывал каждому, кто только хотел слушать.
— Вот выйдет замуж, — начинал он в десятый, в сотый раз, — за какого-нибудь железнодорожника выйдет, — выдумывал он. — Обзаведется домом, возьмет меня к себе. Расколю ей иной раз парочку поленьев, вот и все.
— Ну, тогда тебе нечего старости бояться.
— Вот и мне кажется, что нечего.
И тихо посмеивался в усы. Он походил на ребенка, сердце которого наполняют радостью мечты о рождественских подарках. Теперь душа нашла опору, хотя время от времени и обуревали горькие мысли о том, что ему до смерти придется оставаться у Пологара и есть хлеб нищего.
Михале был недалеким на вид, однако в глубине его души скрывался одному ему ведомый мир, ревниво оберегаемый от людей. Смолоду он так любил помечтать! Бывало, егерем, с ружьем на коленях, он целыми часами просиживал на пеньке, уйдя в грезы. Подчас, замечтавшись, он забывал о работе. Казалось, его взгляд блуждает среди деревьев, а на самом деле бог знает куда занесся. Он воображал себя на каком-нибудь важном месте. Вот он командует отрядом солдат: «Halt acht! Marsch! Eins, zwei! Links front!»[5] Генерал благодарит его перед строем и прикалывает орден на грудь… Или будто ему достался большой выигрыш в лотерее. Он построил новый дом, получил разрешение на торговлю. Малия торгует, а он играет на гармонике, поглядывает в окно, сам черт ему не брат. Невероятные события представлялись ему. Он знал, что этому никогда не бывать, но в одиночестве наслаждался и тешил себя сладкими несбыточными надеждами. Он, как и Ангелца, стремился вырваться наверх; то, в чем жизнь ему отказала, переживал в мечтах.
И теперь он все чаще ловил себя на том, что недвижно смотрит куда-то вдаль. Его мечты больше не были такими призрачными, безумная надежда приближала их к действительности. Михале не смущало, что Ангелца не дает о себе знать. За это время она уж, вероятно, вышла замуж, переменила жилье, у нее теперь новая фамилия. Если даже написать, письмо к ней не попадет. Она ждет, видно, пока обзаведется хозяйством, а тогда уж позовет его: «Приезжайте, отец!» Хочет его удивить.
— Ангелца тебе пишет?
— Конечно, пишет! Каждую неделю. Она вышла замуж.
— Правда?
— Да, за машиниста. Из тех, знаете, что водят поезда.
— Небось хорошее жалованье получает?
— Еще бы! Сейчас они переезжают. Как устроятся, вызовут меня к себе. Со дня на день письма жду.
Пересаживая цветы своего воображения на почву действительности, он сам свято верил в то, что говорил. Только рассказав все до конца, он пугался и в страхе вглядывался в лица присутствующих. Ему казалось, что они верят и даже немного завидуют. Теперь он уже не мог отступать, да и не хотел. Только бы ему верили!
Заманчивое обещание дочери окрыляло старика. Оно дало ему чувство собственного достоинства, зажгло в нем огонек светлой надежды. За эту надежду он хватался как утопающий за соломинку. В его воображении она все больше превращалась в действительность. Повторяя выдумку, он с каждым днем все больше верил в нее. Если и возникали иногда сомнения, он тут же неумолимо рассеивал их. Рассказывал он теперь с такой убежденностью, что ни у кого не хватало смелости сомневаться. Черт побери, так, видно, оно и есть.
От Михале не укрылось, что на него даже смотреть стали совсем по-другому. Пологар никогда не говорил об этом ни слова, но на губах проскальзывала недоверчивая усмешка. Ясно, что завидует. Боится скоро навсегда потерять дарового работника. Михале опьяняло победное чувство. И чем более вероятным казалось ему то, что ткало его воображение, тем больше он ненавидел Пологара. Ядовитая накипь унижений наполняла его душу до краев. Иногда он с трудом сдерживался, чтобы не взорваться. Да, перед тем как навсегда уйти отсюда, он станет перед Пологаром и выложит ему все начистоту. Обольет его грязью, которую тот сам накидал ему в душу. И Пологар ничего не сможет сделать с ним, будет стоять, стиснув зубы, зеленый от злости… А под конец Михале плюнет ему под ноги и никогда больше не взглянет на его дом…
От этих мыслей у него учащенно колотилось сердце. И теперь уже не столько хотелось отделаться от постылого дома и обеспечить беззаботную старость, сколько отомстить. Он не убьет его из засады, не ударит, нет, он уничтожит его словами, опозорит. И пьянящая сладость этой заветной минуты не давала ему усомниться в том, что письмо, может, уже послано. Не будь у него этой надежды, он не мог бы жить.
Пришла осень. Небо, почти сплошь затянутое облаками, хмурилось, дул северо-восточный ветер, срывая с деревьев пожелтевшие листья.
В последнее воскресенье октября Пологар отправился в город. Он был уполномоченный общины, задержался на заседании и вернулся к самому вечеру.
Возбужденный чем-то, он резкими шагами мерил комнату, а на лицо его то и дело набегала усмешка. Михале почувствовал, что на него смотрят, и невольно поднял голову. Взгляд Пологара заставил его содрогнуться.
Чего это он так уставился на него? Но сколько ни ломал голову, понять не мог. Он, правда, нередко ведет себя странно, но таким Михале никогда его не видел. Неясное предчувствие колючей ежевикой оплело его сердце.
За ужином, когда за столом собралась вся семья, Пологар поднял голову.
— Михале! — окликнул он, — Михале, а что, Ангелца еще пишет тебе?
У Михале по спине побежал холодок, ложка застыла в миске.
— Пишет ли, спрашиваешь, — повторил Михале, голос у него прерывался. — Конечно, пишет. А почему бы ей не писать?
— Когда она тебе писала в последний раз?
— Как — в последний раз?
— А вот так, — ответил хозяин раздраженно. — Я спрашиваю, когда она тебе в последний раз писала? Когда ты получил последнее письмо?
Михале удивленно смотрел на него. Пологар никогда не интересовался его дочерью. Если заходил разговор о ней, он притворялся, будто не слышит. А теперь допрашивает упорно, даже с наслаждением. Что случилось?
— Когда она мне писала? — Он набрал полную ложку и, не поднимая глаз от стола, медленно жевал. — Погоди! — Он замолчал, словно роясь в своей памяти. — Намедни было… да, да! На прошлой неделе получил…
— И что она писала?
Пологар выразительным взглядом обвел домашних, которые ничего не понимали. Но для Михале каждое слово было раскаленным гвоздем, который вонзают ему в сердце. Он все яснее понимал, что здесь кроется нечто скверное. Он продолжал есть, но теперь еда казалась ему отравленной. Как хотелось бросить ложку на стол, выругаться и выбежать за дверь.
— Я уже сто раз рассказывал, что она пишет, — безвольно ответил он. — Скоро вызовет меня… В любой день…
Пологар больше не мог сдерживаться.
— Брешешь! — заорал он. — Это ты малым детишкам рассказывай, а не мне!
Михале так и остолбенел, ложка вывалилась из рук, холодный пот выступил на лбу. Убежденность, с которой он держался за свои мечты, теперь сменилась страхом и сомнением.
— Зачем мне врать? — Его голос звучал резко и ожесточенно. — Какая мне с этого польза? Как говорю, так и есть. Хочешь верь, хочешь нет! Пологар издевательски засмеялся.
— Так и есть! — передразнил он. — Нет, не так, — почти взвизгнул он. — Совсем не так! Ничего похожего. Чтобы такую барышню и содержала община!
Михале отодвинул ложку, спазма перехватила горло. Ему было жарко, точно за пазуху насыпали раскаленных углей. Он вглядывался в лицо Пологара, стараясь поскорее прочесть всю правду. Не похоже было, что Пологар лжет. Его ожесточение и злорадство выглядели очень уж непритворными.
— Что ты говоришь? — с трудом выдавил из себя Михале.
— А то говорю, что общине придется заплатить за Ангелцу. За родильный дом, больницу и не знаю за что там еще. Вот что получилось из твоей благородной барышни.
Пологар разошелся. Он говорил горячо, глаза его сверкали… Михале узнал довольно. Он не мог понять все сразу, голова его работала слишком медленно, но это не меняло существа дела. Сто лет будешь придумывать и не выдумаешь столько горя, сколько жизнь может обрушить за раз. Разве он виноват? И все же с каким наслаждением этот человек унижал его перед домашними, после этого он на них и взглянуть не посмеет! Пологариха смотрела на стол, все опустили глаза. На неподвижных лицах пробивалась усмешка. Он чувствовал себя таким маленьким, таким униженным. Слова не шли у него с языка. Это, впрочем, и не помогло бы. Теперь и правду скажешь — никто не поверит. Он не мог оставаться на месте.
С тяжелым прерывистым вздохом он встал из-за стола и, спотыкаясь, словно пьяный, вышел из комнаты.
Домой не пошел. Не хотелось идти по тропинке через сад мимо окон, чтобы его еще раз проводили насмешливыми взглядами. Добрел до конюшни, где часто лежал по воскресеньям после обеда. Нащупал в темноте кучу сена и свалился на нее. Казалось, он напился крепкой ракии. Закинув руки под голову, устремил глаза вверх, в темноту, где виднелась щель в крыше. На сердце было гадко. Мысли, набегавшие одна на другую, путались, словно повилика. Будто он пьяный заблудился в пустыне и нет ему спасения.
Но постепенно чувства его улеглись, мысли стали проясняться, словно небо после грозы, подчиняясь какой-то логике. Слова Пологара все еще раздавались в его ушах. Он не мог поверить им, это же пустые слова, как им верить. Но они росли, наполнялись смыслом, тщетно он мотал головой, пытаясь отогнать их.
Пологар не соврал. Нет! Михале должен был снова и снова повторять себе это. Да, он был жесток, но не лгал. Сколько бедняга ни противился, опровергая каждое слово в отдельности, ничто не помогало. От этого он не мог спастись, не мог спрятаться в своих фантазиях. Все, что он построил себе в утеху, рухнуло в один миг, как домик, построенный ребятишками из лучинок. Больше он не мог обманывать ни себя, ни других.
И если рассудить хорошенько и трезво, именно так и должно было кончиться. Нет, не вышла Ангелца замуж, не было у нее своего дома, не было мужа, который работает на железной дороге. Ничего не было! Потому она и не писала ему. И теперь он не знал, что делать со словами, сказанными ею тогда. В последнее время он чаще думал о себе, чем о ней, вот и сейчас лишь ради себя пытался понять, что с нею случилось. Ответа не надо было искать, его дал Пологар. Правда, без всяких подробностей, в самых общих чертах, но и этого достаточно. Раньше он ни разу не подумал, что такое может случиться, но сейчас происшедшее показалось ему почти естественным и вполне понятным. Уже одно молчание должно было навести его на подобную мысль. Он не сжимал кулаки, не проклинал и не бранил свою дочь, не укорял и не осуждал ее. Сочувствие смешивалось в нем со стыдом. Теперь, глядя в глаза соседям, он увидит в их взглядах ее несчастье и свое поражение. Главное — свое поражение.
Верил ли он сам в свои грезы? И да, и нет. В глубине души у него всегда теплилось сомнение: это неправда, это тебе только кажется. Да, в иные минуты он сознавал, что это всего лишь тщеславие и что ему не миновать разочарования. Тогда он скрыл бы его в себе и перенес бы боль, как подобает мужчине. Может, выдумал бы что-нибудь другое, чтобы утешить себя и не пасть в глазах людей. Впрочем, до людей ему не было дела, они случайно вмешались в игру его воображения, он беспокоился о себе, хотелось найти в душе опору, чтобы снести унижения.
Отныне все рухнуло; иссяк последний источник, питавший его фантазию. Однажды в одиночестве, покинутый всеми, он умрет в своей хибарке. Дочь ему не поможет, ей самой нужна помощь. Нет, он ни в чем не упрекал ее — ему было невыносимо обидно, что он не может отомстить Пологару. День, в который он мечтал бросить ему в лицо все, что накопилось в душе, никогда не придет. Михале хорошо знал, словно читал в глазах хозяина, что тот боится потерять его. Даже ребенку ясно, Пологар получал от него одну выгоду. Михале не удалось отомстить, отомстил Пологар. И теперь смеется. Ему казалось, что смех доносится даже сюда, в конюшню. Подлец, подлец! Обрек его на издевки, выставил на посмешище, и ладно бы только перед домашними, нет, перед всем селом. Теперь он уже не сможет остаться у Пологара, но и смелости показаться людям на глаза у него не хватит.
— О негодяй!
Он заворочался на сене и погрозил кулаком в темноте. Потом опять затих.
Михале не обвинял в беде ни себя, ни дочь, причиной всего он считал Пологара. Кабы он хоть от насмешек его избавил, Михале бы того вовек не забыл. Имей он сердце, он никому ничего не сказал бы, даже Михале. Бедняга не подумал, что, возможно, и так все стало бы известно. Правда, дочь его не позвала бы, но он до смерти бы жил с этой надеждой. Так нет же! Пологар только и ожидал, когда можно будет ударить по самому больному месту. Каждая новая мысль свинцовой тяжестью ложилась на душу, он горько вздыхал. Он заскрежетал редкими зубами от слепой ненависти к Пологару. В черный осадок унижений, годами копившийся в его душе, капля за каплей добавлялся яд. Погоди же, негодяй! Он еще покажет Пологару, на что способен. Мысль о мщении, от которого он не отказался, доставляла ему наслаждение.
Михале сел, глаза устремились в темноту, точно неустанно искали там выхода. Как изумить Пологара, как заставить его плакать кровавыми слезами? Сколько страшных замыслов замелькало у него в голове! Среди них были такие злодейства, которые и во сне не приснятся, он содрогался от ужаса. Пламя пожара охватывало сараи и дом. Представляя себе это, Михале чуть ли не ослеп. Господи Иисусе! Нет, нет! Эту мысль он тут же отбросил. Вдруг он вспомнил о младшем сыне Пологара. Работать он не любил, занимался какими-то темными делишками, о которых, правда, знала половина села. И Михале кое-что знал. Он задумался, потом неожиданно его губы растянулись в злорадной усмешке.
— Погоди же, — прошипел он. — Погоди же, черт! Посмотрим!
Встал, ощупью отыскал шаткую лестницу и взобрался наверх. По доскам, которые были разбросаны на чердаке и пружинили под его тяжестью, Михале дополз до кучи сухого клевера у слухового окна. Примостившись в уголке на корточках, поднял пласты клевера, прощупал все до самого пола. Ничего! Поискал с другой стороны. Рука его вдруг успокоилась, он почувствовал удовлетворение, смешанное со страхом и волнением. Дрожащими пальцами ощупывал какие-то предметы, пачки табака, коробки сигарет, пакетики кофе… Да, здесь. Ему казалось, что он различает каждую вещь, ее форму и цвет. Одну пачку табаку он сунул в карман, потом снова спустился по лестнице и встал в дверях.
— Ну, теперь увидишь, — он стиснул зубы. — Я с тебя спесь собью. Посмотрим, хватит ли у тебя тогда смелости сказать, что я… Попробуй только…
Больше он не колебался и не боролся с искушением отказаться от родившейся вдруг и ставшей неотвязной мысли. Надо спешить. Дело не терпит. Сегодня же ночью, сейчас же! Темно, никто его не увидит. А то к утру он еще передумает. Он сам себе не доверял.
В доме Пологара горел свет, окна были освещены, за ними двигалась тень. Пологар? Может быть. Ему не хотелось глядеть туда. Надо было неслышно, как вор, проскользнуть мимо дома и исчезнуть на мягкой тропинке сада. И побыстрее, чтобы ни от него, ни от его мыслей не осталось и тени следа. Краешком глаза он заметил, что на пороге дома кто-то стоит и глядит на него, но он не повернул головы. Уже у стены Михале услышал голос:
— Михале, это ты? Куда ты так спешишь?
Да, это Пологариха окликнула его. Михале невольно остановился. Чего ей надо? Он готов был обернуться, отозваться, но тут им овладело упрямство. Она боится, что он уйдет совсем, вот и заискивает перед ним. Или предчувствует беду и хочет помешать? Ни за что! Его не проведешь. Будет с него! Другие не знают сожаления, он тоже не будет ни о чем думать.
Пробурчал что-то и торопливо зашагал по тропинке. Он почти бежал среди шумящих на ветру деревьев. Сунул руки в карманы, нащупал пачку табаку, смял ее и сердито отшвырнул. Что с ним делать? Еще обвинят в воровстве. Ухмыляясь, свернул с тропинки на круто спускавшуюся проселочную дорогу.
Ночь была мрачная, ветреная, тревожная, как бывает осенью. Земля влажная, воздух насыщен запахом прели. Порывистый ветер гнал с севера облака. Звезды то скрывались за ними, то опять появлялись. Гребни гор, черные и застывшие, вонзались в низкое небо. Дорога, которая, подобно узкому, глубокому желобу, тянулась между двумя плетнями, была совсем темной, только кое-где белели камни.
Михале шел крупными шагами, сунув руки в карманы и пристально вглядываясь в темноту. Ему казалось, что он, словно на туго натянутой веревке, балансирует на какой-то мысли, стараясь не потерять ее. Он спешил, точно за ним гнались, а может быть, боялся, что ненависть слишком быстро остынет и он просто вернется назад. Миновал лес. Перед ним во всю длину дороги лежала полоса земли, в ее дальней части был расположен нижний конец села. Дома прятались среди деревьев, сквозь густую сеть ветвей чуть мерцали их оконца. Более ярко была освещена только корчма и жандармский участок.
Участок! Он никогда еще не был в этом доме. Он не видел ни корчмы, ни остальных домов, взгляд его был прикован к точке в самом конце дороги. С потонувшего в темноте здания, о котором можно было догадаться лишь по освещенному окну, он не спускал глаз даже тогда, когда брел по дороге, сбегавшей со склона.
И все-таки именно сейчас он почувствовал неуверенность. Казалось, замысел ускользает у него из рук и он только силой удерживает его. Стремясь побороть колебания, он вспоминал немногие известные ему итальянские слова, пытаясь сложить из них фразы. Много ведь не надо, несколько слов, несколько жестов, все остальное сразу поймут.
«Покажу я ему!» — стискивал зубы Михале. Но на дне души, где-то на самом дне таился страх, навсегда въевшийся в его душу, и прогнать его было невозможно. Страх все больше темнил сознание, наливал свинцом ноги.
Чем ближе к домам, тем медленнее он шагал. Из корчмы слышался приглушенный гомон, отблески света падали на дорогу. Михале становился все нерешительнее, смятение росло, сжимало душу. Ему вдруг захотелось оказаться далеко отсюда, хотя бы в получасе пути, чтобы еще раз хорошенько все обмозговать. Но он уже стоял перед маленькой калиткой, сразу за которой был дом. Остановился в тени, рядом с полосой света, падавшей через окно без занавеси. В окне двигалась тень, то появляясь у самого стекла, то опять исчезая в глубине. Кто-то ходил по комнате. В этот последний миг его удерживала не только нерешительность, не только боязнь гнева Пологара. Смелее и честнее было бы поджечь крышу над головой хозяина, чем сделать то, что он надумал. Михале ужаснулся. Что такое с ним? Фу!
Эта мысль была такой сильной, такой убедительной, что моментально заслонила все остальные. И все-таки он не мог уйти, желание отомстить снова с ядовитой силой захватило сердце. Он боролся сам с собой, капли холодного пота выступили на лбу.
Наконец он решился. Не пойду! И вздохнул облегченно, словно свалил тяжесть с души. Не сразу заметил, что кто-то идет по дороге; Михале уже отошел от забора, собираясь вернуться домой, но вдруг увидел перед собой человека.
Старый Петернель остановился и в темноте пристально вгляделся ему в лицо.
— Что с тобой?
Михале вздрогнул, точно старик поймал его на месте преступления.
— Вот думаю, сто чертей на его голову, — пробормотал он и запнулся, точно ему не хватало дыхания, — идти в корчму или нет.
— Иди, конечно, иди. Воскресенье ведь. Время есть.
Они пошли дальше.
— Да, да, — горько усмехнулся Михале. — Времени хоть отбавляй, а денег ни гроша.
Они пересекли лучи света, пробивавшиеся сквозь ветки, ноги вязли в грязи. Старый Петернель помолчал.
— Коли денег нет, могу одолжить немного.
Старик был зажиточный и часто помогал лишь из желания побахвалиться… Михале мучительно хотелось пить, горло пересохло. Но жажда терзала его больше от волнения, чем от застарелой страсти к вину. Теперь его неудержимо потянуло в корчму, хотя только что он даже и не помышлял об этом. От мести он не отказывался, злая мысль слишком глубоко засела в его душе. И все-таки надо подумать и найти что-то другое. Но вначале следует набраться храбрости.
— А когда я тебе верну? — попытался побороть искушение Михале.
— Неважно! Вернешь как-нибудь. Ты честный человек. Правда ведь? А разве Пологар тебе ничего не платит?
Михале взял деньги, сунул их в карман. Ему было стыдно.
— Ничего, — он громко откашлялся. — Почти ничего. Мелочишка на курево не в счет. Злой он человек. Бывают на свете и злые люди. Без души.
— Правда, — подтвердил старик. — Люди часто хуже зверей. Звери никогда не причинят тебе зла, разве что когда защищаются или по неловкости, — а человек — упаси Бог!
— Мог бы — съел с потрохами. А ты терпи. Был бы я покруче, как другие, дело бы лучше шло.
— Покруче? У тебя не выйдет. Волк всегда волк, а ягненок — ягненок. Чтобы быть злым, надо злым родиться. Я не такой. И ты тоже.
Михале, кивнув головой, молча согласился. У корчмы они расстались.
В корчме за большим столом с достоинством расселись мужики, все справные хозяева; разговаривали, склонившись над стаканами в клубах дыма. За столом поменьше сидели два парня и о чем-то потихоньку шептались. От печи несло жаром. Лампа под потолком едва мерцала в душном воздухе, ее огонек трепетал каждый раз, когда открывалась дверь. Осенний ветер время от времени шуршал бумагой, которой было заклеено разбитое оконное стекло.
Михале остановился в нерешительности, услышав громкий разговор в комнате, но все-таки вошел и в изумлении застыл у двери. Среди крестьян он заметил Пологара. Михале вовсе не рассчитывал увидеть его. Век бы с ним не встречаться. Боялся Михале, что не совладает с собой в его присутствии. При виде Пологара ненависть снова замутила ему кровь, он почти сожалел, что не выполнил своего намерения.
Надо бы сразу уйти в другую корчму, но мысль, что говорят о нем, не дала ему сдвинуться с места. Слишком быстро оборвали они разговор, растерянно глядели на него и как будто даже не услышали его приветствия. Лишь некоторые что-то пробормотали, а Пологар молча уставился в стол. Чувствует себя виноватым. Не терпелось ему поскорее рассказать о позоре и беде Михале. Вообще-то Пологар редко ходил в корчму, а сегодня не усидел дома, лишь бы поскорее разболтать всем то, что он уже поспешил выложить своим домашним.
Михале снова наполнило чувство горечи, холодные горошины пота выступили на лбу. Он с трудом сдержался, чтобы не бросить им какое-нибудь оскорбительное слово. Сделав было движение уйти, он остался, и теперь ему уже не хотелось уходить. Вот назло останется, чтобы своим присутствием заткнуть им глотки.
Подошел к маленькому столу, где сидели парни, и тяжело плюхнулся на лавку.
— Пол-литра! — крикнул корчмарю.
Торопливо налил стакан и выпил, не поднимая головы. Его раздражало молчание за соседним столом, и он наконец поднял глаза: все, кроме тех, кто сидел к нему спиной, глядели на него.
Тощий Ровтар, с уныло свисавшими усами, сказал, помаргивая крохотными глазками:
— Ты сегодня при деньгах, Михале, а?
Михале взглянул сердито. Правда, сосед заговорил с соседом, но зачем непременно поминать о деньгах? Догадывается он, что ли, что деньги взяты взаймы? Михале снова вспыхнул.
— При деньгах, не при деньгах, кого это касается? — огрызнулся он злобно. — Не украл небось. У тебя не украл.
Крестьяне удивились. С чего бы такая злость? Ровтар почувствовал себя обиженным.
— Что ты пьяным притворяешься, когда еще и не пил? Погоди, пока напьешься!
Михале уставился на него, словно хотел уничтожить взглядом. Черт побери! Теперь он сдержался, хотя брань жгла ему глотку. Оставили бы его в покое! Разве их кто о чем спрашивает? Он сам по себе, они сами по себе. Пусть еще кто-нибудь попробует разинуть рот!
Никто больше не задевал его. Переглянулись многозначительно и пожали плечами. Михале, поставив локти на стол, продолжал пить. Вино быстро ударило ему в голову, кровь бурно струилась по жилам. Сегодня он впервые пил с тоски и горя. Наливал себе в стакан почти бессознательно, машинально, не думая о вине: его занимали соседи. Хотя он сидел, склонившись к столу, но исподлобья внимательно наблюдал за ними.
Он ловил каждое движение, стараясь отгадать их сокровенные мысли. Глаза его больше не походили на глаза музыканта: что-то грубое, жестокое затаилось в его зрачках. Взгляд стал вызывающим, почти издевательским. Пусть теперь говорят, пусть говорят, если хватит смелости. Он судорожно стиснул стакан. Пусть только спросят, пишет ли ему еще Ангелца. Первый, кто разинет рот, получит стаканом по башке. Никто его не удержит. А потом он швырнет и бутылку. Все, что подвернется под руку. Залпом выпитое вино уничтожило сдержанность, гнев так и рвался наружу. Пусть только попробуют! Он почти лег на стол, точно хотел растянуться через всю комнату, прислушался.
— На скотину цены поднялись. Не очень чтоб уж, но все-таки. А то все шло чуть ли не за бесценок.
— И на дрова цены подскочили. Если бы я теперь продал все, что тогда у меня было, сорвал бы неплохой куш.
— Конечно. Но не продай ты их тогда, все погнило бы. Лучше что-нибудь, чем ничего.
Крестьяне говорили о самых простых вещах, то и дело разговор прерывался, а затем начинался снова. Было ясно, что они не знают, о чем говорить, ищут слова, словно пробираются в темноте. Михале злобно рассмеялся сквозь зубы. Ха, он нарушил все их расчеты! Боятся! Его, бедняка, боятся! Это ему нравилось, но в то же время и сердило. И чего они притворяются? Да он же их насквозь видит! Они его не проведут! Не на такого напали! Это была одна из тех редких минут, когда на него находила дикая решимость. Он беспокойно перекладывал руки, словно не знал, куда девать силы. Ему было даже почти неприятно, что не поминают Ангелцу. Если не открыто, то хотя бы намеком, он все равно поймет.
Вино уже разбирало его, но голова была ясна, как никогда. Трусы! Подлые трусы! Он насмехался над ними. Наконец у него вырвался громкий смех, который заставил их замолчать и поднять головы. Что, он в самом деле уже пьян? Но заговаривать с ним больше не осмеливались. Толковали о ранней осени, предсказывали морозы и снег.
Хотя мысли его с каждой минутой делались все туманнее, одну, самую главную, он не терял, держа ее на привязи, как испуганное животное. Ему чудилось, будто комната наполнена не только дымом, но и каким-то туманом, в котором он различал лишь Пологарову голову. Даже если бы все его сознание утонуло в вине, эта огромная, отвратительная голова торчала бы, точно громадный кулак, и тревожила его душу.
Он чуть-чуть прикрыл веки, но не сводил глаз с Пологара. Тот тоже смотрел на него, так как сидел почти напротив. Ждал, пока Михале уйдет и можно будет продолжать прерванный разговор. А он вот не уйдет! Не поднимется раньше Пологара, хоть бы до самого рассвета просидел в корчме.
Бутылка была пуста, и он заказал новую. Он пил слишком много и слишком быстро. А ему нельзя напиваться. Провел рукой по лицу, словно желая стереть опьянение, которое паутиной застилало сознание. Взглядом он так и впился в Пологара, черный осадок в его душе все больше мутился. Хмельной яд ненависти тек в его жилах.
Мысли разбегались, он собирал их и с трудом соединял, наполняя смыслом. Нет, он не донес на Пологара. Он не может этого сделать. Человека надо бить прямо в лицо, зачем нападать из-за угла! Прямо в лицо… За эту мысль он ухватился еще судорожнее, чем за стакан, который держал в руке… Он ведь и так не может оставаться у Пологара, теперь все равно, что бы ни случилось. Выложит ему все прямо в глаза, а потом уйдет, куда — неважно. Живут же другие, у которых нет даже своего угла, где можно приклонить голову. А у него ведь хибара есть. Выложит ему все, а потом стукнет колом из ограды. Сегодня вечером… пусть все будет кончено… сегодня же вечером. Пологар ошибся в своих расчетах. Он выскажет ему правду прямо в глаза и ударит его, Пологара! На! Это будет крепкий удар, он тут же на месте свалится и не сможет дать отпора.
Михале вздрогнул и боязливо огляделся вокруг. Не своих мыслей испугался, нет, ему показалось, будто он говорил вслух. За большим столом шел разговор о сене, на него никто не обращал внимания, словно его и нет в комнате. Два парня, его соседи, уже ушли. Да, он скажет, а потом ударит… Ему, пьяному, это казалось таким естественным, удивительно, как это раньше не пришло ему в голову… Губы скривились в злобной усмешке.
— Получай, черт, — бормотал он.
Опять поднял лицо от стола. Выпил глоток вина, а остаток выплеснул на пол. Крестьяне расплачивались, собираясь уходить. Пологар стоял уже посреди комнаты и зевал. Направляясь к двери, окинул его небрежным взглядом.
— Идем, Михале, коли ты уже кончил.
Так хозяин обычно говорит слуге: «Ступай, коли кончил!» Куда? Домой, а с утра на работу, куда же еще, раз не хочешь умереть с голоду?
«Эх! — Михале стиснул зубы и сжал до боли в пальцах стакан. С трудом удержался, чтобы не запустить им в голову Пологару. — Ладно, пойдем, только ты рано радуешься! Ты еще удивишься, рот от изумления разинешь! А что, неплохо получилось, что он позвал Михале с собой».
— Сейчас, — выдавил он. — Погоди!
Бросил деньги на стол.
Вскоре они вышли из корчмы и потерялись во мраке.
Ночь стала темнее, чем раньше, небо затянулось тяжелыми облаками, заслонившими звезды… Горные хребты едва угадывались вдали, а ближайшие горы до гребня погрузились в темноту. Иногда только белел камень на дороге или поблескивала луна; видны были лишь тени ближайших деревьев. Огоньки в домах уже погасли, одни окна корчмы еще светились. В узкой канаве вдоль дороги бежала вода, слышен был ее тихий рокот, время от времени заглушаемый порывами ветра.
Пологар шел впереди; неуклюжий, он широко шагал, размахивая руками.
Он, правда, был навеселе, и по походке это было заметно, да, и дышал он чаще и тяжелее, Михале брел за ним наугад, попадая в лужи и спотыкаясь о камни. Хмель и темнота так застилали глаза, что он не видел ни дороги, ни Пологара. Злая мысль, родившаяся в корчме, все еще давила грудь; ему мешало, что он был так ужасно пьян, гораздо пьянее того, чьи шаги звучали у него в ушах. Ветер свистел около его головы, бросая в лицо сорванные листья. Холодный воздух не отрезвил Михале, ему даже казалось, что он сделался еще пьянее. Он боялся, что и последняя искорка сознания погаснет в нем, а ноги откажутся идти.
Молча дошли они до поворота, где проселок плавно сворачивал к лесу. Вдруг Михале споткнулся о камень и упал. Он разозлился, заворчал сквозь стиснутые зубы, но встать никак не мог. Отчаявшись подняться, он в изнеможении опустился на песок. Услышал, как Пологар остановился, и скоро различил в темноте его тень.
— Что это ты расселся?
— Не видишь разве, я и двинуться не могу, — вызывающе ответил Михале. — Отдохну малость.
— Помочь?
— Я сам, — отказался Михале. — Оставь! Иди себе! Нечего меня стеречь.
Сейчас ему и вправду больше всего хотелось, чтобы Пологар ушел. Тогда бы не так явно было его поражение. Но Пологар стоял на месте и потягивался, видно, на небо смотрел.
От земли поднимался холод и пронизывал Михале до костей. Хмель испарялся, сознание прояснялось. Он попытался встать, потянулся к краю дороги, нащупал что-то твердое, схватил — в руках у него оказалась тяжелая палка. Он оперся на нее, поднялся на ноги и, покачиваясь, двинулся по дороге. Пологар опять молча шагал впереди.
Дорога все тянулась, темная стена леса над полосой целины приближалась. Михале теперь не отставал, шел уверенно, ясно видя перед собой песчаную дорогу и Пологара. Да, он еще был пьян, но не до потери сознания, а ровно настолько, чтобы сохранить смелость. Злая мысль, которая было исчезла, теперь опять захватила его. Перед ним коренастая фигура, свалить бы, растоптать ее. Высказать все прямо в глаза, а потом как замахнуться… Случай словно по заказу дал ему дубинку в руки.
Надо бы начать разговор, но слова, которые он приготовил, рассыпались, как комочки сухой земли. Почему Пологар молчит? Скажи он хоть слово, Михале сумел бы за это зацепиться. Но Пологар шагал все быстрее, будто чувствуя беду, что, спотыкаясь, бредет за ним. Михале с трудом поспевал, крупные капли холодного пота выступили у него на лбу.
— Так не пойдет, Блаже, побойся Бога, — наконец прохрипел он. — Нельзя же так, слышишь? Землю мою ты получил, я тебя не упрекаю за это, работаю на тебя, а ты со мной обращаешься ровно с побирушкой, без всякого милосердия. Я же не считаю, Блаже, что ты должен засыпать меня деньгами. Где там! Но ты бы мог положить мне жалованье как пастуху, что ли… Как пастуху, больше мне и не надо. Ты же видишь… Одежа на мне грязная, в церковь стыдно пойти.
Боже мой! Он собирался говорить сурово, требовать, а голос был мягкий, умоляющий. Да, такая уж у него натура — замахнулся ударить, а удар превращается в ласку. Злое слово уже на языке вертится, но вдруг тает и превращается в трусливое заикание. Он собирался требовать, драться, наконец, а вместо этого клянчил, точно слюнтяй. Он был зол на себя и в то же время удручен и подавлен; только теперь он сам до конца понял свой характер. Нет, ему даже и не поднять дубинку, а где уж обрушить ее на голову Пологара.
А Пологар ни слова. Идет себе впереди, не оглянулся, не остановился, не выругался, не сплюнул, будто его вообще это не касается. Михале обращался к темноте, к теням на дороге, хмурому небу и ветру, что гонит листья. Грудь его разрывалась, в голове шумела кровь. Он отстал, потом пошел скорее, чтобы догнать Пологара.
— Блаже, не прикидывайся глухим, — повысил он голос. — Не прикидывайся глухим, говорю тебе, ты прекрасно слышишь. Слышишь и понимаешь, но не хочешь услышать и понять, потому что ты плохой человек. Злой ты человек, без сердца и души, вот что я тебе скажу, и я тебя ничуть не боюсь. Ты топчешь меня ногами, погубить хочешь! Ты знаешь, что обидел меня? Ты не смел этого делать, это было непорядочно, нехорошо… Нехорошо.
От волнения он не мог говорить. Пологар шагал все быстрее. Чувствовалось, что он задет, но не показывает вида. Вдруг он остановился и обернулся, лицо его белело в темноте.
— Что ты там бормочешь? — зарычал он со злостью. — Чего тебе надо? Коли есть что сказать, говори ясно!
Михале стоял перед ним, судорожно сжимая дубинку в руке. Вот он и сказал Пологару, что тот дурной человек, пусть знает, что он, Михале, не сносил все тупо, как скотина. Голос его оставался плаксивым. И все же он был доволен собой. Вот сказал ему, а теперь надо поднять дубинку и размахнуться. Однако он только судорожно опирался на нее. Резкие слова Пологара смутили его. Неужели он и вправду не понял? Михале думал об Ангелце, но вдруг ляпнул то, что целый год сидело у него в голове.
— Дай мне денег!
— Денег, денег! Я тебе уже говорил. Мог бы, кажется, понять, если бы разум имел: нравится — оставайся, не нравится — катись к черту! А деньги нужны — продай хибару!
Пологар кричал словно на слугу, Михале весь сжался.
— Да кто ее купит?
— Кто купит? Я куплю, если продашь!
От изумления у Михале перехватило дыхание. Перед ним стояла широкая тень, слова долетали до него, точно издалека. Он не сразу их понял.
— А на что тебе хибара?
— Не твоя забота. Буду сдавать в аренду землю, пригодится… Ну как, продашь?
— А мне куда деваться?
Злой замысел Михале лопнул, словно пузырь, он стоял как пастух перед хозяином, маленький, растерянный.
— Пока жив, можешь оставаться в доме. Никто тебя не выгонит.
Волна чувств нахлынула на Михале, он вдруг снова опьянел, но скоро мысли его пришли в порядок. Ха! Он был уверен, что знает Пологара, но лишь теперь Блаже раскрылся перед ним до конца. Мало ему, что землю получил, теперь на его домик зарится. «Никто тебя не выгонит…» Распоряжается, точно домик уже его. Потому и не давал Михале денег, чтобы заставить продать. Скажи Пологар об этом раньше, он, может, не так бы рассвирепел. Но сейчас…
— Никогда! — закричал он. — Тебе не продам ни за что!
— Твое дело! Неволить не стану. Ты сам себе голова. Но все равно он мне достанется. Все равно!
— Как это так? А?
Михале угрожающе приблизился к нему.
— Твоя дочь мне продаст, — засмеялся Пологар. И повернулся, собираясь уйти. Михале, остолбенев, застыл на месте и смотрел на него. От ненависти потемнело в глазах. Он перехватил дубинку и еще крепче сжал ее. Только двинулся, как Пологар остановился и оглянулся.
Вместо удара у Михале вырвался крик:
— Ни за что! — Затопал он ногами. — Никогда! Спалю лучше!
Пологар погрозил ему кулаком:
— Попробуй только! Я молчать не стану. Сядешь как миленький.
— Ты сядешь! Ты, стоит мне только рот открыть. Думаешь, я не знаю, что вы прячете на сеновале? Ты сядешь, стоит мне сказать одно слово…
Кричали так, что ночь отвечала громким эхом; ни один не понимал другого. Вдруг оба замолчали — выдохлись. Пологар сжал кулаки. Михале поднял дубинку. Пологар оказался проворнее, он подскочил и саданул Михале кулаком, у того круги пошли перед глазами и дубинка вывалилась из рук. Он зашатался, стараясь сохранить равновесие. Пологар постоял в нерешительности, но тут же ринулся на него. Схватил его вокруг пояса, поднял, как ребенка, и швырнул о землю.
Михале ударился головой о камень и почти потерял сознание. Ледяной холод побежал по его телу. Он упирался руками и ногами, хватал ртом воздух и хрипел. Пологар навалился на него, прижимая к земле, и напоследок стал коленями ему на грудь.
— Еще хочешь, черт? Хочешь?
Что? Да, он понял, понял. Стоит Пологару выпустить его, Михале вопьется в него зубами, точно зверь. Убьет. Сейчас он не колебался. Руками шарил по земле в надежде найти камень, чтобы ударить им врага по голове. Ничего нет! Только голая сырая земля и тесное переплетение корней.
Он извивался, но не мог сбросить с себя Пологара, который все крепче прижимал его к земле, урчал, словно кот, и, наконец, нанес ему страшный удар коленом в грудь. Михале казалось, что все ребра у него переломаны. Он почувствовал себя побежденным и больше не сопротивлялся. Но и просить, чтобы Пологар отпустил его, не хотел. Пусть убивает! Пусть! Ему, Михале, не удалось, хотя он всю дорогу шел с этой злой мыслью, держа дубинку в руках. Пусть убивает! Хозяин совершит преступление, его арестуют и будут судить! Михале почти обрадовался, подумав об этом. Это была единственная возможность отомстить, которая у него осталась.
Он ощутил на губах что-то соленое, липкое. Кровь. Он выплюнул ее Пологару в лицо. И тут Михале наполнило ужасное предчувствие близкой смерти. Теперь он стал хвататься за жизнь.
— Блаже, смилуйся, ради Бога! — застонал он.
Пологар отпустил его, встал и рукавом стер со своего лица кровавый плевок. Михале неподвижно лежал на земле. Он чувствовал себя до странности легким, тяжести больше не было. Боль уже не терзала его. И ему так мягко было лежать на холодной земле, словно он утопал в перине.
— Получил, чего добивался, — проворчал Пологар. — Лежи, лежи! Притворяешься, знаю я тебя. — Он сделал несколько шагов, потом остановился. — Завтра будем сушить сено. Слышал?
Михале слышал отчетливо. Пологар все еще считает его своим слугой… После всего этого… Но Михале совершенно безразлично, что он там говорит. Пусть приказывает! Бедняга закрыл глаза, отдыхая. В ушах зазвучали тяжелые шаги, потом они вдруг смолкли. Стало быть, Пологаром овладели неуверенность и страх. Но все же он не оглянулся, не сказал ни слова. Шаги снова зазвучали и постепенно затихли вдали. Донеслись до ушей Михале слова пьяной песенки, и вдруг она оборвалась, будто заглушил ее голос нечистой совести. Наступила тишина, только ветер шумел в лесу. Михале открыл глаза и устремил взгляд в небо. В разрыве между двумя облаками сияла единственная звезда. И она в это мгновение погасла. Михале лежал спокойно, словно и не собирался больше вставать, до тех пор, пока у него по всему телу не побежал озноб. Он шевельнулся, пытаясь подняться, но грудь снова мучительно заныла. Медленно, со стонами поднялся он на ноги. Опять что-то теплое, соленое хлынуло в рот. Он сплюнул и вытер ладонью подбородок.
— Обработал меня, черт, — застонал он и покачнулся. — Доконал меня… Он меня, а не я его…
Поискав палку, опираясь на нее, побрел к дому. Шел медленно, останавливаясь от резкой боли в груди. Непрестанно вытирал рот, но о крови не думал. И страх смерти больше не терзал его. Опьянение прошло, мысли сделались ясными, как небо после грозы.
— Нет, никогда! — упорно повторял он про себя. — Лучше я ее спалю… Лучше спалить хибарку, чем…
Михале заметил, что потерял шляпу, но не мог и не хотел возвращаться. Ветер трепал его волосы, в дупле дерева ухала сова.
К утру ветер стих, облака сбились в серое покрывало, пошел дождь. Это был мелкий, ледяной осенний дождь, кажется, и не видно его, а пробирает до костей. Листья все быстрее падали, ложились на землю. На ветвях собирались капли дождя, по стволам деревьев струями текла вода. Земля раскисла, колеи наполнились водой и грязью. Серое небо опустилось, оно почти касалось вершины горы, по склонам ползли туманы, цеплялись за кроны деревьев; солнце несколько дней не в силах было пробить толстый слой облаков. Нигде ни звука, кроме тихого плеска дождя и крика галок, перелетающих с нивы на ниву.
Михале лежал навзничь на своей постели, в одежде, даже в обуви, правая рука его покоилась на груди. Это был не сон, не бодрствование, а почти обморочное состояние. Дверь была открыта, ее отворил ветер, виднелись прокопченные сени. Каждый раз, просыпаясь от ужасной жажды, он смотрел в темное отверстие. Но настоящим пробуждением это нельзя было назвать. Сознание прояснялось лишь наполовину, Михале беспрерывно блуждал в мире лихорадочных снов. Потом снова закрывал глаза.
Неясно, словно краешком сознания, он понимал, что страдает. Временами становилось хорошо, несмотря на жаркую лихорадку, которая бешено гнала кровь в жилах. Иногда казалось, что кто-то поднял его над пропастью — Михале охватывал ужас. Порой приходил в себя, но опять терял сознание, пытался проснуться и не мог. Пытался сопротивляться, но силы и голос покинули его.
И только спустя много времени, когда капли холодной влаги утолили его жестокую жажду, он постепенно пришел в сознание. Казалось, он выбирается из-под тяжелых подушек, которые душили его. Дышать стало легче, он открыл глаза.
Изумился. Что с ним происходит? Где он лежит? Темные стены, печь в углу, картинки с ликами святых, дверь закрыта, потоки дождя струятся по оконным стеклам. Кто-то раздел его, он был закутан до подбородка, над ним склонилось знакомое лицо. Оно почти испугало его. Сначала ему показалось, что это Малия, хотя он точно знал, что она умерла.
— Что с вами, отец? Что случилось?
Что? Мысли у него были тяжелые, он не помнил ничего, словно все случилось давно, много лет назад.
— Болен я, — простонал он. — Когда ты приехала, Ангелца?
Он удивленно рассматривал дочь. Теперь она уже не выглядела барышней: другая прическа, лицо бледное, измученное, глаза заплаканные. И все всплыло у него в сознании. Он не упрекал ее, даже в мыслях не упрекал, а увидев ее перед собой, не мог даже поверить. Решил ни о чем не спрашивать. Очень боялся, как бы она сама не заговорила об этом. Она приехала вовремя, он никогда этого не забудет. Не будь ее, он остался бы один, покинутый всеми, и как собака подыхал бы в своей хибаре.
— Я приехала вчера вечером, — ответила она, вытирая платком слезы. — Вчера вечером приехала. Гляжу, все открыто… Что случилось? Кто вас так избил?
Отец долго глядел на нее, ей казалось, что он так и не ответит.
— Кто меня избил? — выдохнул Михале с трудом. — Никто… Никто меня не бил… Я сам…
— Говорят, это Пологар. Пологар вас избил.
Ответа не услышал. Снова начал бредить. К утру, когда Михале пришел в сознание, появился священник. Исповедь была короткой… Оставшись с отцом наедине, Ангелца сказала ему:
— Пологара забрали.
Он долго не понимал смысла этих слов. Не удивился, не почувствовал радости. Остался холоден, точно теперь это его уже не касалось. Михале мучила одна-единственная мысль, которая терзала и преследовала его, пока он был в бреду.
— Домик твой! — он с трудом ворочал языком. — Когда я умру, домик будет твой!
— Боже мой, не говорите так!
— Не продавай его Пологару! Продай кому хочешь, только не ему! Слышишь, Ангелца!
— Да. Не продам. Не продам Пологару.
— Петернелю отдай… Знаешь, старому Петернелю… долг…
Потом он перестал узнавать дочь. Женщину, которую он время от времени видел, он считал Малией. Умолял снять кота с его груди. Голос, звучавший над ним, казался несчастному таким далеким, что он не разбирал отдельных слов.
Умер он вечером, когда после дождливых дней небо прояснилось и первые сумерки спускались на горные склоны.
Ангелца через несколько дней вернулась в город. Она приехала в деревню с твердым намерением остаться с отцом. Слишком поздно! И домик уже был чужой, пришлось продать его Пологару, того за недостатком улик выпустили из тюрьмы. Кроме него, никто не хотел покупать хибарку. Она не смогла выполнить последнюю волю отца.
Под осенним солнцем, которое скупо освещало склоны, шла она вниз с сундучком в руках, назад, в мир, откуда бежала, обманувшись в любви. Горькие воспоминания, могила ребенка, все это было еще так близко и уже далеко-далеко. Она возвращалась в жизнь, в которой, может быть, исчезнет без следа, как ее темная фигура на тропинке осеннего леса.
Перевод Н. Лебедевой.
Нянька
1
Дело было весной. Как-то раз Гривариха собиралась на поденную работу.
— И я пойду с вами, — сказала Нежка.
— Нет.
— Не останусь дома одна.
Гривариха вздохнула:
— Не приставай. Ты ведь знаешь, что будешь мне только мешать.
Нежкой звали маленькую девочку с румянцем во всю щеку и живыми глазенками. Сколько ей было лет? Как раз столько, что можно было без труда сосчитать на пальцах одной руки. На девочке было платьице в крапинку, сшитое из старой материнской юбки. За плечами у нее болталась пара косичек, тоненьких, как крысиные хвостики.
Мать с радостью взяла бы ее с собой. Она знала, что Нежка боится оставаться одна в этом безлюдном, далеком от всякого другого жилья месте. Возвращаясь по вечерам, мать частенько заставала ее в слезах. Но хозяева бывали недовольны, если поденщицы брали с собой детей — боялись, что вместо работы они будут возиться с детьми.
Нежка ничего не сказала, только сморщилась, собираясь заплакать.
— Если будешь умницей, не плаксой, я сделаю тебе куклу, — пообещала мать.
У девочки мигом прояснилось лицо.
— Правда? А когда?
— Вечером, когда вернусь. Будешь умницей?
— Да, — закивала Нежка.
О конечно, она будет умницей, а не плаксой. Чего бы она не совершила ради куклы! Вообще-то кукла у нее уже была, но только сделанная из обыкновенного полена. Брат Нежки Петерч, что был двумя годами старше ее, кое-как вырезал ножом несуразную круглую голову с тупым носом, так что кукла была похожа на кошку. Нежка пеленала деревяшку в рваную материнскую кофту, нянчила ее и баюкала. Разумеется, девочке куда больше хотелось иметь тряпичную куклу, одетую в пестрое платьице.
Усевшись на колоду под раскидистой грушей, Нежка смотрела матери вслед. Всякий раз она тряслась от страха за мать, глядя, как та переходит через бревенчатый мостик, — боялась, как бы она не упала в воду. И облегченно вздыхала только тогда, когда мать была на другом берегу.
В этот день Нежке не хотелось играть. Она желала лишь одного — чтобы солнце поскорей закатилось за гору и наступил вечер. Но когда она поглядывала на небо, ей каждый раз казалось, будто солнце стоит неподвижно все на том же месте. Склон горы был залит ярким утренним светом. Леса и луга, редкие дальние домики и нивы, кусты ежевики и ломонос — все утопало в солнечном сиянии.
Нежка понурила голову. Никогда еще время не тянулось так медленно. Она зажмурилась. Стало темно. Однако вечер не наступил. Она открыла глаза, и снова вокруг был день.
Она оглянулась на свой дом. Одним боком он прислонился к горе. Какой он был маленький и убогий! Закопченная дверь и четыре оконца — словно две пары испуганных глаз. Если бы в свое время все братцы и сестрицы Нежки захотели разом выглянуть во двор, в каждом окне появилось бы по две головки. Отец работал где-то в чужой стороне. Лишь изредка он ненадолго возвращался домой. Да и без него в доме было тесно. Дети друг за дружкой подрастали и уходили на заработки. Дома теперь оставались только Петерч и Нежка.
Петерч был очень тощим — «кожа да кости», — говорили о нем. Он пас на пустоши в горах их единственную козу. Обед он обычно брал с собой в котомке и возвращался только под вечер. Нежка ходила с ним несколько раз, но больше ее на пастбище не тянуло, хотя она очень любила Петерча. Никто не умел так хорошо свистеть и так искусно вырезать из дерева всякую всячину. Но она боялась головокружительной крутизны гор, колючего терновника и гадюк. Однажды она споткнулась и упала прямо в муравейник. Другой раз нечаянно наступила на осиное гнездо. На горе ее подстерегало множество опасностей.
Дома ничего этого не было. Но когда она оставалась совсем одна, здесь появлялись страшилища. При воспоминании о них ее била дрожь. Голова невольно вжималась в плечи. Пусть мама говорит, что нечистой силы не существует. Нежка ей не верит. Она чувствует присутствие чего-то жуткого.
Неподалеку стоял лес. К вечеру от него начинали расползаться тени. А весь день в гуще деревьев слышались странные, протяжные голоса. Внизу между скал пенилась и шумела горная речка. Звуки эти отдавались в ущелье угрожающим эхом. Под бревенчатым мостиком был водоворот. Здесь несколько лет назад нашли утопленника. Сама Нежка его не видела, но мысленно хорошо представляла себе мертвеца. И ужасно его боялась. Иногда ей чудилось, будто он поднимается по крутому берегу вверх. Топ, топ! Засохшие деревья на той стороне реки казались черными лешими или какой-то иной нечистью.
Над этим сухостоем нависал крутой берег, поверху которого тянулась изгородь. За изгородью выше по склону горы раскинулся выпас. Иногда между кустов Нежка могла разглядеть пастуха и небольшое стадо. Тогда она не ощущала себя такой одинокой в этом безлюдье.
— Эге-гей!
Нежка оглянулась. За рекой на сухом дереве, держась за ветку, примостился мальчик. Это был Тинче, пастух Меяча. Он окликал кого-то на противоположной горе. Крик его, прежде чем затихнуть, дважды отдавался эхом.
— Эге-гей!
Это откликнулся Петерч, поднявшийся со своей козой высоко к самому гребню горы.
Пастухи кричали во все горло, о чем-то переговариваясь. Нежка не прислушивалась. При мысли о кукле она чувствовала себя счастливой. Между тем солнце на небе поднялось уже высоко и стояло почти над головой.
После полудня пастухи умолкли. И скотина куда-то скрылась. Нежка присела в тени. Уткнув подбородок в колени, она засмотрелась на тропинку по ту сторону реки. Когда же вернется мама? Было еще слишком рано, и все же Нежка опасалась ее прозевать. Обычно сначала из-за кустов показывалась мамина голова, затем туловище, потом широкая юбка…
У Нежки на лбу выступили мелкие росинки пота. Веки ее отяжелели, приходилось делать усилие, чтобы они не сомкнулись, стала тяжелой и голова. Нежка прислонилась к груше, да так и уснула.
Рот ее был приоткрыт, губы слегка округлились, словно она собиралась засвистеть. Деревянная кукла упала на землю. Прилетела стрекоза и уселась девочке на голову.
2
Она проснулась и испугалась. Что это, она и вправду спала? Солнце ушло далеко на запад и сейчас только что закатилось за гору. Из-за деревьев выглядывали последние лучи. На реку и лес ложился сумрак.
Это были минуты, когда ее больше всего одолевал страх. Она боялась теней и не смела отойти от дома. Сидела на одном месте и тихонько хныкала, пока не возвращалась мама… Но сегодня она должна быть умницей и не плакать. Правда, она вся дрожала, но все-таки сдерживала слезы.
Нежка напряженно смотрела вниз, в сторону реки. На той стороне за ольшаником пролегала песчаная тропинка. На ней появилась темная фигура. Она то скрывалась в кустах, то возникала снова, постепенно все приближаясь.
— Мама!
Нежка замахала руками, словно хотела взлететь как птица. Выскочив на тропинку, она босиком побежала к реке. Сейчас она не боялась ни колючей ежевики, ни теней. Но перейти через мост не решилась. Под мостом вода с шумом перекатывалась через большую скалу, падая с нее вниз и образуя водоворот. На мостик летело целое облако мелких брызг. Мостик был скользким, да к тому же очень узким и шатким. Из-за кустов показалась мама и, приветствуя Нежку, подняла вверх мотыгу.
— Ты была умницей?
Да, конечно, она была умницей. Пусть мама сама убедится — глаза у Нежки совсем не заплаканные.
Взявшись за руки, они пошли к дому.
Мать обнаружила на плите горшочек с оставленным Нежке обедом.
— Почему ты ничего не ела? — удивилась она.
— Я забыла, — робко ответила Нежка.
Гривариха разожгла огонь в печи и принялась готовить ужин.
Нежка уселась на порог, спрятала руки под передник и не мигая уставилась на мать. На ее лице плясали светлые блики. Лишь краем уха услышала она, что Петерч пригнал домой козу и сейчас запирает ее в хлеву. Затем он вошел в сени.
— Мама мне сошьет куклу! — сообщила ему Нежка.
— Что ж, хорошее дело!
Он подошел к печи и стал мешать угли.
Когда мать подоила козу, было уже совсем темно. Она зажгла коптилку. Ужинали тихо, почти молча. Мать помыла посуду. Затем она досуха вытерла руки, взглянула на Нежку и усмехнулась.
Нежка вся сжалась. Сердце ее замирало от счастья.
Гривариха принесла шкатулку, которую обычно хранила в сундуке под замком. В ней была сущая мешанина из старых пуговиц, лоскутков, тесемок, ниток, иголок и булавок. Мать надела старые очки. Нежка села рядом с ней на скамейку и, съежившись, положила голову себе на колени. Мать подбирала тряпки и сворачивала их, так что получился тугой комок. Нежка тоненьким голоском тихонько смеялась.
Подперев голову руками, Петерч тоже следил за работой матери.
— Кукла из тряпок! — поморщился он. — Ведь у нее даже носа не будет.
— Молчи, Петерч! — сказала мама. — Это ничего, что не будет носа. Зато и соплей не будет.
— Если она попадется козе, коза ее съест.
— Не-е-ет, — испугалась Нежка.
— Съест? — удивилась мама. — Тогда бы она тебя давным-давно съела, ведь сам-то ты только ворох тряпья.
Все трое засмеялись.
И снова стало тихо. Так тихо, что слышно было, как в стене между бревен поет сверчок.
Плотный сверток из тряпок превратился в кукольную головку, мать обернула ее белой тряпочкой, сверху пришила платочек, затем туго перевязала там, где полагалось быть шее. Получилось и туловище. Немного погодя кукле надели платьице в крапинку, с рукавчиками, все отделанное синими и красными тесемочками. А передничек оказался зеленый, с большим бантом.
Каждый вечер после ужина Нежка мигом засыпала, но сейчас в глазах ее было напряженное внимание — она смотрела, как под волшебными мамиными руками возникает ее кукла. Девочка почти не смела дышать.
Петерч между тем уснул.
Наконец кукла была готова. Минуту мать оглядывала ее. Может быть, ей еще чего-то недостает? Нет. Все в порядке. И она дала ее Нежке.
С этого мгновения кукла стала ее собственностью. Нежка вся дрожала, сжимая куклу в объятиях.
— Теперь ты каждый день должна хорошо себя вести.
— Да.
— И никогда больше не плакать.
Исполнить это было трудновато. Но сейчас Нежка готова была пообещать что угодно.
— Не буду… А как назовем куклу?
— Как хочешь.
Мать очень устала, да и час был поздний. Убрав шитье, она завела часы и легла рядом с Нежкой. Затем задула коптилку, и в комнате стало темно.
Однако Нежка не могла сразу заснуть. Она прижимала куклу к груди и учащенно дышала. Думала, как бы назвать куклу. Только на ум ей не приходило ничего толкового.
— Мама! — шепнула она.
— Чего тебе?
— Как назовем куклу?
Мать задумалась.
— Пусть будет Божья коровка, ведь у нее платьице в крапинку… — сказала она.
Нежка тихонько засмеялась. Прозвище ей понравилось… Она обнимала куклу, пока вместе с ней не унеслась в мир сновидений…
3
От дома Гриваров почти до реки тянулись огороды. Принадлежали они крестьянам — как бедным, так и богатым. Весной здесь разводили капустную рассаду, к осени вырастало много картошки, моркови, свеклы.
Нежке редко доводилось видеть жителей деревни. Как правило, это случалось лишь тогда, когда они появлялись на огородах. Она не упускала случая поглазеть на людей. Сколько новых лиц! Она сидела на корточках у изгороди и нянчила куклу.
Божья коровка казалась ей самой прекрасной куклой на свете. Нежке не наскучило бы возиться с ней круглые сутки. Ради куклы ей приходилось теперь хорошо себя вести. Нежка готовила ей обед, баюкала ее и пела.
Лишь когда на огородах появлялись люди, она ненадолго забывала о кукле. Ее детские мысли переносились на тот берег, где раскинулась деревня. Там стояли дома, в которых жили люди, приходившие к реке на огороды.
Тогда она вспоминала, что хибарка их совсем маленькая, что сама она одета в рваное платьишко и, порой голодная, обшаривает все в доме в поисках завалявшейся сушеной груши или корочки хлеба. А там, в Робиднице, стоят большие дома, возле них не бегают девочки в лохмотьях и белый хлеб люди едят не только на Пасху и Рождество. Все это она знала со слов братьев и сестер, служивших у богатых крестьян. Они любили прихвастнуть, какие вкусные вещи им доводилось есть. Иногда они приносили домой большие куски белой булки.
Однажды Нежка сидела на весеннем солнышке и жмурилась. Она представляла себе, что уже нарядилась в платье, какое ей очень хотелось иметь — сплошные яркие ленты и маленькие блестящие пуговки. А перед ней дымится большой кусок рождественского сладкого пирога.
Она снова открыла глаза и почувствовала в них резь от яркого солнца. Розовое платьице исчезло. Сквозь дыру в юбке выглянуло голое колено… Внизу, в огороде, полола дородная, румяная крестьянка. Переступая ногами по черной земле, она дергала левой рукой сорняки, а правой работала мотыгой.
Она дополола до самой изгороди и разогнула спину. Заметив сквозь кусты ежевики Нежку, улыбнулась.
— Ты чья? — спросила женщина.
— Гриварова.
Нежка указала на домишко у себя за спиной, потом опустила глаза, уставившись на свою куклу. Она не привыкла к людям и стеснялась их.
— А как тебя звать?
Нежка ответила.
— Поела бы хлеба?
— У меня его нет.
Крестьянка весело рассмеялась. Она сунула руку в карман и вытащила оттуда большой кусок хлеба. Хлеб, испеченный из смеси белой и гречишной муки, был похож на пирог. Женщина протянула его Нежке сквозь изгородь.
Нежка поднесла краюху ко рту и хотела уже откусить, но передумала. С хлебом в руках она побежала домой.
Мать удивилась, увидев у нее такой большой кусок хлеба.
— Кто тебе дал?
— Женщина.
— Какая женщина?
Этого Нежка не знала.
Мать вышла на порог и увидела Меячиху, направлявшуюся по тропинке к их дому. Женщины поздоровались и вошли в горницу.
Меячиха села. Откашлявшись, она сказала:
— Дала бы ты мне Нежку, она немного присмотрела бы за нашей Маричкой!
Гривариха всплеснула руками:
— Боже мой, какая из нее нянька!
— Да она и не будет нянькой. Станут вместе играть, вот и все.
Гривариха не могла решиться. Она всегда беспокоилась за Нежку, оставляя ее дома одну. Весь день только о ней и думала. Нежка была ее заботой и обузой. И все же ей не хотелось расставаться с дочкой.
— Если мы останемся ею довольны, это будет не задарма, — настаивала Меячиха.
Гривариха глядела на дочку, часто моргая глазами.
— Чтобы младенец нянчил младенца? — вздохнула она.
— Я тебя не неволю, — сказала соседка и поднялась со своего места. — Как хочешь… Я только подумала, это было бы неплохо и для меня, и для тебя…
А Нежка тем временем молча стояла у печи и только беззвучно открывала рот. Она чувствовала, что разговор идет о ней. Но была так растеряна, что не могла всего уразуметь. Она поглядывала то на мать, то на Меячиху.
— Ты хотела бы пожить у Меячевых? — спросила ее мать. — Была бы у них нянькой.
У Нежки от смущения перекосилось лицо. Она теребила куклу за платье.
— Не знаю, — замялась она.
— Хлеба у них будет вдоволь. И новое платьице получишь.
— Да, да, — подтвердила Меячиха.
— В самом деле? — Нежка взглянула на соседку. — Розовенькое?
— Розовенькое, — засмеялась Меячиха. — Ну как, придешь?
— Ладно, — сказала она тихо и посмотрела на мать. — А как же Божья коровка?
— Какая божья коровка? — удивилась Меячиха.
— Кукла.
— Ну, куклу у тебя никто не отнимет. И у Марички есть кукла. Вместе будете им стряпать и спать их укладывать…
Они договорились. Нежка должна была стать нянькой у Меячевых.
4
В воскресенье после полудня мать отвела Нежку на место ее первой службы. Небо было серым, хмурым; солнце лишь изредка прорывалось сквозь тучи… Нежка несла куклу, а мать узелок, в котором было увязано все имущество дочки.
Его было совсем немного. Платьице, две рубашонки, большой платок и пара поношенных башмаков на зиму. Сейчас девочка ходила босиком.
Нежке было тоскливо, ведь ей приходилось расставаться с родным домом, и в то же время любопытно: как-то будет у Меячевых? Мать шла призадумавшись. Долгое время они молчали. Выйдя на высокий берег, они смогли окинуть взглядом дальние склоны гор.
— Вон, смотри, там живут Меячевы, — показала Нежке мать.
Нежка смотрела…
Усадьба Меячевых находилась на краю деревни. Низкий, раздавшийся в ширину дом и большой хлев были почти прижаты к горному склону, но все же за постройками оставалось еще немного ровного пространства, где росла липа и был поставлен сеновал. Вокруг на невысоких пригорках раскинулся большой сад. За сеновалом начинался лес. Меячиха приняла их ласково.
— Значит, пришли? — сказала она.
— Да, вот, пришли, — это произнесла мать. Нежка не могла выговорить ни слова. Она стояла рядом с матерью и озиралась по сторонам. Все было чужое и новое. И все такое большое. Большой дом, большие окна, большая печь и большие часы — все прямо-таки огромное. Даже образа святых на стене выглядели большими — казалось, будто им тесно, и они хотят переместиться на потолок.
Меяч расхаживал по комнате, заложив руки за спину. Был он высокого роста, с рыжеватыми бакенбардами. Именно из-за этих бакенбардов, торчащих в разные стороны, Нежка побаивалась его. Батрак с седыми усами был уже в годах, он сидел сгорбившись на скамье и курил трубку. Маричка притаилась на печи. Она глазела на то, что происходило в горнице, стараясь запихать в рот пальцы ноги.
Меячиха подала им кофе. Нежка робко поглядывала на большой кусок хлеба, положенный возле ее чашки.
— Ешь, ешь! — сказала мать.
И Нежка ела. Она не была голодна и заставляла себя есть через силу. Сдерживая слезы, она тяжело дышала. Девочка чувствовала, что все на нее смотрят, и не смела поднять глаза.
— Скучать будет, — сказал Меяч.
— Ничего, привыкнет, — ответила хозяйка. — Да и не так уж мы далеко. Выйдет на горушку за сеновалом и дом свой увидит.
Наконец мать попрощалась.
— Присматривайте за ней, как за своей дочкой, — сказала она. — А ты, Нежка, слушайся!
Нежка кивнула и пошла немного проводить мать — до дороги. Дальше идти она не решилась. Смотрела матери вслед, а та уже приближалась к лесу. В руке у нее покачивался узелок, в который Меячиха положила полбуханки хлеба да пригоршню бобов и фасоли. Нежка засунула палец в рот и оцепенела. Ей очень хотелось закричать, броситься за мамой вдогонку.
Мать оглянулась.
— Я буду тебя навещать, — крикнула она. — Каждое воскресенье.
Когда, вернувшись, Нежка подошла к дому, в глазах у нее стояли слезы.
Перед хлевом она столкнулась с пастухом, который только что пригнал домой скотину. Он был на два года старше Нежки, — коренастый мальчишка с большой лохматой головой. Это был тот самый мальчик, что сидел тогда на засохшем дереве и перекликался с Петерчем. Так близко Нежка его еще никогда не видела. Издали он казался совсем другим.
— Плачет, — ухмыльнулся пастух, входя за ней в дом.
— Молчать! — Меяч смерил пастуха суровым взглядом. — Ты положил подстилку скотине?
— Нет еще.
— Так чего ты ждешь?
Тинче выскользнул из комнаты.
— Залезай на печь, — сказала Меячиха Нежке. — К Маричке. Хорошенько присмотритесь друг к другу! Теперь вы должны стать подружками.
Нежка забралась на печь. Девочки оглядывали друг друга, как две молодые кошки. Маричка дотронулась до Нежки обмусоленным пальчиком и засмеялась.
Во время ужина Нежке всякий раз приходилось приподниматься со своего места, чтобы дотянуться ложкой до стоявшей посреди стола большой миски… Рядом с пастухом сидел Филипп, брат Марички. Он был годом старше пастушонка, белокурый и толстощекий. Все время он исподлобья поглядывал на Нежку. Тинче кивал ей, встряхивая своей шевелюрой. Ох, это он умел! Огромная копна волос двигалась то вперед, то назад, и получалось очень забавно. Ему хотелось рассмешить Нежку. Но девочка не смеялась.
Ее одолевала дремота.
— Отведи ее спать! — сказал Меяч жене.
Взяв лампу, Меячиха повела Нежку в сени, а из сеней по лестнице куда-то наверх.
Нежка все время тревожилась, где ей придется спать. Дома она спала с мамой. Если вдруг ночью ее охватывал страх, она прижималась к маме. Когда хозяйка привела Нежку на чердак, где ей устроили постель, у Нежки задрожали коленки.
— И здесь я буду спать? — спросила она робко.
— Да, здесь, — ответила Меячиха. — Придется тебе научиться добираться до постели в потемках. Не будем же мы каждый вечер провожать тебя с лампой.
Нежка умоляюще взглянула на Меячиху. Неужели и вправду ей придется спать здесь, между балок и корзин? Нет, нет, нет! Она хотела попросить, чтобы ее не оставляли одну, но не осмелилась.
Меячиха ушла. Нежка разделась в темноте, залезла под одеяло и накрылась с головой. Дрожа от страха, она прижимала к себе куклу, словно искала у нее помощи и защиты. Из глаз ее потекли слезы. Так, плача тихонько, она и заснула.
5
Нежка стала привыкать к новой жизни. Все было не так, как она ожидала.
Меячиха говорила, что Нежка будет здесь только играть. Она и вправду играла. Но лишь тогда, когда этого хотела Маричка. Если Нежкина подопечная спала, Нежке давали другую работу. Она должна была чистить картошку и носить дрова в сени. Иногда в подойнике таскала воду от колодца, а ранним утром собирала в саду паданцы. Босые ноги обжигала роса. Приходилось также подавать снопы на повети. Это было тяжело. Всякий раз, как она поднимала сноп, у нее кололо в груди. Случалось, хозяева пахали, возили навоз в поле — тогда ей приказывали вести волов. А она их боялась. Думала, что они в любую минуту могут ее растоптать или поднять на рога.
Иногда она так уставала, что хотелось сесть и горько расплакаться. Но тут нужно было идти к Маричке. Играя с ней, Нежка бегала по пригорку. Или таскала ее на спине. Это Маричке никогда не надоедало. Нежка носилась с ней как шальная.
Но как-то Нежка споткнулась и упала, стукнувшись носом о землю. Маричка ушиблась о камень, так что на лбу у нее вскочила большая синяя шишка. Кричала она, будто ее режут. Прибежала Меячиха.
— Что случилось?
Она подхватила Маричку на руки и приложила ей ко лбу холодный камень.
Нежка стояла перед ней, бледная и испуганная.
— Как это она упала? Может, ты ее толкнула?
— Нет, я несла ее на закукорках. Мы упали вместе.
— Толкнула, — проговорила Маричка, заливаясь слезами.
Нежку настолько поразила эта ложь, что она не могла выдавить из себя ни звука.
— Мне так и показалось, — кричала Меячиха. — Ты толкнула ее!
— Это неправда! — вырвалось у Нежки из глубины души.
— Убирайся! — заорала Меячиха. — Не хочу тебя видеть!
Нежка повернулась и пошла к сеновалу. Ее поразила такая несправедливость. Но в сердце ее не было злобы — одна горечь.
Первая служба ей не нравилась. И не из-за работы, хотя работа была иногда тяжела для ее ручонок. И голодной она не ходила. Хлеба ей хватало, правда, белого не давали. Белый хлеб приберегался для Марички. Меяч относился к Нежке по-доброму. Филипп и Тинче получали от него подзатыльники за каждый пустяк, но ей он не сказал ни одного плохого слова. Он был совсем не страшным. Боялась она Меячихи. Хозяйка давно уже не была такой ласковой, как в первые дни. Она стала придирчивой и сварливой. О розовом платьице больше не вспоминала. Может, и вовсе о нем забыла.
— Когда вы мне купите платьице? — как-то напомнила ей Нежка.
— Какая нетерпеливая! — рассердилась хозяйка. — Ты у нас без году неделя… И потом, разве ты всегда хорошо себя ведешь?
Это был для Нежки прямо-таки удар в сердце. Мрачное уныние, словно колючий терн, засело в ее душе. Меячиха пообещала ей розовое платьице, чтобы заманить к себе. Ее обманули самым бессовестным образом…
Если бы Нежка не была такой маленькой и такой робкой, ей жилось бы здесь куда лучше. Но она была подобна приблудному котенку, которого каждый походя может пнуть ногой ни за что ни про что. Филипп и Тинче поочередно дразнили ее себе на потеху.
Пастушонок пугал ее гадюкой, которую принес на палке. Как ей было страшно, как она кричала! А иногда он прямо на нее гнал скотину. Раз поймал котенка и посадил его Нежке на спину.
— Нежка! — однажды тихонько окликнул ее Филипп. — Хочешь конфетку?
— Хочу, — сказала Нежка, охотно верившая всем и каждому.
— Подставляй руку!
Она подставила ладонь.
— Держи! И сразу же клади в рот!
Он что-то зажал у нее в руке. Это что-то зашевелилось. Нежка, отпрянув в испуге, швырнула то, что дал ей Филипп, и вскрикнула. Это оказался жук.
Филипп хохотал. Тинче чуть не катался по земле от смеха.
— Божьей коровке дали конфетку! — куражился он.
Из-за куклы ее дразнили божьей коровкой.
— А ты крот, противный крот! — крикнула она пастуху.
— Погоди! — пригрозил ей Тинче. — Вот я принесу тебе в постель живого крота.
После этого она каждый вечер боялась найти крота у себя в постели.
Больше никто ни разу не проводил ее вечером с лампой, когда она отправлялась спать. Ей приходилось одной идти в темноте через сени и дальше по закопченной лестнице и скрипучим половицам чердака. В воображении мигом оживали страшные россказни. В каждом углу прятались бесовские отродья. Они медленно взбирались перед ней по лестнице, показывая рожки и язык. Она видела их совершенно отчетливо. Чтобы не упасть, Нежка вынуждена была пробираться ощупью. Но едва дотронувшись до какого-нибудь предмета, она вздрагивала. Ей казалось, будто она прикоснулась к неведомому чудовищу. Ну хоть бы не скрипели так доски под ногами! Она прижимала к груди куклу и, дрожа, приговаривала: «Не бойся, я с тобой!» Так раньше говорила ей мама. И сейчас она успокаивала себя, а не куклу. Самый большой из бесовского племени поджидал ее, сидя на подушке, он перекатывался на бок и залезал под кровать. Каждый вечер она добиралась до своей постели вся в поту от страха. И потом тряслась, тиская куклу в объятиях, пока не засыпала…
Однажды ночью на чердаке появилось привидение. Задремав, Нежка очнулась от шума, доносившегося с лестницы. Она в страхе приподняла голову и прислушалась. Кто-то скребся о доски и подвывал: ууу… ууу… ууу… — а потом: гррр… грр… грр… Звук был горловой, словно рычал большой зверь. У Нежки кровь застыла в жилах. У нее вырвался короткий, прерывистый крик, потом она лишилась голоса. Свернувшись клубочком под одеялом, закутала голову, чтобы ничего не слышать. От ужаса из глаз у нее текли слезы.
Утром она спустилась в сени совершенно перепуганная.
— Ты ночью кричала, — сказала ей Меячиха. — Верно, во сне?
— Нет. Меня пугала нечистая сила. Кто-то скребся и рычал.
— Это была кошка. Ты что, кошки испугалась?
Нежка хотела попросить хозяйку, чтобы та больше не посылала ее спать на чердак, но не решилась.
— Что, было ночью привидение? — шепнул ей вечером Тинче.
Несколько мгновений Нежка, пораженная, смотрела в его насмешливые глаза.
— Так это был ты! — воскликнула она с укоризной.
Тинче этого не отрицал, но и не подтвердил. Только скалил зубы.
6
Мать не приходила к Нежке каждое воскресенье, как обещала. Навестила лишь разок, посидела возле дома и вскоре ушла. Нежка частенько видела ее издали, когда та работала на чьих-то полях у деревни. Они махали друг другу рукой.
Когда у Нежки было тяжело на душе, она садилась у сеновала и смотрела в сторону своего дома. Темный домишко проглядывал сквозь зелень деревьев. Иногда ей удавалось заприметить и Петерча с козой высоко у гребня горы. Она завидовала ему.
Ей хотелось домой — каждый день, каждую минуту. От мелких и крупных обид, от горького чувства у нее будто завязался в груди тугой узел. Все чаще подумывала она о побеге. Но как это сделать? Такая маленькая и беззащитная — разве способна она воспротивиться всему свету? Нежка знала, что Меячевы ее не отпустят. Даже если она убежит — как перебраться через реку? Идти по шаткому мостику она боялась.
Однажды в воскресенье неожиданно пришла мама. В такое время, что и предположить было невозможно. Нежка обрадовалась и горячо обняла ее — обхватила руками вокруг пояса. И снова, как тогда, в первый день, они сидели в горнице на скамейке. Меячиха поставила перед ней большую чашку кофе. И положила белого хлеба. Вероятно, чтобы показать матери, какой у них в доме достаток…
Встретившись с матерью, Нежка вспомнила все пережитые невзгоды. Губы ее дрожали. И взгляд ее тоже что-то хотел сказать.
Мать смотрела на нее заботливо, с любовью. Она не могла не заметить грустного вида девочки.
— Ну как ты, Нежка? — спросила она под конец.
Боже мой, как было тяжело! Если бы мама спросила ее об этом наедине, она расплакалась бы и все рассказала. Но здесь, в горнице, при всех, под чужими взглядами она не осмелилась это сделать. Опустив голову, сидела, не поднимая глаз.
— Ну что ж, скажи, если есть на что пожаловаться, — проговорила Меячиха.
Взгляд ее был угрожающим, он словно предупреждал: только посмей!
Нежка молчала.
Когда мать стала прощаться, было уже темно. Нежка проводила ее до дороги, а потом еще дальше, до самого леса.
— А теперь возвращайся, — остановила ее мать.
Тогда отчаянье Нежки достигло предела. Из глаз ее хлынули слезы.
Мать испугалась.
— Господи, деточка, что с тобой?
— Я с вами хочу, — всхлипывала Нежка. — Не останусь больше у Меячевых.
— Как же так? Что случилось? Разве тебе тут нехорошо? Рассказывай все! Почему ты не говоришь?
— Божьей коровкой меня об-зы-ва-ают…
— И это все? — мать с облегчением вздохнула, она ожидала худшего. — Это пустяки. Ну и что, если тебя называют божьей коровкой? А ты смейся над ними!
— Филипп и… Тинче… меня дра-азнят!
— А ты Меячихе скажи, пусть их отругает. Как они тебя дразнят?
Нежка не могла успокоиться. Всхлипывая, она медленно выдавливала из себя слово за словом.
— Меня пугал… Тинче…
— Вот как? Дождется он у меня, дрянной мальчишка! — рассердилась мать. — Не бойся, больше он не будет тебя пугать. Уж я поговорю с ним. Уж я его проучу… А ты ступай, чтобы хозяева не беспокоились, куда ты подевалась. В воскресенье я тебя навещу…
Нежка возвращалась к Меячевым. Слабая надежда, что мать возьмет ее с собой, рассеялась. Она останется нянькой…
7
На следующий вечер пастух почему-то поздно пригнал скотину домой. Обычно он так кричал и свистел, словно приближалось целое войско, а сегодня вел себя тихо, как мышонок. Напоил скотину, загнал ее в хлев и, швырнув ей подстилку, принялся умываться у колодца.
Батрак удивился.
— Наш пастух моется, — сказал он, — с чего бы это?
— Кто моется? — переспросила хозяйка, не расслышав. — Кот?
— Не кот, а пастух. Не знаю, что это с ним такое.
Тинче был известный грязнуля. Даже в воскресенье он едва ополаскивал лицо. Сейчас он не обращал внимания на подшучивание. Утершись полой куртки, он уселся на скамью перед домом и хмуро уставился вдаль.
Когда он пришел ужинать, всем стало ясно, что он плакал. Умывание не смогло скрыть того, что лицо у него распухло и глаза покраснели. Видно было, что он зол и разобижен. Сидящих за столом он не удостоил даже взглядом, будто они в чем-то перед ним виноваты. Он хмурил брови и сердито черпал из миски. С ложки у него текло на стол.
Домочадцы удивлялись. В чем дело? Что с ним случилось? Они привыкли видеть его смеющимся, а не заплаканным.
— Что это ты такой кислый? — спросил наконец Меяч.
Тинче не поднял глаз.
— Ясное дело, — сказал батрак. — На дудке заигрался, пустил скотину в огород, вот его за потраву кто-то и отделал.
Тинче не мог больше сдерживаться. Он швырнул ложку на стол.
— Гривариха мне всыпала, — выкрикнул он срывающимся голосом.
Нежка ощутила устремленные на нее взгляды. Кровь прихлынула к щекам. Она знала, за что ему так влетело. Но к чувству удовлетворения примешивался страх. По спине ее пробежали мурашки, рука дрожала. Ей очень захотелось оказаться сейчас где-нибудь в другом месте.
— А за что она тебя? — спросил хозяин.
— Она сказала… сказала… что я пугал Нежку…
Нежка обвела лица сидевших робким взглядом. От внезапного приступа страха она чуть не заплакала, но сдержалась.
— Это правда? — спросил Меяч сурово.
— Правда, — ответила она. — Он пугал меня… ночью…
— Ну, тогда Гривариха отлупила тебя за дело, — сказал Меяч пастуху.
Тинче в ярости вскочил с места.
— Это неправда, неправда! — кричал он. — Неправда! Ты наврала! Ты все врешь!
Схватив ложку, он запустил ею в няньку.
— Тинче! — гаркнул хозяин. — Это еще что?
— Правда! — твердила Нежка. — Правда, правда, правда! Он скребся и рычал!
— Нет, нет, нет!
Перестав есть, все глядели на Нежку и Тинче, старавшихся перекричать друг друга. Лишь Филипп, не поднимая глаз, продолжал черпать ложкой из миски. Он покраснел до корней волос, уши его просто пылали.
Батрак глазами указал на него хозяину. Тот взглянул на сына и хотел было тут же положить ложку на стол, но передумал.
— А сейчас помолчи! — сказал он Тинче. — Если это и вправду был не ты, все выяснится.
До конца ужина домочадцы молчали. Когда поднялись из-за стола, Меяч отвесил Филиппу такую затрещину, что тот застонал и пошатнулся.
— За что? — вступилась Меячиха.
— Он знает, за что, — сказал Меяч. — Пошел вон, — прикрикнул он на сына.
Дважды повторять не пришлось. Филипп с ревом выскочил из комнаты.
Нежка была ошеломлена. Она знала, что все это произошло из-за нее. Но отчего Меяч ударил сына, понять не могла. После ужина она вскарабкалась на печку.
— Иди спать! — рявкнула на нее Меячиха.
Нежка с испугом заглянула ей в лицо.
— Иди спать! Неужто не слышишь?
Нянька молча ушла. Она должна была еще почистить на завтра картошку, но ее отчего-то прогнали. Чем она провинилась? Это было ей совершенно непонятно.
8
Стоял жаркий и душный день.
Нежка была дома одна. Все семейство убирало сено на лугу за полем. В хлеву было пусто, скотину выгнали на пастбище. Лишь изредка в свинарнике повизгивали поросята. Куры прилегли у забора в крапиве и от жары разевали клювы.
Маричка спала в боковушке. Нежка заперла дом и положила ключ под порог. Здесь она не боялась оставаться одна. В этих местах не было узкого ущелья, шумящей реки и леса, из которого доносились странные звуки. И не было сейчас никого, кто заставил бы ее исполнять какую-нибудь работу. Она могла играть сколько душе угодно.
Больше всего Нежка любила играть в тени кудрявой липы за хлевом. Вся трава там была истоптана и примята ее ножками. Она двигалась тихо, так тихо, будто ее вообще не было на свете.
Она играла со своей куклой. Божья коровка спала в колыбельке из древесной коры. Ах, сколько у Нежки было дел и забот! Едва дочка уснула, как тут же опять заплакала. Нежка кипятила ей в черепке на понарошку горящем костре белый песок. Это было молоко. Кормила куклу щепочкой-ложкой. На еду каждый раз дула, чтобы дочка не обожглась. Но кукла, случалось, шалила.
— Погоди… вот тебе, вот! — шлепала ее Нежка.
Потом нужно было ее утешать. Нежка обещала ей конфетку, если перестанет плакать. И затем укачивала, убаюкивала: «Баю-баюшки-баю…»
Кукла для Нежки вовсе не была свертком из тряпок. Она казалась ей живой. Пока дочка спала, у Нежки было несколько свободных мгновений. Но она очень скоро просыпалась, и все начиналось сначала… Нежка поднялась, чтобы быстренько сбегать домой. Ей нужно было прислушиваться, не проснулась ли Маричка. Иногда, заигравшись, нянька о ней забывала. А Маричка в боковушке орала во все горло. За это Нежку ругали.
Не успела Нежка подойти к дому, как внезапно остановилась. Она увидела приближающуюся корову. Это была большая, пятнистая корова, звали ее Пеструха. Нежка боялась коров, она к ним не привыкла. А больше всех боялась Пеструхи. У нее были злые глаза и один рог торчал прямо вперед.
Вскрикнув от испуга, Нежка отступила и спряталась за липу. И стала осторожно выглядывать из-за ствола. Корова остановилась перед домом, пощипывая траву.
Тут до слуха Нежки донесся протяжный крик:
— Не-е-ежка!
Нянька вздрогнула. Сквозь ветви деревьев она взглянула на луг. Меячевы торопились с уборкой сена и сгребли уже половину. Но в эту минуту они не работали. Стояли и смотрели в сторону дома.
— Не-е-ежка! Эй! Не-е-ежка!
Они кричали ей. Кричал Меяч, она узнала его по голосу. Испугавшись, она встала во весь рост, чтобы ее лучше видели. Чего они от нее хотят?
Меяч погрозил ей кулаком, а Меячиха подняла грабли, словно хотела ее ударить.
Нежка вспомнила, что ее иногда окликали с поля, так как она, заигравшись с куклой, забывала про Маричку… Она помчалась к дому. Только теперь ей стал отчетливо слышен плач Марички…
9
Нежка вошла в дом. Маричка больше не плакала. Она услышала шаги няньки. Нежка на носках подошла к боковушке, тихо отворила дверь и заглянула в темноту. В окно едва проникал свет. Маричка, размазывая по лицу слезы, лежала в большой люльке. Светлые волосы, мокрые от пота, падали ей на лоб. Она увидела Нежку и снова сморщилась.
— Маричка, ку-ку!
Нежка боялась ее слез. Они всегда предвещали несчастье. Только «кукование» могло вернуть ей хорошее настроение и улыбку. Нянька сняла с Марички одеяло и поставила ее на пол. Затем надела на нее розовое платьице и застегнула на спине пуговки. Их было бесконечно много. Маричке не терпелось:
— Есть хочу!
— Подожди! Сперва я тебя немножечко умою и причешу.
— Не буду мыться! — захныкала Маричка.
— Ну и не надо. Чего опять раскисла? Ходи чумазой, замарашка! Я тебя только причешу.
От этого Маричка не отказывалась. Она любила, когда ей перебирают волосы. Нежка причесывала ее старым гребнем с выщербленными зубьями.
Они пошли в сени. Нежка разгребла в очаге горушку пепла, положила на не остывшие еще угли несколько сухих щепочек и раздула огонь. Затем приставила к нему горшочек с молоком, который был приготовлен в шкафу. Накрошив в чашку белого хлеба, она налила туда разогретого молока, от которого шел пар.
Чашку она отнесла в комнату, посадила Маричку на скамейку и принялась ее кормить. Всякий раз она дула на ложку и пробовала капельку кончиком языка. Не горячо ли?
От этих проб она с неожиданной остротой почувствовала, что и сама хочет есть и пить. Можно было напиться воды. Или взять простокваши. Черный хлеб тоже лежал в столе. Если бы она отрезала себе ломоть, никто не сказал бы ей худого слова. Но ей очень захотелось молока с белым хлебом.
Соблазн был велик, Нежка не могла совладать с собой. Она уже не пробовала кончиком языка, а заглатывала половину ложки. Черпала полную ложку, а Маричке доставалась лишь половина.
Маричка была смекалистая. Она зорко наблюдала за тем, как Нежка черпает, дует и пробует. Заметив обман, она сморщила личико, собираясь заплакать.
— Что с тобой? — рассердилась Нежка. — Чего ты хочешь?
— Не тебе, не тебе…
— Кто ест-то? Я всего лишь пробую! Должна же я попробовать, чтобы ты не обожглась.
Нежка была оскорблена… Первые дни и вправду казалось, что они с Маричкой будут подружками. Но из этого ничего не вышло. Маричка была избалована, заласкана матерью. Она быстро почувствовала, что она хозяйка, а Нежка — ее прислуга. Вечно ругали только Нежку, а ее никогда.
У Нежки от этого в сердце словно засела заноза. Она не могла воспротивиться ни одной из тех мелких несправедливостей, которые то и дело постигали ее; в душе копились обиды. Внешне с Маричкой она держалась ласково, иначе ведь было нельзя, но не любила ее. Наоборот, даже ненавидела.
Сейчас, в сердцах, она нарочно не подула на следующую ложку. И не подождала, пока Маричка пошире откроет рот, ткнула ей ложкой в зубы, так что горячее молоко потекло по подбородку и шее девочки.
— Жже-е-ется!
Маричка заревела.
— Чего же ты рот как следует не открываешь! Вот и получила! Так тебе и надо!
Маричка поперхнулась слюной, даже посинела. Она болтала ногами и вопила что есть мочи.
Нянька испугалась. Если рев Марички услышат на лугу, быть беде! Нежка схватила ее за руку и принялась сердито трясти.
— Перестань, ничего ведь не случилось! Ну перестань, а то задохнешься… Маричка!
Но это не помогло. Нежке и самой хотелось заплакать. Она боялась, что вот-вот кто-нибудь вернется с луга и вбежит в комнату. Нужно было любым способом успокоить Маричку, отвлечь ее, чтобы к вечеру все выветрилось у нее из памяти. Это было нелегко.
Нежка подавила в себе раздражение. Краем подола вытерла Маричке лицо и нос. Затем обняла ее и стала уговаривать:
— Покушай, Маричка! А потом будешь играть с моей куклой. Да, с моей куклой…
Маричка оттолкнула няньку. Подумаешь, ее кукла! Маричка и так играла с ней, когда хотела. Этим она не дала себя обмануть.
— Ну и реви! — сказала Нежка. — Кривляйся, сколько хочешь! Я сама все съем.
Угроза подействовала. У Марички вмиг высохли слезы.
— Не-е-ет! — проговорила она нараспев. — Дай мне!
Нянька опять кормила ее. Больше не надо было дуть, молоко уже остыло… Нежка подумала о кукле. Где она ее бросила? Кажется, она осталась под липой? В колыбельке из коры? Да. Из-за коровы, из-за окликов с луга и из-за Марички Нежка совсем о ней забыла. Обычно она постоянно носила куклу с собой.
Она забеспокоилась. Может быть, куклу сожрала Пеструха. Однажды Нежка видела, как корова жевала старую тряпку… Нежке захотелось немедленно сбегать на пригорок и взглянуть, все ли там в порядке. Но она побоялась, что Маричка поднимет крик.
Нежка все быстрее черпала ложкой…
10
Едва Тинче расстался с длинной рубашонкой и надел свои первые штаны, как его отдали в пастухи. В семье Меячевых, где ни один работник долго не задерживался, он прослужил уже три года. Тинче был веселый, улыбчивый мальчонка, лучше всего чувствовал он себя на пастбище. Скотина его любила.
Тинче тоже любил коров, всех, кроме Пеструхи. Эта корова доставляла ему одни неприятности. Он не мог играть на дудке, все время нужно было за ней присматривать. И все-таки иногда она убегала. Протискивалась сквозь живую изгородь и направлялась прямиком к дому. Потом он находил ее в саду, где она как ни в чем не бывало щипала травку. Меяч за это ругал пастуха.
В тот день Тинче собрался было влезть на сухостой и перекликнуться с Петерчем на соседней горе. Но сначала оглядел коров — не отбилась ли какая от стада? Одна, две, три… А где же Пеструха? Все коровы спокойно паслись в тени, Пеструхи не было.
— Пеструха! — позвал он. — Пе-естру-уха!
Напрасно, корова не отзывалась. Пропала. Пастух оставил скотину пастись, взял длинный прут и побежал к дому. Всю дорогу он злился на Пеструху. Грозил ей. Он так ее отхлещет прутом, что она запомнит. А сам знал, что мигом забудет все свои угрозы, едва завидит корову. В отличие от других пастухов, он не бил скотину. Да и ни к чему это было. Животные повиновались его голосу.
Парило. Пот струйками тек по его телу. Лицо от грязи стало пятнистым. Воздух будто застыл, ни один лист на деревьях не колыхнулся. Приближалась гроза. На западе из-за гор вздымались тучи. Вдали глухо прогремел гром.
— Эй, Пеструха, дрянь такая! — закричал Тинче.
Он увидел корову за хлевом. Пеструха невозмутимо щипала траву, будто здесь ей и положено было пастись и все в полном порядке. Тинче остановился на дороге.
Корова подняла голову и коротко промычала. Она была недовольна, что ей мешают пастись на хорошей траве. Но, будучи неглупой, она сама по собственному почину вышла на дорогу. Проходя мимо пастуха, она озорно скосила на него один глаз.
Пастух уже хотел последовать за ней, но взгляд его остановился на лежавшей под липой кукле. Это была Нежкина Божья коровка. Находка развеселила его. Из предосторожности он огляделся по сторонам, затем поднял куклу с земли. Держа ее в грязных руках, он еще раз с опаской посмотрел направо и налево.
Тинче не был злым человеком. Он был просто озорником и проказником, как, вероятно, все вихрастые, лохматые мальчишки. С другими пастухами он обычно находил общий язык, но был не прочь подразнить девчонок. Его забавляло, когда они распускали нюни. По правде сказать, Нежка нравилась ему больше других. Но она его жестоко обидела, обвинив в том, что он будто бы ее пугал. И за это костлявые пальцы Гриварихи немилосердно надрали ему уши. Такую несправедливость он не мог ни забыть, ни простить. Особенно потому, что Нежка была в доме единственной, кто не хотел поверить, что он ни в чем не повинен. Каждый день она поглядывала на него с насмешкой и укоризной. Это его задевало.
Все эти дни его не покидала мысль о мести. Не очень жестокой, так как он частенько жалел Нежку, но все же такой, чтобы она почувствовала. Сейчас в руках у него была кукла. Удивительно, как это он ее нашел. Нежка никогда не оставляла ее, даже брала с собой в постель. Лицо Тинче расплывалось в улыбке, сердце его замирало.
Где же Нежка?
Он медленно шел к дому. Ему хотелось, чтобы нянька увидела находку в его руках… Ему ничего не стоило закинуть куклу на дерево, на самые верхние ветки. Или лучше затоптать ее в навозной жиже, что подтекала из хлева. Нет, этого он не сделает. Покажет ей куклу и убежит. Нежка поднимет крик, помчится за ним по дороге, а он от нее. Когда ему это надоест, он забросит куклу в крапиву за оградой. Нежка вся обожжется, доставая куклу.
— Ти-и-инче-е-е!
Он остановился и посмотрел в сторону луга. Ему не пришло в голову, что его могут заметить. Меяч стоял у пышного куста и глядел на дом.
Пастух испугался. Неужели его увидели? Он зажал куклу под мышкой и прошмыгнул мимо хлева. В один миг он очутился на дороге рядом с Пеструхой, которая уже озиралась в поисках клочка вкусной травы.
Он погнал ее вверх по склону. На небе сгущались все более темные тучи. Гром грохотал уже ближе. В тучах сверкали молнии. Листья вздрагивали от легкого ветра.
11
Нежке не терпелось выйти из дома. Едва она влила Маричке в рот последнюю ложку молока, как тут же вскочила со скамейки. Ей некогда было помыть посуду. Она отыскала Маричкину куклу, валявшуюся в боковушке, схватила девочку за руку и потащила ее с собой за дверь.
В эту минуту глухо прогремел гром, будто по небу проехала большая телега. Маричка остановилась в испуге.
— Пошли скорей, — сказала Нежка и посмотрела в ту сторону, где раньше паслась корова. Ее уже не было.
Маричка медлила, и Нежка, выпустив ее руку, одна побежала на лужайку. Она окинула взглядом землю под липой и ужаснулась.
Где же кукла? Кукла исчезла.
Нежка еще раз огляделась вокруг. Может быть, она перепутала и оставила куклу в другом месте? Но ее не было нигде. Сейчас она совершенно отчетливо вспомнила, что положила ее в колыбельку из коры. Колыбелька тут, под липой и… пустая.
От горестного чувства у нее сжалось сердце, кровь заледенела в жилах. В один миг в голове промелькнула сотня разных мыслей. И самая страшная из них — куклу сожрала корова.
Маричка, семеня ножками, прибежала следом за ней. Она вспомнила про обещанную куклу.
— Кукла! — начала она канючить.
— Нет куклы! — нетерпеливо крикнула Нежка. — Ты слышишь? Нет куклы, — прибавила она с отчаяньем. — Ее унес злой дядька с мешком.
Это помогло. Маричка смотрела на нее в испуге и молчала. А Нежка как ошалелая бегала вокруг хлева, вокруг дома и сеновала, по всему саду — искала Пеструху. Она боялась ее, это правда. Но в этот миг чувствовала необыкновенный прилив отваги. Она вырвала бы куклу прямо изо рта у коровы. Нисколько не испугалась бы ее изогнутого, торчащего вперед рога.
Пеструхи не было ни в саду, ни на дороге. Ее и след простыл. Словно она приходила сюда только для того, чтобы сожрать куклу и с чувством полного удовлетворения уйти обратно.
Нежка снова стояла под липой, на глаза ее навертывались слезы. Может, за это время кто-то прошел мимо, унес с собой куклу, и она ее больше никогда не увидит? Тут ее вдруг осенило.
Коровы не было видно. Сама бы она на пастбище не вернулась. Наверное, за ней приходил Тинче, он ее туда и угнал. Он взял и куклу… Тинче!
Это показалось ей вполне вероятным. Она удивилась, как это ей раньше не пришло в голову. И на какой-то миг даже обрадовалась своей догадке. Только бы куклу не сожрала корова! А так кукла еще не окончательно потеряна… Но минуту спустя Нежка почувствовала сильное беспокойство. Она считала Тинче очень озорным мальчишкой. Раньше, когда он, стоя на сухом дереве, перекликался с Петерчем, он ей даже нравился, но теперь Нежка его боялась. Если бы не его косматая, вихрастая голова и вечная ухмылка! Ей казалось, что он, как никто другой в доме, способен на все. Если он взял куклу, то наверняка с ней что-нибудь сделал. Что именно — об этом ей некогда было думать. А вдруг Тинче тут ни при чем? Нужно было это выяснить, тогда она стала бы искать куклу где-то в другом месте.
Если бы ей раньше сказали, что она пойдет на пастбище одна, Нежка бы содрогнулась от страха. Ведь она даже дороги туда как следует не знала. Но сейчас она об этом не задумывалась. Ее беспокоила только Маричка. Нянька не смела оставлять ее одну. Но ничего, она сбегает бегом и сразу вернется.
— Маричка, поиграй со своей куклой! Свари ей обед, уложи спать… уложи в мою колыбельку… Ладно?
Да, Маричка была довольна. Но когда Нежка уже приблизилась к изгороди, вдруг поднялась с земли и захныкала:
— Нежка!
Нянька остановилась. В этот миг она почувствовала к Маричке ненависть.
— Чего ты хочешь, капризуля? — спросила она, чуть не плача. — Я сейчас вернусь. Иду за куклой. Ее унес Тинче… Гадкий, противный Тинче! — горячо говорила она Маричке. — Ты только будь паинькой! Я принесу тебе Божью коровку…
Маричку удалось успокоить. Она снова присела и стала играть.
Нежка помчалась по дороге с такой скоростью, на какую только были способны ее маленькие, босые ножки. Ее раненое сердечко бешено плясало в груди. А в душе затаилось целое озеро слез. Она сдерживала их. Ей было сейчас не до горестных чувств. Она испытывала только страх за куклу. И злость на Тинче.
Она добежала до развилки дорог. Куда теперь? Свернула на дорогу, истоптанную скотиной.
Между тем громады туч поднялись уже высоко в небо. Они достигли солнца, которое вдруг померкло. На склон горы легла зловещая тень. Задрожали травы, затрепетали на деревьях листья. Гром гремел все более грозно, молнии вспыхивали все чаще. Дальние горы окутались серым плащом дождя.
При каждом ударе грома Нежка приостанавливалась и вся сжималась. И снова бежала дальше. Она не думала ни о Маричке, ни о Меячихе, ни о приближающейся грозе. Она напряженно смотрела вперед, ища глазами пасущихся коров. Кустарник, только кустарник, а между ним узкие лужайки. Нежка уже подумала, что заблудилась…
И вдруг чуть не налетела на Пеструху, которая стояла у большого куста и оглянулась на нее с любопытством. Коровы спокойно паслись на склоне горы. Тинче сидел под старым грабом. От нечего делать он хлестал по земле хворостиной.
Нежка побежала прямо к нему.
Он ничуть не удивился. На лице появилась улыбка до ушей. Нежке сразу стало ясно, что это он унес куклу. Его даже не надо было спрашивать. Лицо его выдало — оно не умело лгать.
— Отдай куклу! — всхлипнула она.
Тинче поднялся. Он остановился перед ней, слегка прищурив глаза.
— Какую куклу? — спросил он.
— Божью коровку… Ты и сам знаешь. Ты ее взял. Никто другой.
— Не брал я твоей куклы. На что она мне!
— Врешь, куда ты ее дел?
Девочка совсем приуныла. В руках у Тинче куклы не было. Нежка поверила, что кукла потеряна навсегда. От жгучего отчаянья у нее хлынули слезы. Она присела на корточки и, уткнув лицо в передник, горько заплакала.
Тинче стоял перед ней, словно одеревенев. Обычно девчоночье хныканье его забавляло, но этот плач не мог оставить его равнодушным. Слезы были такими искренними, что и камень не устоял бы перед ними. С губ Тинче исчезла злорадная улыбка.
— Нежка! — окликнул он.
Она подняла на него заплаканные глаза.
— Смотри!
Тинче кивком указал на косматую ветку граба над своей головой. На ветке печально повисла Божья коровка. Так высоко, что Нежка не могла до нее дотянуться.
— Дай мне ее! — попросила она.
Тинче поднял длинный прут и великодушно стряхнул им куклу. Нежка стремительно ее подхватила. Она снова обрела свою куклу.
Не сказав больше ни слова, Нежка повернулась и побежала через луг. По пути она вытирала заплаканное лицо.
Небо раскололось от нового громового удара. Упали первые крупные капли дождя.
12
Меячевы еще не успели убрать всего сена, как разразилась гроза. Пошел дождь, и поднялся ветер. Кругом зашумело, закачались верхушки деревьев, налетевший вихрь ломал ветки.
Меяч с батраком и Филиппом спрятались под ригель с сеном. Меячиху тревожили домашние дела. Закинув подол юбки на голову, чтобы не вымокли волосы, она со всех ног побежала к дому.
Она была уже на пригорке, когда неожиданно услышала детский крик и плач.
— Ма-ама! Ма-ама!
Что такое? Она остановилась и удивленно осмотрелась вокруг.
— Господи Исусе! — воскликнула она.
Меячиха увидела Маричку, стоявшую под проливным дождем. Девочка промокла до нитки, будто ее окунули в колодец, и изнемогала от плача. В груди у нее что-то болезненно хлюпало. Маричка заметила мать. Голос ее стал печальным и жалобным.
— Мама! Мама! — приговаривала она.
В один миг Меячиха оказалась рядом с ней. Она отшвырнула грабли и подхватила девочку на руки.
— Боже мой! — запричитала она. — Что ты тут делаешь? А где Нежка?
Она оглянулась. Где же нянька? Ее нигде не было. Но Меячихе некогда было о ней думать. Она очень беспокоилась за Маричку. Бедная девчушка! Такая гроза, ее ведь могло убить. И вымокла насквозь. Теперь, чего доброго, заболеет и умрет.
Она побежала с Маричкой в дом, поспешно вытерла ей лицо и волосы, переодела в сухую одежду.
— Бедная моя деточка! — жалостливо твердила она. — Так тебя могут угробить. — Меячиха чуть не плакала. — Больше никогда не буду оставлять тебя одну. Ни на кого нельзя понадеяться…
Обнимая ее, Маричка ревела еще пуще. Она не могла забыть, что ее бросили одну под дождем.
Мать открыла сундук и дала ей большой медовый пряник в виде сердца, который хранила для своей крестной.
— Вот, возьми, несчастный ребенок! Нет у тебя в жизни ничего хорошего!
Маричка откусила кусок пряника и успокоилась. Мать качала ее на руках.
Она думала о Нежке. Куда же та подевалась? Злость ее усиливалась. Меячиха весь день чувствовала, что дома не все в порядке, но не могла оставить работу.
— Куда ушла Нежка? — спросила она Маричку.
— За куклой.
— За куклой? Куда? За какой еще куклой?
Этого Маричка не знала. Но она почувствовала, что мать расспрашивает ее не для того, чтобы потом похвалить няньку. Маричка была сердита на Нежку. Еще как! И старалась на нее наябедничать. У нее было множество жалоб.
Она лепетала что-то о злом дядьке с мешком. И о молоке, которое было таким горячим, что она обожглась…
Мать ничего не понимала. Но одно она уразумела: Нежка сделала Маричке что-то плохое… Ах, бедная деточка!
— Мы ее выпорем, когда она вернется, — сказала Меячиха. — Ну и влетит ей!
— Выпорем, — повторила Маричка.
Гроза кончилась, но дождь еще шел. Мужчины вернулись домой. Увидев заплаканную, мокроволосую Маричку, Меяч удивился.
— Я нашла ее одну под проливным дождем, — сказала с ожесточением жена. — С ней могло что-нибудь случиться.
Меяч не знал, что и ответить. Некоторое время он расхаживал по комнате.
— Так оно и бывает, — произнес он наконец, — когда дети нянчат детей.
Меячиха рассердилась.
— Так оно и бывает! Это оттого, что ты за нее всегда заступаешься, — сказала она. — Какое она дитя! Надо было строже ее держать.
У Меяча была ясная голова и незлое сердце. С работниками он обращался как с собственными детьми — не лучше и не хуже. Он не раз пытался замолвить за Нежку словечко, но не хотел особенно перечить жене, которая вспыхивала как порох.
— Я вовсе за нее не заступаюсь, — проворчал Меяч. — Я только хотел сказать, что она еще ребенок. Я был против того, чтобы в няньки брать ребенка. А ты все по-своему…
— Господи, вы только послушайте! — рассвирепела жена. — И он еще говорит, что не заступается… Вы слышите?
Меяч не хотел ссоры. Сердитый, он вышел из комнаты и хлопнул дверью.
13
Нежка попала под самый ливень.
Она могла бы укрыться под деревом или нависшей скалой, но не сделала этого. Больше она не боялась ни молний, ни грома. Ведь с нею опять была кукла! Нежка прижимала ее к себе и, тяжело дыша, поднималась в гору.
Вот она и у липы. До этой минуты Нежка была как в забытьи. Только сейчас она осознала, что бросила Маричку одну, а тем временем разразился ливень. Этого она не должна была делать. Меячевы уже наверняка вернулись. Ей стало страшно.
Она не смела показаться им на глаза. Но куда уйти, чтобы они ее не нашли? Оставаться под дождем она не могла, с нее и так уже текло ручьями… Она тихонько приблизилась к дому, но войти не решилась. Встав на носки, она заглянула в окно.
Батрак и Филипп сидели на скамье. Меяч прохаживался по комнате от окна до дверей в боковушку и обратно. Хозяйка держала на руках всхлипывающую Маричку, волосы ее были мокрые.
— Боже мой, Боже мой! — Нежку охватила такая тоска, что сразу иссякли все силы. Подкашивались ноги. Ей захотелось упасть на мокрую траву и горько расплакаться. У нее не было никого, кто бы мог за нее заступиться. Или хотя бы просто выслушать ее жалобы. Оставалась одна только кукла.
В эту минуту отворилась дверь и на порог вышел Меяч. Нежка стояла перед ним вся мокрая и тряслась от холода и страха. Она взглянула на хозяина испуганными глазами.
— Ты где была? — спросил он строго.
Нежка не ответила. Только опустила голову. Губы у нее дрожали.
Меячу стало ее жалко.
— Что ты тут делаешь? Ты ведь вымокла, хоть выжимай. Живо в комнату!
Она тихонько вошла, тихонько остановилась у двери. Робко посмотрела на Меячиху. С платья ее текло, так что под ногами образовалась лужа.
Меячиха смерила ее злобно-насмешливым взглядом:
— Где ты была?
Нежка подняла руку к лицу и ничего не ответила.
Хозяйка посадила Маричку на скамейку и, подойдя к Нежке, сердито дернула ее за руку.
— Где ты была? Будешь наконец говорить?
— Ходила за куклой, — прошептала Нежка сквозь слезы.
— За куклой? Зачем ты врешь? Где была кукла?
— Ее унес… Тинче.
— Ах, вот как? За куклой? — Меячиха выхватила у нее из рук куклу и швырнула ее через всю комнату, так что она залетела под скамью. — А Маричку бросила? Хорошо же ты за ней смотришь! Ну, погоди у меня!
Она выпустила Нежку и вышла в сени.
Потихоньку всхлипывая, Нежка пересекла комнату. Она хотела поднять куклу. Но прежде чем она успела нагнуться, вернулась Меячиха с прутом в руках. Девочка мигом обо всем догадалась и оцепенела от ужаса.
— Оставь куклу! У нас сейчас другие счеты!
— Ой нет, нет! — умоляюще воскликнула Нежка, заслоняясь руками. — Только не бейте меня! Ой, нет, хозяйка, я больше не буду. Я вправду больше не буду.
— Мрета! — прикрикнул на жену Меяч.
Но Меячиха не обращала внимания ни на мужа, ни на Нежкины просьбы. Она схватила няньку и перегнула ее через колено…
Так и случилась эта беда… Нежка могла ожидать чего угодно, только не этого. Дома ее никогда не били. Даже Петерч и тот ни разу ее не ударил. И дело не только в том, что было больно. Главное, ее постигла жестокая несправедливость. Обидней всего, что ее отхлестали по голому телу на глазах у всего семейства. Это жгло ее сердце и душу. Все горести, накопившиеся с самого начала службы, были ничто по сравнению с этим… Она кричала так, что, казалось, у нее лопнет горло.
— Мрета, довольно! — рявкнул Меяч.
Меячиха выпустила Нежку, так как заревела и Маричка.
Нежка чуть не упала на пол, но тут же выпрямилась. Закрыв лицо руками, она, пошатываясь, направилась к двери.
— Куда? — прикрикнула Меячиха.
— Домой, — всхлипывала девочка. — Домой пойду. Больше у вас не останусь. Пойду домой…
Меячиха испугалась, что Нежка и вправду отправится домой… Что скажет Гривариха? Чего доброго, о ней еще станут судачить в деревне.
— Никуда не пойдешь! — крикнула она и оттащила Нежку от дверей. — Останешься здесь!
— Ох, отпустите меня, я хочу домой, — просила Нежка. — Домой… Больше тут не останусь… Домой…
Она никак не могла успокоиться.
— Молчи! Или хочешь еще получить?
Нежка испугалась. Больше сопротивляться она не смела, пришлось покориться. Она залезла на печь. Душу терзала несправедливо нанесенная ей обида. Если нельзя домой, то хотя бы вернули куклу!
— Куклу! — всхлипывала она. — Божью коровку!
— Больше ты ее не получишь, — сказала хозяйка. — Ты сюда не играть пришла. Поди не маленькая.
Потом в горнице надолго воцарилась тишина.
Под вечер Тинче пригнал скотину домой. Он был в хорошем настроении, как и всегда после грозы. Не беда, что весь вымок. Громко топая и насвистывая, он вошел в дом.
И удивился. Все молчали, и у всех были вытянутые лица. А у Нежки и Марички — заплаканные глаза. Что это значит?
У него мелькнула смутная догадка, что и он как-то причастен к этим неприятностям. Он уже пожалел, что вошел в горницу. Ему захотелось потихоньку улизнуть и не показываться до самого ужина.
— Погоди! — остановил его Меяч. — А что ты делал днем возле дома?
— Когда? — пробормотал Тинче.
Меяч покраснел от гнева.
— Когда? Сам знаешь, когда. После полудня. Я видел тебя с луга.
— У меня убежала Пеструха.
Тут к нему потянулась тяжелая рука Меяча и схватила его за копну кудрявых волос.
— Кабы ты только Пеструху погнал и ничего больше не трогал! Будешь знать в другой раз…
Тинче получил такую затрещину, что зашатался. И если бы не затрещина с другой стороны, он наверняка растянулся бы на полу. Третьей он ждать не стал — выскочил за дверь.
За порогом он заревел во весь голос и долго клялся, что ни дня больше не останется здесь пастухом… Уж они увидят…
14
В этот вечер Нежка не захотела садиться за стол. Она не чувствовала голода. Когда Меячиха велела ей убираться вон, Нежка вышла в сени. Сегодня она не боялась нечистой силы. Это были сущие пустяки по сравнению с тем, что творилось в ее душе. И в конце концов, если домой нельзя, пусть ее сожрет нечисть. Пусть от нее останется только платье. И все увидят, как ее несправедливо обидели. Она не будет сопротивляться.
Но нечисть ее не сожрала. Нежка живая добралась до постели и нащупала одеяло. Она была вся мокрая, одежда прилипла к телу, но она не разделась. И ничем не укрылась. Так и легла прямо на одеяло. Никогда раньше она не чувствовала себя такой одинокой. Все на нее сердятся. И куклы больше нет. Она ее уже никогда не увидит.
Нежка уткнула лицо в ладони и заплакала. Это были искренние, горькие слезы всеми покинутого, несправедливо обиженного ребенка.
Наконец она успокоилась, свернулась калачиком и стала думать. Больше всего ей хотелось убежать от Меячевых. Почему мама не взяла ее с собой, когда Нежка так ее просила? И если она сейчас убежит, как мама примет ее?
В эту минуту что-то затрещало в досках фронтона. Нежка вздрогнула, подняла голову и прислушалась. Кто-то тихонько скребся, словно хотел отодвинуть деревянный засов, просунув снаружи пальцы в большую щель… Там, в стене, была еще одна дверь. К ней иногда приставляли лестницу, по которой носили на чердак клевер.
Нежка села и с таким напряжением стала вглядываться в темноту, что почувствовала боль в глазах. Действительно, дверь слегка приоткрылась, так что можно было уже увидеть слабый отсвет ночного неба. Холодок пробежал у нее по всему телу — до самых пальцев ног.
— Я знаю, это ты, Тинче, — голос ее дрожал от ужаса. — Я знаю.
Кто-то шепотом окликнул ее. Это и вправду был Тинче. Теперь, когда она убедилась в этом, ей уже не было так страшно. Испуг почти прошел. Она даже обрадовалась, больше не чувствуя себя такой одинокой и заброшенной. Чего ему нужно?
— Нежка, ты где?
— Тут, — отозвалась она шепотом.
По его голосу она поняла: он не замышляет ничего плохого. Она не видела его, только слышала, что он направляется к ней. Медленно, осторожно, чтобы не скрипнули доски.
Наконец он ощупью добрался до кровати.
— Я принес тебе куклу! — сказал он.
Нежка была поражена. Этого она меньше всего ожидала.
— Давай! — протянула она руки. — Где она?
— Вот держи!
Девочка нащупала в темноте куклу, схватила ее и притиснула к груди. Она дрожала в приливе благодарного чувства и даже тихонько всплакнула от радости.
Тинче присел на край кровати.
— Тише, чтобы нас не услышали! — сказал он.
— Где ты нашел куклу? — спросила его Нежка.
— Хозяйка выбросила ее в мусор… А я подобрал.
Нежка снова вспомнила все обиды. У нее дрогнул подбородок. Тинче был виноват в ее бедах. Этого она забыть не могла.
— А почему… ты раньше… унес… мою куклу?
Мальчику стало неловко. Он посмотрел в сторону, в темноту.
— Потому что ты сказала, что это я… тебя пугал.
— А разве не ты?
Тинче решительно тряхнул головой.
— Нет, — ответил он.
— Тогда кто же?
— А ты разве не знаешь? Филипп!
Нежка сидела на постели, широко раскрыв глаза. Вот оно что! Сейчас это показалось ей вполне естественным. Поэтому хозяин и ударил Филиппа. Теперь она все поняла. Значит, Тинче не такой уж злой мальчишка, хотя у него лохматая, вихрастая голова. Нежка была перед ним виновата. Она пожалела о том, что случилось, но не сказала ни слова. Некоторое время оба молчали.
Между тем небо прояснилось, показались звезды. Иногда налетал ветерок и шелестел листвою.
— Хозяин больно тебя ударил? — спросила наконец Нежка.
— Пустяки, — Тинче пренебрежительно мотнул головой, но голос его подрагивал от обиды и гнева. — Мне это не впервой. А ты? Я бы на твоем месте сбежал.
Нежка смотрела на него и слушала как взрослого советчика. Она доверилась ему всей душой. То, что он говорил, находило отклик в ее сердце. Мысль о побеге возникала у нее уже не однажды. Она снова заплакала.
— Тише, Нежка! — прошептал пастух. — Неровен час, услышат… А ты убеги! Если не убежишь, у тебя завтра снова отберут куклу… Я тебе помогу.
Отберут куклу? Нежка задумалась. Нет, только не это. Она решилась. Убежит!
— И ты тоже убежишь? — спросила она Тинче.
— Нет, — грустно покачал он головой. — Мне нельзя. Я должен остаться до Юрьева дня.
Нежка посидела еще минуту. Совершать побег было жутко. Потом она быстро поднялась с постели.
15
Пастух помог Нежке выйти через дверь во фронтоне.
За сеновалом они попрощались. Тинче, дурачок, не знал, почему Нежка смотрит на него такими печальными глазами. Ах, если бы он проводил ее хотя бы до реки! Но просить она не смела.
Может, он тоже на обратном пути будет бояться всякой чертовщины. Кроме того, он прямо-таки трясся от страха, как бы хозяева не узнали, что он помогал няньке при побеге. И что вернул ей куклу. Он спешил как можно скорее оказаться рядом с батраком на сене. Ты еще немножко постоишь тут? — спросила она робко.
— Ладно, — пообещал он.
И она побежала по дороге через пригорок. Она подскакивала и высоко поднимала ноги, чтобы не удариться большим пальцем о камни.
Остановившись, Нежка оглянулась. Стоит ли еще Тинче на пригорке? Сеновал она различала, а пастуха разглядеть не могла.
— Тинче! — окликнула она его.
— Эй! — отозвался пастух.
Он был еще там. На душе у нее стало полегче. Казалось, будто он все это время провожает ее.
Она побежала дальше… Там, где от дороги ответвлялась тропинка, Нежка снова остановилась и оглянулась назад. Сеновала уже не было видно. Его скрывали деревья. Наверное, и Тинче ушел. Она осталась одна.
Нежка ступила на тропинку. «От родника налево, — сказал ей Тинче. — Эта дорожка ведет прямо к реке. Заблудиться невозможно».
На узкой тропинке было куда темнее, чем на дороге. С обеих сторон росли густые деревья и кустарник. Теперь Нежка не могла бежать так быстро, как прежде, боялась споткнуться или оступиться. Она шла вдоль склона горы. Временами рука ее прикасалась к мокрой траве.
Теперь ее уже ничто не могло остановить. Даже мысль о том, что скажет мать. Даже нечистая сила.
Окаянные! Они и сейчас жили в ее воображении. Едва наступила ночь, как они вылетели откуда-то, словно пчелиный рой, и все время появлялись на ее пути. Она их отчетливо видела. Это были ее знакомые — страшные чудища с сотней рук. Она боялась их, так боялась, что была чуть жива от страха. В глазах у нее стояли слезы. Приходилось напрягать зрение, чтобы что-то различать в темноте, а хотелось поплотней зажмуриться. Рот ее был открыт. Казалось, она вот-вот вскрикнет. Но не издавала ни звука. Сейчас она испугалась бы собственного голоса.
Отяжелевшие от дождя ветви склонились над тропинкой. Кое-где они свисали так низко, что она задевала их головой. Тогда крупные капли падали ей на волосы и за ворот платья. И каждый раз Нежке чудилось, будто к ней прикасаются чьи-то мокрые, холодные пальцы. Иногда она на мгновенье опускалась на корточки, задерживая дыхание. И снова спешила вперед.
Но что это там? У тропинки стояло что-то темное и совсем не похожее на дерево. Огромная фигура лешего — он только что вышел из чащобы и встал прямо на дороге. Длинные лохматые волосы на его голове торчали во все стороны.
Нежка застонала от страха и присела, словно пыталась уменьшиться, сжаться, исчезнуть совсем. По щеке у нее скатилась слезинка. Но нужно было идти дальше — как-то разминуться с лешим, который стоял неподвижно и, казалось, держал руки в карманах. Нежка зажмурилась, чтобы его не видеть. Придерживаясь за нависающий над тропинкой откос, она пыталась с закрытыми глазами прошмыгнуть мимо чудовища. Споткнувшись о камень, Нежка чуть не упала. Тогда, приоткрыв глаза, она взглянула вперед — леший исчез. Значит, она уже миновала его! Оглянуться Нежка побоялась. Она отчетливо слышала, как страшилище зашевелилось, пошло за нею тяжелым, неровным шагом: топ, топ! Потом все затихло. Только сильно колотилось сердце: «тик-так, тик-так» — словно часы.
Путь был невероятно долгим. Тропинка извивалась по склону горы, спускаясь все ниже, — и конца ей не было. Когда они проходили здесь с матерью, дорога показалась намного короче. Нежка уже давно слышала шум воды. Но тропинка вела ее все дальше и дальше, а река не появлялась. Ночью весь мир был словно заколдован. Может, она заблудилась?
Наконец кусты расступились. Нежка остановилась у реки. Поднявшаяся от дождя вода пенилась и шумела, качая ветки, склонившиеся к самым волнам. На другом берегу смутно вырисовывался темный кустарник. Дома не было видно. Его скрывала тьма. Окна не светились.
Нежку била дрожь, но она смело ступила на мостик. Не было никого, кто мог бы взять ее за руку или просто перенести на тот берег. Она сделала несколько шагов. Бревна были мокрыми, скользкими, под ними белела пена, окроплявшая брызгами босые ноги Нежки. Мостик показался ей еще более шатким и узким, чем обычно. Нежка остановилась и поглядела вперед. Конца мостика она не увидела. Казалось, он обрывался где-то посередине, словно его распилили, и теперь он вел прямо в бездну.
Нежку охватил ужас и отчаянье. Она почувствовала, что до конца мостика ей не дойти — пошатнется и свалится в воду. И возвратиться на берег она не могла. Как же тут повернуться?
От шума клокочущей воды у нее кружилась голова. Нежка заплакала, но лишь на мгновенье. Почувствовав новый прилив отваги, она быстро повернулась и опять оказалась на берегу.
Смертный страх постепенно сменялся отчаянной тоской. Она присела на мокрую траву.
— Мама! — закричала она. — Мама!
Шум реки поглощал ее крики.
— Мама! Ох, мама!
В ответ не было ни звука. Вокруг простиралась глухая, темная ночь.
Вдруг на другой стороне реки что-то шевельнулось. Нежке привиделось, будто кто-то приседает и вновь поднимается, маня ее к себе косматой рукой.
Нежка вскочила и спряталась под куст орешника.
— Мама! Мама!
Сейчас, когда она немного отдалилась от шумящей воды, голос ее как будто зазвучал громче. Долетел ли он до того берега? До стоящего в ущелье домика?
Нежка кричала, звала маму. Она напрягала голос, чтобы перекричать нечистую силу, испугать ее, не дать подойти ближе.
— Мама!
А утопленник на той стороне реки то приседал, то поднимался, подманивая ее большой косматой ручищей.
16
Гривариха крепко спала. Ей снились кошмарные сны. На груди у нее лежал огромный кот. Она дышала с трудом, и не было сил шевельнуться. Наконец она проснулась вся в поту. Испуганно огляделась вокруг. В комнате было темно. На стене жалобно тикали ходики. Заливисто храпел спавший на печи Петерч. Она протянула руку и распахнула окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Небо было ясное, временами шелестели деревья. В ущелье шумела вздувшаяся от дождя река.
Ей показалось, будто сквозь шелест ветра и шум воды доносятся отдаленные крики. Она затаила дыхание и прислушалась. Опять! Сквозь шум воды она расслышала голос. Казалось, кричит отчаявшийся ребенок: «Ма! Ма!»
Гривариха вскочила с постели и потянула за ноги Петерча.
— Петерч, послушай! Да проснись ты!
Петерч повернулся на другой бок и продолжал спать.
— Петерч! Вставай же наконец!
Мальчик сел, протер глаза и посмотрел в сторону окна.
— Чего вы меня будите? — сказал он сердито. — Еще не рассвело.
— Прислушайся, ты лучше слышишь! Будто кто-то кричит?
У Петерча сразу прошел сон. Почесывая голову, он напряженно глядел в окно. От услышанного крика холодок пробежал у него по спине.
— Что это? — робко оглянулся он на мать.
— Не знаю, — ответила Гривариха, одеваясь в темноте. — Может, Нежка, — забеспокоилась она. — Собирайся скорей! Пойдем посмотрим.
Петерч уже был готов, оставалось накинуть куртку. Мать зажгла лампу.
Они вышли на тропинку. Гривариха светила себе под ноги и бежала вперед. Ежевика цеплялась за одежду, с веток осыпались капли дождя. Время от времени мать останавливалась на миг и напряженно вслушивалась в темноту. Ничего не слышно. Только шумит река.
Они остановились у мосточка. Прислушались, но не различили никаких посторонних звуков. Может, им все почудилось?
Тогда снова донеслось с другой стороны реки:
— Мама! О мама!
Это была Нежка. Мать узнала ее по голосу. И Петерч тоже ее узнал.
— Нежка! — окликнула ее Гривариха, у которой на глазах выступили слезы. — Нежка, где ты?
— Мама!
— Сейчас я приду. Петерч, дай мне руку, а то еще поскользнешься.
Мать шла по склизкому, висящему над водой мостику, освещая путь лампой и волоча за собой Петерча. Она остановилась на дорожке.
— Где ты? — Гривариха поворачивала лампу во все стороны. — Отзовись!
Она нашла Нежку, притаившуюся под кустом, с куклой в объятиях. Девочка была насквозь мокрая, оцепеневшая от усталости и ужаса, глаза лихорадочно блестели — мать с трудом ее узнала.
— Ради Бога, деточка, что ты тут делаешь?
— Мне было страшно, — заплакала Нежка. — Так стра-ашно!
Мать вручила лампу Петерчу и взяла Нежку на руки.
— Бог мой, до чего ты промокла! — воскликнула она. — И как дрожишь! Что случилось?
— Мама… Мне было так страшно! — всхлипывала девочка, уткнувшись ей в плечо.
— Больше не надо бояться, — утешала ее мать. — Теперь ты со мной. Сейчас будем дома. Посвети, Петерч! Дай мне руку, чтобы не свалиться в воду! А ты, Нежка, обними меня за шею.
Гривариха торопилась изо всех сил. Что произошло? Что все это значит? Она ничего не могла понять.
Дома она посадила Нежку на постель и сорвала с нее мокрую одежду.
— Не посылай меня больше к Меячевым! — говорила Нежка умоляюще. — Не посылай к Меячевым!
— Нет, больше ты к ним не пойдешь! Останешься со мной. А что случилось? Что они тебе сделали?
— Меня били.
— Боже мой! — заохала мать. — Кто тебя бил?
— Ме-яаа-чиха!
— Да за что же?
— Из-за куклы.
— Вот как? Бог мой небесный! Больше никто не будет тебя бить. Нет, нет! Больше не пойдешь к Меячихе… А сейчас ложись, согрейся. Я заварю тебе чай…
У Гриварихи по щекам текли слезы. Всю ночь до утра просидела она у постели дочери. Та все время просыпалась словно от каких-то припадков. Лоб ее пылал.
17
Нежка была тяжело больна. Она лежала в жару и просила пить. Мать многие часы просидела у ее постели. Она приходила и уходила со вздохами и со слезами на глазах. Все эти дни Петерч, пасший на склоне за домом козу, ни разу не издал веселого крика. Молчал и Тинче на противоположной горе. Приходили братья и сестры, отрывавшиеся на несколько часов от своей работы. Они стояли у Нежкиной кровати и молча на нее смотрели.
Приехал отец. Ему послали письмо. Он показался в дверях — небольшого роста, широкоплечий, с рыжеватой бородкой. И сразу же снял шапку, словно вошел в чужой дом. Постояв минуту, он швырнул шапку на скамью и тяжелым шагом подошел к кровати.
Раньше, когда он приезжал домой, Нежка с криком бросалась ему на шею. Она видела его так редко! Сейчас она в беспамятстве лежала под одеялом и тяжело дышала. Только ворочала головой, словно хотела положить ее поудобнее. Лицо ее было красным, тело пылало от жара. На отца она не обратила никакого внимания. Глаза ее были открыты, но казалось, она ничего не видит.
Отец склонился над ней.
— Нежка! — позвал он.
Но девочка не слышала. В горячечном бреду она блуждала где-то далеко.
— Нежка, ты не узнаешь меня? Это я, твой отец!
Молчание.
Гривар вышел в сени.
— Она меня не узнает, — сказал он жене.
Гривариха уткнулась мужу в плечо и заплакала. У Гривара тоже текли по лицу слезы и капали на бороду.
Нежка бредила. В головке ее собрались все страхи, все горести и обиды, которые ей довелось пережить. Они проносились перед ее глазами пестрой вереницей… Она ссорилась с Тинче, утащившим куклу… Убегала от Пеструхи, которая гналась за ней и вонзала ей в спину свой изогнутый рог… Ее пугала Меячиха, подымавшая розги, чтобы ударить ее по голому телу… Она бежала мимо деревьев, превратившихся в лохматых леших, которые мчались за ней по пятам: топ, топ, топ!.. Утопленник манил ее огромной косматой рукой…
— Мама! Мама! — кричала она, пытаясь подняться с постели.
— Я тут, с тобой, — повторяла мать, снова укрывая ее одеялом. — Ради Бога, Нежка, деточка моя!
Иногда кошмары отступали. Вместо них появлялись более светлые видения… Вот она играет с куклой, нянчит ее и укладывает в колыбельку. Но кукла вечно не слушается. Иногда Нежка ее теряет и не может найти… Вдруг она видит ангелочков — белых, алых и золотых. Они порхают над ней, как мотыльки. Ей чудится, будто она протягивает руки, но никак не может их поймать… Нежка говорит о них вслух…
— Она умрет! — заохала мать.
— Молчи! — сказал не терявший надежду Гривар. — Ты же видишь, она только бредит.
Неожиданно Нежка успокоилась и на короткое время уснула. Затем глаза ее открылись. Казалось, она с удивлением выглянула прямо из мира своих видений. Взгляд ее был ясным. Уставившись на отца, она словно постепенно узнавала его, но сразу не могла поверить, что это и вправду он.
— Отец, — прошептала она.
Потом у нее снова сами собой стали закрываться глаза. Видно было, что ей очень хочется спать.
— Спи, Нежка, — сказал отец. — Поспи еще!
Жесткая, шершавая рука отца гладила ее по волосам. Он вспомнил песенку, которую пел ей, баюкая, когда она была совсем маленькая:
Мать печет пироги, А со мной не говорит…Нежка чуть приметно улыбнулась. Она пыталась широко открыть глаза, но веки были слишком тяжелыми.
Услышав пение мужа, мать удивилась и поспешила в комнату.
— Тише! — сказал Гривар и поднялся со своего места. — Она уснула. Все обойдется, если только ей вдруг не станет хуже, — голос его дрожал.
Мать с радостной надеждой всплеснула руками.
18
Наступили дождливые дни. Когда небо снова прояснилось и засияло солнце, Нежке стало лучше. Больше она не бредила, по ночам спала. И начала улыбаться. Иногда она уже сидела на постели и играла с куклой.
Отец снова уехал. Мать, не отходившая от Нежки все время ее болезни, теперь иногда ненадолго отлучалась по делам.
Однажды Нежка лежала дома одна. Она смотрела на проникавшие в комнату снопы солнечного света.
В них плясали серебряные пылинки.
Она услышала шаги перед домом — кто-то шел, весело притоптывая. В одном из узких окошек показалась лохматая голова.
Это был Тинче.
Минуту спустя он вошел в горницу и остановился у дверей, держа в руках корзиночку с земляникой. Большие глаза его смотрели на Нежку с удивлением.
Может быть, он думал, что застанет ее такой, какой привык видеть у Меячевых. На большой кровати, укутанная одеялом, она казалась совсем маленькой, словно превратилась в воробья. Бледное лицо осунулось, а заострившийся нос торчал, будто шило. Глаза глубоко запали, но взгляд был живым.
Нежка улыбнулась. Она была ему рада.
— Тинче! — прошептала она.
Словно только теперь осмелев, пастух подошел к постели и протянул Нежке корзиночку с ягодами.
— Вот, — сказал он. — Хочешь?
Нежка высунула из-под одеяла маленькие, исхудавшие руки и взяла подарок.
— Это мне? Спасибо!
Тинче чувствовал себя неловко. Разинув рот, он с глупым видом оглядывался по сторонам. Потом сел на скамью.
Несколько мгновений они глядели друг на друга.
— Мамы нет дома, — сказала Нежка.
— Нет дома?
На самом деле он хорошо это знал. С самого утра он подкарауливал, когда она уйдет. Тинче боялся Гривариху с тех пор, как она оттрепала его за уши.
— Мы думали, ты умрешь, — проговорил он, запинаясь.
— А я не умерла.
— Не умерла, — улыбнулся Тинче. — В будущем году я тоже не буду работать у Меяча.
— Не будешь? А куда пойдешь?
— К Подбрегару, если возьмет. К нему бы мне больше всего хотелось.
Они снова помолчали.
— А я не буду больше служить, — сказала Нежка. — Пока не вырасту.
— Тогда пойдешь батрачить, — заметил Тинче.
— Когда немножко подрасту, поступлю в няньки. Только не к Меячевым.
— Нет, конечно. Да у них уже есть другая нянька. Она мне не нравится. Тощая как жердь и все время показывает язык.
Нежка весело засмеялась. Усмехнулся и Тинче.
И снова они сидели молча, словно им больше нечего было сказать друг другу. Только переглядывались и улыбались.
Пастух поднялся со скамьи и пошел к дверям.
— Ты уже уходишь? — спросила Нежка.
— Ухожу, — ответил он. — Если Меяч узнает, что я бросил скотину, — беда…
— Когда будешь перекликаться с Петерчем, я тоже услышу, — сказала Нежка.
Тинче, довольный, засмеялся и вышел. Большая, лохматая голова еще раз мелькнула в окне. Затем было слышно, как он, топая, сбегал по тропинке.
Нежка поглядывала на солнце и тихонько смеялась. Ей было приятно, что ее не забыли. Она смотрела на мир жадными глазами. Да, она поступит в няньки на новое место. Только бы попались добрые хозяева и хорошие дети. Тогда и она будет вовсю стараться.
Перевод М. Рыжовой.
Тяжкий шаг
Уршула Жерюн ехала в город последним вечерним поездом. Забившись в угол купе, она всю дорогу сжимала лежавшие на коленях руки и время от времени чуть заметно шевелила губами, точно молилась про себя. Ее высокая, худощавая фигура поникла, косынка сползла на плечи. Маленькое бледное лицо терялось в седых волосах. Она сидела, уставясь в окно, машинально провожая глазами пробегавшие мимо окрестности, окутанные первыми сумерками. До сознания едва доходило, что она видит и где находится, — мысли были сосредоточены на том, что происходило в ней самой.
Это был тяжкий, самый тяжкий шаг, на который она решилась с той же привычной покорностью, с какой не раз уже встречала всякие трудности. Она понимала: то, что она задумала, безнадежно, и все же в глубине души тлела искорка надежды. Такая искорка, случалось, уже спасала ее от отчаяния в самые горькие минуты.
Под стук колес перед ней снова вставало все пережитое в эти последние дни. Губы повторяли слова, сказанные дома невестке. Нужно было обдумать, что говорить сегодня вечером. Приходившие на ум слова не нравились ей, и она искала новые, хотя то, что ей надо было сказать и о чем попросить, было так просто! Гораздо труднее, даже невозможно было угадать, что она услышит в ответ. Вначале она придумала такой ответ, какой бы ей хотелось получить больше всего. И сама испугалась своей дерзости. Потом в голову ей пришел другой, более вероятный, и мороз пробежал по коже. Однако мысли возвращались именно к этому ответу. Что ж, по крайней мере, не будет разочарования! Боль и тревога, с которыми она отправилась в путь, стали еще больше.
Дорога в город всегда казалась ей невыносимо долгой. Всю жизнь она считала минуты, как скупец монеты. Но сейчас она с удивлением обнаружила, что поезд уже промчался через Солканский мост и подходил к зданию вокзала. Неужели приехали? Она поднялась, когда выходили последние пассажиры, завязала платок и взяла с полки сумку.
Между тем сумерки сгустились, наступила ночь. Затемненные улицы мерцали синеватыми огнями. При этом мрачном освещении люди двигались, будто тени, мертво смотрели плотно замаскированные окна домов. За углом, пронзительно звеня, скрылся трамвай.
Уршула остановилась и огляделась; она вдруг забыла, куда и зачем идет. Потом, с трудом собравшись с мыслями, встрепенулась и пошла дальше. Ей надо было на другой конец города, идти было полчаса ходу. Эти полчаса дались ей тяжелее, чем вся дорога в город. Скажи ей кто-нибудь, что ее затея напрасна, она от души поблагодарила бы этого человека и почти с радостью двинулась в обратный путь. Она готова была брести ночь напролет, только бы утром все было позади. Впрочем, нереальность своих надежд она и сама сознавала и снисходительно усмехалась над своим легковерием.
Из трактиров и кафе, мимо которых она проходила, доносились мужские голоса, в нос ударял запах табака, пищи и алкоголя. Вереница серых домов неожиданно оборвалась. На улицу из садов смотрели темные деревья. Снова дома и снова деревья; дома все реже. Уршула остановилась перед мрачным двухэтажным зданием, нижние окна которого были забраны решеткой. Из щели в окне второго этажа падал тонкий, как нить, луч света.
Большие ворота, ведущие в просторный мощеный двор, открывались только для автомобилей. Люди проходили через узкую дверцу посреди ворот. Около нее висела гладкая ручка звонка, как в старинном особняке.
Уршула позвонила нерешительно и робко, боясь нарушить тишину дома. Внутри раздался резкий звук колокольчика. Его слабеющий звон еще не утих, когда в парадном зазвучали тяжелые шаги. Маленькое окошко в дверце со скрипом отворилось. В темноте Уршула не разглядела высунувшегося из него человека, но почувствовала на себе вопросительный взгляд.
— Chi e? Che cosa volete?[6]
— Я пришла к дочери, — ответила Уршула и смешалась, спохватившись, что ее не поняли. Она силилась собрать в памяти все, что волей-неволей запомнила в последние годы из итальянского.
— Amalia Desanti — mia figlia… Io — madre…[7]
— Aspettate un momento![8]
Окошечко закрылось, и шаги замерли.
Уршула сжала губы и задумалась. Дважды она была в этом доме, но у ворот ее держали впервые… Ей казалось, прошла вечность, пока она снова услышала шаги. Тягостное ожидание было еще одним недобрым предзнаменованием.
Загремел ключ, дверца открылась.
— Entrate, signora![9]
Уршула вошла. Молодой карабинер, впустивший ее, карманным фонариком освещал парадное и лестницу на второй этаж. Она как бы ловила ногами светлый кружок, скачущий вверх по ступеням.
Двери квартиры были незаперты. В захламленную прихожую сквозь стеклянные двери кухни, Завешенные пестрой занавеской, падал тусклый свет.
Дочь сидела возле люльки и шила. Увидев мать, в нерешительности остановившуюся у порога, она отложила шитье, подняла на нее удивленные глаза и встала.
— Добрый вечер, Малка!
Уршула поздоровалась с дочерью за руку, губы ее мелко дрожали. Больше всего ей хотелось броситься Малке на шею и разрыдаться, но она сдержалась.
По лицу и голосу дочери она поняла, что пришла не в добрый час. Ее, как всегда, не ждали, а особенно в этакую пору. И не только это. С болезненной чувствительностью Уршула подмечала, что от встречи к встрече они с дочерью становились все более далекими друг другу. Правда, такой чужой, как сейчас, она ей еще никогда не казалась. С последней встречи Малка и внешне изменилась к худшему — располнела, новая замысловатая прическа не шла к ее и без того крупному лицу. Она вся как-то расплылась, только складки около рта и глаз не смягчились, а обозначились еще резче.
Уршула поставила сумку на стол и со вздохом села. В чем дело? Ведь она совсем не устала, а ноги не держат! Ей вдруг стало так тяжело, что глаза защемило от слез.
Чтобы немного прийти в себя и успокоиться, она принялась оглядывать комнату. В люльке, посасывая палец, спал пухлый мальчонка. Из-под чепчика торчал черный хохолок. Когда она видела внука последний раз, ему было всего три месяца.
«Как он вырос!» — подумала она.
Малка, так и не сев, по-прежнему не сводила с матери удивленного взгляда.
— Что-нибудь случилось?
Уршула неуверенно покачала головой. Ничего особенного. Но при этом испуганно взглянула на дочь, как будто та уличила ее во лжи. Она же не собиралась ничего утаивать, она и пришла для того, чтобы все рассказать! Да, все. Но нельзя же было начинать сразу, едва переступив порог. Да она и не могла бы ничего скрыть, даже если бы захотела. Выдали бы лицо и глаза, под которыми от слез и бессонных ночей темнели круги.
— Зидора арестовали, — проговорила она наконец тихо, почти шепотом.
Слова эти стоили ей таких усилий, что на мгновение она закрыла глаза и сжала губы. Потом снова остановила взгляд на хохолке ребенка.
Малка ждала продолжения, но Уршула молчала.
— Что он сделал? — спросила Малка.
Уршула посмотрела сначала на дочь, потом на свои руки, беспомощно лежавшие на коленях. Ответила она не сразу. Что ее сын сделал? Правильнее всего сказать — ничего. Во всяком случае, она считала, что он не совершил никакого преступления. Но она понимала, что дочь под влиянием своего окружения смотрит на все другими глазами. Случись это раньше, она бы не задумываясь открыла ей душу. Но в последнее время что-то смутное и едва уловимое встало между ними. Как ни противилась Уршула этому ощущению, она не могла от него избавиться. Поэтому сегодняшняя ее поездка в город и была такой мучительной. Что знает, что может знать Малка об их жизни? Она давно, совсем молоденькой, покинула родные места и замкнулась в своем мире. Дочь вообще слабо представляет себе, что такое жизнь, а она уже изведала ее до конца.
О, достаточно вспомнить годы после первой мировой войны! Муж вернулся с фронта больным, и ей пришлось с ним нянчиться до самой его смерти. А тут еще на руках дом и маленькие дети. Каменистая, скупая земля иссушила ее, превратила в скелет. Если бы не Зидор, который в конце концов женился, ей бы век вековать одной. Золотой парень. Сколько она переживала за него! Мальчиком он повредил себе глаз, и у него выросло бельмо. Тревоги и заботы не оставляли ее и теперь, они были неотделимы от ее жизни. Много лет ее не занимало, что происходит за стенами дома. Она все равно ни в чем бы и не разобралась. Новую войну она тоже встретила как очередное стихийное бедствие. Лишь бы фронт не проходил через их село, как это было в прошлую войну, когда их дом разрушили и им пришлось бежать.
Но несколько месяцев назад вспыхнули первые дома в соседних селах, от взрывов мин дрожали оконные стекла. И только тогда она очнулась от своих вечных хлопот и передержанных дел и попыталась оглядеться вокруг и заглянуть в самое себя. Она вдруг испугалась того состояния приниженности, которое, казалось, родилось вместе с нею и не оставляло места и для тени сопротивления. Всю свою жизнь она отбивалась от несчастий, боялась их как огня, а тут их нагло вызывают и сыплют тебе на голову. И где-то в глубине души рождался новый для нее голос и набирал все большую силу. Этим она никогда не делилась ни с сыном, ни с невесткой. От ее внимания не ускользало и то, что они часто разговаривают между собой потихоньку от нее. Она была достаточно умна, чтобы понять, о чем они толкуют. Недоверие обижало ее, но она не показывала виду… Однажды ночью Зидор тихо вышел из дому, она не заснула до тех пор, пока снова не услышала его шаги. Ей даже не приходило в голову расспрашивать его об этих таинственных отлучках, корить за них. Новый для нее голос все больше креп в ее душе. Точно грех, отгоняла она теперь страх, который временами ее охватывал, утешая себя мыслью, что все обойдется.
Но не обошлось. Однажды вечером, точно волки, в дом ворвались чужие люди. Все перевернули и увели Зидора. Его провожал плач невестки Габриэлы и трех малышей. У нее тоже по щекам катились крупные слезы. Но она держалась. Горло перехватило, она не в силах была выдавить из себя ни звука. О, Зидор, Зидор! В ту минуту она не верила, что еще увидит его. Она была так подавлена, что уже не надеялась на его освобождение. В том, что случилось, она в душе винила сына и невестку. Думали бы лучше о себе и детях!
Потом, по обыкновению, примирилась и с этим несчастьем. Но Габриэла! Молодая, любящая, она бурно переживала беду, обрушившуюся на семью. Три дня подряд спозаранку уезжала в Толмин и возвращалась затемно. Вернувшись оттуда в последний раз, она как безумная стала кричать, что Зидора избивают и мучают. Ему нужно помочь — но как? Десятки планов рождались у нее в голове и все рушились прежде, чем были высказаны. И вот спасительная мысль: у золовки Малки — муж бригадир! Нет, только не это! Но мысль возвращалась к нему снова и снова. Габриэла терпеть не могла бригадира, хотя видела его всего один раз, из-за него и Малка была ей чужой. А сейчас все ее надежды сосредоточились на нем. Только бригадир может спасти Зидора! Должен спасти. Она просила свекровь съездить в город. Пусть даже Зидора осудят, если он в чем виноват, только бы не пытали его, только бы не убили.
Уршула была готова пойти за сына в огонь и в воду, но браться за эти хлопоты не хотелось смертельно. Она никогда в жизни не унижалась, не любила никого ни о чем просить — и поэтому просьба снохи была ей вдвойне тяжела. К тому ж она не могла отделаться от предчувствия, что проездит напрасно. И тогда это только усилит унижение и муки! Если бы сноха не бросилась перед ней на колени, если бы не голосили дети, ничего не понимавшие в том, что происходит, она бы ни за что не согласилась. Но когда она села в поезд, в ней вдруг тоже затеплилась надежда. Сейчас надежда снова угасла, точно огонек на ветру. Если бы она только заранее представила себе холодное лицо дочери, она не перешагнула бы порог ее дома. Но она была уже здесь, и первое слово было сказано. Теперь отступать не хотелось. По крайней мере, не в чем будет себя упрекнуть, — она уедет со спокойной совестью.
— Что он сделал? — ответила она наконец и пожала плечами. — Его обвиняют в том, что он носил партизанам еду.
Лицо Малки невольно передернулось. Она нервно прошлась по кухне, подошла к буфету, переставила будильник.
— Только обвиняют? — переспросила она с усмешкой. — Все ничего не делали. Все невинные.
Мать оцепенела. Дочь повторяла слова, которые Габриэла слышала в Толмине. «Я сделала все. Больше говорить не о чем», — мелькнуло у нее в голове. Она чувствовала себя разбитой, и если сразу не ушла, то только потому, что не удержалась бы на ногах.
— Разве никого никогда не сажали без причины? — спросила она.
Малка смешалась, не зная, что ответить. Пальцы ее развязывали и завязывали пояс пестрого халата.
— Если Зидор невиновен, его отпустят.
— Но прежде он погибнет! Его бьют, пытают.
— Это неправда, — вскипела Малка, словно мать нанесла ей личное оскорбление. — Лучше скажите, — продолжала она спокойнее, — Зидор на самом деле помогал тем, в лесу?
Уршула понимала, что нельзя раскрывать душу, но не сдержалась.
— Разве грешно помогать своим?
— Вот видите, вы сами признаете, — поспешила перебить ее Малка нравоучительным тоном. — А ведь пришли просить, чтобы я вам помогла. Я ничего не могу сделать, даже если бы хотела.
Мать провожала взглядом дочь, которая снова принялась ходить взад и вперед по кухне и наконец остановилась у окна. «Даже если бы хотела»?! А она не хочет! Неужели это и есть та самая девочка, которая умела так задорно и звонко смеяться? Неужели это та самая Малка, которая так горько плакала на ее плече, когда бедность заставила ее искать работу в Триесте, а затем в Милане? Уршула тоже тогда плакала, и ей было тяжело. Она так мечтала, чтобы дочь была поближе к дому, поближе к ней. Когда вскоре после того Малка вышла замуж, Уршула не стала мешать ее счастью, хоть у самой на душе скребли кошки при мысли о занятии зятя. И все же ей легче было бы перенести унижение перед ним, чем перед дочерью.
— Я же не тебя прошу, — процедила она сквозь зубы. — Я к твоему мужу пришла.
— И он тоже не может помочь.
— Не хочет?
— Не может, — подчеркнула Малка и нетерпеливо тряхнула головой. — Вы все равно не поймете.
Уршула и вправду не понимала, что зять не может помочь. И вместе с тем ей было ясно, что ей отказали, даже не выслушав. И хотя она заранее знала, что ничего добиться не удастся, ей стало невыносимо горько. Как она покажется теперь на глаза невестке?
— Что же мне делать? — произнесла она в отчаянии и стиснула руки.
Малка неопределенно пожала плечами. Жалость к матери, которую она только внешне не выказывала, сталкивалась с жестокой реальностью. Суровостью она пыталась прикрыть собственную беспомощность.
— Откуда мне знать! Об этом стоило раньше думать! Я на вашем месте так бы не суетилась…
— Малка, — гневно крикнула мать, вскочив со стула. — Ради своего сына я могу… и я должна… И у тебя есть ребенок… Кто знает, что с ним еще случится в жизни…
К глазам ее подступили слезы, щеки покрылись смертельной бледностью, губы судорожно подергивались.
Малка, оторопев, смотрела на мать непонимающими глазами. Не столько слова матери, сколько голос, каким она их произнесла, пронзил ее душу. Но и одних слов было достаточно. Ее единственному сыну может грозить опасность! Она опустилась на стул и обхватила рукой люльку. Лицо ее исказили рыдания.
— Мама, — забормотала она, — что вы говорите! Ведь вы не знаете… Вы не понимаете…
Уршула растерялась и даже пожалела, что погорячилась. Сердце ее смягчилось, она села рядом с дочерью, вопросительно глядя в ее мокрое от слез лицо.
Да, конечно, она плохо понимает, что происходит с дочерью. Ей казалось, что Малка счастлива, — так, по крайней мере, писала та в своих письмах и говорила при встречах. Уршула, конечно, знала, что счастье не в сладкой еде и не в ярких тряпках. Правда, в применении к Малке об этом как-то не думалось, по крайней мере до этой минуты. Что кроется за ее слезами? Она не могла заглянуть ей в душу. Не могла разгадать, что с нею творится, но со свойственной матерям проницательностью почувствовала неладное.
— Я не думала ничего плохого, — сказала она примирительно. — Ты ведь знаешь, я муху не обижу, неужели я пожелаю зла твоему ребенку?
Малка еще долго всхлипывала и вытирала глаза.
— Поговорите с мужем, — сказала она. — Только я не знаю, сделает ли он что-нибудь. А может, и сделает, если Зидора в самом деле бьют…
— Поговори с ним ты, я же не умею по-итальянски.
— Ладно… только не сегодня, завтра. Он приходит всегда такой злой, усталый.
— А где он сейчас?
— На службе. — Малка отвела взгляд.
К Уршуле возвратилась надежда. Она боялась верить себе, и все-таки на сердце потеплело.
— Тут я тебе кое-что принесла, — сказала она и показала на сумку. — Мелочи всякие. Прибери.
Малка улыбнулась. Выкладывая содержимое сумки в большую миску, она старалась перевести разговор на обыденные заботы. Ей хотелось той близости, которая когда-то была между ней и матерью. Она сварила кофе и нарезала в плетенку хлеба.
Уршула спокойно отвечала на ее вопросы. Сколько хлеба собрали этим летом, сколько у них скота, здоровы ли дети, — забот, конечно, много. Малка слушала мать с набожной сосредоточенностью. От материнских рассказов веяло какой-то нежностью, обволакивавшей сердце, подобно мелодии старинной песни. И вместе с тем они иногда глубоко ранили ее — в последнее время ей было тяжело слышать о родном доме. Малка вдруг спохватилась.
— Вы устали, — сказала она матери, когда та выпила кофе и отставила пустую чашку. — Идите-ка спать.
— И правда, пойду!
Да, она очень устала с дороги, и эти три дня вымотали ее до смерти. Она делала над собой усилие, чтобы не заснуть сидя.
Когда она приезжала сюда, она спала обычно в маленькой комнатке возле кухни с единственным окном, выходившим во двор. Малка принесла простыню и одеяло и постелила ей на старинной оттоманке.
— Окно не открывайте, — бросила она, уходя, — ночи стали холодные.
Вернувшись на кухню, Малка несколько минут постояла, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Из груди у нее вдруг вырвался громкий стон. Вздрогнув, она огляделась и прислушалась: не донесся ли ее стон до матери?
Погруженная в свои мысли, она тихо, стараясь ни за что не задеть, пошла в комнату. Придвинула люльку с ребенком к супружеской постели, над которой висело слащавое изображение девы Марии. Лампа под синим абажуром наполняла комнату голубоватым светом.
Она собралась было лечь, но передумала. Все равно не уснуть… А как страшны эти часы без сна, когда остаешься наедине с собою! Лучше просто посидеть в кресле. Руки ее устало повисли, голова откинулась, веки опустились. Приезд матери, вынужденное притворство и борьба с собой вымотали ее вконец. Слова матери разбередили все то, что она столько раз пыталась забыть, затаить в себе.
Конечно, мать не знает — да и откуда ей знать, — что происходит с ней. Может быть, она даже считает ее счастливой и завидует немного. Да ей и самой хотелось показать всем, как далека она теперь от былой бедности. Вначале и вправду было хорошо, и удача слегка кружила голову. Жизнь улыбалась ей и пела свою вечную песню весны. А потом длинными корявыми пальцами грубо покончила со всем ее благоденствием. Правда, со стороны этого нельзя было заметить. Может, только лицо и особенно глаза выдавали, что в ней что-то надломилось.
Нет, она не пережила страстной, всесокрушающей любви. Помня о бедности, в которой выросла, она желала лишь самого простого благополучия без забот и страха за завтрашний день. И была преданной женой своему мужу, осуществившему хотя бы часть ее девических грез. Первое время она даже смотрела на него с обожанием. Пыталась вжиться в его мир, в мир окружавших его людей. Надеялась, что ей это удастся. Она уничтожила за собой все мосты, сохранив лишь тонкие родственные нити, которые тоже постепенно обрывались. Для нее это было не так трудно, отчий дом и родной край она покинула девочкой. Ей казалось, что ничего больше не связывает ее с землей, на которой она выросла. Она даже стыдилась своего прошлого и подсмеивалась над всем, что было с ним связано. Так она очутилась далеко от всего родного, где-то на другом берегу.
Не будь войны и всего, что с нею пришло, она, должно быть, навечно там бы и осталась. Но мужа перевели в Горицу, родная земля и родная речь разбудили в ней забытые чувства. Она поняла, что сердечные узы все еще связывают ее с прошлым. И теперь эти узы каждый день, каждый час взывали к ее совести. Воспоминания молодости, так долго молчавшие, звучали все более внятно. Если бы еще не эти страшные вещи вокруг! Она долго только догадывалась о них, пока наконец ее глаза не раскрылись. Женщины на улице смотрели на нее исподлобья. Боже мой, будто это она во всем виновата! Она металась, точно зверь в клетке. Запутавшись в собственных противоречивых мыслях и чувствах, она подчас сама себе казалась чужой.
Напрасно старалась она разделять взгляды мужа. И с большим трудом, — как в этот день перед матерью, — повторять его слова. Ее мир и его были непримиримы. «Мятежников», как в его кругу называли партизан, она считала отчасти преступниками и боялась их, но когда они оказывались в беде, в ней все громче звучал голос крови. По ночам, когда муж, измученный, возвращался «со службы», она с тайным ужасом смотрела на его руки. И всегда ее взгляд невольно переходил на люльку с ребенком. Будто была какая-то роковая связь между этими руками и будущим сына. Только бы муж не угадал ее мыслей. Нет, она больше не любила его, она его боялась.
Малка мечтала, чтобы мужа перевели на юг. Тогда бы все, что она сейчас переживала, ушло в прошлое, и лишь изредка всплывал бы в памяти какой-нибудь голос или лицо. Но ее мечта не сбылась. Когда к ней приезжали родные, она не радовалась, потому что не хотела, чтобы они знали о ее жизни. Ей было бы стыдно, если бы родные догадались, что происходит рядом с ней. А раскрыть или хотя бы чуть приоткрыть перед ними свою душу она тоже не решалась. Пускай думают, что она счастлива! Но горькое ощущение своего невольного соучастия в злодеяниях и страх перед неизвестностью с каждым днем усиливались. Поэтому и приход матери огнем жег ей сердце.
Ей было мучительно тяжело притворяться черствой и говорить не то, что она думает и переживает. На самом деле судьба Зидора ее очень тревожила. Она вспоминала, как они вместе играли в детстве. Он был добрый, и она любила его. Но что делать, что же делать? Если даже муж и мог бы помочь, она наперед знает его ответ. В некоторых случаях для него не существовало ни друзей, ни родных. Может быть, солгать матери, успокоить ее хотя бы на время? Тяжелее всего было сознавать, что мать считает ее бесчувственной, отрезанным ломтем. О, если б мать знала, как все пело в ее душе, когда она слушала рассказы о родине, о которой она почти забыла в первые годы своего замужества. Что мать подумает о ней, о своей «золотой дочке», как она ее когда-то называла? Нужно было упасть перед матерью на колени и в слезах открыть ей душу, найти подходящие слова. Но и найди она такие слова, все равно она этого не сделала бы, не смогла бы. Ведь она не поступила так, даже когда в словах матери прозвучала угроза ее сыну, буквально сразившая ее. Если бы она даже распахнула свою душу перед всем миром, ей все равно не помочь Зидору, правда, тогда мать поняла бы ее и не осуждала…
Ох! Она тяжело вздохнула и подняла голову. С усилием отогнала от себя мысли, подобные страшному сну. Сощурившись от голубого света, растерянно оглядела комнату. Униформа мужа, висевшая на вешалке, показалась ей зловещей тенью. По улице, нарушив тишину, промчалась машина, и снова все стихло. Потом в люльке зашевелился и громко зачмокал ребенок.
Малка поднялась и в нерешительности остановилась. Что делать? Хотя ей было ясно, что сделать она ничего не в состоянии. Она словно попала в водоворот, из которого ее могла вызволить лишь отчаянная смелость. А такой смелости у нее не было: силенок не хватало! Малка отчетливо представляла себе всю свою будущую жизнь. Борьба с собой, самоистязание ради сохранения видимости счастья… Ей совестно стало, что она напрасно обнадежила мать. Малка боялась утра, которое ничего не изменит. Мать уйдет с пустыми руками, смертельно обиженная, уйдет, может быть, навсегда…
Было ощущение, будто всю ее внутри затопили слезы. Все, что накопилось в ней с той минуты, как вошла мать, искало выхода. Малка бросилась на постель и зарыдала, уткнувшись в подушку, чтобы мать за стеной не услышала ее всхлипываний.
Выплакавшись, она успокоилась, на сердце полегчало. Решив положиться на судьбу, она погрузилась в тревожный беспокойный сон.
Уршула не спала. Когда дверь за ней закрылась, ее охватило чувство щемящего одиночества. Раздеваясь, она бессмысленно смотрела то на окно, затемненное синей бумагой, то на почерневшие образа. На стене у окна вырисовывалось темное сырое пятно, похожее на вздыбленного коня. Конечно, эта комната была куда пристойней, чем ее клетушка в горах, но здесь ей всегда казалось, что ее посадили в тюрьму. В доме не было тепла. Уршула думала об этом еще в свой последний приезд, но сегодня это чувство было болезненно острым.
Она разделась только наполовину, погасила свет и легла. Она была небоязлива, однако ей стало не по себе в этой темноте, которая из-за затемнения была непроницаема, как железная стена. Узенькая полоска света в щели кухонной двери в конце концов тоже исчезла. Смолкли тихие Малкины шаги. Наступила тишина, в которой время от времени слышались далекие голоса, доносившиеся из соседних домов.
Крепко стиснув веки, Уршула заставляла себя заснуть, надеясь, что сон избавит ее от физической и нервной усталости, прогонит тоску. Но она не могла уснуть так же, как в ту ночь, когда увели сына. В голову лезли разные мысли. По ночам они всегда были мрачнее, чем днем, а в эту ночь они были особенно черны и жгли, точно угли. Что с Зидором? Может быть, его уже перевели отсюда? Что будет с невесткой и внуками? Мысли с бешеной быстротой сменяли друг друга, гася последние искорки надежды.
Она открыла глаза. Так легче. Иначе было ощущение, что она всматривается в себя и бередит кровоточащие раны. Если бы удалось сосредоточиться хотя бы на этом образе на стене или на старинном шкафу, на пятне в виде коня, на квадрате оконного стекла — она бы хоть немного отвлеклась от своих мыслей. Но они не покидали ее, наливали жаром тело и голову. Комната будто и впрямь превратилась в одиночную камеру, ей не хватало воздуха, нечем было дышать!
Нет, она не заснет. Так и промучается до утра. Будь она дома, она бы встала и принялась за дела. Но здесь все чужое, да и шуметь неловко.
Она долго колебалась, но наконец встала. Тихо, как только могла. Не зажигая света, в темноте отыскала юбку и натянула ее на себя. В чулках ощупью добралась до окна. Раскрыла рамы, потом ставни, которые глухо стукнулись о стену дома.
В комнату влилась прохлада тихой осенней ночи. Воздух был такой же чистый, как небо с яркими звездами. Уршула вздохнула полной грудью, на душе отлегло. Мучившие ее мысли словно рассеивались в тускло мерцающем свете.
Она оперлась на подоконник. Внизу был балкон с деревянной решеткой, а под ним — темный двор, зажатый между гладкой стеной высокого соседнего дома справа и одноэтажным домом слева. Сзади его замыкал почерневший каменный забор, поверх которого тянулась густо переплетенная колючая проволока. За двором шли луга и поля, окаймленные фруктовыми деревьями. Вдали вырисовывались контуры гор, их вершины доставали до звезд.
Глаза Уршулы привыкли к темноте, и она все отчетливее различала отдельные предметы. Она пристально вглядывалась в них, отгоняя от себя обрывки мыслей, стараясь успокоиться. Постепенно она начала прислушиваться к голосам, глухо доносившимся до нее и раньше. При открытом окне они стали отчетливее, будто вырывались из-за высокой стены справа. Они то исчезали, то возвращались, однообразные, монотонные, с еле уловимыми для слуха различиями. Сначала Уршуле показалось, что это картежники, ударяя картами по столу, в азарте что-то выкрикивают. Но удары были слишком частыми и равномерными, а неразборчивые выкрики слишком похожи один на другой, кто-то беспрестанно в сердцах повторял одни и те же слова. Время от времени слышался сдавленный протяжный крик, за которым в коротких промежутках между ударами следовали глухие стоны.
Уршулу затрясло, она вся обратилась в слух. Что же это за голоса? В веренице мыслей мелькнула догадка, но Уршула отогнала ее… И в эту минуту приоткрылась дверь бокового здания. Ровно настолько, чтобы выпустить кого-то и мигом закрыться. Из двери вырвался сноп яркого света и тут же погас. Вместе с ним выплеснулись и смолкли отчетливые голоса.
Уршула выпрямилась и скрестила руки. До нее донесся бешеный окрик: «Parli, ribelle!»[10] Потом удары, протяжный стон, клокочущий от крови голос… Человек, который только что вышел во двор, снова вернулся. Вместе со снопом света тьму прорезал нечеловеческий стон: «О-о-о!» Будто кто-то корчился в предсмертных судорогах, под пытками, которые не мог больше вынести. И снова на несколько мгновений все замерло. Потом опять раздались глухие голоса, их поглощала, вбирала в себя ночь.
Уршулу сковал ужас; она стояла не шелохнувшись, широко раскрыв глаза. Медленно, очень медленно до нее доходило то, во что было так трудно до конца поверить. Но она ясно слышала резкий, взвизгивающий голос зятя: «Parli, ribelle!» Она узнала его. Кого-то бьют, пытают… Эта догадка овладела ею окончательно, и она не могла больше от нее отделаться. Как отравленная стрела пронзила она ее душу. В эту минуту она не думала о Зидоре. Перед ней был просто чужой страдающий человек. От жалости к нему у нее сдавило горло и дико заколотилось сердце. Хотелось закричать что есть мочи и броситься во двор… Но у нее перехватило дыхание, вся она одеревенела.
Потом, дрожащая, полная сострадания и сознания своего бессилия, она ощупью добралась до оттоманки и с тяжелым вздохом села. Руки зажала в коленях, чтобы унять дрожь, зубы стучали. О сне и отдыхе нечего было думать. Мысли и чувства путались. Она силилась привести их в порядок. Ведь все уже было ясно, до ужаса ясно!
Каждый день до Уршулы доходили страшные слухи о пытках. Она ни разу не усомнилась в их истинности. Она лишь хотела успокоить невестку, когда говорила ей, что все это пустые домыслы. А сама представляла себе Зидора избитого, со вздувшимся, окровавленным лицом. И все-таки это было только в мыслях, где-то далеко, в сто крат бледнее реальности. Сейчас реальность подступила к ней, раздирая сердце так, что она задыхалась от боли.
Как она и боялась, затея ее оказалась столь же безнадежной, сколь и трудной. В ее душе не осталось даже слабой искры надежды. Каждую мысль сопровождал в ушах голос зятя: «Parli, ribelle!» Помощи и милосердия больше было ждать нечего. Она не могла бы и выговорить просьбу — все в ней противилось этому. Это было бы хуже, чем унижение. Она свое дело сделала. Ждать больше нечего. Можно возвращаться домой.
Поняв это, Уршула успокоилась, озноб прекратился. Но она чувствовала такую усталость, что готова была уткнуться в подушку и пролежать до утра, снова и снова переживая весь этот кошмар и боль. Усилием воли она встала и оделась при мрачном свете ночи, падающем в окно. На вокзале она забьется куда-нибудь в угол и так дождется утра.
Уршула вышла на кухню и зажгла свет. Взяла с табуретки пустую сумку. На минуту остановилась, задумалась.
Может быть, позвать Малку и проститься с нею? Но та удивится ее странному уходу посреди ночи, станет расспрашивать, задерживать. И тогда ей надо будет сказать все прямо и откровенно, а этого она сделать не может. Ей трудно будет смотреть дочери в глаза. Она упрекала себя за это, но что поделать? Ей стало вдруг жаль Малку. Она даже, кажется, начинала понимать ее. Захотелось неслышно подойти и погладить ее волнистые волосы. Ведь она никогда больше не переступит порог этого дома. Но тут ей стало страшно, что сейчас откроется дверь спальни и Малка в ночной рубашке станет на ее пути. Уршула тихо погасила свет, тихо открыла дверь и так же неслышно закрыла ее за собой.
На крыльце она остановилась; кто выпустит ее за ворота? Вглядываясь в боковое крыло дома, напряженно прислушалась. Было тихо. Ни глухих ударов, ни голосов.
Неожиданно двери флигеля настежь раскрылись. В широкой полосе света две тени тащили человека, безжизненно повисшего у них на руках. Полоса света погасла, тени положили тело на землю. Склонились над ним. До Уршулы донесся лишь невнятный шепот.
Дверь снова открылась, и во двор вышел бригадир. Уршула узнала его дородную, сутулую фигуру.
— È morto?[11] — спросил он.
— Macché![12] — растягивая слова, ответила тень.
— Portatelo in cantina![13]
Тени снова подняли безжизненную жертву. Тяжелые шаги, ударяясь в каменные ступени, смолкли где-то под землей.
Бригадир постоял несколько минут, глядя на звезды, словно вдыхая свежий воздух. Потом, устало зевнув, стал подниматься по лестнице, слегка покачиваясь.
Уршула замерла. Ей хотелось уклониться от встречи с зятем, но было поздно. Омерзение, которое она испытывала к этому человеку, и гордость не позволили бы ей ни протянуть ему руку, ни сказать слово.
Бригадир увидел Уршулу, когда был уже совсем рядом. Он вздрогнул и остановился.
— Chi è? — спросил он. — Не услышав ответа, наклонился к ней ближе и, разглядывая ее лицо в тусклом свете, холодно произнес: — Ah, voi siete! — Затем недовольным тоном добавил: — Perché non dormite? Che cosa fate qui?[14]
Уршула понимала, что стала свидетельницей того, чего не должна была видеть. Встреть ее зять на кухне, он бы приветствовал ее своей деланной слащавой улыбкой. Сейчас же он едва сдерживал гнев.
— Fuori… a casa…[15] — сказала она.
— A quest’ ora? A mezzanotte?[16]
Она опять ничего не ответила. Только смотрела на него. Выражение ее лица, заметное и во тьме, было красноречивее любых слов. Сейчас, пожалуй, и знание итальянского не помогло бы, потому что никакими словами она не смогла бы выразить своих чувств.
Бригадир тяжело, из-под бровей, наблюдал за ней. Он все понял. Он не знал, зачем она приезжала, но догадался, почему она так внезапно уходит. Выяснять было нечего.
Во дворе снова раздался гулкий звук шагов.
— Maurizio! — позвал бригадир. — Aprite la porta alla signora![17]
Он снова взглянул на тещу и приложил палец к губам.
— Sentite, signora, — сказал он с угрозой, подчеркивая каждое слово. — Non avete visto né sentito nulla. Capito?[18]
Уршула поняла не все, до нее дошло лишь главное. Она слегка кивнула головой.
— Avete capito?[19]
— Si[20], — сказала она тихо.
Она ушла не попрощавшись, медленно переступая по ступенькам. Внизу обернулась. На лестнице неподвижно стояла тень.
Только на улице она перевела дух. Точно кончился страшный сон. Но случившееся было явью, ужасающей явью. Хотелось плакать от горя и усталости. Но слезы душил гнев. Этот же гнев сжал ее руки в кулаки. А ведь раньше, погрязшая в будничных заботах, она не видела смысла в Сопротивлении.
Но слезы все-таки прорвались, они катились неудержимым потоком. Слишком много горя обрушилось на ее душу. И превозмочь себя она не могла.
Перевод Э. Барутчевой.
Примечания
1
Маринкович Н. Смысл и любовь. М., 1958, с. 29—30.
(обратно)2
Маринкович Н. Смысл и любовь. М., 1958, с. 30.
(обратно)3
По евангельской легенде — первосвященник Иудеи, настаивавший на казни Христа.
(обратно)4
Оставь надежду сюда входящий (ит.).
(обратно)5
Внимание! Марш! Раз-два! Равнение налево! (нем.)
(обратно)6
Кто это? Что вам угодно? (ит.)
(обратно)7
Амалия Десанти — моя дочь… Я ее мать… (ит.)
(обратно)8
Подождите минутку! (ит.)
(обратно)9
Войдите, синьора! (ит.)
(обратно)10
Говори, бунтарь! (ит.)
(обратно)11
Мертв? (ит.)
(обратно)12
Ну, что вы! (ит.)
(обратно)13
Отнесите его в погреб! (ит.)
(обратно)14
Кто это? А, это вы! Почему вы не спите? Что вы здесь делаете? (ит.)
(обратно)15
На улице… дома… (ит.)
(обратно)16
В этот час? В полночь! (ит.)
(обратно)17
Маурицио! Откройте двери синьоре! (ит.)
(обратно)18
Послушайте, синьора! Вы ничего не видели и не слышали. Понятно? (ит.)
(обратно)19
Понятно? (ит.)
(обратно)20
Да (ит.).
(обратно)




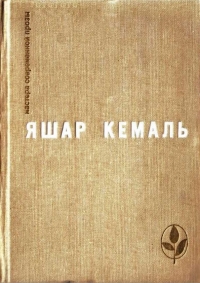


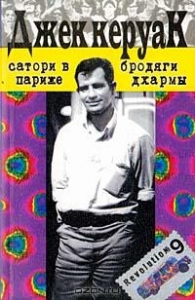
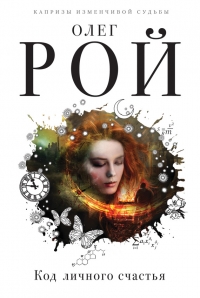


Комментарии к книге «Сундук с серебром», Франце Бевк
Всего 0 комментариев