Ольга Покровская Полцарства
© О.А. Покровская, 2017
Глава первая
1
В тот образцовый мартовский вечерок, даже и с блинами, которые по случаю Масленицы продавали на площади, молодой шустрый человек Алексей, добрая душа и обожаемый учениками тренер детского клуба по мини-футболу, выскочил из метро и оказался немедленно вовлечён в конфликт.
Скандал зрел на перекрёстке Климентовского переулка и Малой Ордынки. Дядя Миша – харизматичный пьяница из местных – затеял опасное разбирательство с уличным музыкантом и, кажется, собирался уже посадить паренька с индийской дудкой в собранный у обочины снег.
Скандалов Лёшка не любил, но дядя Миша был не чужой ему человек – сосед по «последней коммуналке», где Лёшка вдвоём с мамой провёл своё грустное и счастливое детство.
Давным-давно – Лёшка учился тогда классе во втором – по стене их дома поползла трещина, и жильцов пообещали расселить в новенькую многоэтажку у метро «Пролетарская». Уже успела с той поры миновать школа, и случилась авария, в которой не стало мамы, а Лёшка всего только повредил колено, лишившись шансов стать Пеле; уже возникла из арки на Пятницкой Ася – волшебство его жизни, отзвенела свадьба, а дом всё стоял.
Лёшка хотел продать комнату и на вырученные деньги обзавестись квартиркой в спальном районе – для молодой семьи. Но дядя Миша слёзно умолял повременить. Боялся: что, если новый владелец сживёт его со свету? Лёшка хмурился, но пока что жилплощадь на продажу не выставлял. Сосед, хоть и падшая личность, всё же из детства.
История дяди-Мишиного падения проплыла перед Лёшкой подобно каравелле, сперва новенькой и блестящей, в звоне музыки и шутих, затем – почернелой, потрёпанной бурями, полной гула и брани пьяных матросов, а под конец – совсем завалившейся на бок, в пучину.
Когда Лёшка был маленьким, дядя Миша, бородатый красавец и балагур, человек-праздник, торговал с лотка печатной продукцией: картами города, путеводителями, краеведческой литературой. Всякий разговор с покупателем превращался им в интерактивное шоу, венчающееся продажей той или иной мелочи. Творческий подход дяди Миши к делу, подогретый прихлёбыванием из фляжки, однажды закончился дракой, и буяна попросили с поста.
С тех пор он околачивался возле лотка добровольным помощником и по-прежнему угощал покупателей байками. Из них вытекало, что дядя Миша был лично знаком и дружен со всеми авторами, представленными на книжном лотке, включая Гиляровского, у которого он неоднократно «пивал чай». Байки способствовали продажам, а потому владельцы точки не чинили препятствий творческим порывам сказителя.
Шло время, и радужный хмель сменился тяжёлым пленом. Дяди-Мишина комната, увлекательная, как пиратский клад, полная антикварного барахла, из которого маленькому Лёшке перепадал то значок, то монетка, подверглась безжалостному разорению. Нуждаясь в средствах на прокорм зелёного змия, дядя Миша стал приторговывать сломанными примусами и истёртыми пятаками. Понемногу сокровища иссякли, на их месте образовалась свалка тряпья, посреди которой изредка ночевал хозяин.
Дядя Миша осел, причём и в буквальном смысле, на пыльных швах замоскворецких улиц. Начали погрохатывать скандалы. Соседство становилось небезопасным, и потому Лёшка был рад перебраться в дом неподалёку, к молодой жене, в душевное семейство Спасёновых.
Иногда в нём проблескивало божьей искрой желание вызволить дядю Мишу: обустроить рухнувший быт, отвести лечиться. Но здравый смысл подсказывал: разгулявшийся бес не оставит жертву; пожалуй, и Лёшку за компанию утащит в трясину. А ему теперь собой рисковать нельзя. У него – счастье!
Рассудив так, он ограничил своё участие малым. Если кто обижал бедолагу, тот мог от Лёшки и схлопотать – благо это ему не трудно и даже приятно для мышц, скучающих по былым спортивным нагрузкам.
Но проучивать сегодняшнего флейтиста было не за что. Насколько Лёшка понял из дяди-Мишиных воплей, его сосед был категорически против того, чтобы иноземная флейта бансури звучала в Замоскворечье, на нашей, братцы, православной земле!
Бесформенным мешком дядя Миша наваливался на паренька и дышал ему в лицо угарной бранью. Флейтист, твёрдо заняв глухонемую позицию, в дебаты не ввязывался, а отступал себе потихоньку в сторону, поближе к торговым точкам. Когда Лёшка был в двух шагах от очага конфликта, дядя Миша, раздражённый трусостью противника, не стерпел и боднул свою жертву косматой головой в грудь. Флейтист, удерживая на вытянутой руке драгоценную дудку, шлёпнулся наземь.
– Дядя Миш, ты чего, озверел? – вознегодовал подоспевший Лёшка и бросился поднимать пострадавшего.
Когда вдвоём с поутихшим буяном они присели на лавку в родном дворе, дневной свет пошёл на убыль. Синева в тополиных ветвях потемнела и стала стеклянной.
– Враги меня давят, Лёха! – просипел дядя Миша и, вздохнув, как исплакавшееся дитя, прилёг косматой головой Лёшке на плечо.
От дяди Миши разило правдой жизни, к тому же была некоторая вероятность подцепить насекомых, но Лёшка терпел, не отстранялся.
– Нет у тебя врагов, дядя Миш, кроме тебя самого! – возразил он, скашивая взгляд: дядя Миша плакал. Слёзы вытапливались из отёкших незабудковых глаз и стекали по багряным щекам Лёшке на чистую куртку. – Дядь Миш, ну чего раскис-то? – заволновался Лёшка. – Давай подымай башку, гляди веселей! – И подтолкнул плечом. – Смотри, завтра выходной, приходи к нам, матч посмотрим, наши с хорватами будут играть! Только отмойся почище, а то Софья не пустит.
Лёшкина свояченица не пустила бы дядю Мишу на порог, даже будь он отмыт до блеска и надушен хоть «Кензо». Но Лёшка не опасался прослыть пустобрёхом. Он знал, что дядя Миша не придёт. Непропитым остатком совести этот человек понимал, что вламываться в добрый дом, где к тому же растёт ребёнок, было бы непорядочно. И всё же он благодарно склонил голову, на грязной шее мелькнул голубой шарф, ставший в последние годы отчасти бордовым. Лазурное это кашне было подарено в далёкие годы то ли сбежавшей впоследствии женой, то ли ещё кем – к дяди-Мишиным голубым глазам. Выцвели глаза, шарф пропитался жизнью.
– Дядь Миш, давай домой, отдохни, – ласково проговорил Лёшка. – Мне Асю пора встречать, обещал ей. Сам понимаешь, обидится. А как я тебя такого оставлю?
Но нет, черёд сна, горького и рваного, полного населивших душу чертей, ещё не настал. Дядя Миша встрепенулся и с тревогой поглядел в подворотню.
– Гурзуф брешет! – заволновался он, привстал и, шатнувшись, нащупал в заднем кармане штанов поводок.
Косматый страж дяди Миши, старый пёс Гурзуф, украсил собой не один туристский фотоальбом. На него обращали внимание часто, особенно иностранцы. В лицах читалось сомнение: полагается ли подавать псу на пропитание?
«Да вы чё! – разрубая воздух ладонью, возражал дядя Миша. – Итс майн! Сами прокормим! Вот если мне сигаретку стрельнёте – это да, будет гуд, о’кей!»
Иностранцы улыбались и, достав гаджеты, щёлкали дядю Мишу с питомцем. Разве что автограф не брали. А что – он бы дал!
– Одолевают, Лёха, меня враги. Погибну – не брось Гурзуфчика! Он мне, знаешь, как отец!.. – пробормотал дядя Миша и, набычив взгляд, совсем уже мутно уставился на Лёшку. – Дай слово друга!
– Да сказал уже, всё. Не брошу! – раздражился Лёшка.
Дядя Миша удовлетворённо кивнул и, отчалив от лавки, поплыл в сторону Малой Ордынки – на поиски пса. Он шёл как прокопчённый пароход, слегка накренившись набок. Раскисший снег брызгал из-под дачных галош, весьма уместных в московскую дурную погоду, если только поддеть шерстяные носки. Винтажный поводок, сделанный, кажется, из лямок рюкзака времён КСП, волочился за дядей Мишей по мартовской грязи, и где-то лаял, чуя приближение хозяина, штормовой и скалистый Гурзуф.
Нахмурившись, Лёшка зашагал по ещё различимым в слякоти следам дяди Миши. Наступало проклятое время, когда на площадь у метро «Третьяковская» валом повалит народ и милый сердцу облик старой Москвы уступит место всемирному мегаполису. Запахнет холодной пылью, и нечего станет делать на обезличившихся вдруг улицах, похожих на переполненный аэропорт.
Но даже и у этого «проклятого времени» есть оправдание – пора встречать из студии рисования Асю! Не пройдёт и пяти минут, как он увидит в арке своё заклятие – прозрачную сероглазку, насквозь городскую, тоненькую, несмотря на волжские корни. Только волосы, стриженные под каре, рыжеватые и беспорядочные, как луг в сентябре, напоминают о солнце, которое в изобилии знали предки. Ася машет рукой, летит навстречу – и тут бы настать безмятежному счастью! Но каждый раз в первый миг свидания словно срабатывает «рентген» – Лёшка видит Асю насквозь и ничего не понимает в увиденном.
Затем молодожёны целуются, начинается ещё один счастливый вечер, но загадочный «снимок души» хранится в сознании и тревожит новоиспечённого супруга своими извивами и лунными кратерами.
От этих «кратеров» и происходили все их размолвки. То Ася влюблялась в какую-то сложную музыку, то рвалась в жуткую метель гулять, а то и вообще заявляла, что на своей карамельной работе разучилась рисовать честно – значит, надо на выходных сесть в электричку и уехать далеко-далеко! И попробуй ей возрази – умрёт улыбка, веснушки стекут со слезами, не допросишься ни одного поцелуя. В общем, дело табак.
Лёшка искренне недоумевал, зачем человеку по молодости копаться в трудных вопросах? Для этого существует старость. Вот бы Асину душу сделать простой и весёлой – уютный дом да любовь к мужу! Ну ладно, пусть ещё иногда рисует котят.
2
Кто сказал, что весна добра и прекрасна? Она, как разбойник, сшибает с груди замок, рвёт дверь и переворачивает сердце. И всё же Ася любила эти ветреные облавы и с приходом марта уже успела помечтать, как уберёт в шкаф пальто и зимнюю обувь. Но пока что через маленькое круглое окно чердака на Пятницкой, где приютилась студия рисования, было видно только самую первую оттепель – сырые главы церквей и огромную кривую берёзу в гнёздах, натуральные саврасовские «грачи»! И старые эти деревья, и церкви доставали корнями до тех времён, когда купцы Спасёновы, Асины предки, гоняли чаи, дуя на блюдца, ловко вели дела и щедро жертвовали на храм.
Студия «Чердачок» стала одним из многочисленных коммерческих проектов Асиной старшей сестры Софьи, взращённых ею на ниве образования. В послужном списке у неё имелись: Центр детского развития, театральная студия, курсы ландшафтного дизайна и даже филиал международной школы коучинга, забиравший в последний год всё её время.
Ася, не унаследовавшая предпринимательской жилки предков, получила от сестры задание по силам: разработать учебную программу и обзвонить знакомых с худграфа – кто возьмётся разделить с ней преподавательские труды?
Не то чтобы Ася была настоящим художником. То есть два года назад она получила диплом, это правда, но рисовала совсем не то и не так, как мечтала, когда только собиралась податься в искусство. «Не живопись, а чай с булочкой!» – сердилась она, глядя на свои рисунки, собиравшие кучу «лайков» на аккаунтах сестры.
Нет, Ася, конечно же, любила и булочки, и старые улочки, и цветение крымских магнолий, до сладости ощутимо передаваемое акварелью, и прочие «отпускные» мотивы, которые желали освоить записавшиеся в студию дамы и девушки. Но одновременно и не любила – почти ненавидела. Однажды перебрала стопку своих работ и, стиснув зубы от натуги, раня нежную кожу рук, всю пачку разорвала на кривые полосы.
– Соня, но это ведь пошлость! Ничего там нет настоящего! – жалобно объясняла Ася сестре, обнаружившей цветные лоскуты в пакете с мусором.
Но Софья не приняла оправданий.
– Потому что забот у тебя нет! Хорошо живёшь! – твёрдо сказала она. – Лучше бы сварила Серафиме кашу, а то я опаздываю!
Пятилетняя Серафима, Асина племянница и крестница, была как две капли воды похожа на тётку – обе рыжевато-русые, пастельные, с чуть заметными веснушками. А вот Софья, после развода взвалившая на себя обеспечение семьи, перекрасилась в брюнетку и пристрастилась к алому маникюру, что вскоре отразилось и на характере.
В масленичный четверг подвалило снегу – весна взяла передышку. И всё же в закутках дворов и под окнами, где недавняя оттепель накрошила сосулек, чувствовался весенний беспорядок и свежесть. Стал различим на слух особый, хрипловатый разговор окрестных домов – то стукнет дверь, то окно, то «поплывёт» и шмякнется оземь отсыревшая штукатурка. «Вот бы о чём надышать акварель!» – думала Ася, прогуливаясь между мольбертами. Но сегодняшняя группа – шесть милых дам и один скромный молодой человек рисуют начатую на прошлом уроке вазу.
Ася поправляла карандаши в руках учеников, добавляла штришок-другой, а сама думала о том, что ничего нового в её жизни, конечно, уже не будет – одни надоевшие натюрморты!
Ещё полгода назад у Аси всё было впереди. В голове нестройными табунами бродили мечты о будущем, и оно обещало быть чудесным! И вот – всё определилось. Не то чтобы плохо, но – без чудес.
Прошлой осенью Ася вышла замуж и до сих пор не могла понять: как же так получилось? Почему? В голову приходил единственный ответ – ей хотелось, чтобы Лёшка улыбался. Видеть его совсем ещё мальчишеское, но такое суровое, скорбное лицо – сжатые губы, сведенные брови – было невыносимо. Нет уж – пусть улыбается, хохочет, захлёбывается счастьем. Последние Асины сомнения разрешил папа. «Настюша… – сказал он несмело, – Но ведь если ты согласна выйти замуж за человека, просто чтобы он улыбался, если это так важно для тебя, – значит, ты его любишь?»
Да, так сказал папа, а папа с мамой – лучшая пара на свете. Все трое их детей это знают – и Ася, и Софья, и старший брат Саня, Александр Сергеевич Спасёнов, врач, святой человек и Асин кумир. Может, из-за того, что «лучшая пара» уже есть, ни у кого из детей не сложилось пока что личного счастья.
Прохаживаясь между мольбертами и поправляя работы, Ася чувствовала, что сегодня ей совсем не хочется на диван, к семейным ценностям, а хочется вытворить что-нибудь, пусть даже и глупое, – к примеру, залезть на липу, протянувшую крепкий сук к Спасёновым на балкон. Однажды в детстве они с братом разыграли Софью – перебрались на липу и подглядывали, как сестра в недоумении ищет их под кроватями. Вот сбежать бы и сегодня в гущу ветвей, притвориться там воробьём! Да только Лёшка устроит скандал – он за Асю боится. Вечно кутает её, а летом не пустил полетать на воздушном шаре! Даже не разрешает ездить по городу на велике, хотя по Пятницкой проложили дорожку. Скучное житьё!
Дотерпев кое-как до получасового перерыва перед вечерней группой, Ася заварила пакетик чаю и подошла к окошку глянуть – как там весна? Смеркалось потихоньку, снег пока что не таял, но воздух набух, как дождевое облако. Значит, к ночи потечёт!
Взяв бумагу и карандаш, она принялась набрасывать хмурые купола, но её отвлёк топот на лестнице. В дуэте шагов Ася различила звонкие каблуки сестры, а через пару секунд ввалились: Софья в ореоле резких духов и её спутник с монитором в обнимку.
Женя Никольский по прозвищу Курт, программист и музыкант, был Софье не то чтобы друг, скорее добрый знакомый. Свой ник он получил в честь какого-то «культового» Курта, не то Кобейна, не то Воннегута, точно Ася не запомнила.
Курт был приятный парень, симпатичный, постарше Аси, помладше Софьи. Его фигура, высокая и тонкая, с довольно широкими для астеника плечами, порадовала бы глаз художника, если бы красоту силуэта не смазывала привычка держаться стиснувшись, обхватив плечи крест-накрест, словно он сильно зяб и старался укутаться сам в себя. Облик венчала груда вьющихся русых волос, собранная даже не в хвост – в сноп, в захватывающее дух творение, которое хотелось принять за наследственный признак некой таинственной расы или же за остаток небесного обмундирования ангелов.
Лицо Курта было задумано красивым, но не раскрылось вполне, как фантазия живописца, забытая на стадии наброска. Не всё было решено с формой носа, прямого, но как будто припухшего. Прекрасные серые глаза можно было расположить удачнее. Хорош был ясный лоб, но линиям бровей недоставало чёткости.
Несколько раз Курт бывал у них дома, помогал Софье организовать поддержку её проектов в Сети, а потом перестал заходить. Однажды Ася чуть было не нарисовала его по памяти, но лицо на портрете выразило такое сомнение и смуту, что она, испугавшись, отложила рисунок.
Курт вошёл вслед за Софьей, опустил монитор на кресло и обернулся в ожидании указаний.
– Ну, что ты смотришь! Ящик свой сними! Так и будешь с ним мотаться? Там ещё пять мониторов! – сказала Софья и помчалась в чуланчик под скосом крыши – проверить, есть ли место. Согласно распоряжению босса, старая техника в Студии коучинга была заменена новой, однако и для прежней Софья надеялась найти впоследствии какой-нибудь сбыт.
Тем временем Курт снял с плеча висевший на ремне ящик антикварного вида и, мельком взглянув на Асю, кивнул ей:
– Привет!
– Привет! А что это? – спросила Ася, разглядывая деревянную шкатулку.
– Мой друг, фонограф Эдисона! – скромно представил товарища Курт.
– Неужели работающий?
– Ну, сам ящик – это как бы душа, – пояснил Курт и, передёрнув повыше плетёные фенечки на запястье, откинул крышку. – Внутри, видишь, айфончик обычный, в режиме диктофона, и к нему микрофон. Микрофоны можно разные подключать… – помолчал и прибавил: – Я к вам вообще-то с ним уже приходил. Давно. Наверно, ты просто не обратила внимания.
Ася задумалась, вспоминая начало их небольшого знакомства.
– А! Так это для твоих песен?
– Да нет… Песни в таком бедламе не живут, – усмехнулся Курт и дотронулся до виска. – Записываю в основном всякий шум и потом в нём копаюсь. Это, знаешь, как на блошином рынке. Иногда такое найдёшь!
Он снял висевшие на шее солидные наушники, но не протянул их Асе, а положил рядом с фонографом на стол. Асе предлагалось решить самой, хочет ли она послушать.
– Можно? – спросила она и, взяв наушники, примяла пушистое каре ободком. Одно ухо приоткрыла, чтобы слышать комментарии Курта.
– Звуки можно перемешивать, наслаивать друг на друга. Можно создать другую реальность, даже поменять прошлое, – объяснял он, выбирая запись. – Это очень затягивает.
Тут Ася приложила палец к губам. В наушниках поплыли голоса.
«Женечка, ты не видел мои глазные капли? Беленький пузырёк? – вдалеке, через туман шорохов, произнёс совсем старый женский голос. – И куда я их сунула, шут знает…» Затем – мелодия звонка на мобильном, лай собаки и совсем близко голос Курта: «Запросто! А когда?» Кашлянул. «Ладно. Договорились». И снова – фоном – пожилой голос: «Кашка, прекрати шуметь! Фу!»
– Что это? – шёпотом спросила Ася.
– А это мне Софья звонила сегодня утром, насчёт мониторов! – пояснил Курт. – А вторым голосом – бабушка. И Каштанка лает – требует, чтоб её гладили. Они почти в одно время умерли – Кашка и через неделю бабушка. Она просто расстроилась очень с Кашкой, ещё и поэтому… Этой записи больше двух лет. А получается – как будто мы были все вместе сегодня утром. Удивительно, правда? Только лучше глаза закрывать.
Ася зажмурилась и на этот раз, помимо человеческих голосов и лая, различила отдалённое теньканье синицы и шипящий шорох – не то дождя, не то картошки на сковородке. Договорив по телефону (Ася поймала щелчок «отбоя»), Курт взял гитару (гулкий стук, звон) и наиграл что-то средневековое, простенькое, вроде «Леди зелёные рукава».
– А ещё? – спросила Ася и крепче прижала наушники.
– Конечно, пожалуйста! – с готовностью, как ребёнок, которого похвалили, отозвался Курт. – Вот ещё другое…
Он выбрал на диктофоне запись, и Ася погрузилась в многоголосие иноязычной речи. Через несколько мгновений в шуме улицы она ясно различила свой голос. Негромко, как будто на ухо своему спутнику, голос произнёс: «Здорово, правда? У меня прямо душа отогревается!»
Ася приподняла один наушник и вопросительно посмотрела на Курта. Тот ушёл от взгляда, однако объяснил:
– Это ты со мной в Барселоне! Я, когда вернулся, начал разбирать записи и подумал – а пускай там со мной будет Ася! Вот, получился такой монтажик…
Ася сняла наушники. Хоть убейте, она не понимала, когда и где он мог украсть её голос?
– А это тогда… Помнишь, меня к вам на Масленицу Сонька притащила? Давно… – вновь уклоняясь от распахнутых Асиных глаз, подсказал Курт. – Твой папа играл на флейте – я включил записать. А потом мы разговаривали – ну и всё сохранилось.
– Просто не знаю, что и сказать! – честно призналась Ася.
Она хотела полюбопытствовать, отчего Курт не подыщет практическое применение своему хобби, но тут из чулана ураганом вырвалась сестра.
– Здрасьте пожалуйста! – воскликнула Софья, уткнув кулаки в бока. – Ребята! Вы что, издеваетесь? Мне в Химки ещё, в типографию, а они болтают! Женя, давай-ка, быстро! Ася, а ты иди хлам разгреби! Правый угол там освободи мне!
– Ладно. Пошёл таскать, – сказал Курт и, как-то чудно кивнув Асе – словно приглашая её присмотреть в его отсутствие за ларцом со звуками, а возможно, даже развлечь господина Фонографа беседой, – отправился исполнять поручение.
Четверть часа спустя дело было закончено. В продувном чуланчике под скосом крыши, потеснив мольберты и старые стулья, мониторы расположились до лучших времён и убили, конечно, весь антураж.
– Ну вот! – удовлетворённо сказала Софья. – Всё, Куртик, спасибо тебе! И с машиной ты меня очень выручил, правда! Но всё уже, завтра свою забираю. Две недели коробку передач везли, охламоны! А твою я прямо сегодня тебе пригоню, как из Химок вернусь. Тебе куда, в гараж?
Курт отряхнул друг о дружку пыльные ладони.
– Да не обязательно, Сонь. Хочешь, я сам заеду? Где-то после девяти?
– Ох! Я так надеялась, что ты это скажешь! – воскликнула Софья. – А то убегалась уже до смерти. У нас в студии третий модуль стартует – шестнадцать часов! И конь не валялся.
– Куда стартует-то? На Альдебаран? – улыбнулся Курт и, помедлив ещё немного – вдруг сёстры догадаются пригласить его на чай? – простился.
– Эй! А ящик! – крикнула Софья, когда он выходил за дверь.
Курт мигом вернулся и подхватил фонограф.
– А пальто твоё в машине! Забыл? Подожди меня внизу, я спущусь через минуту! – прибавила Софья.
– Растяпа! Но чтобы ящик забыть – это что-то новенькое! С ящиком он неразлейвода! – сказала Софья, когда бег по ступенькам стих. – Ася, твой чай? Я допью?
Наспех заглатывая бутерброд с чуть тёплым чаем, Софья оглянулась на дверь чуланчика.
– Я вот думаю: кому мониторы сбыть? Есть идеи?
Ася с укоризной посмотрела на сестру. Ну откуда у неё могут взяться идеи насчёт мониторов! Разве это должно волновать молодую девушку?
– Соня, а почему ты в гости его не зовёшь? Позвала бы! Смотри он какой потерянный!
– Я зову – он сам не идёт. Да и зачем мне «потерянный» сдался? – уверенно возразила Софья.
– Вот Лёшка не бывает потерянным, – проговорила Ася, задумываясь.
– Ну и слава богу! – сказала Софья и, поставив чашку прямо на папку с рисунками, принялась наматывать шарф. – От потерянных сплошные убытки. И этот тоже – ни одну халтуру в срок не сдаёт, бездельник!
– И поэтому ты снабжаешь его заказами? – Сдержав улыбку, Ася посмотрела на старшую сестру и прищурилась, словно хотела взять пропорции её лица на карандаш. Всё-таки что за красавица у них Соня! Черты ясные, собранные, глаза – огонь! Не то что Ася – бледная мечтательница.
– Я снабжаю его заказами, потому что он хотя бы воспитанный человек, не хамит и не строит из себя ценного специалиста. Плюс добряк! Кто бы ещё мне на две недели машину дал? А ты лучше думала бы о том, что у тебя недобор в группе! – сказала Софья и, чмокнув сестру, ушла.
Ася сдержала вздох и поплелась устраивать натюрморт. Вялыми от скуки руками развесила на спинке стула бархатную синюю тряпку, принесла из кладовки кувшин. Затем достала из сумки настоящее красное яблоко и задумалась. Два года назад, когда она привела Лёшку, тогда ещё просто приятеля, на семейную Масленицу – познакомить со своими, почему-то и Курт оказался у них в гостях. Видно, у Соньки был очередной аврал – весь день они проковырялись в компьютере, только вечером присоединились к празднику. И как-то так здорово, дружно они втроём – папа, Ася и Курт – разговорились о музыке, осмотрели и опробовали папину коллекцию флейт, что Ася запуталась: кого она вообще-то привела на смотрины? Лёшку или этого Сонькиного фрилансера?
А потом она подглядела в дверную щёлку: на лестничной площадке Лёшка, наставив лоб на конкурента, шипел неразборчиво, но ядрёно. Курт отсмеивался сначала, а потом что-то понял, сокрушённо покачал головой и быстро сбежал по лестнице. С тех пор он больше не заходил к ним.
Тогда Ася не придала значения случаю, а теперь подумала с досадой: «Господи, ну что за человек! Разве можно так сразу сдаваться!» – и, бросив яблоко, помчалась к окошку.
Ей повезло: должно быть, Курта задержала Софья. Он только что обогнул дом и стоял теперь на краю тротуара, пережидая поток машин.
Старинное окно чердачка никак не хотело открываться. Ася влезла на стул и костяшками пальцев постучала в стекло. Предвесенний вечер гудел голосами машин и ветра, не пропуская скромный Асин стук. Она заколотила громче.
Курт обернулся и увидел в деревянной мансарде Асю, отчаянно дёргавшую на себя квадратик форточки. Наконец рама поддалась.
– Эй! Женя! Приходи к нам в воскресенье на Масленицу! Илья Георгиевич блины будет печь! – крикнула она. – Прямо заходи в любое время, запросто! – И, высунув руку на весенний воздух, помахала.
Курт стоял, запрокинув лицо к явлению Аси в окне, и не шевелился – словно боялся спугнуть птицу.
Закрыв окно, Ася перевела дух, затолкала поглубже в сердце неуместную радость и вернулась к натюрморту. В холле уже слышались голоса учениц. Значит, так: фалды туда, кувшин сюда, яблоко справа… Она ещё немного сдвинула драпировку и отступила на шаг. Глаза в глаза – с кувшинного и яблочного боков на неё глядела прежняя нестерпимая скука. Ася схватила яблоко и, смачно откусив бок, поставила возле кувшина. Так вот пусть и рисуют!
* * *
На перекрёстке Курт ещё раз обернулся на дом с окном в чердаке. Будь Вселенная чуть податливее, отзывчивее на мечты, этот чуланчик под скосом крыши, заваленный мольбертами и реквизитом для натюрмортов, мог бы стать для него отличным приютом! Он устроил бы себе из подручного материала гнездо и провёл жизнь, слушая через стенку, как юная художница ведёт занятия, объясняет и хвалит. Тихо стучат её туфельки, когда она прохаживается между мольбертами.
А когда Аси нет, он, лёжа на животе, поглядывал бы в щели и слушал, как гудит и щебечет улица. И ждал бы терпеливо следующего дня, представляя, что, скажем, он раненный в тылу врага, укрывшийся на сеновале. Так прошла бы вечность. А однажды зимой, под утро (у всякой сказки бывает конец!) тридцатиградусный мороз зашёл бы сквозь хилые доски внутрь чердачка и унёс его душу прочь.
Даже не думая возвращаться домой, к недоделанной работе, Курт бесцельно пошёл по улице. Ася, запах весны, приглашение на Масленицу – подобное везение на фоне его нынешней деградации казалось ему фантастикой. Впервые после долгих месяцев мрака он испытал самую что ни на есть свежую, детскую радость жизни.
Свернув в первое встречное кафе, оказавшееся пиццерией, он взял красного вина, что-то перекусить и, поставив ящик на соседний стул, откинул крышку. Вот уже не первый год старинный фонограф с новомодными звукозаписывающими гаджетами внутри был его компаньоном и другом. Курт и представить себе не мог, как раньше жил без него.
Однажды на городской барахолке среди хлама прошлого столетия ему попался на глаза обшарпанный ларец. Дерево ещё хранило следы былой красоты – резные виньетки, потёртый лак. Перед Куртом оказался предмет начала двадцатого века – компактный фонограф. Под откинутой крышкой взгляду предстала изящная панель в стилистике зингеровских машинок и на ней валик. Фонограф не работал. За столетие часть деталей была утрачена.
Принеся предмет домой, Курт поставил его на компьютерный стол и несколько дней косился, недоумевая: как его угораздило соблазниться ободранным ящиком! Понадобилось время, чтобы покупка открыла хозяину свою душу.
Спустя месяц Курт устроил внутри фонографа крепления для микрофона и базы, на которую передавался звук. Микрофон прилегал к вырезанному в корпусе окошку со ставней. Там же подключались наушники. Само собой, куда легче было бы положить в карман обычный диктофон и не мучиться с ящиком, но не всегда то, что легко, радует сердце.
Курт увлёкся бытовой звукозаписью и вскоре был целиком во власти волшебной шкатулки. Корпус фонографа он покрыл лаком, приделал ремень и отныне фланировал по московским улицам с увитым инкрустацией ящиком на боку, возбуждая в людях законное любопытство.
Чуткий микрофон улавливал шорох дождя, скрип снега и шум дорог. Звук накатывающих машин был неповторим, как плеск волны, в разную погоду захлёстывающей скалистый, галечный либо песчаный берег. Это грубо намешанное, жёсткое на слух городское море можно было записывать вечно. В невод фонографа попадали остатки чужих вечеринок – визг чертей, пьяная качка попсы и, наконец, треск расшатанной дверцы – уехали.
Постепенно лоскуты начали складываться в единый образ. Но теперь, в кафе, за бокалом вина, Курт надел наушники вовсе не ради звукового портрета столицы. Ему нужен был голос Аси – всё, что она успела сказать сегодня, с той минуты, когда он, продемонстрировав ей пару треков, тихонько включил «запись».
Курт знал, что, как бы говоривший ни желал скрыть истину, по тембру и интонации можно в точности узнать его подлинные эмоции. Переслушав несколько раз свою тайную добычу, он убедился: Ася испытывала сочувствие к чудаку с ящиком плюс некоторое количество любопытства, не слишком жгучего. Ну что ж, могло быть и хуже! Кроме того, приглашение в гости давало ему ещё один шанс затесаться в друзья. Единственное, что смущало: стыдно нагружать человека, к тому же теперь семейного, своей пропащей личностью.
Выпив ещё вина, Курт почти справился с нападками совести и ушёл бы временно счастливым догуливать вечер, если бы не выяснилось, что на карте, которой он собирался расплатиться, оказалось недостаточно средств.
– А сколько там не хватает? – смутился Курт и полез в карманы.
– Хотелось бы одним чеком, – сказал официант.
Исполнить пожелание не удалось. Расплачивался, собирая копейки.
«Сегодня Софья вернёт машину, – думал он, шагая по улице. – Можно её продать и поехать, скажем, на Аляску. Там, в музее Севера, данные сейсмических, геомагнитных и прочих станций земли бесконечно преобразуются в музыку. Прикольно вот так сидеть и слушать. Но что это даст? Если бы можно было уехать на Аляску без себя – тогда другое дело! А с собой – нет, не имеет смысла. Единственный плюс – это уберегло бы Асю от его персоны. А то ведь правда возьмёт и приедет к Спасёновым на блины!»
Чары недорогого итальянского вина ещё были в силе, а совесть уже начинала раскладывать костры инквизиции. Обещал заехать к Софье за машиной – и как теперь быть с промилле? Клялся заказчику, что сегодня вышлет готовый код программы, – но уже ясно, что не успеет.
Не то чтобы Курт расстроился сильнее обычного. К сюжету «преступление-наказание» он привык. Но отчего-то подумалось: надо бы забежать к Сане Спасёнову, брату Аси и Софьи. Он врач и к тому же его, дурака, жалеет. Зайти хоть сегодня, дождаться конца приёма и сказать: «Всё, Александр Сергеич, край!» Пусть выпишет ему таблетки от лени, скуки и стыда. Вдруг есть такие? Он будет глотать их горстями. Ну, или яду. Может, оно бы и к лучшему – лишь бы не эта хмарь.
3
Замечательный старый дом в тесном дворике с липой был не раскуплен богатой публикой и не отделан в соответствии с евростандартом по причине многолетней угрозы слома. В нём обитали старожилы, и среди них семья Спасёновых. Сперва семья была большой – бабушка с сыном, невесткой и тремя внуками – Александром, Софьей и Анастасией. Затем бабушки не стало, дети выросли, а родители, достигнув пенсионного возраста, уехали поправлять здоровье на волжский воздух, в отдалённый от столицы городок, на родину отцовских предков-купцов, где раньше каждое лето дети проводили каникулы. Старший брат Саня тоже поселился отдельно. В трёхкомнатной квартире на Пятницкой остались сёстры и маленькая Серафима.
Когда Ася изъявила желание привести в дом мужа, Софья не возразила – хоть будет кому менять перегоревшие лампочки. И действительно, зажили дружно, всем нашлось место. Гостиная – общая, Софья и Серафима – в комнате средней, Лёшка с Асей – в маленькой, угловой, где слегка разъехались плиты стены и приходится каждую осень вызывать службу «запенить» трещину.
В тот вечер Лёшке так и не удалось встретить молодую жену у студии. Ася задерживалась – дорисовать иллюстрацию на заказ. Больше того, ему было велено забрать из садика Серфиму, что он и сделал – не то чтобы с досадой, но без особой радости. Только около девяти пришла Ася, занялась сначала племянницей, и лишь потом, на кухне, впервые за целый день обнялись. Тает, кружась, старая деревянная мебель с филёнками, волшебный пар окутывает сердце. Случаются всё же небеса на земле! Минуты полторы благодати – а затем ворвалась Серафима и потребовала Асю к себе.
Пока Лёшка, розовый от перебитого поцелуя, сердито листал телеканалы, Ася намыла тарелку мандаринов и устроилась в гостиной с племянницей – читать «Муми-троллей». Лёшка поскучал-поскучал рядышком да и вернулся на кухню смотреть футбол.
Когда матч закончился, и, надо сказать, по-дурацки, обе барышни уже сладко спали на Серафиминой кровати. Ася с краешку. В ногах шуршит заползший в пододеяльник Серафимин хомяк Птенец. Ну что, будить или не будить? Ладно, пусть себе спит, устала…
Посмотрев со скуки повтор вчерашнего биатлона, а затем и чемпионат по кёрлингу, Лёшка выключил спортивный канал и подошёл к окну. Через прогал в сырых ветвях горело зарево ночной Москвы. Всё же такие вот одинокие вечера – опасная штука! В голову лезут мысли, и нет среди них хороших. Волей-неволей вспоминаешь, что на самом-то деле ты никчёмная личность! Метил в спорт – не сложилось. В институт поступил – бросил. Слава богу, поженились с Асей. Встретил любовь, повезло! И всё равно, стоит остаться наедине с собой, наплывает: недоучка, нянька для малышни. Нет, вообще-то обучать мелких лучшей в мире спортивной игре – это классно! Вот только где денег-то взять на достойную жизнь? Может, потому такая Ася и скучная, что нет сверкающей перспективы?
В полуночное окно било капелью, сосульки кинжалами рушились с крыши наземь. Он как раз стал свидетелем крушения очередной глыбины льда, когда вдалеке сверкнул яркий, как молния по чёрному небу, визг тормозов. Лёшка навострил уши. Тишина длилась секунд пятнадцать, а затем в глубине дворов густо взлаяла и завыла собака.
«Гурзуф, ты, что ли? – с досадой подумал он. – Ну чего не спится тебе?»
Из-за невысоких домов, откуда-нибудь с Большой Татарской, поднимался и тёк по весеннему небу собачий вой. Взяв на себя роль колокола, Гурзуф провозглашал неведомую беду.
Лёшка не верил в приметы и прочую мистику, но на этот раз дурное чувство подняло его с места и вынесло прочь из дома на мокрую улицу. Выскочив из подъезда, он остановился и покрутил головой. Отовсюду летел капельный шёпот. Тысячи неземных голосов ткали по Замоскворечью весну. И на тебе, Гурзуф испортил всю музыку! По ночным переулкам, бранясь и хмурясь, Лёшка пошёл на вой.
– Гурзуф! Ты чего вопишь! Перебудил всех! – заругал он воющего на перекрёстке пса и вдруг осёкся. Сделал несколько шагов и почувствовал, что колени подламываются. В поблёскивающей ночными огнями луже, выбросив руку за голову, лежал расхристанный дядя Миша. Из косматой головы тёк классический ручеёк. – Дядя Миш, ты чего? – шепнул Лёшка, приблизившись ватным шагом, и в следующий миг был атакован чудищем. Гурзуф налетел и, обнажив клыки, рыком донёс до Лёшки свою главную и единственную мысль: не тронь хозяина!
Отбившись кое-как, Лёшка отступил на тротуар и наконец заметил то, что должен был увидеть сразу: в нескольких метрах от дяди Миши помаргивал аварийкой автомобиль, небольшой корейский кроссовер. В этой коробочке, судя по всему, и скрывался дяди-Мишин палач. Лёшка подался было к машине, но раздумал. Зачем? Сейчас приедет дорожный патруль – вот и увидим, кто. Вдруг безотчётно, из глубины всплыла мысль, что не нужно искать виновного. Не было виноватых в дяди-Мишиной беспутной жизни и смерти.
На всякий случай Лёшка позвонил в «скорую», хотя тот, убийца, наверное, уже вызвал все необходимые службы, и, ещё раз оглянувшись на погибшего, зашагал прочь.
Сказать по правде, Лёшка считал себя человеком не сентиментальным и здравомыслящим, но на этот раз его пробрало крепко. По отравленной весне, глядя под ноги и стараясь не вдыхать глубоко, он спешил домой. Из-под земли, вытесняя родной замоскворецкий воздух, поднимался пар невидимого зла, а в отдалении всё выл и выл Гурзуф. Должно быть, это и не вой был, а горькое нечеловеческое рыдание.
В зацепках, оставшихся на куртке после собачьих когтей, дикий и ошарашенный, Лёшка через две ступеньки взлетел по лестнице, торопливо открыл ключом дверь и попал из огня в полымя.
– Где ты гуляешь! – пронёсшись из гостиной на кухню, бросила Ася. – Илье Георгиевичу плохо! Софьи нет – звонки отбивает, и ты ещё пропал! – продолжала она из кухни, перебирая на полке пузырьки с лекарствами. – Давай раздевайся бегом и помогай!
– Дядю Мишу сбили! – застопорившись посередине прихожей, не способный уже ни на какое «бегом», проговорил Лёшка.
Ася выглянула из кухни с флакончиком корвалола в руке и широко распахнувшимися глазами уставилась на мужа.
– Совсем, похоже. Кровищи из башки натекло. А он сегодня Гурзуфа мне поручил. Прямо как чувствовал!
Ася охнула. Задрожали губы. Дядя Миша-то ирисками её угощал! Да и кого из замоскворецких детишек он в золотые годы не угощал ирисками!
– Не говори Илье Георгиевичу! – наконец выдохнула она и, перекрестившись, понесла лекарство в гостиную.
Илья Георгиевич Трифонов был давним соседом Спасёновых, ещё бабушкиным задушевным приятелем и собеседником. Всю жизнь он преподавал детям сольфеджио, был женат и на пару с женой так закормил единственного сына Колю культурой и нравственностью, что тот «сошёл с ума» и сбежал в глушь карельских озер, к безденежью и суровым зимам, приносившим ему непонятное удовлетворение.
Овдовев, Илья Георгиевич накрепко прижался к Спасёновым. Дети – Саня, Софья и Ася – любили старика, почитая в нём память бабушки, а может быть, и тоскуя по старшему поколению, без которого ощущение молодой жизни не бывает полным.
Чтобы как-нибудь оправдать свою беспомощность и навязчивую ипохондрию, Илья Георгиевич завёл обычай угощать соседей произведениями домашней кухни, вроде блинчиков или постных щей, при необходимости забирал Серафиму из сада и вообще помогал по мелочи. Добрые сёстры чувствовали себя эксплуататоршами.
И вот сегодня старик, держась за сердце, в очередной раз постучался к соседям со скорбным призывом – спасти его «ради внука». Когда Лёшка, скинув ботинки, вошёл в комнату, пик приступа миновал. Надсадный кашель измучил грудь и отступил. Илья Георгиевич, в жилетке с ромбами, обтягивающей животик, и неизменно отутюженной рубашке, без сил обмяк на диване в гостиной Спасёновых.
Причина его нынешних проблем со здоровьем не вызывала сомнений: сегодня у Ильи Георгиевича был «пенсионный день». Всякий раз он праздновал его особо. Во-первых, торжественно шёл в банк. Затем – покупал какой-нибудь специальный продукт для неожиданного блюда. Скажем, разорительный соус «песто», если намечался итальянский обед, или, если грузинский, мяту и кинзу для чахохбили. И, наконец, посвящал середину дня кулинарному колдовству. Плодами трудов он с торжественной скромностью одаривал вернувшихся с работы сестёр, а заодно и Лёшку.
Обед, именовавшийся «пенсионерским», был прост, но кокетлив. Постным щам прибавляли элегантности завитки свежего перца, жареную картошку, поструганную необычайно мелко, украшали кольца томлёного лука, а блинчики с курицей светились маслом, как счастьем. К тому же из мелко резанного укропа кулинар умел сотворять узоры, подобные тем, что бариста рассыпают корицей на капучино.
Нынешней ночью Илья Георгиевич пришёл к Спасёновым, ощутив, что как-то нехорошо щекочет в груди. И всё-таки прихватил тарелку с блинами – угостить ребят, сами-то не пекут.
– С утра уже, Лёша, были признаки, – пожаловался старик, увидев Лёшку. – Вышел на балкон и чую – как будто черёмуховый цвет! Соскрёб ледок с перил – даже и он мёдом пахнет! У меня в детстве за соседским забором росла черёмуха, огромная, потом срубили. Вот и к чему бы? Я такую провёл цепочку: черёмуха в цвету – это как бы подвенечное платье. Значит, к смерти… Мне и перед инфарктом что-то такое мерещилось…
– Ерунда! На дерево только зря наговариваете, – буркнул Лёшка.
– И потом вот левая рука иголочками пошла. Немая совсем… – робко прибавил Илья Георгиевич и пошевелил пальцами.
Чтобы вывести симулянта на чистую воду, Лёшка с удовольствием сделал бы ему «крапивку» или посадил на лысину Серафиминого хомяка – пусть взбодрится. Его методы борьбы с хворями соседа были разнообразны. Как-то раз после очередного ипохондрического припадка Лёшка нарисовал смерть с косой, огрызавшуюся вполоборота: «Илья Георгиевич, отстань!» – и повесил комикс на входную дверь. Старик плакал.
Но теперь, в присутствии Аси, перевоспитывать паникёра было рискованно. Она только что сбегала за тонометром и, просунув руку больного в манжетку, напряжённо слушала шум. Пульс зашуршал на низких цифрах – мелким и частым дождиком.
Подозрительно было, что Илья Георгиевич даже не полюбопытствовал о результатах измерения. Он смотрел мимо Асиного плеча на нахохленные спины голубей, в свете фонаря дремлющих на карнизе.
– Низкое! – сказала Ася и подняла глаза на мужа – не придумает ли тот, как быть?
Лёшка глянул на старика, перебиравшего толстыми пальцами бахрому пледа, и изо всех сил попытался выжать из сердца жалость. Пнул: сочувствуй, гад! Но то ли слишком привык к выступлениям Ильи Георгиевича, то ли все эмоции были растрачены на дядю Мишу.
– Ну а «скорую» – то чего не вызываем, раз плохо? – спросил он с досадой.
Илья Георгиевич вздохнул, суетливым жестом пригладил на сторону чубчик и проговорил:
– Нет. Не надо «скорую». Позовите Саню!
В стародавней жизни Илья Георгиевич учил маленького Саню Спасёнова музыке. Их сотрудничество длилось восемь лет и со временем вышло далеко за рамки предмета. Не встретив заинтересованности в собственном сыне, он вывалил на соседского мальчика весь свой обременительный культурный багаж и вскоре почуял, что обрёл наследника. Нельзя и передать, как учитель был обескуражен, почти убит, когда его ученик, вместо того чтобы заняться искусством, рванул в медицину.
Его по сей день печалило, что одарённый мальчик, а теперь уже взрослый мужчина тратит себя на работу, в общем, подённую, возится с болезными стариками и ничем пока не удивил мир. Кроме того, Илью Георгиевича расстраивало, что так заметно опростились Санины прежде высокие облик и речь. Ходил нестриженым, выражался как попало, перекусывал на бегу. При всём при том целительное воздействие Сани на нервы старика было огромно. Илья Георгиевич приползал к нему в самых чёрных клубах ипохондрии, уходил же с весёлой отвагой в сердце, которую иначе можно было бы назвать верой.
Застигнутый страхом старик смотрел, как младшая Ася, прижав телефон к уху, слушает гудки, и ему казалось: она звонит в область света – туда, где придумывалось небо и капель, откуда обязательно вышлют помощь. Но область света не отвечала. Видно, Саня был занят другими просителями.
– Я на домашний попробую, – сказала Ася озабоченно, и в ту же секунду брат перезвонил. – Ну вот. Через полчаса будет! – сообщила она, улыбнувшись напуганному старику. – Лёш, ты побудь пока с Ильёй Георгиевичем, а я в ванной бардак разберу – а то вдруг с ним Маруся увяжется! Она может. И Софья-то где? Господи! Первый час!
4
В это самое время в девятиэтажке на краю московского лесопарка, в скромной квартирке, где последние два года обитал с супругой и её маленькой дочкой врач-терапевт Александр Сергеевич Спасёнов, разгорелся семейный конфликт. Он вспыхнул от телефонного звонка.
То обстоятельство, что мужу придётся ночью ехать через пол-Москвы, сперва туда, а затем и обратно, привело Санину жену Марусю в панику.
– Что им ещё надо? Кто ночью в гости зовёт? – вскрикивала она, закрывая ладонями исказившееся лицо.
– Марусь, не в гости. Илье Георгиевичу плохо, – торопливо одеваясь в прихожей, возразил Саня.
– Плохо? А мы что, в каменном веке? Что, разве «скорую» нельзя вызвать?
Уже взявшись за дверную ручку, Саня почувствовал, что трещит по швам. Вот и как быть? И уйти нехорошо, и остаться – немыслимо.
Он вздохнул и, поцеловав вспотевший от возмущения лоб жены, всё-таки вышел из дому.
Пешеходный проспект вдоль кромки гремящего оттепелью леса нёс усталого Саню, баюкая на ходу. После трудового дня с девяти до восьми, плюс ряд «внештатных» обязательств, в голове у него был беспорядок. Мысли танцевали друг с другом, меняя партнёров и закруживаясь до обморока. А между тем сегодня масленичный четверг – к тёще на блины. Только Санина тёща в Калуге. А мама и того дальше, в маленьком волжском городке. Укачало их там с папой, не дозовёшься. Значит, надо ехать самому – у папы последняя кардиограмма была неважная. И, кстати, Илью Георгиевича пора загнать к кардиологу… – думал Саня на лету, пока вдруг не понял, что ничего этого не хочет, а хочет упасть, вот хоть сюда, на просевший от влаги снег под соснами, и отключиться.
В этом году он устал непозволительно рано. Не прошло и двух месяцев после январских каникул, а уже навалились яркие сны. Февраль принёс метели, и реальность сблизилась со сновидениями настолько, что, начиная пробуждаться, обычно минут за пять до будильника, он обнаруживал вокруг всякую невидаль. На место соснового леса с горками надвигались волнистые пески. Различимы уже всадники-арабы в одеяниях цветных и воздушных. Стена горячего воздуха перебивает дыхание. Нет, давайте-ка поправим видение! Пусть блеснёт мне тихий разлив Волги, мягко накатит из-за сосен на асфальт перед домом…
А потом звенел будильник. Саня отрывал от подушки набитую дроблёным камнем голову и шёл на кухню. Чашка с кофе казалась свинцовой. К счастью, двадцать минут, за которые он успевал добежать через парк до работы, возвращали его движениям и мыслям присущую от природы стремительность. Но где-то накапливался тот «свинец».
Ты устал, друг, отдохни. Хотя бы просто выспись. Но как выспишься, когда тебя обступают просьбы о бессмертии. Несметное число просьб. День и ночь они висят в уме, как стикеры с напоминанием о невыполненных делах, и вместо глухого, восстанавливающего силы сна тебя мучат видения.
Полагая себя специалистом маленьким, не призванным к великим делам, Саня всё-таки ухитрился зарасти пациентами, как бурьяном. После работы непременно кто-нибудь ждал его у крыльца поликлиники и провожал домой, выясняя дорогой – делать ли прививку от гриппа, соглашаться ли на шунтирование, как советует профессор Н., а также другие вопросы, как пустячной, так и великой важности.
Звонки, переписка, беготня по соседям, полагавшим, что имеют особое право на внимание доктора, – всё это приподнимало Саню на высоту утомления, с которой любая ситуация становилась видна как на ладони. Мозг включал повышенную передачу, и интуитивные решения самых сложных вопросов, принятые в такие минуты, неизменно бывали верными.
Коллеги относились к Александру Сергеевичу с уважением, однако не без юмора. Случалось, он выпадал из профессии и задумывался о смешных вещах. Не сменить ли ему медицину на что-нибудь более действенное? Например, молитву! «Саша, принимайте фенибут! Фенибут вам поможет!» – иронизировал его старший коллега, невролог, истинный профи и атеист.
По большому счёту, Саня был с ним согласен. Фенибут или что покруче – и долой из медицины, для которой непригоден совсем.
Однажды он сошёлся сам с собой на том, что не лечит людей, а попросту «держит дверь». Для стариков – чтобы не захлопнулась. Для прочих неловких – чтобы не защемило больно. Отзывчивость делала Саню швейцаром без сменщика. Валясь с ног, он подпирал вечную дверь, через которую било жизнью.
Особенно его мучили родственники безнадёжно старых людей, врывающиеся в кабинет, звонящие и поджидающие его у поликлиники с каким-нибудь убийственным вопросом. Скажем, если делать всё, как он скажет, то будет ли гарантия? И никак он не мог, не хватало духу, ответить честно: «За гарантией – это, ребята, к Богу! Разве я тут решаю хоть что-нибудь? Я маленький, дверь держу!»
Два года назад, к великому удивлению Аси и Софьи, Саня женился. Сёстрам казалось естественным, что никто из кандидатур, ежедневно встречавшихся на пути их лучшего в мире брата, не осмеливался забрать «народное достояние» в личное пользование. Возможно ли приватизировать в одни руки Покров на Нерли? Дрезденскую галерею или Уффици со всем содержимым? Так кому же могло прийти в голову отнять у целого мира для себя для одной Саню Спасёнова!
И всё-таки отыскалась Маруся. По совету знакомой она привела к доктору своего старенького дедушку. Заглянув после приёма в кабинет с полными слёз глазами, Маруся попросила Александра Сергеевича повторить для неё главное, а то дедушка что-нибудь напутает. С тяжёлой чёрной косой, лежащей на узком плече, с узкими запястьями нервно сцепленных рук, слегка полноватая и словно бы стесняющаяся своей проявленной женственности, Маруся гнездилась на краешке стула и с отвагой слушала доктора. В ответ на все его предписания и советы она мужественно подтверждала – «да!». А вечером позвонила ему уточнить назначение.
Кто дал ей номер? Неужели он сам? Теперь часто, до или после работы, Саня видел её – у поликлиники или на лесной аллее, по которой возвращался домой. Маруся робко роняла вопросы, кивала в ответ и твердила своё неизменное «да», пока однажды Саня не почувствовал, что переполнен её согласием.
Марусины «да» стучали в голове, сливаясь с пульсом, как шаг судьбы. «Да, Саня! Да. Именно да! Вот теперь – да!»
Ещё ничего не случилось в реальности – ни свиданий, ни заветных слов. Но он уже всё понял и рассказал сёстрам.
«Конечно, женщина с совестью не осмелилась бы тебя присвоить, – рассудила Софья. – Но, в конце концов, кто-то должен присматривать за хозяйством, пока ты на подвигах. Приводи – посмотрим!»
Предложение Маруси о совместной жизни Саня принял с нежностью, но без иллюзий. Это был меткий удар по его предназначению – голова с плеч. Как любящий муж отныне он был обязан потеснить из жизни излишек работы, и в первую очередь её неоплачиваемую часть – стариков, инвалидов и сложных подростков, с которыми он приятельствовал, оказывая посильную помощь. Он больше не имел морального права ложиться в два и вставать в шесть, чтобы заняться их нуждами. Теперь у него была семья – Маруся и её дочка Леночка.
Как-то, однако, всё утряслось. Санина бескорыстная «частная практика» жила и здравствовала, а Марусина ревность, хотя и разжигалась потихоньку, пока что не приносила ущерба. Куда больше, чем избыток работы, Марусю страшили моменты, когда на её супруга вдруг нападало раздумье – то самое, против которого грозил ему фенибутом невролог.
Дождливой или снежной ночью, заглянув на кухню, Маруся не раз заставала мужа глядящим в круговерть непогоды. Планшет бывал закрыт, закрыты и отложены на край стола книги в перьях закладок. И всё же Маруся чувствовала: Саня не один. Комнату заполняли собеседники.
Его ночные бдения походили на подготовку к трудному путешествию, когда приходится изучать карты и путевые записки предшественников. На расспросы жены Саня не умел ответить вразумительно, потому что и сам не знал. Он «просто читал». Но Маруся чуяла ревнивой душой: в глубине его ночного уединения с книгами росло и обретало форму предназначение, о котором пока нельзя было сказать ничего определённого.
* * *
Возле отчего дома Саня притормозил и взглянул на родные окна. В их свете укрывшая балкон мокрая липа казалась великолепной бронзовой люстрой с множеством витиеватых рожков. Кстати, если допрыгнуть до нижней ветки, по толстому боковому суку вполне можно влезть домой, ну или в гости к Илье Георгиевичу!
Саня мотнул головой, вытряхивая сон наяву, и зашёл в подъезд. Дверь открыл Лёшка.
Скинув куртку, вымокшую под весенним дождём, даже не разуваясь – как врач из районной поликлиники, Саня направился было в комнату, но увидел младшую сестру, и, спохватившись, снял ботинки.
– Ну что там? Серьёзно или паника? – спросил он у Аси, обнявшей его и ткнувшейся носом в плечо.
– Хотели «скорую», но ты же его знаешь – подавай тебя! – Ася отстранилась и, оглядев Саню, озабоченно нахмурила брови. Обе сестры, Софья и Ася, обожали брата и любящей завистью завидовали его красоте. Не то чтобы он блистал, просто черты его лица были так устроены, что при взгляде на них душа утешалась. Но сегодня брат явно был утомлён сверх меры. – Саня! Ты какой-то прямо… Устал? – спросила Ася. – Я тебе, хочешь, выжму апельсиновый сок! Или чаю давай, с блинами, Илья Георгиевич принёс. Я думаю, это он у плиты перетрудился! Вот кто его просил, скажи на милость? А Пашка в своей ветеринарке. Там их собачка приютская болеет. И Софьи до сих пор нет! Не могу дозвониться. Думаю, может, с Куртом застряли в какой-нибудь кафешке? Она ему сегодня машину возвращает. Хоть бы позвонила, сказала…
Саня контужено, не всё разбирая, слушал сестру, и опять ему захотелось поддаться притяжению земли и, забившись в какой угодно угол родного дома, уснуть хотя бы минут на десять.
– Я умоюсь, – сказал он.
Через минуту, промаргивая воду на ресницах, готовый к службе доктор Спасёнов зашёл в гостиную.
Илья Георгиевич, забавный, с чубчиком из трёх волосинок, в натянутой на круглый живот жилетке и толстых совиных очках, лежал на старом диване, любимом несколькими поколениями Спасёновых, неудобном, зато нарядном – с деревянной спинкой и подлокотниками. На этом диване они сиживали по-соседски ещё с бабушкой, Елизаветой Андреевной, и Ниночка тогда была жива, и сын Коля не ушёл ещё в свои дебри. Главное же, были не то чтобы молоды, не то чтобы счастливы – но уместны, нужны друг другу!
– Саня! – воскликнул он и хотел заплакать, но, видно, побоялся дать сердцу лишнюю нагрузку и прерывисто вздохнул. – Видишь, милый мой, опять приходится тебя нагружать…
С видом приветливым и бодрым, словно и не было усталости, Саня подвинул стул к дивану и взял дрожащего Илью Георгиевича за запястье. Поднял гнилую нить пульса, подержал, вникая в удары, и отпустил.
– Илья Георгиевич, вот так, навскидку, ничего нового и неожиданного я не слышу! – сказал он и обернулся на дверь, где ждала, не шелохнувшись, Ася: – А давай-ка Илье Георгиевичу чаю, не в пакетике, а нормально заваренного. С сахаром. И мне тоже можно! И фонендоскоп принеси, пожалуйста! Он в мамином шкафу. А Лёша пусть за релиумом – там ампулы у Ильи Георгиевича на кухне в шкафчике, и шприц.
Отдав распоряжения, Саня пересел со стула на край дивана и внимательно поглядел на старика.
– Рассказывайте, что у вас стряслось? Кто вас расстроил?
– Что стряслось… – отозвался Илья Георгиевич. – Ничего не стряслось. Санечка, жизнь прошла! Страшно мне – и я плачу! – На этих словах старик действительно заморгал и, подтянув неуклюжими пальцами плед, укрылся до подбородка. – И потом, ведь Паша-то опять ночевать не пришёл! Совсем сдурел со своими зверями. А у него ведь ЕГЭ!
Прошло пять или шесть минут тихого разговора. Лёшка промчался, звеня ключами, в квартиру напротив и обратно. Вошла Ася со шприцем и ампулой на застеленной салфеткой тарелке, ободряюще улыбнулась больному и выскользнула за дверь. А когда укол был сделан, явилась опять, на этот раз с двумя зимними, синими в белый горошек, чашками на подносе.
Такая же синяя, полная белой мглы чаша колыхалась за окнами в невидимых ладонях – это на смену дождю пришла последняя злая метель зимы. Гремит «бородинское сражение», но уже известно – снег займёт Москву лишь ненадолго. В последний раз его уберут с тротуаров, а возможно, он сдастся без боя и сам сбежит в водосток.
Саня взял чашку со сладким чаем и отпил в надежде раздобыть сил. Бывает усталость прозрачная, с разрывами в тучах – когда по юности не спал ночь, заменяя сон сигаретами. Утомлённость Сани была сплошной и длительной. Отзываясь на реплики Ильи Георгиевича, он из последних сил приподнимал её плиты, высвобождая из-под них сердце.
Илья Георгиевич сел на диване и тоже пил чай, сжимая чашку в неловких пальцах. Из неё набрызгало уже немало на плед и на старенькую жилетку в катышках. И всё же крупный озноб, пробиравший ветхого, непрочного, как шалаш, Илью Георгиевича, стихал. Лекарство действовало.
– А ведь я, Санечка, нашёл три причины, по которым мне нельзя умирать! – почувствовав облегчение, заговорил старик. – Пашку дорастить, чтоб в институт поступил, и курса хотя бы до четвёртого, а то кто смотреть за ним будет? Это первое. Затем, объясниться с Колечкой, понять его, всё же сын. А то представь, он, может, поумнеет к старости, и как ему будет горько, что так вот нехорошо бросил отца, да и сына бросил… Это вот второе. – И умолк.
Саня погладил старика по руке, как отчаявшегося ребёнка. Прихватил мимоходом запястье.
– А третье?
Илья Георгиевич вздохнул и мелким нервным движением поправил чубчик.
– А третье – хочу успеть до смерти как-нибудь перемигнуться с Ниночкой! Хоть бы сон какой вещий приснился – тогда уж не страшно. Глупо звучит – но вот хочется «установить связь»! Вот такие у меня планы на последние метры до финиша.
Саня поставил чашку на стол и, упёршись ладонями в колени, убеждённо сказал:
– Илья Георгиевич! А вы не проводите этой черты! Вы сейчас живёте, и дальше будете жить, и потом. Планируйте жизнь вперёд, через эту точку, которой вы так боитесь! Планируйте желанные встречи, берите с собой хорошие дела, которые не удастся завершить здесь! А может быть, и удастся – кто знает? Я бы на вашем месте открыл какой-нибудь долгосрочный проект! Вот хоть Пашку вывести в люди. Институт – это мало. Надо определиться в жизни – это ещё лет десять. Вы ведь шебутной! Вон, девочкам нашим ещё ухитряетесь помогать!
Саня говорил бодро и связно, подозревая мгновениями, что текст не его, он лишь исполняет некую классическую роль, весьма любимую пациентами вроде Ильи Георгиевича. И действительно, старик ожил и бросился возражать, желая, конечно, чтобы Саня разбил его скепсис. Саня выслушивал оппонента и снова мёл пургу под стать заоконной, пока в какой-то момент не почувствовал, что сознание расслоилось, как старая фанера. «Илья Георгиевич, думаете, у меня есть вера? На самом деле я верю в смерть и в похороны!» – вспыхивало в уме, а язык всё плёл и плёл вдохновляющие кружева.
Илья Георгиевич доверчиво внимал. Скоро совсем утихла дрожь, по груди разлилось тепло. Больной уснул.
Саня осторожно вынул из-под его локтя Серафимину книжку. Из середины просыпался летний гербарий. Саня опустился на пол и собрал сухие листья и цветы. В накатывающей дрёме ему захотелось составить из них кораблик. Он прилёг щекой на столик и, глядя сбоку, принялся выкладывать лиственную мозаику. Лист дубовый – корпус в волнах, липовый – парус, мелкие «ступеньки» акации – снасти…
Когда Ася с новой порцией чая, пастилой и вафлями в конфетнице, не смыв ещё с ладоней сладкую пыль, вошла в гостиную, оказалось, что поставить всё это некуда – журнальный стол занят. На нём, головой поверх сложенных рук, спит брат, так тихо, что страшно – жив ли?
Из-под ворота его свитера выбился шнурок с медным крестиком. Этот крестик с чуть заметным остатком эмали Ася помнила с детства, когда он ещё был новеньким. Саня купил его взамен своего крестильного, потерявшегося в Волге во время одного из ныряний.
Ася поставила поднос на пол и поправила крестик. На серо-синей вязке Саниного свитера были видны «соляные» следы стирального порошка. Маруся, опасавшаяся всего, брала для стирки двойную дозу. Помедлив, Ася осторожно смахнула крупинки.
Сёстры знали, как незакреплённо брат существовал в новой семье. Он, наверное, и спал на лету, не прислоняясь. Как люди уходят в пустыню, в пещеру, в стылую келью, чтобы открыть в себе дверь чему-то большему, так, возможно, и Саня, загнав себя на Марусину чужбину, хотел открыться чему-то.
Эх, если б можно было хоть ненадолго заполучить брата к себе! Прошлой зимой, между Новым годом и Рождеством, Маруся с Леночкой уехали к родным в Калугу, а Саня приболел, и сёстры зазвали его к себе. Что это были за дни! Как будто детство выпорхнуло из-под ладони. Сколько было выпито чаю под родительское варенье! Сколько всего припомнили из милой давней жизни! Даже сны им снились о прошлом – они обсуждали их утром за завтраком. Правда, Лёшка тогда ещё жил у себя. Он бы, конечно, всё им испортил, поскольку из другой сказки.
Выйдя из комнаты, Ася мельком оглядела прихожую – нет по-прежнему ни Софьиных сапог, ни пальто. Вызвала номер сестры – раз, другой и третий, пока вдруг не получила эсэмэску: «Прекрати сажать мне заряд! Приду, когда смогу!»
В пять утра повернулся ключ, в дом на цыпочках просочилась Софья. Скинула сапоги, пальто в тающем снегу и тут же была атакована вылетевшей из кухни сестрой.
– Совсем ты с ума сошла! – шёпотом набросилась Ася. – Где ты бродишь? – Хотела обнять – живая, и слава богу! – но Софья глянула как-то холодно, незнакомо, словно в её обличье домой пришёл другой человек.
– Мы три блинчика тебе оставили. Будешь? – торопливо сказала Ася и убежала на кухню.
Софья вошла следом, сполоснула руки и, налив в чашку воды из кувшина, с жадностью выпила.
– Дядю Мишу сбили! – сообщил Лёшка, просидевший всю ночь на кухне, возле Аси.
– Знаю, – хрипло отозвалась Софья и плеснула себе ещё воды.
– Да, а у нас ведь Саня! – спохватилась Ася. – Илья Георгиевич его пригнал. В гостиной оба спят, не буди! Маруся обзвонилась. Объясняю – спит человек, вымотался, – не понимает!
Софья, не дослушав сестру, быстро прошла в гостиную. На диване бурлил водопадами, свистал ветрами в печной трубе сон Ильи Георгиевича.
– Саня, проснись! Надо вставать! – перекрывая «звуки природы», громко и твёрдо сказала она.
Брат тут же вскочил, огляделся, припоминая, где и как его угораздило выпасть в сон, – и увидел сестру.
– Соня, что случилось? – спросил он свежим встревоженным голосом, словно и не думал спать. – Что у тебя?
– Поезжай. А то тебя Маруся сожрёт, – сказала Софья и скупо поцеловала брата в висок. – Давай. Утро скоро.
– Да! – Он подхватил со стола чашку и двумя глотками допил холодный чай. Зажмурился, прогоняя остаток сна, и опять уставился на сестру. Определённо, с ней что-то было не так! Он чувствовал, как из области Софьиного сердца невидимо подтекает тёмное – кровь, тоска, беда. – Соня! Я же вижу! Говори немедленно!
– Не сейчас! – отрезала Софья и вышла из комнаты.
Прежде чем уйти, Саня ещё раз склонился к спящему Илье Георгиевичу. Взяв аккорд на запястье, прижал тайные струны, вслушался. Положил затем ладонь на морщинистый лоб старика, кивнул – и вышел в прихожую. Его провожали сёстры и племянница Серафима, выскочившая из спальни в пижаме, со спутанными волосёнками, дышащими детским сном.
– Саня! Ты послушай! – заторопилась она, боясь, что её остановят. – Пашка ведь к себе привёл собаку! А Илья Георгиевич не пустил! И мы сидели все во дворе. Я сказала: ну что, моя хорошая, будешь кусочек? А она мне улыбнулась и расправила уши!
Саня опустился на корточки и, расцеловавшись с племянницей, понял, что до слёз не хочет домой – как, бывает, ребёнок не хочет от родителей утром в садик.
– О! Сейчас кому-то будет кирдык! – крикнул из кухни Лёшка. Он высунулся в окно, рискованно подставив голову под сосульки, и увидел: во дворе под облепленной мокрым снегом липой стояла Маруся. Из опущенной форточки такси выкатывалась кабацкая музыка.
5
Когда за братом закрылась дверь, Ася ринулась на балкон. Вот Саня – вышел из-под козырька и сразу попался. Стукнула дверца, стала глуше музыка, поехали… Стоя на зябком воздухе, Ася смотрела на опустевший двор. Мокрые снежинки, как большие неуклюжие комары, путались лапами, висли друг на друге, усеяли всю липу. В последние дни под утро сильно пахло бензином. Но, может, никакой это и не бензин, а просто Москва печёт на Масленицу огромные уличные блины? На невиданный пир по ночам собирает дома, и чаёвничают они под звёздами марта?
– Соня, ну рассказывай теперь! – вернувшись на кухню, потребовала Ася. – Лёш, уйди, дай нам поговорить!
– Да не надо никому уходить! – возразила сидевшая у стола Софья и отбарабанила ногтями по сахарнице. – Всё, ребятушки! Кончилась наша хорошая жизнь!
Ася села напротив сестры и испуганно посмотрела в её бледное и резкое, с тенями лицо.
– Соня, ну что ты говоришь! Почему кончилась?
Софья почесала нос и, отогнав сомнение, прямо взглянула на сестру, затем на Лёшку.
– Это я сбила дядю Мишу, ребят. Вот такие дела! – Во всеобщем молчании она приподняла край хлебной корзинки, словно искала что-то под ним, и опустила с усмешкой. – Медицинскую экспертизу прошла – трезвая! Утром буду дозваниваться Елене Викторовне. Ночью не подошла. Попрошу, чтобы взяла это дело. Как раз её профиль, – договорила и уткнула лицо в ладони.
– Нет, Соня, подожди! – наконец поборов немоту, сказала Ася. – Разве Курт машину не забрал?
Софья опустила руки – лицо под ними оказалось спокойным, твёрдым.
– Нет. Я оставила ещё на день. – И, взяв нож и вилку, принялась за блинчик.
Ася беспомощно взглянула на мужа. Лёшка молчал, привалившись плечом к холодильнику, нахмурив белёсые брови. Затем достал из буфета бутылку открытого на Новый год коньяка и, плеснув в рюмку из-под корвалола, протянул свояченице:
– Сонь, ты давай-ка, того… Не паникуй! На вот!
– Спасибо, милый, – кивнула Софья. – Дядя Миша, прости! – И, пристально поглядев в глубину отравы, выпила.
Под золотым с зелёной вышивкой, ещё бабушкиным абажуром, мягко сияющим в центре ночной вселенной, сдвинув стулья поближе друг к дружке, сёстры облаком завернулись в плед. Глоток коньяка растворил железную волю старшей сестры. Уткнувшись Асе в плечо, Софья каялась, что во всём виновата сама. Кто просил её становиться амбициозной выскочкой! Рисковать, пахать на пределе сил, рваться бог знает к каким целям, когда всего-то надо было – любить близких. И вот – расплата! Случайный камушек повредил обшивку космического корабля, и теперь все погибнут.
А какой это был дивный корабль! Уютный стеклянный шар, в котором зима кружится сахарной пудрой с блёстками. Ангелы встряхивают шар – и на ветви липы падает душистый снег. В полёте не укачивает. Перегрузок нет. Можно рисовать, вышивать, растить детей, устраивать чаепития. Можно по освещённым улицам отправиться в театр или на концерт. И вот – хлынул космический холод и выстудил счастье. Неужели ангел выронил шар!
В семье, где выросли дети Спасёновы, любящей и нетщеславной, не было принято планировать дальше ужина. Поэтому, когда Софья заявила, что презирает семейное болото, родители сперва удивились, а затем незаметно выскользнули из её молодой жизни – на дачный огород. Там, кажется, мало скучая о детях, мама с папой научились выращивать волшебные урожаи – тыквы, как в сказке о Золушке, огурцы всевозможных сортов и малину со вкусом детства. Был, между прочим, у Спасёновых и виноград – лоза, оплётшая свод беседки и дававшая осенью до пятнадцати килограммов синих гроздей.
На воздухе, в простом труде, поправилось пошатнувшееся было здоровье папы, вернулось тихое счастье. Есть такие избранные пары – когда спустя сорок лет муж и жена любят друг друга крепче, чем собственных детей. Ну а Софье за дерзость, за пустые амбиции – одиночество!
Ася захлюпала, жалея сестру. Принялись вспоминать далёкое, и в питательном тумане слёз, на опушке березняка, мигом поспела весёлая земляника. Расправилась во всю стать срубленная ель, под лапами которой детьми был устроен «штаб». Ожила и бросилась на сестёр целоваться бабушкина собака Мушка. Софья большая, ей хорошо, а у Аси-маленькой – всё лицо мокрое от собачьего языка. Сладко плакать!
– Ладно. Я спокойна. Что бы ни было, Серафиму вы не бросите – это главное! Да и не будет ничего – он же пьяный… – высморкавшись в салфетку, проговорила Софья.
Ася погладила Сонины жёсткие, сбрызнутые лаком волосы. «Глупости! Не может этого быть! – вдруг ясно подумалось ей. – Убей сестра человека – разве успокоилась бы так быстро? Ходила бы, пожалуй, всю ночь и выла!»
Тут скрипнула дверь гостиной, зашаркали шаги, и на пороге кухни, жмурясь на абажур, возник Илья Георгиевич. Седые волосёнки топорщились над ушами, как парик клоуна, и было ясно: что-то чудесное он принёс с собой из сна, рождённого ампулой релиума.
– Деточки, вы сидите прямо как сёстры у Чехова, тогда, в пожар, – сказал он, подсаживаясь к столу. – Вон как лампочка горит у вас уютно, и бутылка, смотрите, запылилась. Как будто её тогда и не допили, сто лет назад… – Он вздохнул и, коснувшись взглядом стенных часов, воскликнул: – Погодите! Это что же, утро? Почему никто не спит?
Кое-как его успокоили, уговорили поспать ещё в гостиной у Спасёновых, под присмотром. А уж утром переберётся домой.
Рассвет на исходе зимы неуютен. Нет в нём укромной темноты декабря. Синицы звенят, лезет сквозь шторы грейпфрутовое, не русское какое-то солнце, и уже следа не осталось от вьюги, так сладко укрывшей ночью липу и двор.
Утром, где-нибудь около семи, в дверь задолбил Пашка, щупленький парень шестнадцати лет, с хмурым взглядом и нестрижеными волосами, которыми любил занавеситься от лишних вопросов взрослых.
– Что с дедом? – шёпотом рявкнул он, движением плеч наезжая на сонного Лёшку. – Дед мой где?
– Дед у нас. А вот ты где шляешься? – встречно наехал Лёшка, имевший свои причины недолюбливать «мелкого Трифонова».
Выдали Пашке деда. Торопливо надев жилетку, всклокоченный и жалкий Илья Георгиевич посеменил в компании сурового внука через лестничную площадку к себе в квартирку.
– Почему не позвонил, что тебе плохо? Влом было кнопку нажать? Я тебе кто? – шипел подросток, бережно препровождая старика домой.
– Паша, ну а как бы ты ночью один через лес пошёл? Это мне только лишние волнения! – оправдывался дед. – Да ведь я и не один – со мной девочки, и Саня прибежал. Как собачка-то ваша? Жива?
Ася в пижаме, с шалью на плечах высунувшись из комнаты, слышала, как звенят ключи и стихает на площадке Пашкина ворчня. А когда легла, вдруг прошибло током: добрался ли Саня? Не убила его по дороге Маруся? Ринулась к телефону и с облегчением прочла эсэмэску: «Дома».
Этот принятый в семье отчёт о передвижениях друг друга Ася помнила с детства. Она и сама всегда звонила из института – доехала, пошла перекусить, выезжаю… Подружки смеялись: мол, что вы все друг друга пасёте! И Лёшка смеялся тоже, а порой ревновал. И теперь Асе вдруг стало жалко себя и брата, да и Софью тоже – как особо редкую, вымирающую породу душ. Она решительно выпросталась из мужниного объятия и пошла проверить, как там спят Софья и Серафима. Заглянула затем в пропахшую корвалолом гостиную посмотреть голубей на балконе – воркуют! Опять придётся сегодня мыть за ними перила. А в клетке уже проснулся и зашуршал наполнителем Серафимин хомяк Птенец. Все целы. Нет, не может такого быть, чтобы ангел выронил шар!
6
Кроме Гурзуфа, никого не осталось на свете, кто всерьёз тосковал бы о дяде Мише. Что касается Лёшки, он жалел о несчастном пьянице, как об одном из старых домов, чьё место займёт новодел. Невесело без него будет идти по переулку, замрёт воспоминанием сердце. Но такая жалость и в сравнение не шла с безутешным собачьим горем.
Осиротевший пёс лежал под мигающим светофором и плакал. Крупные, похожие на стеклянные шарики слёзы вытирал шерстяным кулаком, поджав когти, чтобы не оцарапать глаз. Именно по этому, вовсе не собачьему, жесту Лёшка догадался, что Гурзуф снится ему во сне.
Московское утро, нежное и старинное, наплевать, что бензинное, проникло сквозь шторы с дубовыми листьями, и Лёшка проснулся. Моргая, просеял сквозь белёсые ресницы солнечный свет и понял, что здоровье взяло верх над хандрой. Вчерашний морок закончился. Дяди Миши нет, но мы живём дальше. Эх, вот если бы поваляться часок-другой, растормошить Асю – тогда блаженство было бы полным. Ну уж ладно – пусть спит. А Лёшке пора собираться и топать на занятия младшей группы, учить шестилетних гавриков гонять мяч.
Если бы Лёшка был чутким хотя бы вполовину душевной чуткости Спасёновых, то, открыв дверь спальни, он понял бы: в доме творится нечто странное, опасное и героическое. Но, будучи человеком обычным, он увидел только, что мелькнувшая в коридоре Софья воодушевлена и волосы у неё дыбом. Ах чёрт, да это ж она дядю Мишу!.. Лишь бы хоть не посадили, а то им с Асей кранты – придётся воспитывать Серафиму! Поймав себя на этой не подобающей хорошему человеку мысли, Лёшка сконфузился и отправился на кухню – заесть смущение яичницей.
– Лёш, ты флешки моей не находил, зелёненькой? – спросила Софья, бледная, но бодрая. – И «мак» куда-то дели. Чёрт знает что! На один вечер нельзя оставить! Компьютер – это же не иголка! На столе журнальном лежал! Нет, ну куда дели-то? – возмущалась она, проносясь из кухни в гостиную и обратно.
Лёшка, естественно, не брал Софьиного компьютера и, тем более, флешки. Ему и вообще не было дела до коммерческих изысканий Асиной сестры. «Что там “мак”! Вот март – это да! – И он мельком глянул в окно: припотевшее стекло, как матовая линза, смягчало яркость дня. – Март – это круто. Или, если на “ма”, то ещё “Манчестер Юнайтед”, особенно когда интересный соперник!.. – думал он мимоходом, не неволя течение мыслей. – Капает вон! Всё небо протекло. Да что небо! Влага сочится прямо из воздуха! А в апреле начнется безумный свет. Ася в скверике пристроится рисовать. Пока зелени нет, и правда свет сумасшедший. Ну а в мае в Анапу с мелкими – двухнедельный спортивный лагерь. Конечно, и Ася возьмёт отпуск. Ася и море! Разве нужно человеку в жизни что-то ещё?»
Увлечённый мечтами Лёшка как раз нацелился разбить на сковородку тройку-четвёрку яиц, когда на улице, совсем рядом, может быть, в Климентовском, подал голос матёрый пёс. Метнувшись к окну, Лёшка открыл створку и вслушался: это была сильная ария – глубокая и трагическая. В ней пелось о щенячьих деньках, когда дядя Миша пригрел дворового кутёнка и назвал Гурзуфом, о молодости, проведённой на вольных хлебах Замоскворечья, о верной подруге, беленькой, с коричневатым хвостом, Марфуше, и о кровных врагах, но главное – о погибшем хозяине. А ведь не раз Гурзуф спасал дядю Мишу, поднимая морозной ночью лай у бесчувственного тела…
«Эх, дядя Миша, дядя Миша! – нахмурился Лёшка, закрывая окно. – Наследники на комнату, как пить дать, уже сбежались – может, хоть похоронят как человека. Спи с миром!..»
В настроении мутном, подпорченном вытьём Гурзуфа, за которого, согласно последней воле покойного, ему предстояло теперь отвечать, он отправился на работу и вскоре почувствовал, что день не задался. На занятиях младшей группы пацанёнку мячом засвистели в нос. И как только умудрились с цыплячьим весом разбить до крови? Пришлось вызывать маму мальчика и отправлять пострадавшего в травмпункт.
Дальше – хуже. В школе, куда он, прослышав о вакансии физрука, помчался в перерыв между группами, ему отказали с улыбкой, как маленькому. Подавай им диплом! А ведь как было бы удобно: утром – школа, после обеда – секции. Горько сделалось Лёшке. Выходило, все спортивные достижения его детства и юности ничего не стоили. Зря терпел, ломался, выкладывался. Вдобавок он вспомнил, что мама подрабатывала в той школе, мыла окна… И скис совсем.
Когда, кое-как отработав две оставшиеся группы, он двинулся домой, на улицы уже навалился шумный и хмурый вечер. Пройдя дворами, сырыми от ночных осадков, на Ордынке попав под душ подколёсных брызг, Лёшка вышел в толчею у метро, где и был пойман рыжей Аней-билетёршей.
– Лёш, Гурзуфчик-то от горя взбесился! Слышал, чего творит? Напал на полицейского! – возбуждённо сообщила она и огляделась по сторонам, как если бы информация была высокосекретной. – Сам дал дёру, а Марфуша его на трёх поковыляла! Дубинкой, что ли, её огрели, я уж не знаю. Заберут их теперь! – И оправила куртку, слишком тесно сидевшую на располневшей фигуре.
Лёшка хмуро выслушал новость и хотел уйти, но Аня, словно подосланная покойным дядей Мишей, удержала его за рукав.
– Лёш, погоди! Ты бы взял, может, Гурзуфчика? В дяди-Мишину память. Сосед же! Да и пёс-то видный какой! Такого и выгуливать не стыдно.
Лёшка повёл локтём, чтобы Аня отлипла. Он чувствовал, как его унижают все эти старые уличные знакомства – из-за них, может быть, и Ася относится к нему свысока. Он хотел гордо заявить: соседство с дядей Мишей не означает, что у него с ним было что-то общее! Но внезапно почувствовал смягчение сердца.
– Не знаю. У свояченицы аллергия на шерсть, вряд ли… – сказал он и, хмурясь, прибавил: – Ладно, схожу посмотрю, как он там.
Кляня дядю Мишу за то, что вывалился Софье под колёса, ещё и умудрившись накануне содрать с него обещание, Лёшка пошёл обследовать тайные прибежища пса. На случай, если Гурзуф найдётся, у него был план: заманить его во двор и привязать возле бойлерной, за кустами сирени. Дать воды, сосисок – пусть отдыхает от битв. А они с Асей пока подумают, куда его деть.
Гурзуф с подругой, беленькой и скромной Марфушей был застукан им возле мусорного контейнера с весёлой надписью «Майский день». «День» нередко подкармливал местных дворняг, однако на этот раз контейнер был чист. Гурзуф, голодный и разочарованный, поддавшись сладким речам, сразу пошёл за Лёшкой. А вслед за Гурзуфом, поджимая раненую лапу, боязливо похромала Марфуша.
«Их ещё и двое!» – мрачно констатировал Лёшка, но отгонять Марфушу не стал – жалко собачью дружбу.
Два лохматых странника, следуя за Лёшкой, вышли дворами на Пятницкую. В хмуром небе гудели колокола, начиналась вечерняя служба, а в скверике на углу, где некогда благоухала Филипповская булочная, под совсем иную музыку продавали блины. С понедельника – Великий пост. Ася и Софья – вот ведь нашлись блюстительницы традиций! – уже обсудили грустное весеннее меню, в котором не будет до самой Пасхи никакой мужской еды.
Смурной, в клочковатых мыслях, Лёшка привёл собак во двор, выковырял из полиэтилена купленные дорогой сосиски и, наблюдая за трапезой двух голодных псин, позвонил жене.
К тому времени, когда, закончив занятия, во двор пришла Ася, из низких облаков уже вовсю тёк жидковатый снег. Пристроившийся под козырьком бойлерной Лёшка озяб, и заметно заскучали собаки. Гурзуф, переминаясь на густо шерстяных, с колтунами, лапах, жевал и выплёвывал обёртки из-под сосисок. Его коричневые глаза то и дело с упрёком взглядывали на Лёшку.
Марфуша, по-щенячьи присев на поджатый хвост, держа на весу ушибленную лапу, дрожала и с видом, полным недоумения и вины, смотрела на пересекающих двор людей. Когда Ася подошла, Марфуша вытянула морду и что-то сказала – беззвучно, изнутри существа. Ася догадалась чутьём – у Марфуши болела лапа.
Беленькая собака нравилась ей. Конечно, совсем уж белой она бывала редко – разве что после особенно мощных ливней, да и то лишь спина. Пузо же и в самые неслякотные дни имело оттенок дождливого неба.
Марфуша, опёршись об Асину коленку здоровой лапой, принюхалась: что ты ела, Ася? Пирожок с капусткой?
Ася отшатнулась и, порывшись в сумке, вытерла колено влажной салфеткой.
– И куда ты их думаешь? – спросила она у мужа.
– А я знаю? Всех подставил, старый чёрт! – не сдержался Лёшка. – «Не бросай Гурзуфчика!» Что мне теперь, в бомжи податься, чтобы за ним приглядывать?
Раздосадованным шагом он прошёлся вдоль бойлерной и остановился, ткнувшись плечом в сырую стену. Великая бездомность, какая бывала с ним в юности, после гибели мамы, накатила и проняла до костей, похуже дождя. Нельзя было идти домой, не пристроив собак. Последняя воля умершего тоскливо держала его за горло. Вдруг до слёз ему захотелось тепла, чаю, поджаренной с луком картошечки.
– Ну, чего делать-то будем? – в отчаянии взглянул он на Асю.
Та повела плечами и, внезапно обернувшись на арку, взметнула брови. Внук Ильи Георгиевича Пашка, суровый подросток, к тому же будущий ветеринар, только что свернул с улицы в слякотный двор.
Супруги переглянулись.
– Лёш, а давай их к Пашке! – шепнула Ася. – У них там при ветпункте что-то вроде приюта, Саня к ним иногда забегает. Там не много собак, может, десять – пятнадцать. Говорит – прямо так хорошо, душевно! Попросимся?
– Щас. Просить я буду… – прошипел Лёшка, но из-под досады уже вырвалась и заблестела в глазах надежда разрешить собачий вопрос.
Ещё прошлой зимой, когда Лёшка ходил в женихах, у него с младшим Трифоновым вышел конфликт, обидный и унизительный, особенно если учесть едва ли не десятилетнюю разницу в возрасте. Хватаясь за любой приработок, Лёшка в преддверии новогоднего сезона устроился сменным продавцом в киоск с «боеприпасами». Тогда-то на него и наехал Пашка. Явился и средь бела дня стал читать ему лекцию о том, как опасен для животных стресс от взрывов петард. «К нам на прошлый Новый год привезли собаку – у неё не выдержало сердце!» – заявил он, полагая, должно быть, что Лёшка смотает удочки и помчится записываться в Гринпис.
– Да и хрен бы с ней, раз нежная такая. Хочешь жить – адаптируйся! – болтнул Лёшка, в сущности не желая никого обижать. Он уже подумывал о том, как смягчить неудачную реплику, но Пашка не стал ждать. Он набросился, как тигр, на складированные под брезентом боеприпасы, расшвырял по асфальту коробки и топтал их до тех пор, пока возмущённый продавец не догадался двинуть ему в ухо. Конечно, только слегка, для острастки – всё же Асин сосед, да ещё и мелкий. Стукнул и полчаса потом ползал по слякоти, собирая разорённое добро, а защитник животных насмешливо любовался его трудами с безопасного расстояния. С той поры Лёшка насторожился на его счёт и к Трифоновым, если приходилось, заглядывал без охоты.
И всё-таки на что ни пойдёшь, чтобы снять с плеч возложенную на него дядей Мишей скалу – Гурзуфа!
На Асин оклик Пашка приблизился не торопясь, на ходу собирая размётанные волосы в хвост. Расправил худенькие плечи и слегка задрал подбородок.
– Вы зачем их сюда приволокли? – спросил он и, не дожидаясь объяснений, подошёл к вымокшим собакам.
Пока Лёшка докладывал обстановку, он внимательно, с удовольствием оглядел беспризорников – так, словно перед ним были не дворняги, а невиданные гончие, или скакуны, или даже пегасы. В его взгляде было одобрение знатока, понимающего ценность породы и умеющего обойтись с ней.
Русые Пашкины лохмы, выбившиеся из-под резинки, трепал ветер, и совсем прозрачными, озёрными стали серые глаза. На их дне ясно посверкивал интерес к происшествию.
– В общем, дядя Миша, царство небесное, поручил мне этого вот артиста! – кивнув на Гурзуфа, заключил свой рассказ Лёшка. – Буянили, говорят, весь день, на полицию наехали.
– А может, полиция на них? – предположил Пашка, разглядывая жалобно приподнятую лапу Марфуши.
– Слушай, я тут подумал. Саня говорил, у тебя там типа приют какой-то? А то к себе мы их не можем, у Соньки аллергия! – пыхтя от вынужденного унижения перед «мелким», сказал Лёшка.
Тем временем Гурзуф, натянув до предела верёвку, на которой был привязан, устремился к Пашке. Тот милостиво позволил псу обнюхать себя как следует. Затем коснулся остужающим взглядом жгучих звериных глаз и, мигом выиграв поединок, потрепал косматую голову.
– Гурзуф, – произнёс он спокойно. – Гурзуф. Молодец.
Пёс ткнулся носом в ладонь и резко, с задержкой, втянул воздух. Потряс головой и снова ткнулся – теперь в Пашкин карман.
– Там корица. Это деду на пироги. А для тебя в другом кармане, – сказал Пашка и слегка улыбнулся. – Ты мне скажи, слушаться-то будешь?
Гурзуф не знал, как ответить. Он сел на картонку и поднял морду, за что немедленно получил от Пашки шарик собачьего лакомства.
– Корм мы будем привозить, это понятно. Всё, что скажешь. Короче, если можно их к тебе, так мы бы… – продолжал объясняться Лёшка.
– А ты чего сидишь? Лапа болит? – сказал Пашка и, вопреки заведённому правилу, сам подошёл к беленькой собачке. – Видеть-то я тебя видел… Ты кто у нас?
– Это Марфуша! – заторопилась представить собаку Ася. – Она с Гурзуфом.
– Марфуша! – повторил Пашка и протянул собаке повернутую кверху ладонь – познакомиться. Та осторожно её обнюхала. – Марфуша молодец! – кивнул, скармливая ей с ладони несколько шариков, а затем осторожно ощупал ушибленную лапу. – Думаю, нет перелома… – проговорил он. – Но всё равно надо рентген. Может, трещина.
– Слушай, Паш, я вообще-то разговариваю с тобой! – впадая в нетерпение, напомнил Лёшка. – Может, ответишь по-человечески? Берёшь их – так и скажи!
– Привиты собаки, не знаете? – спросил Пашка у Аси и мимолетно поднёс ладонь к носу, словно хотел понять по запаху Марфушиной шерсти, есть ли прививки.
– Да откуда привиты! – возмутился Лёшка. – Дядя Миша, что ли, прививал? Щас!
Ему очень хотелось стукнуть или хотя бы встряхнуть за шиворот этого мелкого, но пока он терпел, надеясь, что дело выгорит.
Пашка взял у Аси салфетку и, бегло протерев руки, пошёл к подъезду. На ходу сдёрнул с волос резинку и сунул в карман.
– Больной он, что ли? – прошипел Лёшка и гаркнул: – Эй! Пацан! Так чего в итоге?
Пискнув ключом от домофона, Паша обернулся:
– Завтра утром привозите. Попробуем! – и скрылся в подъезде.
Лёшка набрал воздуху в грудь и выдохнул: «Уф!» Никогда он не ждал добра от «мелкого Трифонова», и нате вам – такой подарок! Ася тоже улыбнулась. Хорошо стало на душе. Когда всё наперекосяк, но какое-то дело, пусть маленькое, вдруг уладится – можно уцепиться за него, как за воздушный шарик, глядишь, он и вытащит тебя из больших невзгод.
Мирно закончился день. Лёшка сбегал за Серафимой в сад, Ася приготовила ужин. Собаки, утомлённые приключениями, дремали под козырьком бойлерной на Асином старом пальто. Невзгоды дня растаяли за горизонтом, как вражеская эскадра, напуганная мощью «наших».
«И со школой зря распереживался! – утешал себя Лёшка. – Ещё сами упрашивать будут! А деньги – ну что деньги? Ведь не голодают они. Главное, чтобы была любовь!»
Точнёхонько на ужин – к скромным Асиным сырникам – заглянул Илья Георгиевич. Его лицо осунулось, но глаза под очками были живые. После вчерашней тяжёлой ночи он решил поверить Сане – бороться, бодриться, жить! Поводом для визита послужила зелёная Софьина флешка, едва не сбежавшая из неуклюжих пальцев Ильи Георгиевича, пока он вытаскивал её из нагрудного кармана рубашки.
– Ага! Сонька утром её искала! – вспомнил Лёшка.
– Это Паше отдал их помощник по приюту, Сонечкин друг. Сказал, Соня вчера в машине выронила, а там что-то такое, по работе.
– Илья Георгиевич, какой ещё друг-помощник? – заволновалась Ася, принимая флешку из рук старика.
– Ах! Ну такой, симпатичный. Женечка! Он у вас бывал. Такой чудной псевдоним у него, забываю всё время. Он Паше там помогает, давно уже.
– Не псевдоним, а кликуха, – буркнул Лёшка, поняв, о ком речь. Довольно обидно было, что типа, когда-то бросавшего взгляды на его невесту, назвали «симпатичным»! И с какой радости он помогает Пашке? Что ещё за ерунда!
– А чем это у вас пахнет, ребята? – принюхался Илья Георгиевич и, без спроса заглянув на кухню, узрел тарелку сырников. – Настюша, ты прости меня, что делюсь опытом, – заговорил он с энтузиазмом. – И всё-таки сырники перед подачей на стол очень хорошо посыпать корицей с сахаром. И в тесто обязательно надо добавить сливки! Почему-то стали люди забывать, холестерин, что ли, их смущает, а ведь без сливок – это не то, уж поверьте!
Ася слушала болтовню соседа, одновременно стараясь соединить в уме осколки – вчерашнюю катастрофу, Курта с фонографом, приют и Гурзуфа с Марфушей, дремлющих на её старом пальто.
Тем временем Лёшка догадался всучить Илье Георгиевичу блюдце с сырниками – на дегустацию – и выдворил старика прочь.
– Представляешь, а я его на воскресенье к нам на Масленицу позвала! – подняв брови, словно сама удивляясь своему нелепому поступку, сказала Ася.
– Кого? Илью Георгиевича?
– Нет, Курта.
– Курта? – поразился Лёшка. – Ну, знаешь! Хоть бы меня спросила! Я ведь тоже могу наприглашать. Позову вон Аню-билетёршу – то-то вы обрадуетесь! – И, попыхтев с десяток секунд, примирительно потормошил Асину руку. – Ну ладно. Я так! Я ж понимаю – надо Софью пристраивать. Не пойму только, зачем ей эта барышня кудрявая, и потом, он ведь младше её! Да ещё песенки сочиняет, придурок.
– Песенок больше нет, – задумчиво покачала головой Ася. – Только шум.
7
«…Стучат по переулку каблуки – бам! – Ревёт за переулком Крымский мост – бом! – Бежать хотела вроде – а куда? – бряк! – Хотела улететь, а крыльев нет… – бемс! – И в голове такая дребедень! Одни грехи и никаких стихов! Господи, что же это?» Софья шла от Парка культуры к метро, с удивлением наблюдая, как её ум самопроизвольно рождает ритмичный бред, и не знала, что предпринять, чтобы вернуть себе ясность сознания.
В тот сопливый ранневесенний денёк, наставший после ужасной ночи, Софья проявила себя как человек волевой и исполнила поставленные задачи. Первым делом добралась до офиса Студии коучинга. Вот уже два года организация работы и раскрутка московского филиала являлись её главной заботой. Она взялась за этот проект не ради денег, а по душе – на то имелись причины.
И вот теперь, вводя помощницу в курс дела, на случай своего возможного отсутствия, Софья почувствовала безразличие к собственному детищу. Ей вдруг стало всё равно – просуществует филиал ещё год или умрёт сегодня.
Подойдя к доске, Софья сдёрнула один за другим цветные стикеры, смяла в комки – получилась горсть мелких глупостей. О чём все эти лекции и семинары? Брошюрки, рекламки, сайты? Всё, что занимало её ум и время, внезапно стало убогим. Смятый пластиковый стаканчик на берегу.
Распрощавшись с помощницей, Софья взяла курс на адвокатское бюро своей давней знакомой Елены Викторовны, добралась к обеду и провела там несколько часов. Разбирались, раскладывали варианты, так и этак крутили закон, накурились до боли в висках.
Выводы были тяжёлые, к тому же такие, каких никак не ожидала Софья. Её надежда, что трезвого водителя, сбившего круглогодично пьяного пешехода, должны оправдать, оказалась наивной. По мнению Елены Викторовны, если учесть тормозной путь, говорящий о превышении скорости, и прочие «нюансы», Софье могло грозить до полутора лет в колонии-поселении. Конечно, при усилиях всё должно ограничиться условным сроком, но гарантий никто не даст.
Софья вышла на улицу, под мелко порубленный снег с дождём, в разгар часа пик. У метро, в толчее спешащих домой людей, ей на глаза попалась девочка лет пяти, ровесница Серафимы. Девочка только что заметила, что матери нет в поле зрения, и, прижав к животу сумку с аппликацией, озиралась по сторонам. Её личико уже начало расплываться в гримасу отчаяния, но заплакать она не успела. Мать, налетев, как орлица, откуда-то сверху, подхватила ребёнка на руки и с возмущёнными возгласами унесла прочь.
Давно исчезли в толпе мать и дочь, а Софья всё стояла на месте, задеваемая десятками плеч. Ярко и страшно она видела теперь, что решение, принятое ею вчера ночью, определило не только её собственную судьбу, но и судьбу Серафимы. Без оглядки она пожертвовала её детским счастьем, её миром и будущим. И главное, ради кого? Кто этот бог, которому она принесла свою жертву?
* * *
Когда вчерашней ночью Маруся приехала за ним на такси, Саня не то чтобы расстроился – растерялся. Он надеялся одинокой дорогой разобраться с мощным чувством тревоги, захватившим его у сестёр. Причин было несколько, но сильнее всего его волновала Софья.
Ему всегда казалось, что он знает сестру лучше, чем самого себя, – со всеми тайными и явными устремлениями, привычками, жестами, «пунктиками» и «тараканами». В ту ночь глаза у Софьи были словно повёрнуты внутрь. Она говорила как обычно, привычным образом вскидывала брови, но этот глухой, воткнутый в глубь себя взгляд не мог не испугать Саню! Только однажды он видел у неё такой – когда в летнем волжском отрочестве их неразлучный друг и по совместительству родственник Болеслав объявил, что переезжает с матерью в Варшаву. Саня боялся тогда за сестру, молчаливо влюбившуюся в своего троюродного брата. Ему хотелось немедленно сделать что-то такое, чтобы Сонины глаза ожили, посмотрели наружу.
Так и вчера, проснувшись головой на журнальном столике, Саня сразу же понял – глаза сестры нехороши и из сердца течёт тоска! Спросил, но она сказала «Не сейчас». Спорить бессмысленно. Саня сделал заметку в памяти – позвонить и выяснить завтра.
А завтра был день, хмуроватый и мокрый, хорошенько отмытый вчерашней вьюгой и выпущенный с непросохшими щеками на волю, бродить по лужам. В окно кабинета, на манер Снежной королевы, только весело и безобидно, заглядывала весна, лопотала синичьим голосом, прикладывала к стеклу мокрый нос.
Мимоходом Саня припомнил, что обещал забежать к Николаю Артёмовичу, знакомому старику, сломавшему в прошлом году шейку бедра да так и не поднявшемуся. На днях что-то там у него стряслось с коляской… И ещё хорошо бы успеть к Нине Андреевне – забрать документы на медаль ко Дню Победы. Сама-то она не дойдёт, а больше некому.
Конечно, после всех дел, ближе к ночи, он вспомнил бы и о Софье, но она позвонила первая. Её звонок раздался точно в паузу между двумя пациентами, когда терапевт Спасёнов включил телефон – ответить на многочисленные эсэмэски жены.
– Саня, ты после работы свободен? Очень нужно! Посидим где-нибудь? – спросила Софья отрывисто и поспешно, как будто боялась, что связь прервётся и не восстановится уже никогда.
Сразу договорились о встрече, вот хоть здесь, в кофейне на углу. А потом Саня перезвонил: давай лучше дома! После его ночного отсутствия Маруся просила хотя бы сегодня не отлучаться.
– Хорошо. Мне всё равно, – сказала Софья, сдерживая закипавшие слёзы. Ей не хотелось в Марусин дом, тем более что признание, которое она собиралась сделать, требовало уединения. Несколько минут она тешила себя сладкой мечтой – ворваться и завопить на невестку: «Прочь с дороги, глупая курица! Ты хоть понимаешь, что у меня беда! Не смей разлучать меня с братом!» Но ведь Сане потом отдуваться.
Ехала к нему плача. Потерявшаяся девочка у метро мелькала перед глазами, обретая любимые черты Серафимы.
Как и предполагала Софья, уединённо поговорить оказалось негде. В большой комнате играла Леночка, в спальню посторонним входить не полагалось, а на кухне, куда Саня привёл сестру, Маруся собралась варить кашу. «Я быстро сварю и уйду», – кротко сказала она. К сожалению, ей редко удавалось приготовить блюдо с одного захода. Так и на этот раз, «первая попытка» оказалась подгорелой и переслащённой.
Пока Маруся драила кастрюльку, Софья вышла в гостиную. Чужой дом брата, увиденный словно впервые, ошеломил её.
До женитьбы Саня был ужасен в быту. Сказать точнее, стоило ему уехать из отчего дома, как «быт» исчез совсем. Вместо него образовалось гулкое пространство с окном на лес. Его заполнили стенной шкаф, жёсткий диван-кровать, письменный стол и подаренный кем-то робот-пылесос, неутомимо поддерживающий чистоту в пустом жилище. Саня полюбил сложившийся «минимализм» и просил сестёр не рушить его попытками обустройства. Единственное, о чём он жалел: пылесос не умел застилать кровать и хотя бы раз в год мыть окна.
И вот спустя короткое время небольшая квартира оказалась до отказа заполнена хламом. Маруся суеверно боялась выбрасывать банки из-под детского питания, коробки из-под обуви, кухонных электроприборов и посуды, закупленной в невероятном количестве. Всё, не поместившееся на полках, хранилось под диванами и на размножившихся шкафах и зарастало белёсым мхом пыли. Пылились искусственные цветы, которые Маруся в юности сама делала из лоскутов и проволоки; однажды расставив по вазам, она больше не прикасалась к ним. Зато голые «полянки» пола и кухонных поверхностей были отдраены до блеска, сверкала на всю прихожую начищенная Марусей обувь и поражали воображение выглаженные без единой замятины и безупречно сложенные в шкафу пододеяльники и простыни.
Примечательно, что у Спасёновых всё было наоборот. Порядок в доме означал для сестёр быт без пыльных углов. Так приучила ещё бабушка. А вот постельное бельё частенько оказывалось поглажено кое-как, и в шкафах случался шурум-бурум. Главное, чтобы чистота была, а уж как она разместится в пространстве – дело второе. Конечно, и с обувью было далеко до парада. Никто не думал об особом блеске, разве что Софья перед ответственной встречей. Что же касается цветов, то они и при бабушке, и по сей день росли у сестёр буйными нестрижеными кустами, засыпая отцветшими лепестками чисто вымытые полы.
К тому времени, как Маруся справилась с кашей, Софья успела вдоволь нагуляться по небольшой квартирке и, вернувшись на освободившуюся кухню, почувствовала, что в груди перекипело: боль выпарилась и налипла по стенкам засохшей пеной. Не о чем говорить! Только зря нагрузит Саню тем, чего уже не исправить. Извиниться и уйти куда глаза глядят!
Может, она так бы и сделала, если бы Саня не догадался включить на подоконнике загостившуюся с Нового года рождественскую горку, чей-то подарок – семь свечек на деревянной дуге, а под ними домики, ёлки и человечки – католическая братия – по нотам поют псалмы. Братию Саня скрыл, прислонив к поющим фигуркам семейную фотографию из детства. Соня с дуршлагом, мама с кастрюлей на пояске, бабушка с корзиной, трёхлетняя Ася с корзинкой крохотной плюс кузен Болек без тары, с утомлённым жизнью взглядом – на принудительном сборе смородины.
Здесь, за кухонным столом, убрав после ужина посуду, Саня отвечал на письма, искал информацию по медицинским вопросам и вообще приводил мысли в порядок. Иногда читал для души.
Сев по одну сторону стола, плечом к плечу, перед слишком уж скромно, не по-спасёновски, сервированным чаем – две чашки, сахарница и сухарики, – брат и сестра молча смотрели на огоньки.
– Саня, я должна сказать тебе страшное, – наконец проговорила Софья и, устроившись виском на плече брата, так чтобы можно было смотреть на свечки, вздохнула. – Не волнуйся, ты ничего тут не сможешь поправить. Просто помоги мне выстоять духом. Я по дури, по идиотству и самомнению подставила Серафиму и всех нас… Помнишь, ты ещё спросил, что случилось?
Саня кивнул, напряжённо слушая.
– Я сбила дядю Мишу. Насмерть.
– Ничего! Это ничего! – мгновенно отозвался Саня и, крепко прижав Софьину голову к плечу, перевёл дух. – Это беда – но ничего! Как это вышло?
– Лихо ехала.
Саня кивнул и мучительно сморщил лоб, что-то сам с собой решая.
– Ты не виновата! – помолчав, сказал он. – Это я виноват! Занимался кем угодно, только не тобой. Моя, моя вина! Подожди, мы сейчас подумаем…
– Саня, есть ещё одно, – перебила Софья. – Ты дашь мне слово, никогда, никому, могила?
– Конечно! Говори! – сказал Саня, торопясь придать выражению лица уверенность.
– Это будет подлость с моей стороны – сказать. Но я не могу одна это нести. Скажу только тебе. Больше никто не должен знать. Ты обещаешь?
Брат твёрдо кивнул.
– Саня! Сбила не я! Я просто взяла чужую вину!
Саня приложил ладонь ко лбу и тихо рассмеялся.
– Я брала машину у Курта, пока моя в ремонте, – торопливым шёпотом принялась рассказывать Софья. – Он всё равно редко ездит. Доверенность нотариальная, всё хорошо. И вот вчера вечером договорились, что он подъедет, заберёт, потому что мою уже возвращают…
– Ты сидела рядом с водителем?
– Да меня вообще там не было! Я задержалась… Он в кафешке меня дожидался. Посидели, поболтали. Потом вместе пошли к машине, и он поехал. Я не успела дойти до подъезда, буквально через минуту – жуткий визг тормозов. Где он только разогнаться успел! Понимаешь, меня как пронзило! Он в последний год всё время чего-нибудь пьёт, от сознания собственной никчёмности, я думаю. Не напивается, а так, по-французски. Я пулей туда. Дядя Миша валяется. Этот сидит в машине, ничего не соображает – шок. Еле вытрясла: да, говорит, пил вино. Но часа три уже прошло – может, выветрилось? Саня, ты же знаешь его – он хрупкий, как наш папа! Если бы мама папу не подхватила вовремя, он бы так и пропал со своими фантазиями!
Саня в изумлении смотрел на сестру и не мог понять – как случилось, что он не узнал её за всю жизнь? Точнее, что его знание о Софье было таким неполным?
– Но самое ужасное, Саня, что я всё это сделала совершенно зря. Я в Интернете почитала, оказывается, ему надо было убежать и через день прийти с повинной, когда всё выветрится. Сказать, что испугался. Тогда его бы судили как трезвого. Все так делают, а я просто зря подставилась, по безграмотности! Скажи, ну как я могла? – И в величайшем недоумении поглядела на брата.
– Я тогда не подумала про тормозной путь, – опять, как в бреду, заговорила она. – Я просто подумала: ну разве он это вынесет? Он и в армии-то не смог бы. Кудри сбреют… А мне ничего не грозит. Дядя Миша пьяный, а я – достойный человек, работаю, мать к тому же. Вот как я думала. Разве я знала, что это вообще им без разницы – пьяный, трезвый, хоть наркоман…
Софья снова приникла виском к Саниному плечу и задумалась. В отличие от брата она никогда не была альтруисткой. Помогала своим – да. Кормила, лечила, способствовала деньгами. Но чтобы рискнуть за чужого – глупости! А тогда, в машине, рядом с потрясённо замершим Куртом, ей вдруг так ясно представилось, как этого доброго слабого мальчика упрячут в камеру, станут мучить.
– Я ведь правильно сделала? Это не бессмыслица? Или, думаешь, он просто трусливый дурак? – заплакав, спросила Софья и, наверно, совсем бы раскисла, если бы под кухонной дверью не дрогнула тень. Брат и сестра одновременно уловили движение: это Маруся беззвучно отдалилась от двери и, шмыгнув по коридорчику, скрылась в спальне.
Присутствие лазутчика сообщило Софье мужество. Кухонным полотенцем она вытерла слёзы. На ткани остались чёрные полосы от подводки и маковая крошка «ресниц». Вышла из-за стола и умылась под краном. Лицо без доспехов посветлело и стало юным. Успокоившись, вернулась, глотнула из чашки остывающий чай.
– Сань, а лимона нет? И чайник ещё включи, а то остыл…
Лимона не было, зато нашлось родительское малиновое варенье.
– Помнишь, у нас дома в сахарнице был не песок, а сахар? Но там было мало, мы доставали всю коробку – ну, чтобы строить! – сказала Софья.
Строить разрешалось только чистыми руками на чистой салфетке, и потом весь строительный материал надо было аккуратно сложить на место. Софья и маленькая Ася строили дома, а Саня всякие невероятные предметы. Например, корабли. Однажды он построил биплан, но к его крыльям пришлось приделать подпорки из палочек. «Нельзя быть самолётом на костылях», – сказал он, развалив творение, и потом весь день был грустным.
– А песок можно полить водой и слепить замок, как на море, – заметила Софья, подняв крышку сахарницы. Усмехнулась и опустила с тихим стуком.
– Послушай меня! – заговорил Саня. – Ты всё правильно сделала. Мы ведь на очень хлипком плоту! Всё время кого-то смывает волной. Всё время! Я это каждый день вижу. И чтобы была надежда, нужно как раз то, что сделала ты! – Он осёкся, заметив, что у сестры задрожали губы.
Что поделать, накатывали, подпирали слёзы.
– Ты опять, что ли, о своём? – усмехнувшись, спросила Софья. – Хочешь сказать, моя глупость тоже пойдёт в твою копилку?
Софье было лет двадцать, Саня заканчивал учёбу и, в пику непроглядному материализму, которым пресытился в институте, решил, будто бы чёрная тайна смерти – лишь временное обстоятельство в истории человечества, сродни ледниковому периоду. В свете этой надежды всякое доброе дело становилось взносом на демонтаж «Берлинской стены», поделившей вечную жизнь на «до» и «после» смерти. Хотелось, чтоб поскорее этих «взносов» набралось достаточно. Тогда же в Санином лексиконе возникло странное автомобильное слово «Противотуманка».
Софья недоумевала и расстраивалась, пока вдруг не поняла: брат не выдерживает гнёта профессии. Чтобы оставаться профпригодным, ему надо верить в утешение для всех. Ну что ж, пусть фантазирует, раз ему так легче! И всё-таки, может быть, не случайно Саниных родственников, знакомых и пациентов, охватывало в его обществе нечто вроде доброго предчувствия.
– С тобой ничего не случится плохого! Вот посмотришь! – сказал брат, как любил порой, не зная наверняка, пообещать – и сбывалось.
– Ну тогда хорошо, – кивнула Софья и тихо встала из-за стола. Светили рождественские свечки, а в окне снова закапал жидкий снег. – Пойду. А то Лёшка разворчится, что я Серафиму на них свалила.
– Ты ангел наш! И поступила как ангел! Ни в чём не сомневайся! – проговорил Саня, выходя за сестрой в прихожую, и, смущённый собственной репликой, подал ей пальто.
– За бабушкой повторяешь? У неё тоже все ангелами были, – сказала Софья, нырнув в рукава. – Грустно мне. Нет любви! Была бы любовь – разве бы я во всё это вляпалась!
– Как же нет любви? – удивился было Саня и осёкся. Покачал головой и решительно сорвал с крючка куртку. – Я провожу!
– Подожди, мы с тобой! – в тот же миг выскочила из спальни Маруся. Она контролировала ситуацию за дверью и, конечно, подозревала, что добром визит золовки не кончится. – Мы с Леночкой всё равно ещё хотели погулять на ночь! – заторопилась она и, дёрнув дочь за руку, прочь с кровати, от уложенных на ночь кукол, поволокла одеваться.
Софья усмехнулась:
– Ладно, Сань. Ну куда ты от них пойдёшь!
Поцеловала брата, крепко прижалась к щеке и, подхватив сумку, вышла.
На улице мела мокрая метель. Софья свернула за угол дома, обернулась и, найдя окно с рождественской горкой, помахала.
На пешеходном бульваре вдоль леса ещё встречался народ – шли от метро домой, гуляли с собаками. Среди чужих людей Софье неожиданно оказалось уютно, спокойно. «Ну что же, Елена сказала, максимум – поселение… – думала она, убаюкавшись на плече метели. – А может, и обойдётся. Вот и Саня сказал – обойдётся наверняка. Но главное, он считает – всё правильно…»
Недалеко от метро её окликнул пожилой извозчик на «ладе». Софья обернулась: утомлённый и какой-то добролицый, не страшный армянский дед подзывал рукой: куда тебе, красота? Недорого отвезу – каблуки-то вон ломаются!
И правда, Софьины ноги подкашивались. Она усмехнулась и села в машину. Старый армянин оказался болтлив. Дорогой он рассказывал ей о своём домашнем винограднике и о том, какие «правильные» бочки под вино мастерит его зять. Она рассеянно слушала, попутно пробираясь мыслью через сутолоку впечатлений: офис, Елена Викторовна, Серафима, брошенная на соседей и родственников, брат Саня – всё равно прекрасный, во всей нелепости своей нынешней жизни. Если кто и спасёт её – только он…
В бензинном тепле Софью разморило. Кажется, сколько вылито слёз, а опять стоят в глазах, готовенькие. Как бывает, жарким летом зарядят грозы одна за другой – не остановить.
Когда, подъехав, принялась искать в сумочке деньги, армянин достал портмоне и показал Соне заламинированную фотографию внука – мальчика лет пяти с глазами итальянской мадонны. Софья пригляделась под скудным светом автомобильной лампы и, заплакав, вышла. «Ты что! – всполошился армянин. – Подожди, сдачу вот возьми! На вот ещё – куда ты!» И, выскочив вслед за Софьей на полночную Пятницкую, взмахнул фантиками мелких купюр.
Глава вторая
8
Приют, в котором предстояло жить Гурзуфу с Марфушей, никогда и никем не был задуман. Он возник в лесном закутке ненароком, без малейшего умысла со стороны основателя.
Невольный создатель и куратор приюта Паша Трифонов был человеком трудной судьбы. Его родители разошлись. Мать обновила жизнь, но отношения ребёнка с отчимом не сложились. Вскоре появились на свет братья-близнецы, и пасынка по требованию нового главы семейства сослали к деду. «Ну и можно её понять, – хмуро оправдывал маму Пашка. – Кто их будет кормить, если эта сволочь свалит?» А было ему тогда двенадцать лет.
Родной Пашкин отец, Николай, сын Ильи Георгиевича, «упущенный», как со вздохом говорил о нём старик, жил далёкой диковинной жизнью. Его профессия опоздала на столетие – во времена менеджеров и программистов он оказался этнографом. Но не из тех модных, что производят популярное чтиво по истории алкогольных напитков и бритвенных принадлежностей. С «модными» не сложилась у него дружба, как, впрочем, и ни с кем особо не складывалась.
Однажды по научным делам его занесло в островную деревеньку Заонежья. В синих водах на зелёных кочках ютились домишки с хозяйством. Один из них был неожиданно выкуплен им. С той поры Николай Трифонов кормился производством нехитрых музыкальных инструментов – туристам на сувениры, а кроме того, огородом, рыбной и ягодной охотой. Была ли в его доме хозяйка, никто не знал.
Он не звал в гости ни отца, ни сына и не приезжал сам, по телефону говорил редко и кратко. Этого внезапного сыновнего «сумасшествия» много лет не мог понять Илья Георгиевич. Пока жива была мать, Коля заботился, звонил, таскал родителям фрукты. Когда же её не стало, словно вдруг сошёл с орбиты. Покойная жена Ильи Георгиевича, Ниночка, была как раз из Петрозаводской области. В первую же их встречу его поразил Ниночкин особый, очень ровный, склонный к раннему матовому загару тон кожи и светло-серые, прозрачные до самого дна глаза. И сын Николай, и Пашка, оба унаследовали дуновение той красивой земли.
Несколько лет Илья Георгиевич терпеливо ждал возвращения сына, ворчал: как можно так надолго бросить отца! А однажды озарением понял: «Дурак! Тебя просто больше нет в его жизни!» – и горько плакал, уткнувшись в комок пододеяльника (одеяло, как всегда, куда-то выползло), сморкался, кашлял. Тут явился всклокоченный Пашка, тогда уже сосланный жить к деду, и, взглянув прозрачно и строго, велел перестать ныть. Ох вы, карельские глаза!
Трифоновы, дед и внук, жили не то чтобы дружно – скорее вразнобой, что не мешало взаимной любви и тревоге. В распоряжении у них имелась двухкомнатная квартирка, а потому докучать друг другу было необязательно.
Деньги на Пашку давала мать. Отказаться от них, учитывая размеры пенсии, Илья Георгиевич не мог. Гордость же свою в отношении бывшей снохи научился выражать в подробных перечнях – на что ушла какая копейка.
Пашкина крёстная, тётка по матери, Татьяна, жалея племянника, взялась приучать его к «делу». Татьяна была ветеринарным врачом и опытным кинологом. На территории лесопарка ею было арендовано помещение под ветпункт, специализирующийся в основном на щенячьих прививках, и вольер, где проходили занятия школы по воспитанию щенков «Собачье царство». Название, впрочем, не прижилось и осталось лишь в документации.
Пашка вырвался из четырёх стен и почти поселился в лесу, помогая Татьяне. Это и в самом деле был прорыв. «Обалдуй» преобразился в пытливого ученика. Особенно его увлекла медицинская сторона вопроса. Учить щенка приносить игрушку – всё равно что гонять в футбол с мальчишками. А вот суметь произвести врачебные манипуляции со всей чуткостью, уважая трепетание собачьей души, – это уже кое-что. Конечно, Татьяна не могла допустить недипломированного Пашку до хозяйских псов. Но побыть на подхвате, одновременно наблюдая за работой тётки, ему разрешалось.
Почин Пашкиному приюту положила Манюня – невероятно дряхлый, глухой и слепой лабрадор. Её коричневая шерсть выцвела и обносилась, как старая замша. Хозяева привезли её усыплять. Татьяна возмутилась было – собака пока что вовсе не умирала, к тому же ветпункт не оказывал подобных услуг, но Пашка больно ущипнул тётку за руку.
«Ты чего! Они же её в другое место отведут – и всё!» – объяснил он, когда Татьяна, подчинившись огненной воле крестника, выпроводила хозяев, пообещав «всё сделать».
К деду, страдавшему астмой, взять Манюню Пашка не мог. У Татьяны хватало своих питомцев, да она и не «подписывалась» на благодеяния, о чём немедленно напомнила племяннику. Пашка пообещал в неделю раздобыть новых хозяев, а пока сколотили домик и устроили собаку на бывшей баскетбольной площадке, отделённой от мира кубиком старинной спортбазы, где размещался Татьянин ветпункт.
Второго постояльца – чёрного колченогого Фильку с молочными от катаракты глазами привели дети из ближних дворов. У пса умер хозяин. Затем появилась мелкая, невероятно тощая дворняга, получившая имя Мышь. Пашка нашёл её на обочине шоссе, отброшенную из-под колёс, но живую.
Так, потихоньку, за сеткой бывшей спортплощадки родился приют, обретший своего попечителя. Татьяна, хоть и бранилась, не нашла в себе духу разогнать «передержку», где оказывались все, кого иначе пустили бы в расход, – покалеченные, отказные, старые. С ними выгодно контрастировала деловитая бодрость Пашки, словно не замечавшего, сколь безнадёжный отряд попал под его начало.
Приют жил и рос, окутанный заботой невидимых сил. Лес укрыл Пашкину «богадельню» от посторонних глаз, сомкнул заросли орешника и низкорослой туи, сверху завесил берёзами. И, как всегда бывало на Руси, какого бы отдалённого уголка ни коснулась благодать, люди чутьём находили то место и являлись – кто на поклон, а кто и напроситься в «сопостники». Тропу разыскали сердобольные женщины из окрестных домов. Не участвуя напрямую в уходе за животными, они приносили корм. А затем Пашке нашлась помощница – одноклассница Наташа, суровая девочка с белыми волосами принцессы и носом-картошкой, фехтовальщица, лошадница и отчаянный геймер. С тех пор они заботились о постояльцах в четыре руки.
Под зиму чудом образовались откуда-то бэушные доски и утеплитель, из которых при поддержке местного техника Славы удалось соорудить домики. Сотрудники конноспортивной школы по соседству поделились свежей соломой. Даже администрация парка в лице Татьяниной приятельницы Людмилы не стала чинить Пашке препоны. Заброшенный уголок лесопарка подлежал реконструкции, но не сейчас, через годок-другой. Оглядев сперва оккупированную площадку, а затем и самого волонтёра, Людмила сказала: «Смотри, чтобы всех к Новому году пристроил! И калитку хорошо запирай».
На следующий день к Пашке прибежал работник и передал ржавый ключ от бывшего «шахматного павильона» – застеклённого по кругу, насквозь продувного домика. Так приют обзавёлся сторожкой.
– Ну что, отвоевал себе? – узнав новости, сказала Татьяна. – Тётка аренду платит – а этому всё на блюдечке! – Но в душе была рада удаче племянника.
* * *
Когда Илья Георгиевич пожаловался Сане на тревожное увлечение внука, приюту было уже несколько месяцев. Пашка пропадал в лесопарке днём и ночью, так что дед не без основания подозревал: и в школе не обходится без прогулов. «Санечка, может, забежишь после работы – тебе ведь всё равно по дороге. Хоть посмотришь, что у него там? Ноябрь на дворе, а ребёнок, можно сказать, живёт в лесу! И главное – школа! Школа страдает!»
Отругав Илью Георгиевича, что тот не сказал раньше, Саня обещал завтра же выяснить, в чём дело. Ежедневно он проходил по лесной аллее дважды – из дому на работу и обратно, но ни разу не слышал ни о каком приюте.
На следующий день, свернув по примерным объяснениям Ильи Георгиевича в северо-западное, «дикое» крыло лесопарка, туда, где тропинки были лишь слабо намечены и привольно росли опята, Саня вышел к небольшому кирпичному строению, украшенному остатками мозаики олимпийской тематики. Под обновлённым козырьком располагалась симпатичная дверь Татьяниного ветпункта и невдалеке – вольер для занятий со щенками. Обойдя строение с тылу, Саня увидел обсаженную разлапистыми туями площадку с облезлым баскетбольным щитом и сарайчиками-домишками по обе стороны. Несчётное количество синиц кормилось в туях и прыгало по сетке-рабице. На синиц потявкивали обитатели приюта.
Саня не успел ещё толком осмотреться, когда со стопкой мисок в руках перед ним возник Пашка.
– Дед прислал? – спросил он с досадой, даже не поздоровавшись, хотя любил Александра Сергеича за «прикольный» характер и терпеливую возню с Ильёй Георгиевичем.
Саня развёл руками. Ему было неловко, что явился не предупредив, словно и правда хотел застать врасплох.
– Ну ладно, пошли посмотрите, чего у нас тут, – пригласил Пашка, скептически глянув на ревизора. – И деду потом всё расскажите, как есть! А то он себе нафантазировал!
– Паш, да что бы ни было! Ты вообще-то образование собираешься получать или нет? А если собираешься… – возразил было Саня и умолк, оглушённый лаем, рвущимся из-за калитки. Слившись в единый шерстяной ураган, обитатели приюта навалились на сетку. Саня непроизвольно отшатнулся. В уме сверкнул план действий: сейчас же схватить Пашку и как угодно, хоть силой, доставить домой, к деду, и уж там разложить ему по полочкам, что к чему! А насчёт собак поговорить с Татьяной, пусть куда-нибудь…
Он не успел додумать мысль – её перебила наступившая вдруг тишина. Это Пашка вошёл на площадку, и собаки, смолкнув по мановению руки, все как один уселись в ожидании дальнейших распоряжений.
– Александр Сергеич, входите! – махнул Пашка. – Да не бойтесь, не тронут! Они и так бы не тронули – только тявкают! Не могу никак отучить. Вот эти два – Чуд и Щён – заводилы у них! И Тимка ещё.
Впечатлённый Пашкиной властью, Саня вошёл и в ближайшие пару минут испытал то, чего не переживал ни разу за всю предыдущую жизнь. Как, бывает. человек впервые заходит в море или, решившись полететь на дельтаплане, узнаёт стихию воздуха, так и Саня почувствовал совсем новое для себя единение – не просто с отдельной собакой, которую всегда был склонен очеловечивать, а с целой стаей разумных существ, не являющихся людьми.
Вместо опасной своры перед ним оказалась кучка жалких, по-детски любопытных животных. Они сидели смирно, позволяя себе лишь тихонько принюхиваться к новому человеку. Их неправильно сросшиеся лапы, клочковатые шкуры и слепые глаза поразили Саню – он обернулся на Пашку – как ты, брат, такое осилил? – а затем присел на корточки, чтобы стать вровень с обитателями приюта. Пашкины собаки показались ему похожими на очень старый осенний сад с обломанными яблонями, покрытыми лишаем сливами и вишнями, истекающими смолой.
Пашка со сдержанным торжеством следил за реакцией гостя.
– Александр Сергеич, это отличные собаки! Всё у них нормально, – сказал он, и Саня понял: Пашка не хочет сочувствия. Ему и без того нелегко справляться с распирающей сердце жалостью.
– Да, – поднимаясь, кивнул Саня. – Хорошие, я вижу. А этот вот, с катарактой – не думали оперировать? – указал он на чёрного колченогого пса. – Или поздно уже? – И внимательно, как будто впервые, поглядел на внука Ильи Георгиевича. За Пашкиными худенькими плечами светлела сила, он был обёрнут в неё, как в плащ. Или это осенняя заря горела над бывшей баскетбольной площадкой, где ютились теперь собачьи домишки, уже и с утеплёнными отделениями.
Распахнувшись всем сердцем, Саня прошёлся по маленькой территории, собравшей случайные остатки, последние крупинки чисто выметенных с московских улиц собак. На миг ему показалось, что перед ним не приют для животных, а частный детский садик. У каждой собаки было имущество – любимые тряпки для изготовления гнезда, игрушки-пищалки, пластиковые бутылки из-под воды, палки и прочий хлам, который приятно погрызть на сон грядущий.
– Нас перекантоваться пустили, а мы уже полгода тянем. Обустроились вот! – с гордостью объяснял Пашка. – Ну а куда их девать? Людям они без надобности… Александр Сергеич, могу чаем вас угостить! – сказал он и слегка улыбнулся.
Облокотившись о парту, заменявшую стол, и подперев ладонью щёку, Саня сидел в шахматном домике за чашкой растворимого кофе и смотрел на полный листьев и слякоти двор. Его миссия по спасению Пашки была провалена, во всяком случае на данный момент. Конечно же, между «пропаданием» в лесу и уроками под присмотром деда мог найтись и третий вариант, который устроил бы всех. Но его ещё предстояло выдумать.
Через четверть часа Саня покинул приют. Он уходил растерянный и мягкий, сознавая, что не сможет вернуть Илье Георгиевичу заблудшего внука. Знакомство с Пашкиными подопечными и печальный воздух городского леса, погружённого в туман межсезонья, взрыхлили Санино сердце до слёз. Он думал о Пашке с какой-то евангельской надеждой. Как, откуда в современной Москве мог проклюнуться этот подросток? Отчего магнитное поле ровесников не поглотило его?
В тот же вечер, обсудив с Ильёй Георгиевичем Пашкины возможности и перспективы, он добавил в бескрайний список своих обязательств ещё одно – подготовить Пашку к поступлению на «бюджет» вожделенной ветеринарной академии.
Биологию абитуриент взялся зубрить самостоятельно, а вот математику с ним отныне разбирал Саня. Маруся, прознав о напасти, тайком рыдала от приступа ревности, но не посмела отговаривать мужа.
В ближайшие недели после Саниного визита в приют к волонтёрам присоединился живущий неподалёку Женя Никольский по прозвищу Курт, и это вовсе не было совпадением. Доктор Спасёнов, лечивший приятеля Софьи от всевозможной психосоматики, лично посоветовал ему прогуляться в лес и поискать там резерв для исцеления.
С той поры Москва успела дважды пройти через зиму и готовилась к новой весне.
9
Субботним утром Ася проснулась от звонкого грохота. С крыши свалилась сосулька, а может, и весь карниз с ледяной бахромой. Звону и треску было словно из-под небесного купола, с потолка какой-нибудь облачной залы, рухнула гигантская люстра и засыпала дребезгами весь двор.
Ася вскочила, улыбнулась своему юному утреннему личику в зеркале над комодом: ничего себе! Оказывается, на летних улицах сна можно запросто нагулять румянец! И полетела на запах кофе, вспоминая на ходу, что сегодня им с Лёшкой везти в приют Гурзуфа с Марфушей. Хорошо ли это будет? Саня сказал, что не очень, поскольку зверей лишают их дома – замоскворецких улиц. Но в сложившейся ситуации лучшего не придумаешь. Тем более что Пашкин приют – это почти семья, каждую собаку там любят. А со временем, может, и удастся найти хозяина!
Не дойдя до кухни, Ася свернула в гостиную, глянуть с балкона: там ли звери? Если перегнуться за правый борт – видно бойлерную. Горемыки, отчаявшись вырваться, дремали клубком на Асином старом пальто. Взять еду – и скорее к ним!
А на кухне Лёшка уже устроил романтический завтрак. Не поленился, дурачок, сбегал, принёс для Аси из дорогущей кондитерской два круассана – шоколадный и с миндалём. Увидев жену, подхватил, закружил и сообщил новость: оказывается, «после собак» молодой чете предстояло явиться на день рождения к Лёшкиному коллеге, старшему тренеру. Место встречи – боулинг.
Ася расстроилась. Ничего там не будет хорошего! Много пива, до нутра пробирает грохот, бесчестно именуемый «музыкой», и у людей совсем не такие лица, какие нравятся ей. «Я не пойду!» – чуть было не сказала она, но взглянула на Лёшку, и сделалось жалко обжечь резким отказом его счастливые глаза и улыбку.
Когда через четверть часа вышли во двор, Илья Георгиевич в пальто и мохнатом шарфе, карауливший на балконе любопытные факты жизни, окликнул:
– Настюша, а вы куда?
– А мы к Паше в приют!
– Ну с Богом! Посмотрите, чтоб он там в куртке, а то ведь бегает раздетый! – вдогонку крикнул старик, и целый день потом местные сплетницы рассуждали между собой – с какого лиха Илья Георгиевич вздумал отдать Пашку в детдом – уж взрослый ведь парень, школу заканчивает, дотянул бы как-нибудь с дедом!
Едва успели дойти до бойлерной, а во двор уже вкатывался по Лёшкиному звонку гремящий стёклами «жигулёнок» Алмаза – недорогого и всегда готового к службе извозчика.
Собак грузили трудно. Марфушу Ася уговорила – та сама прыгнула на заднее сиденье и доверчиво подняла взгляд: всё так? А с Гурзуфом Лёшке пришлось пободаться.
– Ну, Алмазик, гони! – скомандовал он, когда погрузка была закончена. И трескучая колесница, плеснув по лужам, помчалась прочь из центра, в потаённый кармашек леса, где предстояло теперь поселиться двум замоскворецким собакам.
Ася обернулась с переднего сиденья и, поборов брезгливость, погладила обеспокоенную Марфушу. Её шерсть пахла шампунем городского дождя.
У трамвайных путей, разделяющих лесопарк на две половины, Алмаз был вознаграждён и отпущен. Ася и Лёшка взяли собак на поводки и пустынной аллей двинулись в глубину леса. Дорога похрустывала тонким льдом. Слушая этот звук, интимный и близкий, как шорох карандаша по бумаге, Ася поняла, что вокруг уже не грохочет. Город остался в другом измерении. Тишина паром отслоилась от влажного снега и заложила слух. Вокруг царила ни с чем не сравнимая светоносность ранней весны, когда пространство уже так напитано светом, что даже облачное небо сияет и режет взгляд.
В этом свете, влаге и шорохе, в белизне, расчерченной тенями в косую синюю клетку, и располагалось то небывалое место, о котором говорил Асе брат.
Возле мостика, как условились, позвонили Пашке и остановились ждать. Хозяин не спешил встречать гостей. Лёшка озирался по сторонам и, поддёргивая поводок рвущегося на волю Гурзуфа, ругал покойного дядю Мишу за «подарочек».
Ася в коротком сером пальто озябла, замёрзли колени, шея и подбородок – шарф цвета мимозы подевался куда-то, может, выронила в машине? Взойдя на мостик через канаву, отделявшую аллею от леса, она облокотилась о перила и подумала: а может, и не нужно было везти собак в эту сырость и тишину? Бегали бы себе по тёплому сытному городу сколько Бог пошлёт.
Вдруг что-то неуловимо сместилось в равновесии леса. Совсем рядом раздался голос снежного наста – шорох и треск, и в тот же миг, вынырнув словно из-под земли, к ним подошёл паренёк – невысокий, худенький, некрасивый. Одно утешение – серые глаза, отрадные на угловатом лице. Их оттенок вольно перетекал в серый лёд леса, во влагу и облачный свет. Несомненно, это был их сосед Пашка, но в то же время – совсем другой человек, незнакомый, никогда ещё не виденный Асей. Она растерялась. Здесь, в лесу, Пашка вполне мог бы сойти за духа природы, правда, несколько зачахшего в условиях города.
Он пришёл не один, в сопровождении старого жёлтого пса, деревянно, как пират на костыле, трусившего рядом с хозяином. Оглядел гостей и, кивнув: «Пошли!», развернулся в обратный путь.
Через несколько минут, пройдя по льдистой тропке в орешниковых кустах, они оказались на месте. Когда тропинка вынырнула на свет, перед ними открылся укутанный в заросли кустарника деревянный домишко со ржавым конусом крыши. Мелкие квадратики стёкол, как на старых дачных террасах, цвели тропическими травами изморози.
Пашка сделал жест: подождите! – и обратился к жёлтому псу:
– Джерик, иди домой! Скажи там, я скоро приду! – велел он и, проследив, как браво пёс переставляет негнущиеся лапы, направился к домику. – Джерик у нас вроде старейшины, – на ходу объяснил он гостям. – С ним вообще можно как с человеком – всё понимает. У него раньше был дом в подъезде, в закутке у консьержки. Он лет десять там ночевал. А потом дебилы какие-то въехали, выгнали его, избили ещё, чтоб не возвращался. Консьержка видела. А Джерик всё равно кроткий – никогда на человека не тявкнет!
Договорив, Пашка впервые за день взглянул на Асю – способна ли она к пониманию собачьей беды?
– У него артроз. На задней сустав совсем уже рассыпается, всё, – прибавил он и остановился возле дома, в маленьком дворике с лавкой и болтающейся между берёзами доской качелей. – Ну вот, а раньше тут был шахматный павильон. Играли в домино, в шахматы… Мы тут чай пьём, когда замёрзнем. А вон – спортбаза бывшая. – И кивнул на строение в осыпавшейся мозаике, защищавшее приют с правого фланга. – С той стороны – Танин ветпункт и школа. А с этой типа подсобка. Главное – есть водопровод и топят. Мы в холода туда собак заводим на ночь. А Джерик там всё время ночует, из-за суставов. Его вообще не надо запирать – он умный.
– Укромный уголок! Кто ж вас сюда пустил? – толкнув качели, спросил Лёшка.
Пашка неодобрительно глянул на взметнувшуюся доску.
– Ну… говорили, что здесь отходы всякие закопаны… токсичные. Типа гиблое место. Всё проверили – чисто, а у людей в голове всё равно пунктик. Да не бойтесь, ничего нет!
– А ты-то откуда знаешь? – хмыкнул Лёшка. – Ты что у нас, счетчик Гейгера?
Хозяин не удостоил его ответом. Он поднялся по хлипким ступенькам и, толкнув дверь в шахматный павильон, велел Гурзуфу и Марфуше войти. После кивнул и людям.
В домике пахло так же, как и на улице, – сырым лесным духом. Обстановка была необременительной – несколько составленных в ряд школьных парт, разномастные обшарпанные стулья, табурет с электрической плиткой и открытая полка с посудой.
Пашка молча наблюдал, как собаки обнюхивают помещение, а люди осматриваются.
– А где жильцы-то? – спросил Лёшка.
– На площадке. Ваших рано пока в коллектив. Пусть ко мне привыкнут.
Ася заметила: слегка нахмурив брови, Пашка глянул в окно, на закрытую туями площадку. Может быть, он волновался, как бы Гурзуф не вздумал отвоёвывать лидерство.
– Ну ладно! Это тебе виднее, – не стал спорить Лёшка. – Ну чего, мы, может, пойдём? Не будем мешать адаптации. Корм и всё такое – скажешь потом, сколько и чего. Привезём!
Пашка не отозвался. Молча он вышел за порог, поднял со ступеньки стопку мисок в засохшей каше и, мельком взглянув на Асю, обронил:
– Помоешь? А то их отскребать два часа, а мне ещё собак выгулять надо и лекарства дать.
– Конечно! А где? – с готовностью сказала Ася, принимая миски из Пашкиных рук и сжимая их, как чемпионский кубок.
– Слушай, парень! Это вот ты ошибаешься! Моя жена собачьи слюни отмывать не будет! – возразил Лёшка. – Назови, чего с нас причитается за койко-место, и мытьё посуды включи – всё уладим.
Пашка взял из угла веничек и смёл со ступеней комки заледенелой земли, просыпавшиеся с обуви.
– Мы коек не сдаём, – холодно отозвался он, сунул веник на место и, распрямившись, взглянул на Асю. – Видишь, дверь железная открыта, там на «мойдодыре» губка, всякие там порошки. Вода только холодная. Но можно чайник вскипятить. Он там прямо воткнут, найдёшь. Когда будете уходить, дверь прикройте, чтоб ваши не выбежали!
Договорив, Пашка пошёл к загончику – там, заслышав чужих, начали подавать голоса его питомцы.
Лёшка вздохнул, смиряя приступ досады.
– Миски-то поставь! – велел он Асе, когда хозяин отошёл на достаточное расстояние и, взяв жену за руки, тряхнул. – Да выпусти уже! Чего ты вцепилась!
Ася дёрнулась. Раз, ещё раз. Бессмысленно. Крепкие руки мужа наручниками обхватили запястья.
– Я их вымою! Ясно? – крикнула она. – Отпусти!
Лёшка удивлённо глянул в исказившееся Асино лицо и разжал пальцы: что-то бесценное, добытое кровью, может, меч-кладенец, под шумок вытягивали у него из рук.
– Знаешь что! Это нечестно! – опомнившись от секундного замешательства, ринулся он в бой. – Вот я никогда ничего не делаю, если ты против! Я даже на футбол перестал с пацанами ходить. И пиво уже полгода не пью! Как думаешь, почему? Потому что никто не смеет встревать между нами! Будь он хоть мать Тереза! Я тебе запрещаю эту гадость мыть, ясно? И вообще, нам ещё подарок покупать. Ты идти-то собираешься? Или раздумала?
– Раздумала, – сказала Ася и, стиснув отвоёванные миски так, что железные края врезались в пальцы, быстро пошла по тропинке к зданию спортбазы. Отдаляясь, она слышала перезвон стекла – это её муж саданул кулаком по стенке павильона. Раздался лай.
– Да заткнись ты, Гурзуф! – рявкнул Лёшка. – Связался с тобой! Плюнуть надо было, а я, блин, добрый!
* * *
Отзвенели стёкла хлипкого павильона, чуть не рухнувшего под Лёшкиным кулаком. Отгремел взаперти Гурзуф, поддержанный звонкой Марфушей.
Когда взбешённый Лёшка умчался прочь, Ася, так и не дойдя до подсобки, вернулась во дворик. Прямо с мисками в руках села на доску качелей. Обида ещё немного поколотилась в грудь, пощипала глаза и отлетела – по тропинке от загороженного туями собачьего загона возвращался Пашка. Ася взглянула на грязные колени его джинсов, на тонкие, сплошь в царапинах, руки из-под закатанных до локтя рукавов куртки и улыбнулась. На этот раз подросток не смог занавеситься от её взгляда волосами – их раздул ветер, и Ася увидела, что Пашка не то чтобы улыбается в ответ – подобная мимика была не свойственна ему, но – удивлён, доволен.
– Да брось их! Поставь прямо тут, на землю, мы с Наташкой потом отмоем. Пошли, покажу приют! – сказал он и с лёгкой усмешкой прибавил: – Не бойся! Они, во-первых, смирные и, во-вторых, воспитанные. И, в-третьих, я их предупредил!
После этих слов заробевшая было Ася расправила плечи и выразила готовность идти.
Пашка отпер сетчатую калитку и первым вошёл на присыпанный песком ледок площадки. По обе её стороны прижались один к другому добротные собачьи дома, возле них топтались и гомонили жители. Пашка обвёл население строгим взглядом и дал команду. Обитатели вмиг притихли и уселись смирно.
Последней из домика выползла и, обнюхав Асю, заплясала вокруг хозяина собака с тонкой мордой, в расчудесном сарафане шерсти, свисающей чёрно-белыми лоскутами до самой земли.
– Наша Василиса! – объявил Пашка, обеими руками обнимая и гладя Василисину голову. – Такая вообще история с ней была! Мамашка с карапузом двухлетним приводит её к Тане. Рассказывает, мол, собака на выгуле регулярно отрубается – а тащить её в дом некому. Эпилептические припадки. Таблетки якобы не помогают, и вообще, типа ей с ребёнком тяжело, не до собаки. Спрашивает, можем ли гуманно усыпить? Ну, мы, как тогда, с Манюней, сказали – оставляйте, до свидания. А чего с дебилами разговаривать? Ну и вот, живёт у нас отлично! Может, раз в месяц брякнется, а так, второй год уже нормально, все её любят! Ну, лечим, конечно…
А это Мышь! – отпустив Василису, кивнул он на тощенькое создание на пороге ближнего домика. – Её машина сбила – травма позвоночника. Но ничего, ходит. Она певица у нас. Как-нибудь послушаешь! Мыша, ко мне! Знакомься!
Представляя питомцев, Пашка вынимал из кармана подранной куртки комочки корма и угощал собак. Затем, покосившись на Асю, черпнул побольше и насыпал ей в ладонь – чтобы и она угостила тоже.
Задержав дыхание, Ася отважно, словно решившись на прыжок через пропасть, протянула руку и засмеялась, когда ладони коснулся холодный собачий нос.
– Дальше вон – Тимка-безлапый. Он у Курта на довольствии. Знаешь Курта? Его Александр Сергеич привёл, давно уже.
– Да, Курта я знаю, – задумываясь, кивнула Ася.
– Ну а вот один из старейших – Филька! Не стали уже катаракту удалять, сердце слабое. Дружок, Щён, Чуд. А это Нора, – указал он на старого эрдельтерьера. – Отказная тоже. – И, бросив перечислять, с неожиданной горечью взглянул на Асю. – А я никого не могу взять из-за деда! Сразу за сердце хватается, что его вытесняют. В общем, я заложник ситуации!
Он так смешно это сказал – «заложник ситуации», – что Ася поняла наконец, куда попала и с кем имеет дело. Все Пашкины звери были доходяги, хлебнувшие горя. Здоровых и счастливых тут не было. «Может быть, и люди, которые приходят сюда, “доходяги” тоже? В каком-то смысле?» – подумала Ася и вспомнила о своей ссоре с мужем.
Когда запирали загон, Ася разглядела на калитке самодельную фанерную табличку, изготовленную с помощью аппарата для выжигания по дереву: «Приют “Полцарства”». Ниже – мелко и довольно коряво – номер телефона и в скобках «П. Трифонов».
– Полцарства! – воскликнула Ася. – А почему?
Пашка, смутившись, мотнул головой.
– У Татьяны раньше школа называлась «Собачье царство». А что такого? – буркнул он.
– Да совсем ничего! Всё прекрасно! Просто можно я красиво напишу? Сделаем настоящую вывеску! Я могу! – загорелась Ася, но не получила ответа.
Намеренно ускорив шаг, Пашка направился к шахматному павильону, где остались запертыми два новых жильца. А на ступеньках, руки в боки, его уже поджидала хозяйка «собачьей школы» и по совместительству родная тётка Татьяна – женщина за тридцать, жилистая, с простым добродушным лицом без косметики, одетая по-спортивному. Ася вспомнила, что видела её однажды у Трифоновых.
– Ещё охламонов привёл? – сказала Татьяна, ткнув локтем в прикрытую дверь, за которой немедленно заворчал Гурзуф. – Паш, ты думаешь-то о чём?
– Танюлька, нельзя собак ругать просто так! Хорошие собаки, смотри! – отозвался племянник и, первым войдя в шахматный домик, взял на поводок раздражённого пленом Гурзуфа.
– Я не собак ругаю, а тебя, дурака! И с Людмилой сам объясняться будешь, на каких основаниях при ветпункте разбух приют! А я скажу, что ты вообще здесь никто и знать тебя не знаю!.. Татьяна меня зовут! – мимоходом прибавила она и по-мужски пожала руку Аси, робко остановившейся у двери.
– Людмила сама разрешила, – буркнул Пашка.
– Что она тебе разрешила? Пару псов подержать, пока не пристроишь, или бомжей со всего района собрать? Помалкивай лучше! И лавку почини! Я вчера чуть не грохнулась! – заключила Татьяна и ушла, для острастки стукнув дверью, так что из фанеры со звоном вылетел гвоздь.
Пашка вывел Марфушу с Гурзуфом во дворик и, вернувшись в дом, закрепил отставшую фанерку.
– Да она вообще-то нормальная… – сказал он, обернувшись на испуганную Асю и, взяв лопату и несколько камней из кучки гравия, пошёл поправить лавку. – У Марфуши лапа сегодня получше, – обронил он за работой. – Там гематомка небольшая. Татьяна остынет – займёмся ими. Надо прививки, и от паразитов…
– Паш, как же ты решаешься новых брать, если тут всё висит на волоске? – спросила Ася и, подойдя к собакам, осторожно погладила беленькую Марфушу.
Пашка мельком глянул через плечо.
– А что не висит на волоске? – отозвался он, приминая землю вокруг лавочки. – Всё висит на волоске, и приют, и дед мой… Абсолютно всё.
10
Давно уже Асе пора было ехать домой – мириться с Лёшкой. Но нет, не хотелось совсем! А хотелось сполна отгулять нечаянно свалившуюся свободу. Растратить её, как в институте отменённую «пару», на шатание по улицам и капучино в случайном кафе.
Ушла туманная взвесь и вместе с ней тишина. Эхо разнесло по лесу голоса детей и собак. В вольере, отгороженном от приюта зданием спортбазы, Татьяна начала занятия с двумя молоденькими терьерами. И Пашка, набрав побольше поощрительных лакомств, тоже занялся дрессировкой новых постояльцев.
Присев на лавочку и подставив нос солнцу – веснушки ей к лицу! – Ася краем глаза наблюдала собачий урок и гордилась Марфушиным послушанием и смекалкой. А вот Гурзуф… Да, Гурзуф-то у них оказался двоечник! Она уже совсем было собралась напроситься к Пашке в «помощницы дрессировщика», когда до её слуха долетел новый тревожащий звук.
Из орешниковых зарослей, в которые уходила тропа, на приют надвигалась тонкая скорбная музыка. За несколько секунд звук приблизился и, накрыв тенью радость дня, оказался знаменитым адажио Альбинони. Адажио было исполнено на губной гармошке в похоронном ритме. Ася встала и напряжённо вгляделась в гущу кустарника.
– Это Курт, – обронил Пашка, заметив её смятение.
И правда, музыка внезапно стихла, и во дворик вошёл Софьин приятель, как всегда немного растерянный, милый, со снопом русых кудрей, затянутых в хвост.
Он сунул губную гармошку в карман и направился к Асе. Было бы логично предположить, что Курт досадует на их семью за то, что Софья въехала на его машине в такую историю. Но нет – вопреки «адажио», он был весел.
– Ася, вот это подарок! – сказал он, подойдя. – А я иду, смотрю, на мостике – твой Алексей! Спрашиваю – какими судьбами? Бормочет. Я ничего не понял! Он собак, что ли, боится? – И, улыбнувшись от души, едва ли не до слёз, прибавил: – Ох, ну как же ты вовремя! А я всё думал – что мне Бог пошлёт сегодня?
От его слов пахнуло дымком шампанского, какой витает по подъезду в новогоднюю ночь. Причина небывалой душевности стала понятна. Несмотря на улыбку, его лицо было осунувшимся, бледным, и как-то слишком горячо блестели обычно тихие зеленовато-серые глаза. Фонографа на плече не было. Всё это мигом заметила Ася.
– Корм разгрузишь? – сказал Курт, направившись к Пашке, и тряхнул пакетом. В нём зашуршала и стихла набежавшая на песок волна.
– Чего там? Сухой? Поставь на ступеньку!
– Паш, вот возьми, если лекарства пойдёшь покупать, Тимке и всем. На вот! – И выгреб из надорванного по шву кармана пальто ворох некрупных купюр. – И вот, подожди, сейчас… – Он слазил за пазуху, достал паспорт и вынул из-под обложки аккуратно сложенную заначку.
– Это что? – не понял Пашка.
– Ну, пусть у тебя будет в казне! Бери, пока дают! – сказал Курт и сунул деньги Пашке в кулак. – Всё. И будем считать, дела я завершил! Тимку обниму – и свободен!
– Не выпускай только. А то у нас новобранцы! – предупредил Пашка.
Курт кивнул и взглянул на Асю:
– Пошли, познакомлю с Тимкой!
Ася подхватила миски и в тревоге и любопытстве пошла вместе с Куртом к загончику.
– А мы Гурзуфа с Марфушей привезли! – проговорила она, словно оправдываясь. – Это как раз того погибшего собака… – И осеклась.
Игнорируя просьбу хозяина, Курт отпер калитку, витиевато свистнул, и тут же из дальнего домика с фырканьем выскочил рыжий короткошёрстый пёс. У Тимки не было передней лапы, отчего его бег выглядел отчаянно, – так, словно бы он рвался изо всех сил, но кто-то крепко держал его за ошейник. Лихо взбив брызги льда, он наскочил и, прыгая на задних лапах, поскрёб единственной передней грудь хозяина. Ася заметила: сукно пальто было сплошь в затяжках.
Курт полез в карман штанов, модных и небрежных, как всё, что было на нём нацеплено, и выловил несколько горошинок корма. Тимка ухватывал их по одной с хозяйской ладони. Курт снова слазил в карман, ещё и ещё. Ася загипнотизированно следила за его действиями, пока не осознала, что лакомства больше нет, Курт добывал и скармливал Тимке какие-то крошки, пыль, а тот всё лизал и лизал руку.
– Ты, если будешь приходить, играй с ним, ладно? – проговорил Курт, почёсывая и гладя крепкую Тимкину голову. – Он такой… Как маленький. С ним обязательно надо играть. А ты почему с мисками? Пашка мыть послал? Там вода ледяная – простудишься! Давай лучше я!
В подсобном помещении бывшей спортбазы у большой чугунной раковины Курт скинул пальтишко и с воодушевлением, показавшимся Асе избыточным, приступил к делу.
– Я от тебя бессовестно скрыл, – заговорил он под звон воды. – Два года назад я в твою честь сочинил гимн! Очень красивый! – И, обернувшись, улыбнулся ей так беспечно, что и Ася улыбнулась в ответ. – Его можно было бы сделать гимном какой-нибудь очень хорошей страны, если бы такая нашлась. Я сегодня, когда вышел из дома, почему-то про него вспомнил. И вдруг оказалось – ты здесь! В моём нынешнем положении это мистика!
Ася сняла с гвоздя полотенце и принялась вытирать отмытые Куртом миски.
– Я вообще довольно неплохо знаю тебя, – продолжал он, передёргивая повыше фенечки на запястье, уже залитые пеной. – Даже следил за твоим творчеством. Софья выкладывала твои рисунки у вас на сайте студии. Я их все люблю! Вот так, потихоньку мы с тобой сблизились. То есть это я с тобой сблизился. И у меня к тебе есть просьба. Она не сложная. Выполнишь? – Курт быстро взглянул на Асю. Должно быть, испуг и отчуждение в её лице сбили его с настроя. Он опустил взгляд и подменил приготовленную фразу другой. – Пожалуйста, передай Софье, чтобы она не волновалась. Скажи ей, я кое-что придумал. Есть безотказное средство… Оно снимет с неё обвинение. Не могу пока рассказать, чтобы не сглазить, но уверен, всё будет в порядке.
– Ох, спасибо! Как бы хорошо! – заволновалась Ася. – Ведь у неё Серафима! А Серафимин отец, если узнает, он дочь может отсудить! Он давно уже… И, главное, этот ужасный тормозной путь! Так что если можно хоть что-то сделать… Спасибо!
Курт выключил кран. Звон по чугунной раковине умолк, и в распахнутую дверь вошёл ещё безлистый голос леса. Этот большой голос состоял из голосов деревьев и птиц, ударов капели, из отдалённого разговора Пашки с непокорным Гурзуфом и хруста шагов. Все эти звуки деликатно соседствовали, не губя и не притесняя друг друга. Курт поглядел в сияние дверного проёма и шагнул на порог.
– Я всё-таки очень люблю вот это всё! Свет, звук… – сказал он. – Хотя, конечно, должно быть что-то ещё, кроме любви к деталям. Но вот не удалось.
Ася в тревоге смотрела на Курта. Оттого ли, что тень и свет разрубали его пополам, ей казалось: она наблюдает крушение маленькой вселенной. Что-то оборвалось и летело в пропасть, ещё не достигнув дна.
– А насчёт Софьи… Да. Я об этом думал с самого начала, но как-то сомневался. Но вот ты сказала про Серафиму – и всё прояснилось окончательно. Передай Соне – всё будет хорошо! – заключил он твёрдо. Затем вынул из раковины и сунул безмолвной Асе последнюю миску, подхватил пальтишко и влез в рукава. Мокрые руки застревали. Он повёл плечами, устраиваясь внутри пальто, застегнул пуговицы, выправил из-под воротника хвост волос и бодро улыбнулся: – Ну что, к Пашке?
Со двора доносились собачье ворчанье и строгий голос тренера. Пашка знакомил Гурзуфа с Дружком. Похоже, у псов завязался мужской разговор.
– Ну как? Не загрызли ещё друг друга? Ну ты смелый, Паш! Я бы на этого намордник надел, – сказал Курт, понаблюдав за сценой собачьего знакомства. – А я всё – закончил дела. Предлагаю отпраздновать! – И, порывшись в брошенном у крыльца пакете с кормом, выудил розовую, сверкнувшую, как вечерний снег, бутылку крымского шампанского. – Ребята, будете? Я теперь пошёл по игристым винам. Знаете, почему? Мне нравится звук хлопка. Можно по-всякому стрельнуть – и так и сяк. Пальнём? Пашка, тащи посуду!
– Я эту вашу гадость не пью, – холодно отозвался Пашка. – Только идиоты кайфуют за счёт клеток мозга!
Курт тихо рассмеялся и принялся развинчивать проволочку.
– Ася, а ты? – И, на миг остановив движение, взглянул на растерявшуюся Асю. Он смотрел внимательно и с надеждой, как будто от её решения зависело многое.
Потом Ася жалела: надо было не строить из себя недотрогу, а спросить – в честь каких таких завершённых дел шампанское? И предложить встречный тост – за приют, за собачье везение. Может, тогда день пошёл бы иначе. Но в ту минуту она отпрянула, словно ей предложили яд.
– Нет, я не хочу! Нам ещё с Лёшкой в гости! Я совсем не могу!
– Значит, никто не хочет? Ладно! – сразу смирился Курт и, завинтив проволоку, поставил бутылку под лавку. Его оживлённое секунду назад лицо ушло под плотное облако. – Ну, наверно, тогда пошёл я… – сказал он и, сделав несколько шагов, обернулся. – Паш, ты прости меня в честь Прощёного воскресенья! Ася, и ты!
– Это завтра, – заметил Пашка.
– Ну да. – Курт кивнул и взял было разгон в сторону орешниковой тропы, но опять что-то остановило его.
Он вернулся к домику.
– Я ключи тут у тебя повешу, запасные, ладно? А то родители уехали на неделю. А мне, наверно, придётся лететь… в Берлин. Может так получиться. Да и вообще, вдруг дверь захлопнется. У меня там «собачка» – всё никак не откручу.
Пашка дёрнул плечом – мол, мне-то чего, вешай.
Порывшись в кармане, Курт выудил ключи и, взбежав по ступеням, нацепил на гвоздик за дверью.
– И бутылку забери, – напомнил Пашка.
– А как же! – улыбнулся Курт, подхватил из-под лавки шампанское и, на ходу отвинчивая проволочку, нырнул в орешник.
Ася проследила, как угасают за ним шум и колебание ветвей. А затем в отдалении раздался выстрел пробки.
– Мне тоже уже пора идти, – проговорила она и огляделась в поисках брошенной сумки.
– Хочешь – приезжай ещё, будешь помогать, – придерживая Гурзуфа, сказал Пашка. – Я в выходные тут рано. Выпускаю их попастись, пока народ не повалит.
– Я приеду! – кивнула Ася с готовностью.
Когда она уже пробиралась по тропинке в орешнике, её слух уловил важное. Развернувшись и взявшись обеими руками за сухие кончики веток, Ася прислушалась. Далёкий, но всё-таки различимый голос Пашки произнёс:
– Александр Сергеич! Мне надо с вами поговорить, насчёт Курта. Срочно!
Странно и печально было Асе уходить из приюта. Она шла талой тропой и чувствовала, как ласково смотрит на неё лес. Не было сомнений, что берёзам и ясеням нравились её бледная кожа и серое пальтишко – в масть ранней весне – и упрямый весенний характер. Вся она была близка этому странному месту и времени, промокшей тропинке в глубь жизни. Долой барышню, рисующую котят! Да здравствует то, чему пока не подобрать слов!
На мостике у аллеи Ася увидела Лёшку. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к столбику перил.
– А ты думала, я тебя брошу? В чаще? И с кем! Один – подросток отмороженный, а другой вообще псих. Идёт и бутылкой машет! – приветствовал он жену и, сунув руки в карманы, обиженно зашагал к шоссе. Ася вздохнула, не зная, рада она или расстроена. По крайней мере, на день рождения к старшему тренеру её больше не звали.
11
Лёгкий после шампанского, Курт шагал по лесной аллее, приближаясь к роковой точке. Добыв из кармана айфон, по привычке глянул погоду. Плюс пять, переменная облачность, ночью ноль, а завтра… ничего себе – опять снег! Поглядеть бы на него за столиком у окна, в кафешке, где раз двести встречался с самим собой. Столешница пахнет как лоза – переспелым виноградом и солнцем. За стойкой звенит стекло, бармены напрягают связки. И низкий гул планеты порезан мелкой соломкой – это из колонок валит «клубняк». Но пассажиру у окна плевать на рёв мироздания, главное, что за стеклом на улице – сиреневый тихий балет.
Если бы Курта спросили, отчего такой милый и образованный молодой человек не занят полезным делом, а вместо этого ищет забвения во всякой, как верно заметил Пашка, гадости, Курт бы ответил, что виновата совесть. Совесть съела его заживо. Она увлеклась каннибализмом с детских лет, когда он ещё был просто Женей Никольским, любимым сыном и внуком. Видимо, он родился на свет с этим изъяном. Реплика, сказанная не вовремя, деньги, истраченные на ерунду, неуместная улыбка, тайная сигарета на школьном дворе – всё это были «статьи», по которым ночи напролёт совесть судила его и сразу приводила приговор в исполнение.
Курт старался не провоцировать карательные органы. Следил за своей устной и письменной речью, великих целей не ставил. На стыке школы и института ему удалось вырваться на свободу – он начал придумывать, а точнее, ловить из воздуха лёгкие и странные мелодии, «песенки», как он звал их. Это длилось недолго – музы ушли вместе с юностью. В отсутствие вдохновения его единственным делом остался скромный фриланс.
Когда утром, расположившись за компьютерным столом, Курт принимался за работу, настроение его обычно бывало сносным. Он видел курс, но где-нибудь через час в рубку врывался загадочный террорист. Отпихнув Курта, вставал к штурвалу и влёк захваченный корабль на кухню – выпить ещё кофейку или чпокнуть баночку пива. Затем выталкивал его на балкон – обозреть близкий лесопарк – и наконец сгонял во двор – выгулять, уже второй раз за утро, спаниеля Каштанку, по домашнему – Кашку. Только к ночи, попав на «сковородку» самобичевания, он замечал позади ещё один упущенный день.
Долго ли, коротко ли, совесть догрызла его до костей. Останки Курта блуждали по дождливым, снежным и солнечным московским улицам – одинаково безучастные ко всему, кроме следовавших одна за другой доз некрепкого алкоголя.
А затем заболела старая Кашка. Маленький ветпункт в лесопарке, зеленевшем под окнами Курта, стал местом продления собачьей жизни. По многу часов они проводили с Кашкой под капельницей. Собака – на столе, а Курт рядом на стуле – уткнувшись носом в шелковистую шерсть. Иногда к нему подсаживался и сочувственно наблюдал за дыханием собаки паренёк с очень светлыми и твёрдыми серыми глазами на угловатом лице.
Похоронили Кашку, а через неделю умерла бабушка, спасшая маленького Женю от детского сада, а в школе учившая с ним уроки. Не то чтобы Курт убивался сверх меры. Просто впал в несравненную по глубине и бесчувствию лень. Вероятнее всего, в ближайшие годы ему грозил переход из категории начинающих выпивох в продвинутые, но тут произошло чудо. Неприметное на вид, как и все чудеса высокой пробы, оно удержало его от крушения.
Однажды ранней весной жизнь Курта упёрлась в насморк. Тот грянул внезапно, как будто безо всякого повода, и с тех пор не оставлял его дольше чем на неделю, несмотря на все старания врачей.
Примерно через полгода по настоянию Софьи, с которой тогда уже был знаком, Курт попал на приём к её брату. Александр Сергеевич Спасёнов изучил историю болезни и спросил: а, собственно, почему к нему? В соседнем кабинете есть ЛОР, а по субботам принимает аллерголог. Впрочем, как оказалось, пациент уже у них побывал.
Курт смотрел на доктора сонно, туповатыми от нехватки кислорода глазами. Течение мысли было затруднено отёком. Александр Сергеевич уже собрался переправить его обратно к специалистам, но вдруг что-то смутило его. Он подпёр ладонью голову и, вглядываясь в припухшие черты героя, спросил, давно ли Женя во мраке и может ли назвать причину, по которой так раскис?
Брат Софьи был первым, кто догадался заглянуть за декорации и обнаружил в тайнике зрелище горькое, требующее немедленного вмешательства.
Курт рассказал ему всё: про потерю музыки, про скрежет холодного мира и про то, что планету людей уже давно пора сдать на техосмотр с заменой масла и тормозных колодок. К его удивлению, доктор горячо согласился с ним.
Интуицией висельника Курт просёк: Александр Сергеевич – его шанс на выживание. Как и многим другим пациентам терапевта Спасёнова, ему захотелось неформальных отношений – если не дружбы и приятельства, то хотя бы особой профессиональной опеки. Чтобы покрепче занозить Санино сердце, Курт вручил ему флешку с песенками.
Аранжировка, полная всевозможных звонов и шорохов, обрамляла творения явно нездешнего производства. Мелодии были сотканы таинственными мастерами и отличались от всех прочих так же, как эльфийскому клинку следует отличаться от человеческого. Саня был ранен. Обдумав положение своего пациента, он дал ему совет: если Курт хочет снова начать дышать носом, ему придётся что-то добавить в свою жизнь и одновременно что-нибудь из неё изъять. Скажем, изъять алкоголь и добавить пробежки в лесу, тем более что он живёт поблизости.
И то и другое оказалось Курту не по плечу. И всё-таки кое-каких перемен он добился.
Через пару дней после визита к доктору, вовсе не собираясь бегать, он отправился на прогулку по лесопарку, и сразу из глубины поднялось время, когда ещё дошкольником он гулял здесь с бабушкой.
Парк, запечатавший в себе детство Жени Никольского, был стар и хорош. Вековые липы так незапамятно давно росли в обнимку с фонарями, что окончательно переплелись и стали половинками друг друга. Фонари зацветали в июле и посыпали пыльцой гуляющих граждан, а у лип время от времени перегорали лампочки. Всё детство он заходил в этот парк, как в книжку с картинками. Лёгкий шорох страниц – и ты внутри. Собираешь палки и шишки, мнёшь мать-и-мачеху, срываешь с кустов бутоны листвы и пробуешь городскую природу на вкус. Жуёшь её, расковыриваешь, царапаешь – и она не обижается, потому что ты маленький, тебе надо познавать мир. Потом несёшься к блеснувшей луже, падаешь – и вспученный асфальт дорожки, ободравший твои колени, становится тебе братом, пусть и таким, с которым дерёшься…
Маленький Женя Никольский знал о парке только то, что на виду: аллеи, озеро с лодками, площадки для спортивных игр. Территория как бы состояла для него из швов-дорожек, а непосредственно ткань – лесной массив, где до апреля резвятся лыжники, а по осени бесстрашные пенсионеры разживаются некоторыми видами условно съедобных грибов, – осталась за пределами взгляда.
И вот теперь, двадцать лет спустя, ему открылось, как в действительности велик и таинственен был этот остров. Спасаясь от агрессии города, дух старого лесопарка сотворил «рукава» и «карманы», пещеры и бермудские треугольники, в которые был вхож не всякий. Один из таких секретов и предстояло обнаружить Курту в самое ближайшее время.
Как-то раз он плёлся по лесу с фонографом на плече, не находя вокруг ничего достойного быть записанным, как вдруг различил звук.
Средь бела дня где-то в глубине, за деревьями юный голос напевал народную песню – не из тех, что исполняют титулованные хоры, а иную – честную и шершавую.
Курт сошел с тротуара на размокшую под осенними дождями землю и дослушал пение до конца. После паузы песню сменили команды, отданные мальчишеским голосом, – тренировали собаку.
Уже собравшись уйти, Курт бросил взгляд на свои облепленные мокрой землёй кроссовки и неожиданно разулся. Что это оказалась за благодать – месить босыми ногами не промёрзшую ещё землю. Холод, проникающий в кровь через ступни, произвёл приятный эффект. Нос захлюпал и «прозрел» – запах земли, сродни весеннему, только грустнее, расшевелил память. Прислушиваясь, Курт пошёл по размокшей земле и вскоре оказался возле той самой ветлечебницы, куда захаживал с Кашкой. Обогнул кирпичный кубик спортбазы и увидел то, что искал.
Во дворе перед хлипким домиком ничем не примечательный паренёк в компании мирно прилёгших вокруг собак мастерил что-то из обрезков досок. Заслышав чавкающие шаги, он обернулся и смерил взглядом незваного гостя – в подвёрнутых джинсах и совершенно босого. Кроссовки Курт держал в руке, на «крюках» среднего и указательного пальцев.
– Там вон водопровод, – кивнул мальчишка через плечо, и несколько лохматых зверей, старых и хромых, поддержали его реплику любопытным вилянием хвостов. Ни один не взлаял.
Курт поблагодарил, поочерёдно сунул ноги под ржавый кран у земли и, обувшись, вернулся – знакомиться.
Он не сразу узнал того мальчика, что иногда подходил проверить капельницу Каштанки. За прошедший год паренёк похудел и подрос, выступили кости скул, отросли волосы. Только когда он спросил: «А собаку-то снова не завели?» – Курт вспомнил его. Ну конечно! Те самые глаза! Серых глаз много, но эти были особенные, прозрачные в тёмных ресницах. Озёрная вода!
Курт не стал тогда выяснять, что за песню пел паренёк и откуда взялся у него столь диковинный репертуар. Зато он спросил о собаках и вкратце узнал историю приюта.
Вернувшись домой, Курт открыл фонограф и прослушал сделанную тайком запись. Звук шуршащей под ногами листвы, звонкий со всполохами хрипоты лай собак, голос паренька и собственный живой голос – всё это вдруг показалось ему родным, важным, чудом уцелевшим в железном скрежете мира. Впервые за целую вечность ему стало хорошо на душе.
На следующий день, когда была закончена работа, ему ужасно захотелось снова наведаться в ту глухую часть парка. Он прихватил гостинцев для собак и провёл лучший вечер за последние несколько лет, наблюдая, как Пашка раздаёт лакомство лохматым детям. С той поры не было дня, чтобы он не приходил в лес.
А затем появилась Ася и, даже не заметив, забрала его сердце. Курт смирился с неудачей в любви, и вроде бы легко. Единственное «осложнение» – как-то сам собой в нём пробудился интерес к интернет-историям о самоубийцах всех мастей. Он испытывал жгучее сострадание ко всем этим мученикам, будь то дети, решившие умереть прежде, чем о проступке узнают родители, или звёзды шоу-бизнеса со смесью ядов в крови. В жалости к ним Курт видел последнее проявление своей заглохшей человечности. Приходилось признать: надежды на возрождение оказались пустыми. Не помог ни Саня Спасёнов, ни Пашкин лесной приют.
И вот в череде дурных месяцев произошло событие, равное первому хлопку на весенней реке, когда целостность льда даёт трещину. Ася помахала ему в окно и велела зайти на Масленицу!
В тот день, безрассудно потягивая в ресторанчике вино и слушая на диктофоне Асин голос, он думал: ведь не шутка же это была? Хорошо, пусть она пригласила его из жалости, – он не гордый, от неё и жалость бы принял как дар!
Он думал об этом весь вечер. Шёл по улицам – и видел Асино лицо, сохранённое в памяти. И позже, когда принимал у Софьи машину, и когда, сев за руль, как во сне, погнал по переулкам – всё время думал только о невероятном явлении Аси.
А потом в плывущее по лобовому стеклу кино мечты врезался незапланированный кадр.
Курт почувствовал всем существом глубокий и гулкий удар – тот, что невозможно ни с чем спутать. Он означал итог жизни, переход в иную систему координат, отличную от всего, что было прежде. Прочие шумы – визг выжатых тормозов, щелчок дверцы, собственный голос – были ничтожны по сравнению с тем великим потусторонним звуком. Курт сбил человека – означал он, и это был обрыв троса, за которым уже не существовало ничего – ни мучившей его с детства треклятой совести, ни родных, ни надежды когда-нибудь стать нормальным.
Человек замер на боку, одну руку выбросив за голову. Он лежал так же мёртво, как и полагалось мертвецки пьяному, с одной лишь разницей: из разбитой головы натекло уж порядочно.
Первым делом всколыхнулся детский инстинкт – спрятаться под кровать. Убежать в дальнюю комнату, нырнуть и, свесив покрывало пониже, примолкнуть. Курт мысленно созерцал свой побег, а на деле сидел неподвижно, словно в глубоком трансе, не имея ни воли, ни тонуса в мышцах встать или хотя бы просто пошевелить рукой.
Его разбудила резко распахнувшаяся дверца. Софья с белым лицом, схватив его за плечо, что-то кричала. Наконец он разобрал. «Ты пил что-нибудь? Да или нет? – встряхивала она его. – Отвечай! Говори правду!»
Курту казалось, он ничего не ответил вслух, только подумал, но цепкие руки Софьи тут же дёрнули его прочь из машины и толкнули к тротуару.
– Живо домой, скотина! Я сама была за рулём, по твоей доверенности. А ты дома спал, ясно?
– Почему? – спросил Курт.
– Потому что ты ноль, а не человек! Проваливай!
Курт мельком взглянул в её похожее на бурю лицо, машинально поднял с асфальта зелёную флешку и пошел прочь.
Когда, отдалившись на некоторое расстояние, он обернулся, на холодном перекрёстке вселенной уже начал скапливаться народ. Софья заперлась в машине. А рядом всё в той же позе лежало, а может быть, какой-то вечной своей составляющей уже и воспарило убитое им человеческое существо.
Домой поехал на метро. Сел не в ту сторону, затем не туда перешёл – как будто забыл дорогу. Но сколь угодно запутанные следы не могли изменить случившегося.
* * *
«Вот так… – думал Курт, взглядывая откуда-то сбоку на собственную совершившуюся судьбу. – Жизнь, посаженная в несчастливый день, гнившая и сохнувшая с самой юности, закончилась старым алкоголиком под колёсами. Если бы не дикий тормозной путь и не вино в пиццерии – ещё можно было бы надеяться на продолжение. Но при нынешних обстоятельствах…»
Когда Софья вздумала геройствовать, у Курта и в мыслях не было возразить. Он знал, что не примет наказание от государства. Вот этого – нет, не будет! Только совесть имеет право измываться над ним, больше никто. Но и о том, чтобы за него отдувалась Софья, не могло быть и речи. В её поступке он увидел лишь отсрочку – шанс собраться с мыслями.
Дома он откупорил бутылку недорогого и резкого аргентинского вина и на третьем стаканчике совершил окончательный выбор: написать подробную, оправдывающую Софью записку и закрыть неудачный проект под именем Курт, ну, или Женя Никольский, кому как привычнее.
Он решил снять с себя жизнь спокойно. Кинуть её на стул у кровати, лечь и уснуть. С этой целью уже давно им были сделаны неумышленные приготовления, а именно – припасена пачка медикаментов, отнятая у нервной, страдавшей бессонницей матери. В пылу обид на сына она грозила ему, что пустит таблетки в ход. Курт не был уверен, что способ надёжен, но суетиться и подыскивать что-то ещё уже не было времени. Он принял имеющийся расклад как судьбу и, допив вино, ещё раз оглядел мрак внутри и снаружи. Нет, никаких сантиментов в адрес мира, который собирался оставить, не шевельнулось в нём. Решение было верным. Он дал себе сутки на наведение порядка и раздачу долгов.
Появление в приюте Аси поразило его. Эта светлая девочка пришла в день казни – не для того ли, чтобы отменить приговор? Но нет, она просила помочь сестре, а значит, подписала его. Что ж, так даже лучше – не будет напрасных сомнений.
Выйдя из парка и перейдя дорогу, отделяющую лесной массив от квартала, Курт вошёл во двор, где раньше жила его бабушка, а теперь, вот уже пару лет, – он, её внук. Поднял взгляд к белому небу: бабушка, ау! – и мимолётно подумал: а может, не надо таких уж крутых мер? «Надо, Женька, – ласково отозвалось в мозгу. – Ты духовный банкрот. Вляпался в то самое банкротство, когда стреляются – просто из чувства самосохранения!»
Усмехнувшись парадоксу, он прошёл по двору, отметил, что дама в «пежо» слишком уж яростно вопит на амбала в джипе, занявшем её парковочное место. Открыл электронным ключом подъезд и вдруг осознал: как-то ребячливо, не всерьёз, он относится к задуманному шагу. Как если бы это было кино в записи. Выключил, не досмотрев, – завтра включил опять – устал, спать захотел – снова выключил… Может, так оно и окажется?
Дома Курт вспомнил, что не позвонил матери. Это надо было сделать обязательно, а то ещё начнут разыскивать раньше времени.
– Мам, улетаю в Берлин, на выставку, – сказал он грустно. – По работе, на пару дней, срочно пришлось подменить одного парня. В аэропорту уже, да. Звонить не буду. Долечу – скину эсэмэску! Короче, ты не волнуйся.
Но мама, хотя и привыкла, что сын время от времени куда-то срывался, всё же разнервничалась. «Ни тоски, ни любви, ни обиды», – думал он, выслушивая её смешанные с укорами наставления. Хотел сказать на прощание, что, наверно, не любит её или любит совсем немного, но не стал. Зачем всё портить?
За вчерашний день он успел разобрать почти все свои бумажки и файлы. Не велик архив. Оставалось последнее. Он снял с компьютерного стола монитор, ноутбук и колонки. Мелочь – бумажки, колпачки от ручек, несколько истертых фенечек, которые не носил, по-простому ссыпал в пакет и бросил в мусорное ведро. Стер завалявшейся под столом футболкой пыль и сухие лепестки герани, налетевшие с окна. На расчищенную поверхность положил записку, которая должна была освободить от вины Софью. Он указал в ней, когда и в каком заведении ел пиццу и пил вино и что официанта звали Денисом – он, может быть, вспомнит клиента, которому при оплате счёта не хватило денег на карточке. Написал, что его спутница Софья Спасёнова взяла на себя вину с перепугу – это он, нижеподписавшийся Евгений Никольский, шантажировал её, угрожал дочери.
Вот и всё. На край записки, чтобы не сдуло сквозняком, поставил фонограф.
Ещё пара часов ушла на всякую ерунду вроде заправки стиральной машины и мытья сковородок. Не то чтобы ему хотелось прослыть чистюлей, но хотя бы минимальный порядок навести было надо – всё же будут приходить разные люди. Первыми, скорее всего, заволнуются приютские – Пашка с Наташкой, Саня. Может быть, и зайдут – ведь повесил он им ключи.
Напоследок ему захотелось под душ – смыть стыд и копоть неудавшейся жизни. Но разбираться потом с кучей кудрявых волос! Только высушить эту чащу – уйдёт полчаса. Курт уже не мог ждать. Внутри нарастал бешеный стук, будто кто-то из грудной клетки ломился на волю.
Закончив дела, он отправил матери эсэмэску: «Долетел» – и выключил телефон. Сбегал на кухню за пивом – не водой же смерть запивать! – и, поглядев на приготовленную постель, подумал: вот сейчас он примет лекарство и ляжет, как в детстве, на бочок – спать. Вспомнит что-нибудь хорошее – бабушку, Кашку. Одеяло натянет на уши, и ничего страшного с ним больше уже не произойдёт.
12
После исповеди брату у Софьи полегчало на душе. Возвратившись, она уснула намертво, а когда проснулась, субботнее утро с тучками показалось ей добрым. За окном шуршала капелью, звенела птичьими голосами оттепель. Завтра Масленица, а за ней весна – будет слякоть и свет, головная боль на перемену погоды, надежды и крушения надежд. А разве, Соня, ты мечтала когда-нибудь о гладкой занудной жизни? Нет уж, пусть будут битвы и риск, и героическое безрассудство. Главное – не поддаться унынию!
Завтракая в тихом доме – Ася с Лёшкой повезли собак в приют, а Серафима с хомяком дрыхнут, – Софья обнаружила в почте письмо. Кузен Болеслав, бесценный друг детства и первая любовь, человек, по образу и подобию которого она старалась выстроить себя, прилетал в Москву в понедельник. Пару лет назад основатель европейской сети школ, призванных помогать клиентам достигать успеха в разных жизненных сферах, а также обучать профессиональных коучей, предложил Софье обустроить московский филиал – она взялась и справилась.
Формальным поводом визита Болеслава в Москву была презентация его новой книги, от которой он сперва отказался, но буквально вчера передумал и дал добро. Софье была известна причина перемены решения. В день после аварии она позвонила ему из офиса и наговорила лишнего – о случившейся беде, об отчаянии, о том, что вряд ли ей удастся и дальше курировать деятельность филиала – из тюрьмы это будет неудобно.
Софья не думала, что Болека растрогают её жалобы, и ошиблась. Он ухватился за её признание, как будто только и ждал повода прилететь.
К письму прилагалась фотография: распечатка электронного билета на самолёт, прихваченная знакомой рукой – крой кисти изящный и крепкий, светлый шрам под суставом большого пальца. (Софья лично была свидетельницей тому, как юный Болек неловко махнул топором.) Подлинная рука маэстро Болеслава! Фокус на пункте прибытия – «Москва» и ниже подпись: «Держись! Скоро буду!» – черкнул по экрану. Многие коллеги и подчинённые получали от Болеслава подобные знаки внимания. Это был его стиль. Трогательный, но вовсе не гарантирующий любви к адресату.
Выйдя из подъезда, Софья остановилась и неспешно, с прищуром, словно боясь в один миг растерять надежду, оглядела двор. Нет, Курта не было. И сразу она упала духом. Ей казалось, что теперь, раз уж она взвалила на себя его груз, он должен по законам чести сопровождать её – идти рядом, раздвигая ветки, веселя беседой, давая глотнуть воды. «Ладно, подождём!» – постаралась взбодриться она. Но за целый субботний день от него не было ни звонка, ни эсэмэски.
Софья знала, что Курт бездельник, мечтательный разгильдяй, но не свинья. Иначе не взялась бы его выгораживать. Между делами она продолжала с растерянным сердцем поглядывать – нет ли сообщения? А к ночи о нём явились странные вести. Ася в пижаме пришла на кухню за «снотворным» ромашковым чаем и сказала, что в приюте видела Курта – с «Адажио» Альбинони и шампанским. Он велел передать, что придумал нечто, в результате чего у Сони всё будет хорошо.
Значит, хотя бы вспоминает о ней. Спасибо и на том!
Масленичное воскресенье Софья потратила на дела, которыми нагрузил её Болеслав. Выбирала гостиницу, договаривалась об аренде зала, где пройдёт встреча, размещала новость в Сети. Тысячи подписчиков Студии были мгновенно оповещены о возможности лицезреть гуру в Москве. Посыпались заявки.
Когда, раскидав дела, Софья собралась домой, оказалось, что на улице вечер. «Ну что же, – подумала она, оглядывая улицу в огнях. – Ася, Серафима, Лёшка и бессменный Илья Георгиевич испекли и съели блины, прогулялись потом с толпой весёлого народа по Лаврушинскому к реке. У них – праздник. И теперь в этот праздник, в тёплое счастье семьи явится мама-строгая, расчетливая тётка, убийца безвинного дяди Миши и, как Снежная королева, всех заморозит. Серафима спрячется в Асину комнату, а сестра взглянет серыми глазами, с упрёком: Соня, опять ты прогуляла самое важное!»
Нет, ей нечего делать дома! Придёт, когда все уснут.
На Пятницкой, расстилая по земле платок-паутинку, пошёл снег. Софья отпечатала по белому сотню шагов и, остановившись на перекрёстке, свернула в противоположную от дома сторону. Многолюдье и огни московского вечера развеяли горькие мысли. Она потянула на себя тяжёлую дверь «пироговой» и, погрузившись в душистый воздух, вздрагивая от волн озноба, остановилась перед витриной – что бы взять?
Горячие бруски пирогов всех мастей, похожие на терема с резными наличниками, на летние, полные ягод корзины, зачаровали Софью. Забыв, что семья сыта масленичными блинами, она попросила курник и застопорилась – брать ли ещё и ягодный? И если брать, то брусничный или черничный? Мучилась столько, что улыбка девушки за стойкой сделалась кислой. Совсем ты, Соня, выпала из формы – где твоя резвость, лихость, стремительность речей и решений?
Пока упаковывали пироги, Софья глянула в окно, залепленное сиреневым влажным снегом. Напротив виднелся дом, где двадцать лет назад пекли и продавали пончики. По поводу и без повода они с подружкой забегали туда и брали пакет колечек в липкой пудре. Кажется, и дядя Миша, любимец всех без исключения замоскворецких продавщиц, захаживал развесёлым молодцом в парное тепло заведения. А теперь вот – молодёжное кафе, вайфай…
Меняя руку с коробками пирогов, чтобы от бечевы не затекали пальцы, Софья почти что дошла до дома, когда в кармане загудел телефон. Звонила адвокат Елена Викторовна.
– Софьюшка! – бодро сказала она. – Я твоему владельцу автотранспорта, Никольскому, не могу дозвониться, а он мне нужен! Весь день звоню – недоступен. У тебя домашнего его нету?
– Сейчас скину, – ответила Софья и, отступив на край тротуара, к водостоку, гудящему ветром, остановилась. Снег стучал по коробке, и так же мелко, часто и вразнобой в виске задолбил пульс.
«Так, ну хорошо…» – вслух сказала Софья, чтобы прогнать необъяснимую тревогу. Отвела с лица мокрую прядь волос и вызвала номер Курта. Он и правда был недоступен. Не подошёл и на домашний. Ужас пробрался в грудь и тонко прищемил сердце. «Идиот! – бодрясь, выругалась Софья. – Эгоист безмозглый!» Считая, восстановила дыхание – вдох, выдох – и, закусив губу, позвонила брату. Этот бы хоть подошёл!
– Саня! Ты дома? – сказала она, услышав родной голос. – Умоляю тебя! Беги, пожалуйста, срочно к Курту и звони ему в дверь! Если откроет – перезвони мне сразу. Я еду!
* * *
Не совсем дома был Саня – но это и к лучшему. Будь он дома – ему бы уже не вырваться. За два года он крепко превысил лимит терпения жены. Теперь, чтобы исполнить обещанное, ему приходилось многое умалчивать и отчасти хитрить. Необходимость эта, как любой обман, наложила отпечаток на его слова и поступки. Теперь не всегда он чувствовал себя вправе поглядеть на человека прямо и настоять на собственном мнении, а всё чаще сокрушённо молчал.
Уже очень давно Саня обещал забежать к Николаю Артёмовичу, старику из соседнего дома, посмотреть забарахлившее инвалидное кресло, да и вообще проведать. Нарушенное слово угнетало его. Наконец, по завершении воскресного обеда с блинами и семейного просмотра скучнейшей мелодрамы, он решился и объявил Марусе, что у старика выпал винт из коляски, нужно срочно сбегать поправить, а то человек не может передвигаться.
Косматобровый Николай Артёмович был одним из подопечных, с которыми у Сани сложились приятельские отношения. Его подшефных объединяла общая черта – все они оказались никудышными воспитателями. Их дети, внуки и племянники вспоминали о них значительно реже, чем Саня, а то и не вспоминали совсем – до момента, когда настанет пора вступать в наследство.
После роковой травмы Николай Артёмович некоторое время пытался освоить костыль, но сдался и сел в коляску. А сев, обрадовался облегчению. Больше всего в случившемся Саню убивало, что теперь уже никогда старику не выйти на воздух подышать, не пройтись по знакомой улице «до булочной» – так он звал открытый на месте старинного магазина «хлеб» дешёвый сетевой супермаркет.
Сын давней Саниной пациентки, владелец «оконного» бизнеса, узнав о переживаниях доктора, установил Николаю Артёмовичу в подарок новый балконный блок с широкой дверью и специальным порогом, чтобы проезжала коляска. Теперь всякое утро старик по-королевски выкатывался на балкон и в дыму и всполохах глаукомы различал крыши пятиэтажек и близкий лес. Затем возвращался на кухню и, вызвав номер, докладывал Сане, что погода сегодня сырая, надо одеться, взять зонт.
Николаю Артёмовичу иногда помогали соседи-пенсионеры, из поликлиники приходил врач, но Саня был единственной опорой души. Будучи человеком гордым, «подшефный» постарался устроить так, чтобы доктор Спасёнов не только жертвовал собой, но и сам получал пользу от общения. Николай Артёмович посвящал свои дни прослушиванию радио– и телепрограмм и копил информацию, чтобы в ежедневном звонке сообщить, что пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, повсеместно начали штрафовать или что в молочных продуктах такого-то завода найдены болезнетворные бактерии.
Краткий – на одну-две минуты – звонок Николая Артёмовича обычно случался утром, по пути на работу. Летя через лес, Саня радостно впитывал бессмысленные новости и заряжался бодростью духа.
Сердечной глубины общения, как с Ильёй Георгиевичем, у Сани с Николаем Артёмовичем не было, но зато было восхищение мужеством человека перед лицом собственной дряхлости и была привязанность, которая возникала у Сани очень легко к старым людям и детям.
Прибежав к Николаю Артёмовичу, Саня сразу же занялся коляской и справился быстро. Когда позвонила Софья, он как раз пытался увернуться от картошки со стопочкой, коими по случаю Масленицы настойчиво и строго угощал его хозяин.
В секунду поняв, чего опасалась Софья, и мгновенным спазмом в солнечном сплетении разделив её страх, Саня ринулся в прихожую.
– Заболел, что ли, кто? – нахмурился Николай Артёмович, выкатываясь следом.
– Да! – срывая с вешалки куртку, ответил Саня. – Заболел. Главное, чтобы жив.
Если бы Саня мог представить, что жена следит за его перемещениями из окон – сперва из южного, затем из восточного, он позвонил бы ей и честно сказал, что задержится ещё ненадолго. Просто нужно проверить, всё ли в порядке с одним несчастным парнем. Да ты его знаешь – Курт!.. Больше того – если бы Саня мог догадаться о степени Марусиной ревности, он поразился бы до слёз и навсегда прекратил враньё. Но ни о чём таком он не догадывался, а потому решил без лишних объяснений добежать через парк до дома Курта, выяснить, что к чему, и сразу вернуться домой.
В тот вечер, стоило мужу выйти за дверь, Маруся кинулась к окну спальни и минуту спустя увидела: пройдя наискосок через двор, Саня зашёл в подъезд, где живёт старик на коляске. Это успокоило её душу. Сохраняя снайперскую концентрацию, Маруся принялась ждать, когда муж выйдет. Это случилось минут через двадцать – она была довольна. И вдруг сердце заколотилось. Вместо того чтобы вернуться дворами, он направился за угол дома. Маруся метнулась к окну на кухне: вылетев из-за домов, супруг пересёк пешеходный проспект и бегом помчался в глубину парка.
Ещё осенью Маруся заподозрила, что собачий приют есть лишь удобное оправдание, которое выдумал муж, чтобы скрыть от неё правду. Марусе было совершенно ясно: ни кучка грязных зверей, ни жалость к патлатому подростку не могли бы столь часто завлекать её Сашу, уважаемого пациентами и коллегами врача, в эту промозглую чащу. Конечно же его притягивало иное. Марусе ещё ни разу не удалось выследить врага, коварное создание, сбившее с толку её супруга, но фантазия при поддержке нетвёрдой логики убеждала её: встречи происходят поблизости, возможно в том изящном особнячке, близ центрального входа, где расположился небольшой фитнес-клуб.
Не замечая нытья заскучавшей дочери, Маруся вернулась в комнату и, упав на постель, уткнулась застывшим взглядом в тёмное пятнышко над кроватью – след от прибитого комара. Так она пролежала минут пять, а затем поднялась и, позвонив мужу, спросила, поддаётся ли коляска починке. «Да в общем не очень, – сбивчиво ответил Саня. Его голос предательски гаснул в порывах лесного ветра. – Ещё немного задержусь, но уже скоро! – И через небольшую паузу: – Марусь, вообще-то я к Жене Никольскому бегу. Что-то там неладно. Ну, прости ты меня! Не обижайся!»
* * *
Моментально забыв семейный конфликт, молясь только о том, чтобы Курт не вздумал избавляться от греха посредством нового, ещё более тяжкого, Саня пересёк парк. На другой стороне шоссе, куда выходила лесная аллея, стояла многоэтажка Курта. Во дворе запрокинул голову: свет в его квартире горел подряд – на кухне и в обеих комнатах.
Он уже вовсю барабанил в дверь, когда из лифта выбежала Софья.
– Не открывает? – Бросила коробки с пирогами на плитку площадки и вжала палец в кнопку звонка.
Саня покачал головой – без толку! – и приник ухом к щели, там, где дверное полотно стыковалось со стенкой.
Воображение открыло ему выстуженную комнату: на диване – логово из одеял и пледов, а внутри норы – слабая, прерывистая волна дыхания.
– Родителей его телефон знаешь? – обернулся он к сестре.
Софья мотнула головой.
– Погоди! Мне ведь Пашка говорил. Сейчас… – спохватился Саня и, потерев ладонью лоб, припомнил: действительно Пашка вчера звонил ему. Сказал, Курт странный, явился с шампанским, дал денег на собак – кажется, выпотрошил всё, что было, и ещё зачем-то в шахматном павильоне оставил свои ключи. Что-то мёл про Берлин. Саня не знал, как вышло, что он забыл об этом звонке. Замотался – пациенты, Марусины слёзы.
Нашарив телефон, он позвонил Пашке. Нужно было скорее добыть ключи.
– Паш, а можно я там слева стёклышко выну, ну, которое побольше, чтобы пролезть? – сказал он, коротко объяснив ситуацию. – Оно же хлипенькое у нас. Я аккуратно, а завтра поправлю! Ну, не гнать же тебя павильон отпирать, а? – И, получив дозволение, сразу же вызвал лифт.
Софью на каблуках, во избежание травм на льдистых тропинках, решено было оставить во дворе. Через некоторое время она услышала доносящееся из леса эхо собачьего лая. Должно быть, это Саня разбойно проник в шахматный домик.
Брат вернулся раньше, чем она ждала. Бежал бегом. Махнул добычей – три ключа на кольце.
Поднимались молча. Только у двери переглянулись и поняли, что заняты общим делом: оба молились Ангелу-хранителю. Бабушка учила их разным молитвам, но почему-то именно к Ангелу дети прониклись особым доверием. В данном случае адресатом был Ангел-хранитель Курта; странно же было, что брат и сестра обращались к нему с просьбой уберечь Курта не теперь и не в будущем, а в прошлом, некоторое время назад. Так, как если бы перед небесными силами жизнь человека лежала единовременным целым и любой отрезок можно было поправить.
Отперев дверь, Саня велел сестре ждать на лестничной площадке, а сам мигом пролетел через прихожую и очутился в комнате. Всё было в точности так, как представилось ему, когда он пытался увидеть сквозь стену – ветер из форточки, на разложенном диване «логово» из одеял. Значит, внутри должна сохраниться жизнь!
Подойдя к постели, он задержал дыхание и тронул холодными с улицы пальцами жилку на шее Курта – вот он, миленький, тикает! Слабоват, но вполне себе есть! Можно сказать, нормальный.
Прикосновение не разбудило спящего. Саня быстро оглядел комнату – нет ли объяснения случившемуся. На столике у дивана горела дурацкая лампа – полоска белого света в металлическом корпусе. У стены на подставке – доска синтезатора, покрытая вековым слоем пыли, и в таком же пыльном футляре гитара. Офисное кресло-вертушка… И, наконец, да! Вот оно!
На компьютерном столе, придавленная корпусом фонографа, трепетала свободным краем записка – белая и чистенькая, с неровно и всё-таки внятно выведенными словами признания. Саня взял её в руки, пробежал и, зажмурившись, словно ударило по глазам, сунул в карман.
Склонился над спящим и крепко, на пике острого чувства, тряхнул за плечи:
– Ну? Как Берлин?
Курт шевельнулся.
– Берлин, говорю, как? Понравилось? – повторил Саня, ощущая, как наваливается отчаяние. Бьёшься-бьёшься, не знаешь, что ещё выдумать, чтобы дверь проклятая не захлопывалась, а этот – сам! Сам!
Курт повернулся на бок, трудоёмко разлепил веки и сразу же понял всё, кроме единственного момента: как вышло, что он оказался жив? Тяжёлая пустота во всём теле не позволила ему решить – хорошо ли это, что он здесь, а не там? Всё равно. Лишь бы отстали и дали ещё поспать. Так ведь нет, не дадут! Пробудившееся сознание сказало Курту, что теперь его будут мучить. Тем более что Саня уже поднял с пола и вертел в руках широкую пластинку таблеток с несколькими пустыми гнёздами.
– И это что, всё? – спросил он, с надеждой взглядывая на Курта. – Всё или не всё?
– А зачем больше? Хватило, чтоб отоспаться… – хрипло и слабо, ещё не владея затёкшим голосом, отозвался Курт.
– Чтоб отоспаться – как раз!
Пока Саня чинил осмотр, слушал пульс и дыхание, больно светил в глаза лампочкой, Курт вспомнил, что пил таблетки медленно, по одной, давясь, царапая горло, ставшее узким от спазмов. Затем ощутил прилив тошноты и, чтобы не сорвать всё мероприятие, был вынужден переждать. Дальше воспоминаний не было.
Измученный манипуляциями и вопросами настырного доктора, он откинулся на подушку и снова задремал. Тем временем Саня вышел на лестницу, где его дожидалась сестра.
– Жив. Надеюсь, что и здоров. Снотворного перебрал, – сказал он и прислонился к стене, охваченный тяжёлой усталостью.
Софья охнула и ветром промчалась в комнату, бросила пироги на стол и в секунду очутилась на коленях у постели.
– Женька, ну как ты? – затормошила она его, чувствуя, что голосом завладевают слёзы. – Ты поправляйся, и всё будет хорошо! Мы всё уладим! Саня, может, ему чего-нибудь принять? – в тревоге обернулась она на вошедшего следом брата. – Ну там энтеросгель, уголь? Или, может, пусть поест? Жень, ты поешь? Хочешь? Есть брусничный пирог! Я прямо никак не могла выбрать – брусничный или черничный?
Курт лежал не шевелясь, не открывая глаз.
– Слушайте, вы как хотите, а я буду! – решила Софья и подошла к столу. – Я зверски хочу есть, сейчас умру! – Сняла бечёвку, крышку и, подчиняясь истерическому приступу голода, оторвала угол от большого брусничного пирога. Промычала: – Вкусно! Не хотите? А зря! – Распаковала вторую коробку и взялась послащёнными брусничной начинкой пальцами за курник. Его оказалось совсем не удобно ломать – он был испечён каравайчиком. Пришлось снять узорчатую верхнюю корочку, так что получился вулкан с обширным жерлом.
Прошла пара минут, прежде чем Софья утолила нервный голод и, прервав пиршество, снова очутилась возле Курта.
– Женька, ты, может, подумал, я ругаю тебя? – заговорила она взволнованно. – Нет! Совсем не ругаю, совершенно! Я, наоборот, жалею тебя, слышишь? Вот как себя жалею – так и тебя, даже больше! – И вдруг, словно утратив разум, принялась часто, крепко гладить его по лбу и по спутанным волосам – словно хотела умаслить их оставшимся на пальцах вареньем.
Курт собрал силы и отстранил руку Софьи.
– Я не понимаю… Как вы можете без разрешения врываться? Это полный бред – то, что вы здесь, – скованно и медленно, всё ещё хрипя, проговорил он. – Лампу погасите. Режет…
Саня погасил лампу – остался верхний свет, люстра, включённая на два плафона, – и, бросив взгляд на Курта, ещё раз перебрал в уме результаты краткого осмотра. Никаких критических повреждений, скорее всего, нет, хотя контролировать сердечную деятельность надо. Затем поглядел на сестру, приникшую щекой к руке смертного грешника, и, что-то грустное поняв о ней, чего не понимал раньше, вывел её из комнаты.
– Поезжай домой. Ты сейчас тут не нужна, – сказал он на лестнице плачущей Софье. – Я потом позвоню тебе.
– Саня, мне очень жалко его!
– Ему вот тоже тебя жалко было, – проговорил Саня, чувствуя, как в кармане шевелится живым существом предсмертная записка Курта, и вдруг взорвался: – Нет, ну ты скажи мне, ну как так можно! Сколько людей за лишний год жизни готовы на всё! На всё! А у этого здоровье, молодость! Откуда такое?
– Чувство вины, – сморкаясь в бумажный платок, сказала Софья.
– Чувство вины! Ну так что же? Терпи, раз виноват! Тащи свой крест! Люди помогут, Бог поможет!
– Саня, у каждого своя картина мира. Болек сказал бы, что вину надо сбросить с пятидесятого этажа и полюбоваться брызгами. И что для тебя почётный крест – то для другого бессмысленная пытка.
– Да нет, я понимаю, – внезапно смирился Саня и приложил ладонь ко лбу. – Я просто всё время упираюсь в вопрос: что сделать, чтобы победила жизнь? Куда всем навалиться, чтобы сдвинуть? И когда рядом человек поступает ровно наоборот, на другую чашу весов… Ладно, – оборвал он сам себя. – Не хочу я «скорую» вызывать, привяжутся. Сам пока послежу. Не должно было ничего с такого количества…
Когда лифт увёз сестру, Саня вернулся в комнату. Глянул на Курта – тот дремал. Посмотрел затем на общипанные Софьей пироги. Вдруг зверски ему захотелось затянуться сигаретой. Саня бросил курить несколько месяцев назад, но пока что окончательного освобождения не наступило. В утешение он жёг теперь на блюдцах маленькие костерки из всякого сора, засохших веточек и цветков домашних растений – чтобы только посмотреть на дым. Он огляделся – что бы тут пожечь у Курта? – и, почувствовав валящую с ног усталость, присел на стул, под весенний ветер из форточки.
Глава третья
13
Если через вмонтированное в кровлю раздвижное окно заглянуть в глубь маленькой авангардной виллы, то внизу, точно под разверзшимся в потолке звёздным небом, можно было увидеть низкую и широкую, в японском стиле, кровать и на ней – довольно хрупко сложенного человека с тёмными волосами, умеренно загорелым лицом и хорошей ссадиной на скуле, спящего не мирным сном.
Обладатель скромного архитектурного чуда на побережье ночевал под звёздами в терапевтических целях. Он поступал так по рецепту своей пожилой и мудрой «экономки» Марии Всеволодовны, именуемой для краткости Марьей, на поверку его единственной жилетки для слёз.
Звёзды кололи спящего, откупоривая протоки, снимая спазмы с души. По мнению Марьи, небесная иглотерапия была куда эффективнее всех до единого психологических методов, в которых её пациент увяз давно и прочно. Уж не в них ли причина произошедшей путаницы?
Тридцатисемилетний страдалец Болеслав вырос на родине отца, в Москве. Учился в Варшавском университете, на родине матери. Первый успех обрёл в странах Восточной Европы и, потрудившись на славу, через несколько лет сбежал от себя на край земли. Именно здесь, в самой западной точке континента, им был куплен небольшой прелестный дом, спускающийся террасами на каменистый берег океана.
Его карьера развивалась гладко. Получив добротное психологическое образование, Болеслав избрал направление и принялся возделывать ниву консультирования. Ему везло, а может, он действительно был талантлив. Успех клиентов мгновенно расцветал в его руках. Его делом стало натаскивать и без того продвинутых персон на ещё более крупный жизненный выигрыш. С целью популяризации своего большей частью компилятивного, однако свежо и весело выстроенного метода Болеслав создал сеть школ и настрочил пяток книг, благо с младых ногтей чувствовал склонность к писательству.
Несметное число нацеленных на успех землян прибегало к его методу и получало искомое. Он учил актёров и архитекторов, политиков, спортсменов и целый океан людей бизнеса тому, как половчее выбить свою судьбу у Бога из рук и распорядиться ею по своему усмотрению. Возможно, он прожил бы великую жизнь и умер счастливым – если бы не «русские сны», которые он изо всех сил старался не подвергать анализу.
Первый из них приснился ему два года назад. Он увидел окрестности маленького волжского городка, где с бабушкой Елизаветой Андреевной и прочими родственниками проводил летние каникулы, пока не уехал из России. Во сне Болек сел в лодку и, проплыв мимо затопленной колокольни, голыми руками поймал… серебряную рыбку!
Проснувшись, он долго не мог вынырнуть из воспоминания. «Приехал наш шляхтич!» – горделиво сообщала бабушка соседу, держа за руку маленького Болека, и каждый год повторяла со вздохом: «Юра-то мой нашёл себе чужую, как будто русских мало! Но с другой стороны, без “этой” не было бы такого ангела, верно? Слава Богу за всё!»
Болек не был ни на похоронах у бабушки, ни на её могиле. В семнадцать лет он принял решение уехать с матерью в Европу, окончательно и бесповоротно отрубив с плеч своё детство. Больше он о нём не вспоминал.
И вот теперь, достигнув цветущего среднего возраста, Болеслав обнаружил у себя приступы тяжёлой ностальгии. Турбина детства засасывала. Он, знавший работу человеческой психики, как толковый автослесарь знает устройство двигателя, глянул «под капот» и не нашёл сколько-нибудь значительной проблемы. Никаких тревожащих точек – один свет. Прошлое было прекрасно! Любовь бабушки к нему, его собственная влюблённость в кузину Софью, запах реки, запах нагретой солнцем дорожной пыли, голубые и зелёные блики, счастье. Но если раньше всё это благолепие спокойно хранилось в витрине памяти, то теперь ему страстно хотелось разбить стекло.
В тот же день он связался с почти утерянными из виду родственниками, а именно с кузиной Софьей, и наткнулся на счастливое совпадение. Её «портфолио» оказалось вполне подходящим для его целей. Вскоре при Сонином вдохновенном участии в Москве был открыт филиал Студии коучинга. С той поры у Болека появился повод часто бывать в России. Родина сделалась ближе, но тоска не унялась и за несколько быстротечных месяцев приняла опасные формы. Он вынужден был признать, что ему надоело быть «тренером успеха». Система, принёсшая деньги и славу, обросшая богатой коллекцией счастливых историй, начинала казаться ему мошенничеством.
Болек прописал себе отпуск и, впервые в жизни отменив цикл семинаров, примчался в своё убежище на океан. Тщетно попробовал отоспаться и на следующий день, заняв позицию наблюдателя, оценил положение. Итак, у него было дело жизни – помогать стяжателям, уважать беспринципных, вдохновлять «акул». Люди другого типа редко рвались к успеху столь отчаянно. В личном секторе – супруга и сын, с которыми уже давно не жил вместе, впрочем стараясь не афишировать этот факт. В остальном – утомлённость, почти бесчувствие, пугающее отсутствие живых движений сердца. И на фоне сплошной ледяной корки – аленький цветочек детства.
Болек знал миллион одобренных наукой методов эффективного избавления от тоски и отчуждения, но даже не подумал прибегнуть к ним. Ему хотелось спуститься на самое дно бессмыслицы и поглядеть, не откроется ли там тропинка к новой вершине.
Проснувшись в тот день, он сел на кровати и поднял глаза к окну в потолке. «Доброе утро, Болеслав!» – сказало ясное небо, по которому зримо носился ветер. Океан сошёл с ума. Он выл, как сосновый бор в непогоду. Болек подобрал одеяло, сброшенное в ночных метаниях, и, укутавшись, припомнил содержание ночного кошмара.
На этот раз «русский сон» забросил Болека в зиму. Его везли в похожих на кровать санях по пространству сплошной белизны. Окрест раскинулся беспредельный славянский снег. Вокруг пронизывающе ветрено, но у Болека есть одеяло. Закутавшись в него, он доверчиво принимает поездку, хотя и не знает маршрута – как в самом раннем детстве.
Сладкое чувство преданности воле старших, когда можно ничего не решать, осталось с ним на какое-то время. Он встал, босиком вышел из спальни и посмотрел вниз. Взгляду открылись два соединённых деревянным пандусом этажа, рабочий и ниже – обеденный. Ещё ниже – вечнозелёный сад, и правее сада – беснующаяся синева. Глядя на смешанные со скалами волны, Болек почувствовал накат головокружения. Здесь, на краю Европы, всё немножко двоилось, немножко смещалось с оси. Сушу, подхватываемую океаном, качало, как палубу.
Весенний ветер, налитый солнцем, свободно гулял по распахнутому дому. Марья, мелькнув далеко внизу, в зоне столовой, помахала Болеку сухонькой ручкой и промчалась во внутренний двор.
Семидесятилетняя Марья, русская эмигрантка, сохранив юношескую живость души и тела, резво управлялась с хозяйством, а заодно руководила работником – собственным мужем Луишем, выполнявшим обязанности садовника. Управлялась она и с самим владельцем дома, придирой и неженкой, да ещё, как говорят, гением науки о человеке. Ерунда!
Что касается Болека, порой ему казалось: Марья заменяет ему оставшуюся в Варшаве чужую, как альфа Центавра, мать.
Через пять минут он был приглашён на завтрак. Спустился помятый, с глубоко залёгшей между бровями складкой. Чуть не грохнулся, поскользнувшись на свежевымытом пандусе, и поскорее спасся в плетёном кресле.
Марья принесла завтрак и бегло оглядела «сынка»: хороший темноглазый мальчик, два дня назад слетел с велосипеда, разодрал скулу, дурачок. Удачливый – и всё-таки не свинья. Добрый! Не раз она растолковывала ему, что его профессия – игра. Одна из множества игр наподобие настольных, со своими карточками и фишками. Не стоит сокрушаться всерьёз, если вдруг она ему разонравилась… Всё это он знал и без неё.
– Что, сынок? Как ты спал? – спросила она со своим обыкновенным радушием, как если бы являлась не прислугой, а крёстной-волшебницей, призванной исполнять желания дитяти.
– Сядь со мной! – попросил Болек.
Марья послушно и весело подсела к столу, позволяя хозяину себя обслужить. Руки вытерла о передник.
– О нет! Эту ерунду мне не лей! Мне кофе! – напомнила она, когда Болек попытался плеснуть ей в чашку травяной чай.
Грохот океана мешал говорить. Болек поднялся и сомкнул стеклянные двери. Вернулся на место и молчал с минуту, отглатывая из чашки зеленоватую воду.
– Мне плохо! – наконец сказал он и рассмеялся – так нелепо звучали эти слова из его уст. – Думал, достиг просветления, а похоже, просто наелся мыла и пускал пузыри.
– Сынок, ушам не верю! Ты же мастер – примени к себе какой-нибудь метод! – сказала Марья, но Болек не распознал насмешки.
– Я хочу вытряхнуть из головы все «методы», – возразил он, ковыряя омлет. – Хочу отмыться до трёхлетнего возраста, до белизны.
– Ох-ох! – не отступала Марья. – Как же мы будем без «методов»? Когда я побила Луиша – вспомни, как ты учил меня сортировать эмоции!
Болек поморщился.
– Вот что, сынок! Поезжай-ка с Луишем ловить рыбу!
– Не хочу. Что мне даст ещё одно убитое утро?
Марья внушительно посмотрела в глаза «сынка» и вынесла вердикт:
– Надо пустить тебе кровь!
– Думаешь, уже пора?
– Кровь души, моя жемчужина! – уточнила Марья. – Тебе полегчает. У тебя тяжёлая закупорка любви. Ты, конечно, любишь своего сына и любишь нас с Луишем – но примерно с той же силой, что и вон тот диван. Ты ведь не умрёшь без дивана? И тем более не умрёшь за диван!
– А тебе обязательно надо, чтоб умер?
– Непременно! – сказала Марья твёрдо. – Если мужчине не за что умереть – я и не погляжу на такого! Милый, у тебя даже нет родины! За кого ты пойдёшь воевать? Бедный сынок!
– Но ведь и у тебя нет родины! – напомнил Болек.
– Вот неправда! У меня Луиш! Где он – там и родина.
Болеку захотелось взять сухую ручку Марьи, прижаться к ней лбом. Но его экономка не любила сантиментов.
– Ладно! Пойду поищу, чем пустить кровь! – сказал он со вздохом и, поднявшись из-за стола, боднул увитую лианой колонну.
– Иди с Богом! Поглядим, на что ты напорешься! Постарайся, чтобы было острое, но не ржавое и не гнилое! – велела Марья и принялась собирать чашки.
Начавшаяся недавно весна, небывало тёплая даже по местным меркам, хороша была ещё и тем, что позволяла прокатиться до города без ветровки. Болек вывез из-под оплетённого вьюном навеса велосипед, поднял пультом решётку ограды и взял курс на шоссе. Океан бил в грудь золотым ветром.
Через час взмокший до ручьёв гонщик припарковал велосипед, купил в первой встречной лавчонке майку и, переодевшись на ходу, отправился прогулочным шагом вверх по узкой, завешенной цветами и сохнущим бельём улочке.
Когда он поднялся достаточно высоко, показалась площадка с видом на порт и его любимая кряжистая сосна. Больше всего в этом городе Болек любил деревья. Местные платаны и сосны – редкие, отдельно растущие – напоминали ему себя. Он был так же отдельнорастущ и своеобразен. Сев на лавочку под сосной, затылком к шершавой коре, Болек поглядел на лазурные блики в бухте. Ну и чем займёшься теперь? Станешь валять дурака и щёлкать виды? Модный коуч ведёт модный блог о путешествиях! Тоже дело.
Он полюбовался ещё немного на мерцающую под солнцем колыбель бухты и соседней улочкой двинулся вниз. Там, ближе к порту, было людно и яснее проступал вкус местной «сборной солянки» – пряной смеси Европы, Востока и Африки. На площади ожившее надгробие Моцарта протянуло ему ладонь.
Болек привык к подобным аттракционам. Ко многому он привык и научился отделять себя от улицы, шагать в толпе, не допуская взаимопроникновения. Но сегодня по спине пробежали мурашки – он почувствовал, как под солнцем прикипает к телу актёра костюм и плавится грим. Бедняга, каково тебе будет в июле? Болек отвернулся и побыстрее прошёл мимо – к центральной площади. Оттуда давно уже доносился ухающий подобно прибою гул толпы.
Он не любил эту площадь – торжественную и одновременно жалкую. Сиротский вид ей придавали высаженные по периметру безлистые деревца. Их тощие ноги были погружены в островки земли, остальное пространство закрывала мелкая плитка, создающая на солнце эффект морской качки.
В прежние века на площади случались гильотины, а теперь разместился аттракцион. На подъёмном кране был закреплен эластичный канат, готовый подбросить в небо всех желающих. Под вой толпы «тарзанка» взлетала. Болек вышел на площадь как раз в тот миг, когда вздёргивали очередного добровольца. Похоже, человечек, болтавшийся на канате, лишился чувств.
Подчинившись неясному импульсу, Болек стал пробираться через кольцо зевак и успел как раз к моменту, когда горе-джампер был спущен на землю.
Девушка оказалась жива и в сознании, только от лица совсем отхлынула кровь. Она сделала несколько нетвёрдых шагов по плиточным волнам площади и ткнулась взглядом в Болека. В изумлении он почувствовал – перед ним была его сестра Сонька, продрогшая в июньской речной воде, – только не нынешняя, лет двадцать назад.
Конечно, этот дохлый мотылёк, почти подросток, был совсем другим человеком. Но что-то родственное – в серых ли глазах? – потрясло его.
В следующий миг, выругавшись на несомненном русском, «мотылёк» метнулся под дерево и упал на скудный квадрат земли. Его било и выворачивало – всеми несчастьями, краем света, вселенской бесприютностью человека. Болек смотрел на скрюченную фигурку, и чужая дрожь беспрепятственно лилась в душу.
– Мне холодно, – проговорила девушка сквозь лязгающие зубы, когда к ней подошёл врач из дежурившей поблизости медицинской машины.
Чужие улицы с балкончиками и «аутентичным» бельём на верёвках мелькнули и выплеснулись в открывшийся с высоты порт. Болек бежал к велостоянке, и землю под ногами качало, как шлюпку. Та девушка высказалась за него сполна. Вот именно, холодно! – несмотря на текущий ручьями пот. Сердце мёрзнет всюду, куда ни спрячься. В Париже холодно! В Севилье холодно! В Лиссабоне мороз! Тепло только в летнем детстве на Волге. Как вышло, что нет любви? Хорошо, что бабушка Елизавета Андреевна не знает, в кого превратился её обожаемый внук!
Уже недалеко от дома, отжимая избыток эмоций в педали, Болек принял телефонный звонок. Ирония судьбы была великолепна: звонила Софья. Через минуту разговора Болек знал, что она сбила человека на превышенной скорости, что её ждет суд, а следовательно, она вряд ли сможет и дальше заниматься филиалом. Нужно подыскать кого-нибудь ей на смену.
– Да плевать на филиал! Я сейчас к тебе вылетаю! – объявил Болек и, в тот же миг наехав на камень, грохнулся.
Это было уже слишком! Второе крушение за неделю, притом что он всегда считал себя ловким. В прошлый раз стесал о камень скулу, а теперь ухитрился налететь грудью на руль. Дыхание встало. Ему показалось, что он проткнул сердце. Отлежавшись, Болек поднялся и в ошеломлении оглядел себя. Майка на груди порвана о рычаг тормоза, ссажена ладонь – больше никаких повреждений.
– Болек, сынок! Знаешь, что я скажу тебе? Тебе надо пропить таблетки для мозгов, которые ты выписывал Луишу! – покачала головой Марья, рассмотрев его раны. – Разве я про такую тебе говорила кровь? Хотя ладно, может, и эта сойдёт! – прибавила она, заметив небывалое оживление на лице своего любимца. – Луиш! – позвала она мужа, корявого и прочного, как сосна, старика. – Принеси мальчику молока – глянь-ка, он чуть живой! Я велела ему открыть сердце, а он решил распороть грудную клетку!
Болек выпил стаканчик вина, преподнесённый ему вместо молока упрямым Луишем, и вскоре блуждавшая в уме фантазия оформилась в ясный образ. Ему захотелось взять топор и прорубить в собственной лодке течь – просто чтобы прервать комфортное плавание. К сожалению, его карьера была скорее океанским лайнером, чем лодкой. Да и персонала на нём не один десяток. Что, всех топить?
В сомнении, ещё не понимая творящегося, он решил послушаться интуиции и занялся поиском авиарейса. Прямых на Москву не оказалось. Пришлось выбирать среди десятка стыковочных. Фото электронного билета вкупе со списком срочных дел отправил Софье и на этом вздохнул с облегчением.
«А может, заодно мотнёмся в детство?» – подумал он, проглядывая своё расписание и соображая: куда между плотно сбитыми мероприятиями можно будет втиснуть волжский городок?
14
Болек летел дурацким рейсом с пересадкой в Мадриде, к тому же и задержавшимся. Голова трещала, но таблетку решил не пить. Расслабился и лёг в дрейф на поверхности прозрачного сна, подобно тому как дрейфует усталый пловец, перевернувшись на спину. Ему привиделся травяной чай, солнечно-жёлтый в белом фарфоре. Поначалу Болек с любопытством разглядывал его цвет, стараясь уловить дух луговой ромашки, а затем сновидение вышло из-под контроля. Память выплеснула панамку, за ней – детскую сандалию с жёстким, ох, слишком жёстким ремешком, и что-то ещё, мелькнувшее рябью, – след резиночки от голубых носков на младенчески пухлой щиколотке! Детство невыносимой глубины волной поднялось из чашки и накрыло его с головой. Болек почувствовал, что не может дышать, и проснулся.
Самолёт потряхивало. Щурясь, он глянул в иллюминатор и увидел над побережьем чудо природы – радугу на триста шестьдесят градусов, многоцветный мыльный пузырь. Снова закрыл глаза и откинулся в кресле. Возможно, его подспудно тяготили отменённые семинары или подействовал утомительный перелёт, – вчерашний кураж сменился плотной, без просвета, подавленностью. Она была похожа на атаку вируса гриппа, когда вдруг начинает крениться сознание. И опять он не стал прибегать к «методам». Ещё шаг по тропинке вниз – отлично!
Именно о гриппе или ином вирусе подумала и Софья, когда наконец отыскала Болека в суете аэропорта. Она привыкла опознавать кузена в толпе чутьём – по солнечному концентрату силы, скрытому за его элегантной, отчасти хрупкой внешностью. Но теперь, столкнувшись лоб в лоб, едва узнала. Зеленовато-карие, густые, как щавелевый суп, глаза Болека выключенно упёрлись в её лицо. Нет мерцающего волшебства – глухое болото. Пустым был голос, произнёсший приветствие. Даже щека, которой коснулась губами Софья, показалась ей пластиковой. Всё это значило – нет надежды. Не выручит, не сотворит чудо, не спасёт.
С упавшим сердцем Софья сама выловила на конвейере его обёрнутый плёнкой щегольской чемодан. Односложно переговариваясь, взяли такси и молча приехали в гостиницу. Вопреки вчерашней телефонной договоренности, заселять раньше двух отказались. Разрешили только оставить багаж.
Остановившись у дверей отеля, Болек оглядел улицу – какая сторона света примет его? Подумал и укрылся от ветра, подняв воротник пальто. Город, в котором вырос, затекал в сердце сырой бензинной взвесью, гулом, необъяснимым страданием. Как будто что-то бесценное, что Болек оставил здесь, украли, пока он отсутствовал.
– Пойдём погуляем! – сказала Софья, встревоженно погладив его по рукаву. – Хоть после самолёта подышишь!
Однако Болек не пожелал гулять. Пройдясь по улице метров двадцать, он потянул тугую дверь кофейни. Солнечный угол с диванчиком был свободен. Именно здесь ему захотелось убить оставшиеся до заселения часы.
Никогда ещё на Софьиной памяти её кузен не выглядел таким утомлённым, если не сказать подавленным. С тревогой она наблюдала, как он смотрит на светлеющую в прогале домов набережную, а затем грустно объясняет официантке, принёсшей минералку, что вода в пластиковой бутылке не годится – нужна в стекле.
– Но ведь чай мы всё равно завариваем из пластика! – отчаянно проговорила девушка.
Болек улыбнулся без сил:
– Да. Вы правы. Оставьте… – и, подняв бутылочку высоко над стаканом, устроил маленький водопад. Звон воды по дну и стенкам бокала и подожжённые солнцем брызги немного встряхнули его. Последние капли Болек плеснул на ладонь и промокнул лоб.
– Соня, прости меня! – сказал он. – Давай с самого начала: что у тебя стряслось?
– Нет! Это ты прости! – горячо отозвалась Софья. – Я тебя нагрузила жалобами, сбила с планов! Даже не хочу об этом говорить! Если будет необходимо – обращусь к тебе, но пока – нет. Давай лучше о делах!
Болек вздохнул:
– О делах… Нет, о делах не будем. Если не хочешь о себе, расскажи хотя бы о семье. Как там Саня? Всё в своей поликлинике?
Софья заволновалась, почувствовав, как к щекам приливает румянец. За последние два года Болек несколько раз бывал в Москве, но всегда отклонял её приглашения в гости. Много лет он не видел Асю и Саню, а Серафиму и вовсе ни разу. Да что там не видел, – даже не спрашивал! Скрепя сердце Софья признала его право не обременять себя дальними родственниками. И теперь вдруг – «расскажи о семье»! Конечно, надо было поддержать светскую беседу и наболтать чего-нибудь нейтрального – про Асину живопись и Серафимин садик, но Софья не смогла.
– Болек, зачем тебе? – спросила она. – Разве тебе интересно?
– Зачем мне… – повторил Болек, словно и сам был удивлён. – Мне кажется, Соня, я взобрался на ледяную вершину. Здесь никого нет, и я уже очень хочу обратно. Снимите меня! – Он слегка улыбнулся и взглянул на ошеломлённую сестру. – Понимаешь, я видел джампера… девушку, ей было плохо, и мне показалось… Ладно, – вдруг оборвал он. – Лучше скажи, как там Ася? Я её помню, когда ей было лет шесть.
– Ася рисует, довольно миленько. Вышла замуж, уже и сама не понимает зачем, – сказала Софья. – Саня тоже хорош – женился на ревнивой курице. Она ему теперь мешает спасать мир. Всё не так, как было при бабушке, ты будешь разочарован. Единственное, что сохранилось, – это то, что мы втроём очень дружно… Понимаешь, мы как бы одно существо. Может, поэтому ни у кого по отдельности и не складывается.
Через полчаса увлечённые беседой Болек и Софья спонтанно перешли от напитков к ланчу. К этому времени они успели поговорить о Серафиме, об огородных успехах родителей и, наконец, об аварии, по трагическим итогам которой Софье предстояло платить. А затем неожиданно, во всяком случае для Болека, разговор перепрыгнул на Софьиного приятеля Женю Никольского.
– Ты понимаешь, добрый парень, но какой-то покалеченный, совсем без воли, – объясняла она. – Писал музыку, Саня говорит, самобытную, – не нашлось применения. Начал шляться, что-то там теперь записывает на диктофон – типа голос времени. Работает плохо, халтурит. Попивает винишко. Хотя симпатичный в целом человек. А тут на днях возникла проблема, я не знаю точно какая, он не сказал… – и, представляешь, наелся таблеток. Какое-то странное количество, маловато для серьёзных последствий. Болек, может, пообщаешься с ним? Я знаю, ты не занимаешься такими случаями. Но, может, в виде исключения? Надо просто его пнуть – чтобы зажил. Дать импульс!
– Я действительно не занимаюсь такими случаями, – твёрдо сказал Болек. – Найди ему экзистенциального психолога, тут налицо утрата смысла. Пусть разбираются.
– Я предлагала – отказался наотрез, – качнула головой Софья. – Болек, но ведь речь не о занятиях! Тебе бы с ним просто поговорить, как опытному человеку. Ты же много всего такого видел!
– Соня, это совершенно исключено! – сдерживая досаду, повторил Болек.
– На тебе не будет никакой профессиональной ответственности! Просто скажи два слова! – не уступала Софья. – Может, он после этих слов жить захочет. Ну а нет – так нет!
Болек вздохнул:
– Соня, какие ещё два слова? Ты ведь понимаешь, что это несерьёзно? Такими вещами не шутят.
– Очень тебя прошу! Помоги ему для меня! – взмолилась Софья и осеклась, почувствовав, что перешла черту.
– Помочь ему для тебя… – след в след повторил Болек и подвесил реплику в воздухе.
Ещё долго потом Софье было стыдно вспомнить, как этим ненароком сорвавшимся «помоги для меня» она высказала Болеку претензии на особое отношение. Наивная – повелась на сентиментальное настроение утомлённого перелётом босса. Знай своё место! Ты просто наёмный работник.
Но тогда она всё-таки не сдалась и пошла на хитрость.
– Им ведь и Саня занимался, но без толку, – сказала она, припоминая подростковое соперничество братьев.
– Что значит «занимался»? – уточнил Болек и с любопытством выслушал подробности про насморк и попытки терапевта Спасёнова дотянуть безвольного разгильдяя до высоты собственной души.
Троюродный брат Саня был важен Болеку как часть тех лет, когда в их детской вселенной ещё не существовало ни Европы, ни коучинга, а была только Волга в июльский день. По утрам туманы пахнут сосновой смолой. Днём от катеров – весёлые волны, их полагается встретить грудью. К вечеру – простокваша на корках бородинского хлеба, а поутру – вчерашние блины. В том раю прирождённый альтруист Саня и столь же подлинный эгоцентрик Болек схлёстывались по самым разнообразным поводам. При всём при том именно Саня, единственный из всех Спасёновых, удручённо принявших новость об отъезде Болека в Европу, страстно восстал против его эмиграции. Уговаривал, пугал, обзывал предателем, плакал.
– Соня, – подперев голову кулаком, сказал Болек. – Давай поступим так. Я поговорю с вашим молодым человеком. А ты за это пригласишь меня в гости – на чай в семейном кругу. И чтобы все были!
Софья, оторопев на миг, пропустила сквозь гребень пальцев чёрные струи волос.
– Или это неудобно? – уточнил заморский родственник.
– Господи! Почему же неудобно? Удобно! Великолепно! – вскричала она и, порывисто пересев к Болеку на диванчик, обняла его. – Я так рада тебе! И все будут рады! Все! Даже не сомневайся!
15
Курт продремал ещё сутки прозрачной дрёмой, холодной и хрупкой, как первый снег. Ему снилось, как этот самый мелкий крупитчатый снег проникает с улицы в комнату и посыпает его. Сквозь полусон изредка проступала действительность. Звонила мама, выяснить, каким рейсом он «прилетает из Берлина». Затем снова явился Саня, поднял с пола одеяло и, укрыв больного, наполнил дом огромным количеством назойливых звуков – шорохом пакетов с едой, звоном воды, упрямыми расспросами. Пользуясь безволием Курта, он мучил его, обжигал прикосновениями фонендоскопа и, самое жестокое, заставлял поесть, угрожая страшными карами, ни одна из которых не могла напугать безразличного ко всему больного. Не имея сил сопротивляться, Курт съел глазунью с кружочками огурца и ломоть багета, засыпавший всё его лежбище хрустящей крошкой. Плохо, что всё это, даже свежий, тёплый хлеб, ничем не пахло и казалось на редкость невкусным.
И всё-таки еда подействовала на него животворно. Подремав после принудительного ужина, Курт проснулся ещё тёмным утром, в начале пятого, и осознал, что вернулся. Бесчувствие отступило – грудь занял привычный мрак. Самое плохое, он почти ничего не помнил – одни обрывки, чёрно-белые клочья. Вроде бы он сбил человека. Нет, это неправда… Гадкий сон.
Последним ясным воспоминанием прошлого была Ася. На секунду – где-то далеко-далеко, не здесь – он почувствовал радость. Как будто существовала параллельная жизнь, совсем по-другому сложившаяся, из которой быстрым отблеском к нему долетела весть.
В маете прошла оранжевая заря и утро. Жизнь, гордая тем, что её не удалось отменить, встала перед Куртом, уперев кулаки в бока, и напомнила про отложенные долги. До полудня он старался отворачиваться от неё к стенке, а к обеду подумал, что надо бы купить маме какой-нибудь сувенир «из Берлина». Иначе не миновать упрёков и слёз.
Он покорно собрался, и, когда, одетый к прогулке, с высушенными и умотанными в хвост волосами, уже стоял на пороге, не решаясь вывалиться в мартовский холод и свет, ему позвонила Софья. Она требовала, чтобы он немедленно приехал к ней в офис для беседы с человеком, который ему поможет.
Курт смутно припомнил: в полусне, кажется, вчера по телефону, он сказал Софье, что не будет общаться ни с какими «специалистами». Нет. Исключено. Окончательно.
– Соня, перестань со мной возиться. Я не поеду, – устало подтвердил он свой вчерашний отказ.
– Хорошо! Тогда просто спустись в ресторанчик у твоего дома! Ну, где мы были зимой, помнишь? Я не отстану! – твёрдо сказала Софья, и Курт как-то разом понял: ему нечего противопоставить её энергии. Тем более что упомянутое Софьей заведение предоставляло возможность хотя бы на время получить облегчение от мук.
Он подумал: ладно. В конце концов, на карточку ему как раз упала малая денежка за недавний проект – можно её пропить.
Войдя в маленький уютный зал кафе, Курт сразу узнал Софьиного родственника. Во-первых, он видел фото на её аккаунтах, а во-вторых, Болеслав оказался похож на сестру – не чертами, но энергичной теплотой мимики и интонации, с какой на глазах у Курта обратился к официанту. Должно быть, Софья переняла его манеру.
Увидев вошедшего, Болеслав махнул ему рукой и, неуловимо переменив позу и выражение лица, дал почувствовать, что Курт для него не посторонний – скорее хороший знакомый, которого он искренне рад повидать. В подтверждение этой несуществующей близости он не встал из-за столика – к чему формальности? – а лишь немного приподнялся и протянул руку.
– Женя? Очень приятно! Присаживайтесь! О! А вот и чай!
Официант бережно, как большие белые лилии, опустил на стол фарфоровый чайник и две чашки.
– Любимый Сонькин «пуэр»! Бодрит! Вы со мной? Или чего-нибудь другого?
– Да нет, очень хорошо… – слегка запнувшись, ответил Курт и, подвинув кресло, сел на краешек. Ладонями привычно обхватил локти.
Пока он располагался, выражение лица коуча переменилось. Исчезла энергия, вместо неё Курт заметил родственное свечение грусти.
– Женя, а почему Курт?
– А… Это из школы ещё…
– Ясно. Ну, наверно, давайте пока вы будете Женя, а я – Болеслав. Софья сказала, вы специалист по звуку. Работали даже на радио. Это верно?
Курт пожал плечами:
– Давно… Ещё в институте.
– Знаете, у меня к вам просьба неожиданная. Может, вы смогли бы коротенечко проконсультировать меня по звукооператорскому сленгу? Прямо сейчас!
Курт изумлённо взглянул на Софьиного родственника. Тот улыбнулся с грустью и объяснил:
– Один мой клиент сейчас погружён в эту тему, мне приходится быть в курсе. У него своя студия звукозаписи – в качестве хобби. Вот смотрите, что я тут успел насобирать из его перлов… – И Болек глянул в планшет. – Вот… Песок, бритва… Ну, вермишель, это понятно.
– Бритва – это когда середина неприятно так выдаётся… Ещё «мясо» бывает – это плотные низкие частоты, – взялся припоминать Курт и вдруг застопорился. – А вообще, это бред. Всё нормальным языком можно сказать… – качнул он головой и крепче обхватил локти ладонями. Этот жест холода и страдания был совершён им непроизвольно, он отследил его, как и свою нелюбезность, и исправился. – Нет, я, конечно, могу ещё вспомнить. Только всё это могло устареть. Ну, например, понизить частоту, соответственно, – «завал». Грязный звук – «сопли»… Это то, что вы спрашивали? Или, может…
– Как раз то, что нужно, спасибо! – заверил его Болеслав.
За минуту разговора на случайную тему он вполне оценил состояние клиента и понял, что согласился на встречу зря. Молодой человек обесточен и не готов к работе. «Два слова» здесь не помогут. Нужны регулярные сеансы, скорее всего, придётся поддержать и медикаментозно. Пусть Сонька найдёт ему толкового врача. Вот всё, что он может посоветовать.
Подумав так, Болек ещё раз взглянул на Курта и ощутил внезапное шевеление в груди – верный признак того, что ситуация несёт в себе больше, чем показалось сперва.
– Вот что, Женя… – помолчав, заговорил он. – Вы, пожалуйста, простите меня за нелепое начало нашего знакомства. Соня попросила что-нибудь полезное вам сказать. Но я не вижу в этом смысла.
– Не видите смысла? – переспросил Курт.
– Никакого.
– Тогда зачем… – запнувшись, проговорил Курт и не смог закончить, потому что Болеслав вышиб у него мысль, как мяч.
– Я вообще не вижу смысла в своей работе, и вы тут ни при чём! – объявил он. – Я не хотел браться за ваш вопрос, потому что сам нуждаюсь в ремонте, и честно сказал об этом Софье. Сотрудничать с неисправным специалистом – всё равно что эксплуатировать неисправный электроприбор. Коротнуть может. Понимаете? Единственное, что я могу для вас сделать, – просто поговорить, как случайный знакомый со случайным знакомым. Безо всякой профессиональной ответственности. Безо всякой попытки найти выход. Просто как убитый с убитым. Хотите?
– Хочу! – совершенно растерявшись и одновременно испытав облегчение, сказал Курт и тут же полюбопытствовал: – А почему вы не видите смысла в своей работе?
– Переливание из пустого в порожнее, – качнул головой Болеслав. – Я не имею в виду психотерапию – этим давно не занимаюсь. Я о тренингах успеха. Чья-то удача слишком часто приходит за счёт провала другого. Много моих клиентов сожрало своих противников в самых разных областях жизни, и некоторые из этих сожранных впоследствии тоже стали моими клиентами. Нет, никто никого не призывает к дурному! Напротив, мы вдохновенно придумываем, кто ещё выиграет от наших деяний. Получается убедительно. Но на деле это то самое вранье, за которым следует потеря смысла.
Курт озадаченно выслушал признание. На последних словах его прострелила мысль: а вдруг этот Сонькин «нуждающийся в ремонте» коуч вернётся сегодня в гостиницу и под гнётом своих преступлений тоже сделает что-нибудь страшное?
– Я могу вам чем-то помочь? – участливо спросил он.
Болек вздохнул: речь возымела успех. Ему даже было немного стыдно. А хотя… разве он сказал неправду?
Он подался вперёд и подтвердил:
– Давайте считать, что да!
А затем пошёл простой разговор, необыкновенный лишь тем, что у Курта возникла иллюзия, будто он говорит с самим собой, точнее, со своей лучшей, справедливой и любящей частью.
– В юности я слышал музыку, а теперь только гул, шум. Мир шумит очень жёстко! Просто бьёт по ушам железом! – жаловался он, морщась.
– А можешь сказать, когда в первый раз музыка стала шумом? Что произошло накануне? – решительно переходя на «ты», спросил Болек, и его глаза снова стали тёмными, наполненными энергией, много превосходящей возможности его визави.
– Что произошло… – попытался припомнить Курт. Умерла бабушка. Нет, сперва умерла Кашка. Да, вот это верно… Что ещё? Он встретил Асю и отказался от неё. Это из относительно недавнего. А раньше? Раньше, в институте, всё было хорошо. Песни появлялись из ниоткуда и, смеясь, водили вокруг него хоровод, пока вдруг однажды что-то не сломалось. Звук мира помутнел, мелодии стали рождаться мёртвыми – они вспыхивали на миг и сухо падали на стол – как мотыльки, сгоревшие в плафоне люстры. Курт понял, что в атмосфере Москвы больше нет кислорода для музыки, и пошёл записывать шум.
– Что ты чувствуешь, когда вспоминаешь об этом? – спросил Болек мягко и всё же настойчиво.
– Не знаю, – качнул головой Курт. – Бессилие. Невозможность помочь… Может, у меня сбилась настройка. Или там у них что-то разладилось. – И бросил взгляд на потолок.
– Бессилие. Невозможность помочь. Хорошо. А что случилось на самом деле? – эхом, как сокрытый до поры внутренний голос, спрашивал Болеслав, и Курт, чувствуя, как тихо, тепло наплывает дрёма, отвечал ему, как себе: он не знает. Не может объяснить. Ничего, кроме умершего от старости верного спаниеля, не приходило ему в голову. Конечно, бабушка – несравнимая потеря. Но почему-то сейчас лезут на ум именно животные, какие-то мокрые ободранные собаки…
– Хорошо, – кивнул Болек. – Соня сказала, ты помогаешь в приюте для бездомных животных. Можешь вспомнить, как тебе пришло это в голову? Что подтолкнуло?
Курт упёр локти в стол и ладонями обнял потяжелевшую голову.
– Нет, я не знаю… Не помню, – поморщился он.
– Ну и не нужно! Не напрягайся, – разрешил Болек. – Пусть ответ приходит сам. Давай я просто повторю то, что ты сказал. В юности ты слышал музыку. И вдруг звук мира помутнел. Музыка стала шумом. Ты почувствовал бессилие, невозможность помочь. А теперь помогаешь животным… Тут есть какая-то связь?
Курт кивнул и почувствовал боль, как будто в тепле зеленовато-карего взгляда начали отогреваться заледеневшие на морозе руки, ноги, сердце.
– Да… – проговорил он. – Сейчас… – И, зацепившись за волосинку, за мокрый клок чьей-то серой шкуры, зажмурился. – Я делал сайт для одного охотника… – начал он, с трудом вытаскивая из памяти давний след. – И уже не помню, как… Наверно, случайно, попал с ним на притравочную станцию. Там охотничьих собак тренируют на живых жертвах. Если зверёк ранен, но способен двигаться – на него натравливают опять. Понимаете?
Курт замолчал и, обеими ладонями закрыв глаза, вгляделся в черноту. Память почти стёрла обстановку, но оставила лязг отпираемых клеток и скулёж существа неизвестной породы. Вглядываясь в омут воспоминания, он различил тщедушное тельце с остатками вылезшей, словно ощипанной мокрой шерсти, с длинными и худыми пальцами на лапах и мордой собаки. Задняя лапа была окровавлена и вывихнута, зверёк волочил её, как случайно прицепившуюся тряпку.
Курт почувствовал тогда в себе неимоверную мощь, прилив сумасшедшей силы. Он прошёл через площадку к строению… Да! Оно было кирпичное. Ураганно вломился в дверь и собрался потребовать закрытия станции – просто так, в одной лишь надежде навязаться на хорошую драку. Пусть его превратят в такого же зверька. Плевать! На него снизошло безрассудство, охватывающее всякого честного человека, столкнувшегося с предельным злом и решившего его уничтожить, хотя бы и ценой жизни. Он страстно оглядел помещение, пронёсся по коридорчику, дёрнул двери в туалет и подсобку. Никого. В каморке женщина в уютной меховой жилетке пила чай.
Именно в тот момент, когда, не обнаружив врага, он вышел и, пешком, через пустыри, двинулся в сторону Москвы, планета заскрежетала. Вместо мелодичных переливов он услышал гул и стоны оставленной Богом земли.
Всё это, с удивлением добывая из памяти новые и новые подробности, Курт рассказал Болеку.
Человек с глазами друга, болотно-карими, в солнечных бликах, направлял его рассказ вопросами, искусно менявшими течение исповеди. Крен жизни, в котором Курт умирал со скуки, ленился и попивал, обнаружил исходную точку – неудавшийся бунт против земного зла. Примечательным было и то, что из далёкого пункта А на притравочной станции линия судьбы привела его в Пашкин приют.
Курт сидел навалившись локтями на столик, умытый майским дождём. Дождь затёк за ворот футболки, но ему не было стыдно за слёзы. Теперь он понимал, что ходил к собакам для того, чтобы Тимка-безлапый и прочие приняли от него помощь, не доставшуюся тому истерзанному зверёнышу. Мир перевернулся с головы на ноги и стал не то чтобы прекрасен – понятен, пригоден для осмысления. Даже авария вдруг показалась ему преодолимой. Теперь, пожалуй, он не стал бы сбегать от наказания в смерть. Отстрадал бы, что полагается, – лишь бы жить дальше. Впервые после детства он чувствовал ошеломляющую цельность. Куда-то вдруг спряталась та половина, что беспрестанно штрафовала другую. Он был с собой заодно!
А рядом «маэстро Болеслав», как иногда называла своего кузена Софья, подперев кулаком щёку, сочувственно наблюдал за его возрождением.
– Женя, и последний вопрос, – проговорил он. – Может быть, есть что-то, что сейчас было бы тебе в радость? Какое-нибудь желание? Что-нибудь, к чему лежит сердце.
– Да нет… Таких желаний я не заслужил, – возразил Курт, сокрушённо качнув головой.
– Ты засудил себя за чужие грехи, – сочувственно сказал Болек. – Лишил себя любви и дружбы, веселья, здорового сна, творчества, обзавёлся зависимостями. Не волнуйся, мы не будем с ними бороться. Они уйдут сами, когда ты найдёшь свой смысл и радость.
– Радость… Где же я её найду? – усмехнулся Курт.
– Я не знаю. Это только тебе известно.
Курт вздохнул. Ему стало вдруг страшно – а что, если Софьин «маэстро» не справится с ним?
– Нет, радость теперь уже вряд ли, – покачал он головой. – Она могла быть – но я от неё отказался. Даже не стал выдвигать свою кандидатуру…
– Надеюсь, не в президенты? – уточнил Болек. – У меня был один клиент, не в России. Он переживал как раз по этому поводу – из-за того, что сдрейфил. Ты отказался – значит, в той ситуации это был лучший выбор. Поверь, мы всегда выбираем лучшее. Но почему бы не попробовать ещё раз? Пусть не сегодня, но в обозримом будущем?
Курт молчал, обняв свою чашку.
– Вы просто не знаете, что я собой представляю. Такой человек не имеет права… – наконец проговорил он.
– Ну так и лезьте в петлю, Евгений Александрович, раз вы этого достойны! О чём разговоры! – неожиданно рассвирепел Болеслав и взглянул на часы, показывая, что жалеет о времени, потраченном на дурака.
– Да у неё и семья теперь, – виновато проговорил Курт и вдруг – молнией – осознал, что речь идёт о родственнице Болеслава.
– Значит, Женя, поступим так! – подытожил наставник. – Твои сомнения и угрызения совести я у тебя пока конфискую. Помечтай недельку. Просто помечтай. А потом мы спишемся, и я тебе их верну. Конечно, если попросишь. Договорились? Если в эту неделю к тебе придёт музыка, впусти её и напои чаем. Какие бы возражения ни поднялись в голове. В любом случае знай, что твоя проблема – это отличный повод стать сильнее.
– Да, я понимаю, – кивнул Курт. – Только получается, вы меня обманули, как маленького. Сказали, что вам тоже нужна помощь…
– Нет, никакого обмана! – решительно возразил Болеслав. – Видишь ли, двадцать лет назад я выбирался из очень похожего болота и кое-что выронил. Современная психотерапия позволяет справиться с любыми потерями. Но ценности меняются. В общем, сейчас я хочу вернуться и найти то, что обронил. И давай ещё раз условимся: я не являюсь ни твоим врачом, ни тренером. Мы просто разговариваем. На равных.
– Хорошо, – сказал Курт и, с удовольствием прислушавшись к звукам кафе – музыке и звону посуды, прибавил: – Я рад! Действительно очень рад, правда!
16
Ну вот, всё в порядке. Что ж башка-то так болит?
В офис, где его дожидалась Софья, Болек приехал на такси, умылся и, открыв окно, вдохнул мутный столичный воздух. Он дышал, мысленно игнорируя примеси, забирая в лёгкие лишь чистоту, первобытную прозрачность земной атмосферы. Однако на этот раз упражнение не подействовало. Пульсация локализовалась в правой части головы, с захватом лба и виска.
Он поморщился и, не отходя от окна, попросил у сестры что-нибудь от «мигрени».
Софья, с тревогой наблюдавшая за ним, метнулась к сумке и через полминуты подала ему таблетку и стакан воды.
– Ну как? – спросила она, когда Болек наконец отошёл от окна и опустился в кресло.
– Ты о разговоре или о моей головушке? Если о разговоре, то мне в целом понравилось, – сказал он, морщась и потирая висок. – Я даже получил удовольствие. Ты вообще в курсе, с чего пошла травма? – взглянул он на кузину, взволнованно присевшую напротив. – Его разрушило зрелище зла. Он увидел нечто ошеломляюще гнусное и не смог побороться. Плюс ко всему в этом зле участвовал его заказчик.
– Я боюсь, всё проще… – возразила Софья, но Болек не обратил внимания на её реплику.
– Знаешь, у меня тоже был случай. Клиент… Я помог ему войти в силу, а через пару лет увидел масштаб злодеяний, на которые снарядил его.
– Что за клиент?
– Молодой бизнесмен. Не важно. Важно, что он такой не один в моей практике.
– Какое тебе дело до выкрутасов бывших клиентов? Болек, ты меня пугаешь!
– Я сам себя пугаю! – согласился он и ободряюще подмигнул Софье. – Не переживай! Время от времени полезно перетряхнуть свои ценности. Я неплохо пожил без вины. Вдруг теперь моей душеньке захочется побыть виноватой? Кстати, что у него там за любовная драма?
– Любовная драма? – Софья удивлённо и настороженно взглянула на Болека. – Ну, я слышала, давно была какая-то подруга, Маша… Даша… Но чтобы драма? Может, он в меня влюбился, а я и не заметила? – Выражение её лица вдруг стало потерянным, детским.
Болек задержал взгляд на сестре, что-то беря на заметку, и кивнул:
– Ясно. Ну а насчёт собачьего приюта? Можешь рассказать поподробнее?
– Поподробнее я не знаю. Мы с ним на такие темы не общаемся. Только по работе, – покачав головой, сказала Софья. – Спроси у Аси. Она недавно псов туда пристроила. Кстати, и Курта видела там. С шампанским! Как раз в тот самый день. – Софья встала, прошлась по комнате и вдруг, взявшись за лоб, сказала отчаянно и горько: – Господи! Любовная драма. А я-то, дура, всё жалею его! У всех любовь! Одна я пашу как проклятая, и никакой любви! – Она чуть не плакала.
Болек внимательно посмотрел на сестру. Когда ему было шестнадцать, а ей и того меньше, всё долгое волжское лето он ходил за ней по пятам. Он написал её имя на всех лодках, отправил его с воздушным змеем в небо, водрузил на затопленную колокольню. Но подвиги не уменьшали, а только разжигали стыд за собственную нелепую, не достойную счастья личность.
Тем страшнее было узнать о Сониной дружбе с белобрысым Артёмом. Он был из «богемной» семьи, купившей в их городке дачу с причалом, и уже снялся в парочке сериалов. И хотя иногда деревья, травы и прочие силы природы приносили Болеку весть из «подземных источников», что Соня тоже любит его, он не мог им поверить.
Лето заканчивалось, потекли дожди, перемежаемые слабым солнцем. После дождя дворик наполнял грустный запах флоксов. Софья склонялась, осторожно приподнимала цветочную головку «за подбородок» и окунала в неё лицо, как в полный слёз платок.
В последний день накануне отъезда в Москву она купила в киоске несколько толстых тетрадей и, усадив Болека рядом с собой на лавку у крыльца, весь вечер готовила ему «приданое» на грядущую осень и зиму. У бабушки было полно цветных лоскутов. Если обернуть обложку тканью, через двадцать минут работы иголкой простая тетрадь превратится в достойное хранилище шедевров.
Тетради не годились для школы, но для вольных записей в самый раз. Когда работа была закончена, Болек с подарком остался на лавочке, а Соня направилась к пристани. Там, покуривая на перевёрнутой лодке, её ждал поклонник.
Тем же вечером Болек сел в лодку и, отплыв порядочно, отправил тетради на дно Волги. Он так сильно желал, чтобы Соня в него влюбилась, и так ясно видел свой проигрыш, что категорически не понимал, как сумеет с этим справиться. И всё-таки знал, что сумеет. В нём пел голос раненой, но живой человеческой гордости, чувство собственного достоинства, смятое первой любовью, но не убитое. Вскоре оно высвободилось из-под спуда и предложило ему высокую цель.
Ранним утром, не спросив у бабушки разрешения и не простившись, Болек сбежал в Москву к матери и сообщил ей своё решение. Мать, остававшаяся в России исключительно из-за сына, торжествовала. Сбылась её мечта. Через год они уехали на её родину в Польшу. Ей удалось сохранить работу в посольстве, а Болеслав стал студентом Варшавского университета.
Всё это Болек вспомнил мигом и улыбнулся.
– Слушай, Соня, а ты была в меня влюблена? Тогда, у бабушки?
Софья резко обернулась и ответила чужим голосом:
– Влюблена? Вот ещё! У меня же был Артём!
– Ах Артём… Я и забыл! – кивнул Болек. Софьина реакция понравилась ему. – Пойду погуляю, проветрюсь, – сказал он, поднимаясь из кресла и потягиваясь. – Голова вроде получше!
– А как же насчёт курса для тренеров? – растерялась Софья. – Нам надо определиться!
– Соня! Мы всё сделаем, но не сейчас, – сказал он, подхватывая пальто. – Со мной творятся дивные вещи, я не хочу их упустить. – И, полюбовавшись Софьиным смятением, вышел.
* * *
Досадуя на дурацкую смесь беспокойства, неловкости и надежды, Софья прилипла к окну и дождалась, когда Болек выйдет на набережную. Вот он, голубчик! Нет, ну что за издевательство? Была ли она влюблена!
И снова ей стало до слёз жалко себя и тех лет, когда, лишённая личного общения, она рылась в Интернете, надеясь найти что-нибудь о Болеке. Со временем Сеть наполнилась информацией о молодом, но уже не «зелёном» мастере, разработавшем уникальный метод и так далее и тому подобное. Но под ворохом книг, курсов, рассылок было почти невозможно разглядеть друга детства.
Софья позволяла себе тревожить Болека письмами дважды в год – на день рождения и в канун новогодних праздников. Заодно с поздравлениями и приветами от родственников она сообщала какую-нибудь яркую «новость»: к примеру, «организовала курсы ландшафтного дизайна» или «вышла замуж».
Болек отвечал беспечно и кратко. Приветов не слал, в гости не собирался. Софья терпеливо сносила тоску отлучённости. И вот пару лет назад – бог знает, что там стряслось у него, в его сияющей жизни, – он сам написал ей, безо всякой особой даты. «Соня, а помнишь, мы зарыли под крыльцом “банку с детством”? Как думаешь, цела она? Вы дом не перестраивали?»
Софья отозвалась бурным письмом, призывая Болека прилететь и рвануть всем вместе на Волгу. Он не приехал и, тем не менее, превзошёл все ожидания кузины. Софья получила деловое предложение: взять на себя хлопоты по устройству в Москве филиала Студии коучинга. Задача идеально вписывалась в её опыт – видно, Болек предварительно изучил «портфолио».
Он был странный человек, их троюродный брат. Судя по записям в блоге, он ни разу не провёл отпуск цивилизованно. И это несмотря на любовь к комфорту! Его можно было обнаружить в спальнике на диком галечном побережье. Кокон с человечком внутри, вбирал в себя космическую мощь звёздной ночи, чтобы вскоре проснуться от тихого плеска – это безмолвно и таинственно, словно оторвавшийся от архипелага островок сна, мимо плыл океанский лайнер. Бывало и хуже: в разгар лета Болек мог объявиться в альплагере, в заметённых снегом горах и вернуться на грешную землю со снимками в стилистике шестидесятых – словно время там застопорилось.
Чуть позже, перестав получать удовлетворение от «туризма», он добился возможности вылетать вместе со специалистами международных благотворительных служб в точки планеты, где случалась высокая концентрация горя. При этом воды в стеклянных бутылках не требовал.
Чего он хотел? Перешагнуть пределы? Открыть в себе новую скорость? Софья полагала, всё это был головокружительный роман со своей собственной душой. Он ни в чём не мог отказать ей. С неба звёздочку – да! Подвиг трудолюбия или приступ неслыханной лени – пожалуйста! Вероятно, это трепетное внимание к себе и легло в основу его непобедимой харизмы. Всякий, кто приближался к нему, неизменно попадал в солнечное тепло его согласия с собой.
И вот что-то разладилось. Да, определённо, что-то пошло не так… Не отрывая взгляда, Софья смотрела на Болека, тающего в смоге Замоскворечья, уже совсем недалеко от Пятницкой. Эх, как бы она взобралась сейчас на подоконник, расправила крылья над Москвой и догнала его! И пошли бы вместе, весело болтая, вроде бы по той же самой улице Пятницкой, а всё-таки по другой, по такой, где нет ни дураков, ни сбитых машиной пьяниц.
Вздохнув, Софья задёрнула штору. Это боссу только можно гулять, а у неё – гора дел! «Бездельники!» – припечатала она вслух, чтобы взбодриться, и пошла решать вопрос с курсами.
17
Тем временем Болек успел выйти на Пятницкую и шёл прогулочным шагом, оглядывая знакомую с детства местность. Как человек дерзкий и любознательный он не боялся завязавшихся перемен. Раз уж его угораздило очутиться в бренном человеческом теле, без точной информации о смысле жизни, без знания о продолжении, он не станет цепляться за старое!
Круг родственников и бедный самоубийца Женя Никольский – вот были ближайшие объекты наблюдения и изучения, которые избрал себе Болек. Интуиция подсказывала: здесь он непременно докопается до чего-нибудь интересного!
Поленившись дожидаться вечернего чая, Болек решил нагрянуть к младшей кузине Асе немедленно. Тем более что разговор с глазу на глаз всегда эффективнее, чем в присутствии свидетелей. Пусть расскажет ему о приюте и Курте всё, что знает. Заодно поглядим, во что за эти годы превратилось чудо с пушистыми волосами, набивавшее рот земляникой и переплывавшее по-собачьи лесной илистый пруд.
Через десять минут неспешной прогулки Болек уже заходил в знакомый двор. Они с отцом приезжали сюда несколько раз в году – на праздники и дни рождения, отмечаемые бабушкой Елизаветой Андреевной со старинным вкусом и широтой. Между обедом и чаем гасили свет, и в густеющих сумерках детям дозволялось устроить прятки. Вспомнился поздний вечер зимы, когда всё разгорячённое застольем семейство высыпало во двор – провожать бабушкиного старшего сына Юру и внука Болека. В действительности Юра приходился Елизавете Андреевне племянником – ребёнком сестры, которого волей судьбы ей довелось вырастить, как родного. Оттого и троюродный по крови Болек считался двоюродным.
Гурьбой шли до метро и у спуска в подземку, загородив дорогу прохожим, перецеловывались друг с другом. В вагоне маленький Болек устало задремывал. На коленях обычно лежал пакет с подарками, но теперь ему грезилось, будто он вёз от Спасёновых то шкатулку с кучей бабочек внутри, то аквариум с золотыми рыбками. Что-то крайне хрупкое и необходимое каждому ребёнку.
Выйдя на Фрунзенской, садились в автобус и ехали домой, к матери. Обычно папа доставлял его до двери, нажимал кнопку звонка и быстро спускался вниз.
Зайдя во двор, Болек остановился под липой и поднял взгляд к бабушкиному балкону. На его бортике, вертясь и притопывая, разговаривали голуби – их было штук пять. По уютной непринуждённой их болтовне хотелось предположить, что все они родственники. Родители, братья, сёстры.
Голуби на балконе подсказали Болеку, что Спасёновы остались Спасёновыми. Они не умеют жить с иголочки. Природа свободно заходит на их территорию, и они благоговеют перед вторжением. Как держаться с этими людьми? Просто, без лишней энергии и напора, доверчиво…
Номер квартиры Болек забыл, но отлично помнил расположение – второй этаж, налево. Зайдя в дверь подъезда вслед за какой-то дамой, он услышал шум голосов. Сверху гудела ссора.
Болек поднялся по лестнице и, остановившись пролётом ниже, получил возможность наблюдать за сценой с безопасного расстояния. Шумели на площадке Спасёновых.
Смешной старик, показавшийся Болеку знакомым, тщетно старался загнать в квартиру худенького подростка, вперившегося уничтожающим взглядом в соперника – белобрысого парня, явно превосходившего его по возрасту и силе.
– Лёша, ну а тебе-то как не стыдно! Взрослый человек! – задыхаясь, восклицал старик. – Пусть Паша не прав! Но зачем же о безвинных так говорить? Ему обидно!
– Да вы достали уже со своими безвинными! – крикнул парень и, красный от досады, пронёсся вниз. Болек успел отметить: его лицо, хотя и было искажено гневом, принадлежало человеку по натуре не злому, простодушному.
– А это, должно быть, Алексей? – поднявшись на площадку, спросил Болек и дал понять сочувственной улыбкой, что в данном споре он на стороне оставшихся.
Подросток кинул на неизвестного хмурый взгляд и, вырвав локоть из неловких пальцев деда, побежал вниз по лестнице.
– Вечный! – заметил Болек, проводив его взглядом. – Большинство его ровесников ярко выражают эпоху. А ваш, мне кажется, и в моём детстве был, и раньше, и вообще из советского кинематографа!
Старик поглядел через толстые линзы очков на неожиданного собеседника и взволнованно, мелким движением пальцев, пригладил на бок тощий чубчик. По этому не изменившемуся за последние двадцать лет жесту Болек узнал давнего бабушкиного приятеля и соседа.
– Илья Георгиевич! – воскликнул он с ностальгической грустью. – А вы-то узнаёте меня? Я – Болек! – И протянул старику руку.
Болек и правда отлично помнил его. В особенности те моменты, когда Илья Георгиевич с супругой гостил у бабушки на Волге, донимая семейство какой-то особенно хрупкой, осыпающейся, как осенний лес, игрой на скрипке.
– Болюшка, ох! Ну конечно! А что ж на лестнице стоим? – заволновался старик, некрепко, как-то стеснительно пожимая ладонь нежданного гостя.
К удивлению Болека, Илья Георгиевич направился не к себе, а к Спасёновым.
– А я с деточкой. Ждём, пока Ася вернётся. Вот он, ангел мой, Серафима! – объявил Илья Георгиевич, кивнув на выскочившее из комнаты пятилетнее создание с пушистыми волосами, растрёпанными в солнечный дым. На узком плечике ребёнка сидел рыжеватый грызун.
– У меня есть хомяк! Его зовут Птенец! – первой, не стесняясь чужого, сказала девочка и подняла на гостя пытливый взгляд.
– А у меня есть водные черепахи. Их никак не зовут. Они живут в бассейне с океанской водой! – парировал Болек.
Серафима развернулась так, что хомяк чуть не слетел с плеча, и убежала в комнату. По её понятиям только очень странный человек мог не дать черепахам имён.
– А я вот суп для девочек варю, ну и нам с Пашей возьму по тарелке. Слышите, как пахнет? – сконфуженно похвалился Илья Георгиевич. – Может, снимем пробу? Летом девочки сами собрали, наморозили!
На плите и правда булькал суп, не суп даже, а натуральный осенний лес – чёрный от подосиновиков, золотой от моркови с луком.
– Бабушкино всё… – заметил Болек, заходя и оглядывая прежнюю, только немного подреставрированную дубовую мебель. – Илья Георгиевич, да! Очень хочу снять пробу!
– Болюшка, а знаешь ли, что я сейчас вспомнил? – болтал кулинар, подавая гостю тарелку с великолепным варевом. – Помнишь, дорогой, как ты заставил меня взяться за диссертацию? Мы с Ниночкой как раз у Елизаветы Андреевны тогда гостили!
Болек поднял брови и уставился на старика – уж не спятил ли тот? Впрочем, через мгновение память, как добросовестный библиотекарь, подняла из хранилищ необходимый эпизод – жаркий день, голубовато-серое июльское марево, от которого даже река казалась душной, наплывающую грозу.
Шестнадцатилетний знаток человеческих чувств обнаружил Илью Георгиевича сидящим на перевёрнутой лодке, в состоянии отчаянной грусти. Тот со вздохами рассказал юному Болеку о том, что не может дольше работать в музыкальной школе под унизительным началом у наглеца-директора, надо хотя бы к пенсии самоутвердиться, отстоять своё место… Но разве есть у него на это силы, смелость?
Болек почувствовал вдохновение и взялся отрабатывать на Илье Георгиевиче приёмы из только что прочитанного пособия, кажется, на тему: как за двенадцать недель изменить судьбу.
В двенадцать недель Илья Георгиевич не уложился. Диссертация о педагогическом воздействии на человека духа музыки растянулась на годы. Он ощущал себя профессором Толкином, на ощупь продвигавшимся тропами бессмертной книги, долгие годы не знавшим, куда приведёт его труд.
Умерла Ниночка. Сын запропал в этнических экспедициях. Ничего не осталось в жизни, кроме соседей Спасёновых да голубей на балконе. И тогда, под старость, Илья Георгиевич понял, что его любовь к музыке и казавшийся необходимым «труд» были вовсе не делом жизни, а лишь её сопровождением. Волшебным аккомпанементом, под который он ссорился и мирился с женой, учил детей и делал домашние дела.
Воспоминание увлекло обоих. На кухне, устроившись за столом в зеркально одинаковых позах (одна нога подвёрнута, ладонь подпирает щёку), Илья Георгиевич и Болек заново прониклись тем душным волжским днём.
– Вы были мой первый взрослый клиент! А, кстати, у вас сохранилась эта работа? Можно мне её посмотреть? Сейчас!
Болек листал подшивку вдумчиво, не комментируя ни единым словом. Затем поднял взгляд на изомлевшего вконец старика и произнёс:
– Илья Георгиевич. Просто это никакая не диссертация. Вот в чём всё дело. Это философский труд. Возьмите у внука ноутбук и садитесь писать книгу. Ну а если жаль глаза, вы можете её просто наговорить. Существуют такие программы.
– Вот мне и Саня тоже советует – надо заняться, а я всё топчусь… – заглотив крючок с комплиментом, сказал Илья Георгиевич.
Болек заметил: «клиент» порозовел, в глазах под толстыми линзами затрепетала надежда. Теперь можно было приступать непосредственно к цели визита.
– Илья Георгиевич, можно полюбопытствовать, а что это был за эпизод на лестнице? – сменил он тему.
– Да вот опять! Ужасный скандал! – заволновался Илья Георгиевич. – Ну прямо как кошка с собакой, Паша и Лёша! Лёша – это Настенькин супруг. Видишь ли, Паша собрал старых животных, там, у тётки своей, при щенячьей школе, и ухаживает. Я и сам не одобряю! Но всё-таки что-то есть в этом благородное, правда? Ну вот а теперь Лёша испугался, что Асю туда затянет. Пашу-то затянуло! Да и Саню затянуло! После работы бежит, помогает Паше. Математикой с ним занимается. Паша хочет поступать в ветеринарную академию! Надо хорошо сдать ЕГЭ, чтобы на «бюджет». А у Сани у самого работа и семья. Так он тайком! Супруга волнуется…
– Что вы говорите!
– Ну а как же! Такой человек! Ты знаешь, ведь у него есть «список»! – понизив голос, сказал старик. – Через его руки столько людей проходит, столько всяких трагедий. Ну и вот, у него там всё это. Просто случаи из личной практики, которых никак не должно было быть. Всё, что сверх меры.
Болек отложил ложку и с предельным вниманием поглядел на старика. Взгляд польстил жаждущему общения Илье Георгиевичу. Он забылся и немедленно выдал гостю чужую тайну.
– Он мне однажды сказал: дорогой Илья Георгиевич, я хотел бы пойти с этим списком, как с челобитной. Если есть такой вот перечень бед – надо идти и просить. Пусть даже не избавления, но хотя бы чтобы обычному человеку стал понятен смысл… Я-то, грешник, сначала над ним смеялся. Кого же, говорю, ты, Саня, будешь просить? И тут он мне рассказал. Видишь ли, Болюшка, у него был в юности друг. И этому другу открылось, что люди на земле могут однажды вымолить себе такое явление – Противотуманку. Это как бы свет истины. И Саня поверил, хотя ведь он вовсе не сумасшедший. Он ведь очень умный, наш Саня, и сам над собой смеётся! Я ему говорю: Санечка, ты это всерьёз? Да нет, говорит, какой там, крыша просто едет.
На этих словах Илья Георгиевич спохватился и в ужасе взглянул на Болека. Тот вдумчиво, без тени улыбки, слушал историю своего брата.
– Ох! Только не выдавай меня! – воскликнул старик.
– Не волнуйтесь, – опустив взгляд, проговорил Болек и вернулся к интересующей его теме: – Мне бы надо поскорее увидеть Асю. Вы не знаете, она скоро придёт?
– У Настеньки занятия в студии, – всё ещё удручённо проговорил Илья Георгиевич. – В семь обычно заканчивают, если нет вечерней пары.
– О нет. В семь – это слишком нескоро! – возразил Болек. – Я бы на работу к ней забежал, это же здесь, неподалёку?
Илья Георгиевич со вздохами объяснил ему, как добраться.
То, что старик уж слишком расстроился из-за своей болтливости, не понравилось Болеку. Нельзя было закруглять встречу на эмоции сожаления.
– Знаете, что я вам скажу? Этот вот супчик – одно из лучших блюд, что мне доводилось пробовать, а опыт у меня богатый! – объявил на прощание Болек. – И, кстати, я в мае собираюсь к нам на Волгу. Для грибов рановато, зато всё в цвету! Позову сестёр. Не хотите составить компанию?
Илья Георгиевич обнадёженно заморгал.
– Ох, это очень заманчиво! Конечно же, я мечтаю, я тут совсем засиделся с Пашей…
– Ну, тогда у вас есть пара месяцев закончить ваш труд! А на отдыхе решим, что с ним делать дальше, – подытожил Болек и отправился на поиски студии рисования.
* * *
Асины глаза прищурились, затем расширились и наконец прямо уставились на другую сторону улицы. По мокрому тротуару шёл человек, показавшийся ей знакомым. Солнце припекало – человек распахнул пальто, под которым был очаровательный пиджак, коричневый, с едва уловимым зеленоватым отблеском лета. Оттенок умеренно перекликался с ботинками, а возможно, и повторял тон глаз.
Был ли виною пленительный цвет одежды или приподнятая голова, или, может, таинственный осветитель на небе грамотно направил прожектор? Так или иначе, смотревшей из окна Асе сделалось ясно: этот человек привёз с собой весну! Вместе с ним на ещё зябкую, по-зимнему голую Пятницкую вошло цветение Парижского Левого берега и прочие каникулярные миражи.
На светофоре он перешёл дорогу, и последние сомнения оказались развеяны. Это был кузен Болеслав!
Ася знала о нём понаслышке, в основном от Софьи, всю жизнь следившей за его карьерой и старавшейся быть ему «ровней».
Усилиями старшей сестры жизнь Болека обрела в глазах Аси черты легенды, и теперь, примерив имеющуюся информацию к человеку, только что свернувшему во двор, она занервничала. Заметалась по студии, глянула в зеркало и наконец решила, что постарается держать себя с ним просто и искренне.
Через минуту девочка-администратор ответила на звонок домофона. Стон пружины, по ступенькам крутейшей лестницы – скорый уверенный шаг…
Дома, прокрутив в уме разговор с родственником, который не вспоминал о её существовании почти двадцать лет, Ася так и не сумела понять: каким образом этот чужой человек за какие-нибудь четверть часа ухитрился вызвать в ней чувство совершенного доверия? Если опустить сцену приветствия, он начал с того, что честно признался: ему нужна информация о приюте и о том, что в нём делает Курт. Зачем? А затем, что по просьбе Софьи он его лечит и должен кое в чём разобраться.
Ася, знавшая об истории с таблетками, постаралась ответить толково. С трепетом, как на исповеди, она передала Болеку лесной эпизод, рассказав про адажио Альбинони и мытьё мисок. Припомнила затем недавнюю встречу здесь, в студии, и, наконец, Масленицу двухлетней давности, когда Лёшка, как последний ревнивец-дикарь, выставил гостя, который пришёл-то на самом деле к Софье!
Собственная откровенность ни на миг не показалась Асе сплетней – напротив, необходимым для спасения человека свидетельством.
Болек слушал внимательно, опустив взгляд, время от времени кивая, и, кажется, сделал для себя некий важный вывод, потому что вдруг посмотрел Асе в глаза и с душой поблагодарил:
– Спасибо! Это именно то, что нужно. А теперь можем поговорить о нас.
– О нас? – растерялась прерванная на полуслове Ася.
– Я только что забегал к Илье Георгиевичу, – объяснил Болек. – Вспомнили с ним лето на Волге. Хочу съездить туда всей компанией. Чтобы было как в детстве. Скорее всего, поедем в мае. Ну, это мы успеем обсудить. А пока ещё к тебе вопрос: я бы хотел посмотреть этот ваш собачий приют. Проводишь меня туда? Завтра!
– Я, наверное, не смогу, – сказала Ася, быстро поглядев в сторону. – Меня Лёша не пускает. Я сегодня хотела навестить Марфушу – просто навестить. А Лёшка… – Она умолкла, почувствовав, что голос выдаст подступившие слёзы.
– А что это значит – «не пускает»? – полюбопытствовал Болек. – Как это? У тебя ведь есть паспорт?
Ася подняла на искусителя испуганный взгляд. Головокружительное чувство, будто сейчас она может признаться во всех сомнениях своей жизни и разом всё изменить, захватило её.
– Ладно, речь ведь не об этом, – отвернувшись, сказала она.
– Я думаю, тут вот в чём дело, – мягко заговорил Болек. – Бывает, у одного из супругов есть некое твёрдое представление о партнёре, удобное ему. А все не подходящие под этот формат его качества он отсекает. Так бывает. Я понимаю, у тебя ведь нет выбора, – сочувственно прибавил он и, выдержав паузу, продолжил: – Ася, а можно тогда совсем маленькую просьбу? Раз уж за тебя решают, куда тебе идти, а куда нет, так хоть расскажи, как мне туда добраться!
Ася, раздосадованная, несчастная и розовая до ушей, нарисовала Болеку план – как в лесопарке найти закуток Полцарства. Тем временем в студию уже начали собираться ученики следующей группы. Ася торопливо отдала листок Болеку и, простившись с ним, подошла к окну – остудить цвет лица. Да что же это такое! Она и сказать-то ничего не сказала, а он уже знает это ужасное обстоятельство её жизни – что «за неё решают», а она и не пытается возразить!
* * *
На перекрёстке Болек обернулся и, отсалютовав Асе в окне, исчез в переулке. Он был доволен тем, как прошла их первая встреча. По мимике и жестам, по скользящим интонациям за прошедшие четверть часа он неплохо изучил свою младшую кузину. Это была тонкая, чуткая девочка, совсем не знающая себя, наивно пытающаяся втиснуть мятежный дух в добрую мещанскую жизнь. Она, конечно же, искала понимания – это неплохо. Плохо другое… Когда, слушая Асин рассказ, Болек понял, что Курт, говоря о своей упущенной радости, имел в виду Асю, ему на мгновение сделалось худо. Нет уж! Оставьте родственников в покое! Они нужны ему самому! В особенности этой весной, на которую он запланировал «поездку в детство».
Нежно иронизируя над собой, в неплохом настроении, Болек отправился поглядеть окрестные книжные – хорошо ли выставлены его труды – и опять остался доволен. Пока он бродил, от сотрудника издательства пришло письмо: график презентаций книги был свёрстан. Ну что же, он любит общаться со страждущими! Почему бы и нет?
Ближе к вечеру позвонила Софья и сообщила, что Саня на чай забежать никак не сумеет. Зато они с Асей и Серафимой – ждут! «Ну, вас-то я уже видел», – подумал Болек и, сославшись на утомление и акклиматизацию, поехал в гостиницу.
Войдя в номер, он придвинул кресло к окну и сел – полюбоваться бриллиантом Московского дома музыки. Набережная, слившись с водой в единый огненный поток, переживала неспящую столичную ночь. Болек подумал: всё же Москва – великолепный город. Если бы в нём можно было дышать без противогаза, он бы выбрал его для жизни.
С юности он подозревал, что на земле есть топкие места, где можно запросто провалиться в подсознание народа. Москва была одной из подобных воронок – ступил неверно, и за мгновение тебя всосало в иррациональную кашу истории. В «подкорке» Москвы воют метели, «мерседесы» носятся вперемежку с тройками, гуляют бунты, гремят салюты и нетрезвый Сергей Есенин читает стихи.
Болек инстинктивно старался держаться подальше от этой «каши», жил в других столицах и работать предпочитал с европейцами. Тем смешнее выглядела его нынешняя идея: взять сестёр и погрузиться в самую гущину родины, в детские времена, когда он не мог, да и не помышлял противиться чарам реки, родни, ничегонеделания, бесцельности. Кануть в тишайший дворик и выпасть из жизни дней на пять… нет, лучше на десять! А вопрос «Зачем тебе всё это нужно, дурак?» можно будет проигнорировать как невежливый.
Несколькими часами позже в доме на Пятницкой сёстры, оставив своих уснувших родственников, столкнулись в ночном коридоре, как две пассажирки поезда. Обеим не спалось. Решено было набросить пальтишки и выйти на балкон подышать. Парочка голубей, дремавших на перекладине пожарной лестницы, нисколько не озаботилась их появлением.
– Соня, ну что он творит, твой Болек? Это что, порядочно? Наболтала ему лишнего о Курте! На Лёшку наябедничала! Может, он меня загипнотизировал? – пожаловалась Ася.
– Никто тебя не гипнотизировал – ты по жизни как сомнамбула! – возразила Софья и, подумав, прибавила: – Ему просто некогда налаживать отношения естественным путём. Нужно сблизиться сразу.
– А зачем ему налаживать отношения? Жил же без них сто лет! – обиженно сказала Ася.
– Ему, видите ли, захотелось в детство! А мы с тобой нужны для обстановки, ну и чтобы завтрак было кому состряпать. Ясно? Он и Саню хочет тащить на Волгу. А вообще, у него бедлам в голове. Я даже волнуюсь.
Ася перешла на край балкона и, вытянув шею, разглядела в пролёте между домами кусочек отдалённой золотой маковки. Храм был подсвечен. В тревожное время её всегда тянуло подойти поближе к одной из замоскворецких церквей, чтобы та укрыла её невидимыми крылами. Асины церкви пахли вербой и куличами – даже зимой.
– Соня, а разве бывает бедлам у психологов? Они же наоборот…
Положив локти на влажный бортик балкона, Софья смотрела прямо перед собой, в путаницу липовых ветвей.
– А давай утром забежим в храм, к нашей Иверской? Обо всём помолимся. Мне кажется, и у нас с тобой тоже бедлам. Я так вообще уже не пойму – может, мне надо было не знаю что, а я семью завела… – сказала Ася и жалобно поглядела на сестру.
Софья молча вдыхала талый, с ноткой бензина и дыма, воздух.
– Знаешь, мне так горько! – вдруг сказала она. – Нет любви, одна суета. И правда, так захотелось нырнуть в детское какое-нибудь наше лето – просто подышать!.. – Софья сдержала вздох и мужественно заключила: – Если меня посадят, не поезжайте без меня! Дождитесь, пока я выйду.
Глава четвёртая
18
Следующим утром Асе позвонил Пашка и независимым тоном спросил, не может ли она в свободное от работы время подежурить в приюте. Произошла неприятность, о которой долго рассказывать. Теперь собак нельзя оставлять одних, а у него, как назло, консультация по математике.
Ася выслушала, долго молчала и наконец сказала, что, к сожалению, приехать не сможет.
Ах, как прав оказался Болек! С момента Пашкиного звонка в голове у неё неотступно крутился их коротенький разговор. Ну конечно: у Лёшки есть удобное ему представление о своей жене, а все её качества, не подходящие под «формат», он попросту отсекает! И Ася пасует, идёт на поводу, как будто и правда у неё «нет паспорта»!
Половину дня Ася промаялась в сомнениях. Стёрла пыль по всему дому, полила цветы, вытащила из шкафов и свалила в кучу вещи, показавшиеся вдруг ненужными, даже враждебными. Поняла, что не осилит разборку, и запихнула обратно. Нахмурилась, выпила на кухне подряд две чашки горького кофе – назло своей детской, нежной любви к чаю с сахаром – и пошла жаловаться Илье Георгиевичу на разлад с собой.
– Мне Паша звонил, просил помочь в приюте. И время у меня было – а я не поехала! – сказала она с порога и, зная, что Илья Георгиевич считает её за свою, самовольно вошла в комнату Пашки.
– Ну так что же, Настенька… – заволновался старик, присаживаясь рядом с гостьей на диван. – Не всё, что болит у другого человека, должно и у тебя болеть. Всю боль на себя не примешь. А ты тем более ещё молоденькая девочка, тебе и ни к чему.
– Я не оттого осталась, что не болит! Вот болит, болит как раз! А просто струсила перед Лёшкой! Он хочет, чтобы я была только для него, – и я ему подчиняюсь, как птичка в клетке! – обиженно сказала Ася и обвела взглядом Пашкину комнату.
Она и раньше бывала здесь, но как-то не приглядывалась. А теперь отметила старое румынское кресло и такой же старый полированный письменный стол с откидным секретером, разномастные стеллажи и полки, появлявшиеся друг за другом по мере надобности, и раскладной диван, на котором как раз и велась беседа. Пашка его не собирал, просто набрасывал плед поверх постели. На столе монитор и клавиатура утопали в ракушечной россыпи мелочей – флешки, ручки, стикеры. Над диваном интеллигентные обои Ильи Георгиевича были закрыты плакатом неизвестной Асе, должно быть, очень древней рок-группы. А рядом, смущая диковатых музыкантов, висел портрет в рамке – профиль древнеримского медика Галена с цитатой: «Хороший врач должен быть философом».
– А я даже не знаю, что бы мне вот так же хотелось повесить… Чей портрет… – проговорила Ася и вдруг решительно поднялась: – Нет, я поеду всё-таки! Понимаете, если бы я просто не хотела. А я хочу! Как он может мне запрещать! У меня ведь есть паспорт! Илья Георгиевич, а вы бы поехали? – порывисто спросила она.
Старик развёл руками:
– Ну как сказать тебе, Настенька? Если ты о том, что Лёша против… Нет, если Ниночка бывала не согласна, я никогда ничего против её воли не делал.
– Почему? – твёрдыми серыми глазами уставившись на старика, спросила Ася.
– Ох-ох, – вздохнул Илья Георгиевич и примолк, нырнув на несколько секунд в драгоценную заводь памяти. – А мне, наверно, и не хотелось. Мы ведь с ней были близкие души. Ниночка всё так придумывала, как и я бы сам придумал. Плохо после такого остаться сиротой…
Ася со смутной завистью выслушала старика.
– Значит, вы просто не брали на себя ответственность, – заключила она и, оставив Илью Георгиевича в замешательстве, ушла к себе.
Договорившись о замене на курсах, Ася надела пальто, резиновые сапожки и пошла по мокрой улице к трамваю. Дорогой заскочила в зоомагазин, купить «вкусняшек» для тренировки Пашкиных питомцев, и вдруг почувствовала, как мощной волной прибывают силы. Вот ведь странно! А вдруг жизнь только теперь настала, а до этого всё было вранье, чужие платья?
Таяло, и солнечная поляна перед шахматным павильоном была мокра, как вымокшая в пруду собака. На проталинах торчали слипшиеся вихры старой травы, и при всяком порыве ветра с окрестных берёз и ясеней летели брызги.
Во дворике не было никого, кроме Пашки. Консультацию по математике он пропустил и теперь сидел на верхней ступеньке, подстелив для удобства старую лыжную куртку, и решал задачки из сборника.
– Паш, привет! Ты прости, что сразу не приехала! – сказала Ася, подойдя.
Пашка отхлестнул на место перевёрнутую ветром страницу и ещё глубже ссутулился над тетрадкой.
– Ну, ты хотя бы сейчас уже можешь домой… – смутившись, сказала Ася. – Я побуду. Только на ночь не знаю, как.
– Всё уже. Не до дому, – буркнул он. – Щас Наташка с Куртом подвалят, и Татьяна нам будет мозги промывать.
– Почему промывать? – робко спросила Ася. – Что-то случилось?
Пашка мотнул головой, отзанавешиваясь лохмами от расспросов.
Ася кротко ждала, понимая, что подростковый возраст не тётка, надо терпеть.
– Погоняй пока Тимку, – наконец сказал Пашка. – А то Курт, может, не придёт. Лучше прямо в вольере, там нет никого. Марфушу тоже выпусти – она с Тимкой нормально. Мяч вон возьми, под крыльцом. А Гурзуф пусть сидит. Нагулялся уже, морда…
Ася неуверенно обошла крыльцо, достала мяч и, обхватив его правой рукой, остановилась в нерешительности.
Пашка досадливо вздохнул, бросил тетрадки и отправился показывать Асе, как совершается это простейшее действие – выгул собаки.
В вольере, стоя возле Пашки, Ася с замиранием сердца смотрела, как Тимка рвётся могучей грудью на ветер. Спотыкающийся его бег был полон такого счастья жизни, что Ася подумала – может, он и не инвалид, а просто такой особый трёхлапый пёс?
А вот Марфуша не захотела бегать. Она осталась вместе с Асей на краю вольера и, присев на хозяйкин сапог – всё же не так сыро! – плотно прижалась к ноге.
– Ладно, давай уже тут сама. А то мне ещё Татьянин кабинет мыть… – буркнул Пашка и хотел было идти, но вдруг остановился. – О! Наташка чешет! – воскликнул он обрадованно. – Вот пусть она и моет!
Курносая девочка с волосами цвета балтийского пляжа и простым весёлым выражением лица вбежала во дворик – Ася невольно улыбнулась ей. Чмокнув не успевшего увернуться Пашку, она серьёзно выслушала его распоряжение и мигом бросилась исполнять.
А затем с неизменным фонографом на ремне явился Курт. Он был ещё бескровный, слабый, но внутри, под снегом и палыми листьями уже проблёскивала жизнь. Глаза! – заметила Ася. Его замечательные серые глаза, посаженные, правда, чуть ближе, чем требовала гармония, были живы и любопытны!
– Привет! – едва успел сказать он и в тот же миг был атакован Тимкой.
Курт гладил собачью морду, чесал за ушами. Тимка, блаженствуя, вытягивал шею и ухитрился даже положить единственную переднюю лапу на руку хозяина – чтобы тот не вздумал уйти.
– Испугался, не приду я? – говорил Тимке Курт. – А я вот пришёл…
С первыми сумерками, закончив рабочий день, во дворик шахматного павильона явилась Татьяна.
– Ставь чайник, Наташ! – сурово велела она и, поднявшись в домик, принялась выкладывать из спортивной сумки пакеты с пряниками, печеньем и пастилой. Энергичные, пожалуй и резкие, её движения раскалили стылый павильон, и всем собравшимся сделалось ясно – предстоит разговор. Для того и пряники – подсластить его горечь.
На книжной полке поверх расстеленного полотенца в рядок было выставлено шесть чашек из керамики цвета старой бумаги, с нанесённой поверх японской миниатюрой. Все рисунки были разные. На одной птица, на другой ветка вишни, на третьей – тростник… Пять из них уже имели хозяев. Но оставалась одна, последняя, с алыми каплями луговых маков.
Пашка покосился на Асю.
– Ага, теперь комплект! – озвучила его мысль Наташка и торжественно, словно вручая почётный билет закрытого клуба, поставила перед Асей чашку.
Они расселись по обе стороны составленного из парт стола. Их было всего шестеро, считая отсутствующего Саню. Оттого, что «братьев по ордену» оказалось так мало, Ася почувствовала, что её причастность приюту словно выросла в цене.
– Ну что, все тут? Александр Сергеич не придёт? – строго спросила Татьяна и села во главу стола.
Тут только Ася поняла, что это – собрание.
– Короче, если кто ещё не в курсе, дела у нас такие! – начала Таня и вкратце пересказала случившееся.
Вчерашним утром новосёл приюта лохматый мачо Гурзуф совершил роковую ошибку. Быть может, переменившийся ветер напомнил ему о времени, когда был жив дядя Миша и ещё витали вокруг, лаская собачий нюх, весёлые и цветные запахи Замоскворечья? Гурзуф ушёл на утреннем выгуле. Стоило Пашке отвернуться на миг, пёс нырнул в кусты и, как бывает с непослушными детьми, сразу же угодил в историю.
На узкой дорожке ему встретились два чудно одетых типа на велосипедах. Гурзуфу понравились их шлемы и дутые жилеты, он собрался уже выразить респект на своём языке, но тут парни повыхватывали из карманов всполохи страшного ветра, и Гурзуф задохнулся.
Когда Пашка подоспел, велосипедисты уже умчали. Гурзуф, накренившись, сидел на дороге и тяжело мотал башкой. После знакомства с газовым баллончиком он стал похож на дядю Мишу в пору похмелья.
За побег Гурзуфу был предписан усиленный курс дрессировки. Но Пашка опоздал с принятием мер. Сегодня утром на двери ветпункта появилась листовка, содержавшая безграмотную, однако внятную угрозу. Шайка догхантеров обещала в ближайшее время «принять меры» против Пашкиных питомцев.
– Вот! Все видели? – сказала Татьяна и помахала листком перед собравшимися.
Курт взял у неё из рук бугристый, покроплённый дождём лист. «…Блоховозы перешли в наступление… защитники города зачистят парк от тварей…» – пробежал он текст и недоумённо взглянул на Пашку.
– А что ты смотришь на него! Нечего на него смотреть. Он уже всё, доигрался! – раздосадованно сказала Татьяна. – Вот кто теперь караулить всё это хозяйство будет? Или, может, учёбу бросишь? – накинулась она на племянника. – Консультацию по математике прогулял? Прогулял! Так и всю жизнь прогуляешь!
– Захочу – прогуляю, – буркнул Пашка и ссутулился над столом, так что волосы чуть не попали в чашку.
– А ты не дерзи тётке! – крикнула Татьяна. – И вы тоже все хороши! Сами в Интернете с утра до ночи, а до сих пор не пристроили. Напрягите мозги! Влейтесь в какой-нибудь частный приют! Сообразите!
– Танюлька! Ну мы же сколько пытались – ты ведь знаешь. Ну кому они нужны! – жалобно проговорила Наташка.
– Я тебе не Танюлька! – рявкнула Татьяна. – Я ответственное лицо! Отвечаю юридически и практически за ветпункт и школу! Вы хоть понимаете, что своей самонадеянностью и безответственностью спровоцировали группу психбольных! Догхантеры – это психи! Сколько они потрав по всему городу устраивали! Учинят в лесопарке гадость какую-нибудь, – а закроют меня! И школу и ветпункт, за то, что пригрела этот ваш бедлам незаконный!
– Ну ясно, тебя только бизнес твой волнует, – сказал Пашка, взглядывая из-под нависших лохм.
– Меня? – ахнула Татьяна. – Бизнес? А кто возился с твоими калеками? Кто лечил их? Кто Людмилу умасливал, чтоб она вас здесь оставила! Ну ты и паршивец! – И, почуяв закипающие на глазах слёзы, вырвалась вон из домика.
Наташка подняла обрушенный Татьяниным вихрем стул и укоризненно взглянула на Пашку.
– Ну и зачем? – удивилась она.
– Ничего я не буду делать! – сказал Пашка себе под нос. – Не буду никого расселять. Ни в какие приюты. Почему, если дебилам каким-то не нравится, я должен разрушать собакам их дом, где они привыкли?
– Мы незаконные, Паш, – сказала Наташка и, откинув белые волосы, потянулась за пряником. – На! Будешь?
– Не хочу я! – дёрнулся Пашка. Помолчал и вдруг переменившимся сиплым, почти жалобным голосом проговорил: – Я вот волнуюсь: как бы кто через ограду им чего не подкинул, пока нас нет? Джерик, допустим, без разрешения не возьмёт, Агнеска с Мышью не возьмут. А остальные могут. Это они при мне не берут. А без меня – кто их знает?
Он умолк и потрогал рисунок взлетающей цапли, белые пёрышки, камышинки, круги на воде. И все, невольно повторяя за ним, увлеклись своими чашками. Ася вгляделась в алое пятнышко мака – три мазка тонкой кистью. Это бессмысленное занятие смягчило, затёрло реальность вместе с необходимостью что-то решать. Волшебные чашки подарила Сане на какой-то праздник благодарная пациентка. Сначала они стояли дома у сестёр в коробке, а потом, оказывается, он отнёс их сюда.
Вдруг Наташка сказала:
– Тихо!
Все замерли, дружно навострив слух. Сквозь щели внутрь павильона проник тонкий утробный стон.
– Ну а Мышь-то кто выпустил! – воскликнул Пашка и мигом очутился за дверью.
Серая собака с поразительно тощими боками и длинной худой мордой сидела у крыльца, скособочившись вправо, левая задняя лапа дрожала. Кривая жалкая её поза была скомпенсирована упорством взгляда, каким она встретила высыпавших на ступени людей.
– Она мелкая, сама проползла, под сеткой. Там сетка отогнулась, – сказала Наташка. – Она, может, петь хочет?
– Пить? – переспросила Ася и огляделась в поисках миски.
– Петь! – нежно, словно выпуская колечко дыма или дуя на пёрышко, поправил Курт и улыбнулся тепло и спокойно. Асе показалось на миг, что она видит улыбку Болека.
– Мышь, ну чего тормозишь? – сказал Пашка и, аккуратно, как ребёнка, взяв собаку на руки, внёс в комнату. – Ну что, попоём?
Ася знала от Ильи Георгиевича про этнографические исследования и фольклорные реконструкции Николая Трифонова, Пашкиного отца, но никак не могла представить себе, что Пашка найдёт применение наследству. И уж тем более не предполагала, что он умеет петь таким ясным, поставленным голосом, совсем не похожим на его будничное бормотание.
Песня, которую услышала Ася, оказалась колыбельной, незапамятной и дикой, как подорожник или крапива, и такой же, как эти травы, родной. Пашка пел негромко и совсем просто, но по Асиной спине побежал озноб.
Тем временем Мышь притёрлась к ногам Пашки и вытянула шею. При свете лампы Ася разглядела её получше. Это было удивительное существо. Тощие шаткие лапы и странно изогнутая спина, а также необычайно худая мордочка сообщали её облику нечто сказочно-зловещее.
Позже Ася узнала, что у Мыши был сломан позвоночник и временами волочились задние лапы, не считая прочих бессчётных недугов. Пашка, однако, гордился результатом лечения. «Чудо, что не парализовало!» – говорил он.
Мышь обладала редким даром: она умела петь. Начинала партию всегда сама, без команды. Сперва робко подвывала и урчала, а затем, всё более обретая свободу самовыражения, распевалась всерьёз – тонким и сильным собачьим голосом. По вытянутому горлу певчей катились волны звука, передние лапы вздрагивали.
Пение Мыши было трудно для слуха, но самоотдача и накал недоступных человеческому пониманию чувств, с которыми исполнялась партия, захватывали всерьёз. После пения Мышь почти всегда отказывалась от протянутого Пашкой лакомства. У неё был плохой аппетит и, по-видимому, слабый нюх. Терпеливо выслушав многоголосое одобрение людей, она убредала к себе. Если же задние лапы слишком заплетались, Пашка относил её в загончик на руках.
Как позже признался Асе Курт, лично его во всём этом больше всего расстраивало то, что Мышу было невозможно отблагодарить – ни накормить от души, ни даже погладить. Она шарахалась от протянутых рук, доверяя только хозяину. Невысказанная признательность оставалась в душе и тяготила.
О чём пела Мышь? Похоже, даже великий собаковед Паша Трифонов не мог с уверенностью сказать, что выражала её песня. Одиночество? Бесприютность и страх собачьей жизни? Или это был неосознанный плач по утраченной стремительности и силе? «А может, просто Мышь думает, что она так нам служит? Вот и поёт для нас!» – предполагала Наташка.
Так или иначе – Мышь пела, и ей внимали безо всякого смеха, порой и с замиранием сердца.
Когда Мышь исполнила первую руладу, Ася, впервые оказавшаяся на подобном концерте, в изумлении посмотрела на Курта – не сон ли?
«Да! – ответил он взглядом. – У нас так!» И, тихонько выбравшись, принёс с улицы забытый фонограф.
В разгар колыбельной неслышно, словно дверь и половая доска были из воздуха, вошёл Саня и с видом сконфуженным и вдохновенным, как театрал, пробирающийся к своему месту, когда действо уже началось, присел на край лавочки возле Аси. Она сразу обхватила брата за локоть и вздохнула.
– Ну что ты творишь! Почему телефон не берёшь? – горячо зашептал он. – Лёшка психует! В студии тебя нет. Звонит Соньке, звонит мне!
– Я специально его дома забыла. В другой раз будет знать, как решать за меня! – шепнула Ася.
Переговоры брата и сестры сбили творческую атмосферу. Мышь оборвала серенаду и настороженно тявкнула.
– Мыша, давай пока перерыв, – решил Пашка и, погладив махонькую костистую голову певицы, сунул ей лакомство, которое та приняла без охоты и сразу выронила.
За минуту опоздавшему была изложена суть проблемы, а заодно предъявлен мерзкий листок. Саня глянул и, скомкав, сунул в карман. Затем упёрся в парту локтем и крепко потёр лоб, стараясь добиться прояснения мысли.
– Ты только не сердись, ты разумно послушай меня, Паш! – заговорил он. – Нельзя больше ждать. Пора отсюда перебираться. Пристроить ты их не пристроишь, это ясно. Надо искать передержку, и хорошо бы, чтобы не по одной собаке, а компанией. Эх, можно бы ко мне, если б не Маруся… – с горечью качнул он головой. – В общем, давайте, ребята, ищем всем миром что-нибудь подходящее и решаем этот вопрос!
Пашка встал, бережно поднял Мышь на руки и, толкнув ногой дверь, вышел в сумерки леса.
– Паш! Да всё я понимаю! – вылетев следом, крикнул Саня. – Ну что ты ей-богу! – И, догнав, придержал за локоть. – Погоди бежать! Вот смотри: когда люди не хотят решаться… Не хотят, допустим, решаться на какую-то тяжёлую, но жизненно необходимую операцию, я, по-твоему, должен сказать им: «Ладно, сидите»? Паша! Я с кем вообще разговариваю!
Пашка дёрнул локтем и, не оглядываясь, направился к загончику.
Саня отстал, постоял ещё немного во дворе и вернулся в шахматный павильон. Наташка, ждавшая на крыльце, сочувственно посторонилась, давая ему войти. Она хотела было побежать за Пашкой, но своим немудрёным практическим умом поняла, что Татьяна и Саня правы. Пусть подумает Пашка. Тоже нашёлся – идеалист!
Остались вчетвером, с луной за хлипкими стёклами.
Ася вскользь поглядывала на брата, на его совсем молодое лицо – словно бы тридцать семь лет отлились не в полагающемся огрубении черт, а лишь в наплыве большой усталости.
– Александр Сергеич! Да вы не расстраивайтесь! Чего вам сделать, чаю или кофе? – спросила Наташка.
Саня неопределённо мотнул головой. Он переживал, что не смог убедить Пашку в необходимости переселения, и продолжал мысленно подбирать доводы. Это было трудно, потому что он и сам полагал: по справедливости собакам надо остаться здесь.
– Ну, чаю тогда? – сказала Наташка.
– Чаю? – очнулся он. – Нет, Наташ, не буду, мне уже бежать. Я подумаю, как нам лучше… Может быть, завтра… Думать, думать надо душой! Как-то чтобы озарило! – И, услышав шаги, обернулся на дверь.
Пашка, отправив Мышь в загончик, вернулся.
– Так! Стоп! Паш, где твоя математика?
Пашка шлёпнул перед ним на парту тетрадь.
– Я решил, конечно. Но только потому, что в школе не был, – проворчал он. – Три часа убил.
Саня зажмурился, поморгал, настраивая зрение на путаный Пашкин почерк, и выборочно проглядел задачки. Листнул – все ли номера?
– Всё понятно было? С ответами сверил? Пишу на завтра!
Ну вот и всё. Три неотложных вопроса – где Ася, в порядке ли Курт и как поживает Пашкина математика – были разрешены в едином месте и времени, к тому же по дороге домой. Повезло!
Уже уходя, он тихо спросил у Курта:
– Женя, ты как?
Тот кивнул: терпимо.
– Ну, молодец, молодец. Всё хорошо. – И, кратко сжав его плечо, махнул остальным: – Всё! Побежал!
Ася пошла проводить его до тропинки.
– Ну а как быть? – сказал он сестре. – Полынья Серой Шейки у него тут! Да и не только у него. У всех людей на земле не жизнь, а полынья! Я вот понимаю нутром – так нельзя, надо это менять… – Он задумался было, но тут же очнулся. – И Лёшке, Лёшке сейчас же позвони! Слышишь! – крикнул уже на бегу, проваливаясь в орешниковую бездну.
* * *
Ася поёжилась, словно с уходом брата осталась без обогрева. И правда, до дрожи зябко и темно было на улице. В этой пробирающей до костей темноте шахматный павильон цвёл одинокой лампочкой. Наташка побежала мыть чашки. Прислонившись к стене дома, Курт что-то поправлял внутри фонографа. Ящик висел у него на шее, как старомодный лоток с папиросами.
– Ася, ты на трамвай? – заметив её взгляд, спросил он. – Мне сегодня тоже в ту сторону. Пошли?
Ася слегка пожала плечами, не соглашаясь на провожатого, но и не возражая.
– У меня есть запись твоих шагов! Хочешь послушать? – сказал Курт, когда они вошли в орешник.
– Шагов? – не поняла Ася.
– Ты когда идёшь, у тебя особое такое «туше» – как будто на цыпочках, я это сразу заметил! – объяснил Курт. – Я думаю, по шагам можно узнать характер, – прибавил он и, остановившись, выбрал на дисплее диктофона дорожку. Сперва шёл едва различимый шелест – звуковая пыль, а затем раздался внушительный хруст.
– Это что, я? – испугалась Ася.
– Это Пашка тебя попросил корм к загончику оттащить. Бумажные пакеты! Слышишь, бьют по ногам!
Курт прислушался, наклонив голову. Звук был похож на укрупнённый динамиком хруст заледенелой земли, или на хруст багета, которым недавно насильно кормил его Саня, или даже на хруст какой-нибудь корочки на сердце, той, что сегодня только запеклась над смертной раной.
– Ну хорошо… А вот ещё… – сказал он, сдвигая курсор. – Вот… за Мышиным голосом, в отдалении – Александр Сергеич заходит, слышишь? По ступенькам. У него очень собранный шаг, но тоже лёгкий, почти как у тебя. Здорово, правда? А вот он говорит. Тембр клёвый такой…
Ася вслушалась в родной голос брата. В сознании проступило мягкое тепло сентября. Немного осени в нападавших на дорожки листьях и хвое. Ещё теплая кора деревьев. Кто бы мог подумать!
– Я люблю Александра Сергеича. Но лечить меня будет Болеслав. Его задания мне по силам, – неожиданно проговорил Курт.
– А какое он дал тебе задание? – с любопытством спросила Ася.
– Помечтать! – отозвался Курт. – А тебе?
– Что – мне?
– Ну, какое задание он дал тебе?
Ася отвернулась, словно от вспышки.
– Болек сказал тебе, что дал мне задание?
– Да нет, – растерялся Курт. – Я просто подумал…
– Никаких заданий он мне не давал! – раздосадованно перебила Ася. – Он просто сказал, что за меня решают другие. Но это не правда. Никто за меня не решает и не будет решать! – отчеканила она и быстро пошла вперед.
Курт, опередив Асю, поднял над её головой ветку.
– Надо подрезать, я здесь каждый раз цепляюсь, – сказал он.
Ася прошла десяток шагов и в смятении остановилась.
– Нет! Я лучше ещё помогу Пашке! Я вообще к собакам сюда приезжаю, а не тусоваться! Пока! – И, развернувшись, пошла назад к домику.
Когда она возвратилась во дворик, дверь павильона была открыта. Глава собачьего приюта запихивал в рюкзак свою математику.
Домой возвращались вдвоём с Пашкой. По аллее, а затем по дороге до трамвайной остановки он смешно летел на шаг впереди Аси, охраняя себя тем самым от возможных светских бесед. Когда же вышли на людную улицу, взял такой недосягаемый разгон, что Ася осталась одна. Правда, совсем ненадолго. На перекрёстке её окликнул Лёшка.
Всколыхнулась было обида, но после лесной чистоты, после пения Мыши и необъяснимой святости всего творящегося в приюте невозможно было оттолкнуть человека, ищущего примирения.
– Не знал, где встречать – у метро или на остановке. Вот, решил здесь! – заговорил он, подходя и не решаясь обнять жену. – Я вообще-то волновался. Сане даже звонил. Он мне сказал, что я дурак. И я, короче… В общем, прости меня! – выдохнул он и, слазив за пазуху, робко вложил Асе в ладони конверт. – Вот! – Помедлил и, распираемый нежностью, счастьем задуманного примирения, всё-таки обнял её.
В конверте оказались билеты на поезд и гостиничная бронь.
– А в купешке с нами пацан из средней группы и мама его. Они с мамой едут. Она тоже у нас в гостинице будет жить. А там, прикинь, уже будет всё в цвету! А народу ещё мало. Дальше, конечно, подвалит, но мы уже адаптируемся. Сгоняем в Абрау-Дюрсо, закупимся и чихнём на спортивный режим, а?
– Я эту вашу гадость не пью, – сказала Ася словами Пашки.
– Да ладно! На море можно! – возразил Лёшка и, не обращая внимания на прохожих, подхватил Асю и закружил. «Мор-ре!»
Ася почувствовала, как над головой у неё развевается подобно фате эта Лёшкина ветреная и голая, вытянутая вдоль моря «Анапа». Ох, вот ведь напасть!
Наконец поставил на землю, но не выпустил.
– Я не хочу на море, тем более в твой этот лагерь, – отстранилась Ася и, сунув ему конверт, пошла к дому. – Мы в мае поедем на Волгу. Сонька, Серафима и Болек. Болек сказал, ему туда очень надо, и он меня просил, чтобы вместе…
Моментально помрачнев, обиженно выпятив губы, Лёшка молча двинулся следом.
– Ну а ты-то ему зачем? – наконец спросил он. – Эксперименты ставить над башкой? Сонька вон работает с ним, она пусть и едет! А мы с тобой на морской бережок. Всё, это не обсуждается!
– Значит, ты решил за меня? – остановившись, тихо спросила Ася.
– Мы вместе решили, оба! Мы всегда вместе решаем! Я что, не советовался с тобой насчёт работы? Или ещё насчёт чего-нибудь! Я всё сначала у тебя выясняю! Потому что мы – семья, и больше никто! Никакие родственники! Ты вон в церкви свечки ставишь. А тебе любой батюшка скажет: главный твой ближний – это муж. Дальше – дети. А родители и прочие сродники – уже потом. А собак и вообще во двор храма не пускают – они нечистые! А ты на них мужа променяла! – выпалил Лёшка.
– Да. Ты решил за меня, – сама с собой кивнула Ася.
– За нас, а не за тебя! – утрачивая терпение, рявкнул Лёшка. – Это всё от Сани вашего пошло. Это он манеру взял – на чужих здоровье тратить! На рухлядь всякую, от которой и свои-то отказались! А жена одна пусть кукует все дни напролёт! И вечера! И его ещё за это хорошим человеком называют, а её курицей! Ага?
Ася оглядела мокрую, мутно-сиреневую Пятницкую в огнях. Если бы вдруг подвернулся ей велосипед, она вскочила бы и умчала от этого зануды. А так не убежишь – догонит.
– Я не поеду ни в какую Анапу, Лёш. А то, что ты про Саню такое говоришь, так благодаря ему «рухлядь», как ты выразился, хоть какое-то находит утешение! И если Саня есть – то и Бог есть! – сказала Ася.
– Больные вы, Спасёновы! Всё наперекосяк! Для них же стараешься… – буркнул Лёшка, но в его тоне уже послышалась слабина. Он не умел долго ссориться и, пока Ася возражала ему, успел пожалеть о своей вспышке. Вот, ёлки-палки, опять сорвался, а ведь хотел быть паинькой! Аккуратно спрятав билеты за пазуху, он поглядел на жену – не пора ли мириться?
Если бы Лёшка смял и швырнул дурацкие эти билеты, Асе стало бы легче на душе, может, даже она первой попросила бы прощения. Но нет, её муж был не мот и не дуэлянт, уничтожать добро никогда бы не пришло ему в голову – лучше уж сдать!
С усмешкой она поглядела на него:
– Ладно, пойдём домой.
И чужой, глупый семейный вечер, уже который по счёту в Асиной жизни, состоялся как ни в чём не бывало. Он выдался даже хуже обычного, потому что Лёшка решил покрепче налечь на примирение. Не успела Ася переодеться в домашнее, комнату заволокли враждебные звуки – мягкие ударники забивают тишину, и чужой нескромный голос шепчет так, что по комнате липнет сажа. Это Лёшка включил на компе «музыку». Сколько Ася ни бьётся – всё равно он зовёт этим словом любой звуковой мусор. Пожалуй, Курт сумел бы объяснить ему разницу.
– А мы слушали сегодня, как поёт Мышь, – стараясь оттолкнуть от души звук из колонок, сказала Ася. – Но тебе бы вряд ли понравилось.
– Ясно дело! Куда уж мне понять, как поют мыши! Слушай, а давай сейчас не будем о мышах? Может, лучше потанцуем?
Ася танцевала со своим собственным мужем, сто лет знакомым и родным Лёшкой, кажется, даже любимым, но почему-то сегодня ей было тошно, хоть беги! Сколько можно хватать за плечи, слюнявить висок! Наконец не стерпела и вырвалась.
Но и тут не удалось поругаться.
– Ну чего ты, Ася, выдумываешь, – жалобно говорил Лёшка. – Ну не фанат я борьбы за права животных. Так что, значит, со мной и жить нормально нельзя? Вообще-то я ведь хороший, скажешь нет? Я на всё для тебя готов, а ты к ерунде цепляешься.
Засыпая, Ася приложила ладонь к стене. За ней была комната Пашки. Она стала Пашкиной четыре года назад, когда двенадцатилетнего бунтаря выселили к деду. А сегодня для Аси за этой стеной расположились Полцарства – клочок сырой земли, шахматный павильон с хлипкими стёклами, стая жалких собак и их наставник, обретший черты героя. В темноте Ася прикладывала пальцы к шершавым обоям и чувствовала, что спасена – от себя самой, и от Лёшки, и от всей бессмысленной жизни.
«А ведь, оказывается, я другая! – озарило её уже на самом обрыве в сон. – Я другая, а не та, которая рисует котят, и не та, которая с Лёшкой. Вот в чём дело! Господи, спасибо Тебе, что я другая!» Ей хотелось побежать к Софье и поделиться великим открытием, но, во-первых, сестре не до того, а во-вторых, Лёшка поплёлся бы следом, пристал с расспросами и замял бы, задул, чего доброго, откровение. Нет, будем беречь!
Улыбаясь, Ася перевернулась на спину, и как-то чудно, мерцающей звёздной волной, в аллеи лесопарка вплёлся волжский городок детства. Иные земли, в которые теперь она вхожа! Илья Георгиевич, мы и вас возьмём, даже не переживайте! Может, разыщете там свою Ниночку.
* * *
Когда в парке, на орешниковой тропе, Ася сбежала от него, Курт первым делом подумал: ну вот и всё! Однако, превозмогая налёгшую крепко тоску, подтрунил над собой: «Что раскис? Давай! Укрепляй свою дохлую волю к счастью! Всё нормально, только в следующий раз соображай, что ляпаешь!»
В тот вечер, идя по аллее к шоссе, он едва ли не впервые в жизни решил, что имеет право повести себя бесцеремонно.
«Болеслав, простите, что беспокою, – написал он на почту, указанную на визитке. – Я помечтал, как вы мне сказали, и в целом определился, чего бы мне хотелось. Что мне теперь делать? Может, какое-нибудь конкретное задание?»
Он рассчитывал, что ответ придёт завтра или на неделе или не придёт совсем, но оповещение звякнуло в следующую минуту.
«Просто почаще говори себе “да”, – написал Болеслав. – Прислушивайся к желаниям и исполняй по мере возможности. Кстати, твои угрызения совести лежат у меня в кармане, так что будь спокоен, тебя никто не будет преследовать».
Придя домой, Курт оглядел свою комнату и, чувствуя нестерпимую жажду начать говорить себе «да», взялся за дело. Для начала ему захотелось выжечь все до единого приметы старого себя, винные следы порабощённой воли и невидимые, ледяные – чуть не случившейся смерти. Он подошёл к разложенному дивану, на котором после снотворного проспал больше суток, и яростно, не жалея паркета, выворотил его на середину комнаты. Затем пронёсся на кухню, покидал в пакет бокалы и встряхнул покрепче – битое стекло звякнуло, кое-где пропоров полиэтилен. Вернулся в комнату и, обрывая петли, сдёрнул занавески. Это они, соучастницы, скрывали от мира его погибель! Наконец перед чёрным голым окном гостиной остановился. Ну вот, почин положен! – и плюхнулся на диван.
Радость разбоя осветила прошедший вечер в приюте. На первый взгляд, он был проигран вчистую. Каждое словечко, сказанное ради сближения с Асей, отлетело камушком в его собственный лоб. И всё же Курт кое-что приобрёл – теперь он знал, что Ася хочет «решать сама», и намеревался использовать это знание.
Раньше ему бы никогда не пришло в голову «подбирать ключи» к человеку, больше того, совесть немедленно заявила бы ему, что это подлое манипулирование, и в наказание изжарила. Но сейчас его совесть лежала в кармане у Болеслава, а без неё всё предстало в совсем ином свете. Не было никакой мистической гибели души, а был несостоявшийся дурак, трус, не посмевший дотянуться до счастья.
Курт с детства знал от родителей, что говорить своим желаниям «нет» – благородно и хорошо. Тогда как «да» – удел эгоистов и потерянных личностей. Он сказал себе «нет» в юности, когда хотел всерьёз заняться музыкой, и позже, когда Лёшка с уличной грубостью дал понять, что Ася уже занята. Все эти отказы казались ему безусловно правильными. «Должно быть, Женька, ты крепко испорчен, раз “безусловно правильные” решения довели тебя до такого коллапса!» – посмеялся он над собой.
И вот теперь, сидя посередине комнаты на плоту разобранного дивана, он с нежностью вглядывался в себя. «Хочешь, чтобы вернулась музыка?» – «Да! Я займусь этим немедленно!» – «Хочешь, чтобы Ася полюбила тебя?» – «Так и будет, даже не сомневайся!»
Почувствовав прилив надежды, он вскочил и дёрнул балконную дверь. Крепкой сырой волной на него шёл лес, отделенный от дома вьющимся по земле огнём шоссе. Начинался последний штормовой бой за весну, и исход его был известен.
Курт достал телефон и набрал ещё одно письмо Болеку. Он писал о том, что у него впервые не стонет обгорелая душа, что он счастлив снова держать в руках свою жалкую жизнь и приложит все силы, чтобы полюбить её и возвести на царство.
Перечитав, он стёр сентиментальный текст, но сознание высказанной благодарности осталось. Он чувствовал, что подключен к мощной системе учителя, снабжающей его на первых порах необходимой для подъёма энергией.
Курт вернулся в комнату, раскинув руки упал на открытую, не прижатую больше ни к какой стенке постель и с мягким ударом головы о подушку понял, что старт космического корабля состоялся.
19
«Буду ездить всё равно!» – объявила Ася мужу, и Лёшка подчинился. И вроде бы установился внешний мир, но сердце чуяло необратимость перемен.
В приюте Лёшку бесило всё: его незаконность, хлипкий, как карточный домик, павильон, где в плохую погоду укрывались и пили чай, приверженность зверей своему хозяину и приверженность людей зверям и друг другу, которой он подобрал уже слово – «секта».
– Слушай, я после работы домой хочу! Я хочу с тобой быть дома, а не в лесу мёрзнуть! Это чего теперь, каждый день так будет? – возмущался он.
Ася расстраивалась и хмурилась. Как же так! Доверилась человеку, выбрала его из всего мира, и вот – полное непонимание! А однажды ночью проскользнула мысль: уж не поторопилась ли? Отдала своё глупое «зелёное» сердце первому встречному, вместо того чтобы сберечь его и повзрослевшим, спелым вручить тому, кто достоин.
Наконец молодые супруги сошлись на том, что приют – личное дело Аси. Она будет ездить туда одна, а Лёшка, если захочет, тоже найдёт себе какое-нибудь «личное дело».
Ну и ладно. Даже веселее без Лёшки! Ася отбрасывала мысли о нём перед входом в лесопарк, чтобы подобрать на обратном пути, и, вольная, вбегала в свой новый дом – сквозящий дворец весеннего леса. Она шла по нему, путаясь в юности, как в длинном газовом платье, и чувствовала себя несравненной. Вроде бы и нет ничего особенного, и веснушки смыть бы, и маловато росту. А всё равно хороша! Так, что у всех у них, у лесных, от её красоты перехватило дух.
В благодарность за любовь Ася сотворила и преподнесла приюту подарок. Над калиткой загончика засияло, переливаясь золотом, прикреплённое к сетке деревянное произведение искусства, которое язык не поворачивался назвать вывеской. Скорее уж это была картина, написанная на широкой, лакированной в цвет морёного дуба доске золотой, «под старину», краской.
Пашка принял Асин дар молча и долго неподвижно держал доску в руках, разглядывая волшебные буквы, сложившиеся в слово «Полцарства». По выражению его лица можно было подумать, что ему досрочно вручили диплом ветеринарного врача.
Накатывала весна, и приют, отогреваясь на солнышке, выпрастывал из-под зимней коры свои тайны. Наташка в знак дружбы сделала Асе на запястье татуировку хной – Марфушу с печальной мордой. Пока болтали за работой, выяснилось, что Пашкина «медсестра» умеет ездить верхом и фехтовать. Кроме того, по секрету она призналась, что влюбилась в Пашку ещё в прошлом году.
– А что? – шёпотом объясняла она. – Пашка классный. Я, например, считаю, парень должен быть ответственным, что-то уметь. Вон Пашка, если что, ну, там, в аварию если попасть… не дай бог, конечно!.. он медицинскую помощь может оказать. Потом, он в институт собирается – тоже плюс. А ветеринары нормально зарабатывают, если хороший специалист.
Асе хотелось сказать Наташке, что она оценила в Пашке всего одну сотую от его даров, и притом далеко не главную. Но внутренний голос предостерёг: «А может, это ты, Ася, дурочка и ценности твои курам на смех?»
Встречного чувства к своей подруге Пашка не проявлял, однако это не мешало Наташке в особо тёмные вечера решительно брать государя Полцарства под руку и тащить провожать себя до «железки». Смешно это было – Пашкина рука висит, как плеть, а за локоть зацеплен энергично согнутый локоть Наташки.
С того дня, как были обнаружены листовки с угрозой, в приюте начались ежевечерние разговоры о всяких ужасах: о людях с пневматиками и дубинками, железными прутами, электрошоками и прочими орудиями пыток, о предрассветных рейдах, совершаемых ими по местам «скопления собак». Обсуждали и судьбу самого приюта – не пора ли и правда спасаться от грядущих гонений?
Волновались все. Один только Пашка сохранял евангельское спокойствие в застигнутой штормом лодке.
– Чего вы психуете? Мало ли, кого гнали? Когда гонят – это как раз и значит, что нужно остаться! – говорил он.
Асе нравилось в приюте всё – напористая, весёлая энергия собак, радующихся её приходу, и то, что Курт больше не навязывался ей в провожатые и не хвалился сокровищами фонографа, только взглядывал иногда с улыбкой, как будто говоря: ты здесь – довольно и этого! И ещё ей нравилось, что все совершаемые ими действия – выгул собак, уборка, чаепития – были полны взаимности, молчаливого расположения друг к другу людей, животных и природы.
Иногда в приют забегал Саня, сразу хватался за Пашкину математику, наспех растолковывал, охал, давал новые задания и мчался домой. Словно всё это – и собаки, и Пашка, и встреча с близкими людьми – было теперь вне закона и грозило аукнуться страшными карами. От этих кратких набегов нехватка Саниного старшинства и тепла, и без того мучившая Асю, становилась ещё острее.
* * *
После женитьбы, случившейся непонятно как и для чего, Санина душа тревожно, а в последние месяцы уже и мучительно стала стремиться назад, в то благодатное время, когда его жизнь честно делилась между сном и призванием и ничего не было в промежутке. «Промежуток» этот в виде семейных вечеров и выходных угнетал Саню прежде всего потому, что во всей их с Марусей совместной жизни он не чувствовал света правды. В ней было только непрестанное латание каких-то брешей, томительное наведение мостов между нестыкующимися системами. Сколько он ни проводил сам с собой «педагогических бесед», не получалось зажечь этот свет, который без усилий вспыхивал в общении с сёстрами, с Ильёй Георгиевичем, Пашкой и с большим числом других людей. Саня винил себя и все свои дезертирские поползновения припечатывал строго: справляйся! От этой безнадёги, от того, что камнем совести сам завалил выход, хотелось плакать.
Вопреки неурядицам, наступающая весна доставляла ему страшную радость. Каждый новый день восхищал – если не солнцем, так дождём! И чем больше предстояло в этом дне отклонений от маршрута, бега по чужим улицам, взлёта по чужим лестницам, тем острее он чувствовал всеохватность жизни, равную принадлежность весеннего дня всем живым существам, а значит, и своё единение с ними.
В субботу рабочий день терапевта Спасёнова был коротким. Оставался ещё полновесный кусок светлого дня, целый вечер и ночь, простирающаяся в бесконечность – поскольку в воскресенье можно встать попозже.
Но, как это всегда бывало у Сани, если не прилагать особых усилий воли, незанятое время само собой превращалось в занятое. К обеду оно обычно исчезало подчистую – нуждающиеся сметали его, как товар повышенного спроса.
Снимая халат и щурясь на ярчайшее солнце в мутном, не вымытом ещё по весне окне кабинета, Саня припомнил намеченные на сегодня дела и с радостью осознал, что их совсем не много! Первое – забежать к Николаю Артёмовичу – у него день рождения. Коньяк ему захватить из подаренных на 23 февраля – вон их целая батарея. Да, и ещё просил журнал с телепрограммой! И второе – успеть на «собеседование» по поводу крестин.
На днях Саню горячо и со слезами зазвали в крёстные его давние пациенты. Отказаться не удалось. Ребёнок был первый и очень поздний, на него уже не надеялись. Саня работал тогда в поликлинике недалеко от Покровского монастыря и ляпнул просто так, из сочувствия к женщине, расплакавшейся у него в кабинете: а вы сходите к Матроне!
К Матроне сходили – и вот теперь Сане придётся быть крёстным, хотя вовсе он не годится на эту роль. А главное, где бы времени на всё раздобыть!
Значит, на Николая Артёмовича – полчаса, и батюшка – ну, сколько там он будет его собеседовать? Минут пятнадцать? – прикинул Саня, обдумывая предстоящий звонок жене, как вдруг его озарило прекрасной мыслью. Если взять высокий темп, он успеет минут на двадцать забежать домой. За обедом, лицом к лицу, будет проще растолковать Марусе, почему нельзя отменить ни одно, ни другое дело. Само собой, она скорбно закаменеет, и вот тут надо будет пообещать – а главное – выполнить, выполнить! – что к вечеру он вернётся и они вдвоём поедут куда-нибудь погулять. А Леночка? Ну, Леночку к сёстрам, в гости к Серафиме. Что делать!
Уладив таким образом план на ближайшие часы, Саня выбежал из поликлиники. Слепящий свет, не встречая лиственной преграды, валился прямо на землю и закипал в лужах синим огнём. Саня прищурился и, стараясь не глядеть по сторонам, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из страждущих, тут же попался.
– А я боялся, вы уже ушли! – возникая прямо из света, из прозрачного и сияющего, как наливное яблоко, безлистого сквера, приветствовал его Курт.
Несмотря на ужасную спешку, Саня ему обрадовался и отметил, что за последнее время голос Курта окреп, будто его очистили от ржавчины и хорошо смазали, в лице нет прежней бледности, даже волосы ожили и заблестели золотом и медью.
Саня думал иногда о его несостоявшемся самоубийстве и, несмотря на трагическую глупость попытки, видел в ней изнанку чистой души. Да – испугался наказания, но и принять Софьину жертву не захотел, не позволила совесть. А потому, услышав просьбу Курта уделить ему пару минут, с радостью согласился.
Накануне вечером страшным прострелом Курт вспомнил, что так и не нашёл свою «предсмертную» записку с признанием вины. В квартире её не было, а значит, Саня либо Софья взяли её с собой. Вопрос зудел и требовал выяснения. И вот теперь, приноравливаясь к Саниному шагу (Жень, ты прости, ничего, если на бегу? Совсем не успеваю!), он решил спросить напрямик.
– Александр Сергеич, вы извините, что беспокою по пустякам, но разговор не телефонный. Это вы взяли мою объяснительную записку? Если вы – хорошо, я рад. Только порвите и смойте её куда-нибудь, ладно?
Саня, замедляя шаги, полез в карманы пальтишка – и остановился.
– В зимней… – проговорил он и широко распахнутыми глазами, как провинившийся и застигнутый врасплох ребёнок, взглянул на Курта.
– В зимней? – не понимая, но холодея, переспросил тот.
Сойдя с тротуара на жидкую землю сквера и остановившись у скамейки, защищённой, как рвом, непроходимой лужей, Саня перебрал добытые из карманов бумажки – чеки, несколько мелких купюр.
– Да, точно! В зимней куртке! Её Маруся в тот же вечер… нет, на следующий, в стирку… – припоминал он. – Там ещё рукав был кофе залит, и вот, пальто мне выдала на весну.
Курт с тоской поглядел на растрёпанные бумажки и присел на край скамейки, с торца, там, где не было лужи.
– Александр Сергеич, ну кто вас просил её брать?
Оба они понимали: опасения о какой-то постиранной и смытой в трубы бумажке смешны! Даже если и не постирана она и не смыта, а выпала где-нибудь – кому, если не самой Софье и не её ближайшим родственникам, придёт в голову пускать её в дело? И всё равно исчезновение подобного «документа» тревожило.
Совершенно забыв про Марусю, Николая Артёмовича и «собеседование» с отцом Андреем, Саня виновато задумался.
– Я вас разочаровал? – улыбнулся Курт, и что-то дрогнуло, переменилось в его лице. Начиналась буря. – Знаете, я по жизни дико боялся разочаровывать. Меня легонько плечом толкали – я уступал. Мне говорили, что моя музыка для лунатиков, – я соглашался! В общем-то я был кротким, плачущим, нищим духом. Для окончательного блаженства недоставало только тюрьмы – и судьба мне её приготовила. А теперь – да, я пытаюсь выбраться и вернуть себе своё законное место!
Саня, весь развернувшись навстречу, внимательно и тревожно вслушивался в нарастающий бунт.
– Я должен был давно уже быть с Асей, в вашей семье! – продолжал Курт, нисколько не смущаясь своей неурочной исповеди. – Но грубый неуч потребовал дорогу, и я подвинулся. Вот была ключевая ошибка!
– Грубый неуч? – переспросил Саня.
– Да! А я, между прочим, Бауманский закончил и пятилетку в джазовом колледже. И я займу своё место, пусть даже и с опозданием!
– Женя, ну что ты несёшь! Совесть у тебя есть? – взмолился Саня.
– Александр Сергеич, не знаю, как у вас, а моя лично совесть – эта та самая злая старуха, которая чуть не свела меня в могилу. Она врала мне всю жизнь, душила меня и уверяла, что это светлый путь! Слава богу, она сейчас у Болеслава – он её у меня временно забрал. А я вот, пользуясь случаем, пытаюсь выжить!
Про совесть Саня не очень понял, но решил не выяснять, только примирительно положил руку на спину Курта, надеясь успокоить гудящий колокол.
Прикосновение помогло. Курт не стряхнул его ладонь. Помолчал, перевёл дух и заговорил уже совсем иным тоном:
– Когда я в первый раз попал к вам в дом, эта липа в окне, этот ваш уникальный Пашкин дед, Илья Георгиевич… Он ведь ваш домовой, верно? Так вот, я ведь понял сразу – это мой мир! С вами я бы выправился. А в одиночку – просто не выдерживаю трения жизни. Меня сносит во мрак! – Курт взглянул на Саню – понимает ли тот? – и, удостоверившись, снова отвёл глаза. Как утлый кораблик, взгляд нырнул и поплыл по солнечному ручью, текущему вдоль дорожки. Выражение его лица сделалось мягким, и голос тоже – мягким и бережным. – У вас я бы стал таким, каким был создан. Мне буквально представилось – какое это будет счастье, воплотиться в себя самого! Сначала мне даже было не важно, в каком статусе очутиться у вас. Главное, чтобы меня приняли. Это уже потом я понял – дело в Асе. Да, именно в ней.
Саня с упавшим сердцем слушал Курта. На мгновение ему показалось, будто он присутствует при сделке. Идёт таинственный торг, передел даров судьбы, и он, Саня, угодил в число тех, кто решает, каким будет новый статус-кво.
– Женя, послушай меня! – поймав паузу, горячо заговорил он. – Думаешь, у меня всё складывалось, как я хотел? Или у Софьи? Человек не властитель жизни, и слава богу! Самовластие – страшная штука! Ты же сам знаешь, бывает, что надо опоздать на самолёт или чтобы мест на рейс не было. И смириться. И окажется потом, что это тебя спасло!
– Александр Сергеич, а если кто-нибудь вам объявит, что возлюбленный вами Христос забронирован под завязку, мест нет! Вы как поступите? Запишетесь в буддисты?
– А ты думаешь, вышибу того, кто пришёл раньше?
– Не вышибете, но будете упрямо стучаться – и вам отворят!
Саня с нарастающей тревогой смотрел на Курта. Тот впервые говорил с ним настойчиво и смело, на равных. Его всегда немного сонное лицо ожило, глаза горели. Со своими увязанными в сноп кудрями он походил теперь на волшебного воина или царя, героя саги.
– Александр Сергеич, вы извините меня! Я ничего такого не планировал вам говорить. Просто хотел спросить о записке, – покачав головой, признался Курт. – Но, знаете, скрытность – не мой конек. Так что я даже рад. А то, что записка моя бог знает где… Болеслав сказал бы – отличный повод стать сильнее!
Поднявшись со скамейки, он в два прыжка выбрался из затопленного сквера на тротуар. Отсалютовал ладонью:
– Простите ещё раз! – и быстро пошёл прочь.
Саня остался один, если не считать сороки с ободранным хвостом, севшей на яблоневую ветку и пытавшейся завести с ним разговор. Её сокрушённые вскрики были похожи на скрип самодельных качелей в далёком Санином детстве.
«Ну и что мне делать с ними со всеми?» – подумал Саня, взглянув на птицу. Сорока крикливо ответила, что он эгоист, как все люди. У неё такое с хвостом! И годы уже не молодые, и нет никаких сил чинить гнездо. А он не жалеет её, а думает о каких-то «всех»!
Саня вздохнул и, поднявшись со скамейки, почувствовал, что ботинки промокли капитально. А карман пальто – да, карман уже несколько секунд распирает требовательный гул виброзвонка. Маруся волнуется – цел ли её супруг и не пора ли разогревать обед.
Что поделаешь! Не успевал он уже домой. Пришлось признаться Марусе и про именинного Николая Артёмовича, и про грядущие крестины, а в утешение ещё и объявить, что на вечер договорился с сёстрами насчёт Леночки. («Господи, что же вру-то так много!»)
Кое-как успокоив Марусю обещанием вечерней прогулки, Саня побежал к метро. Если поднажать, он как раз успевал на встречу с отцом Андреем.
Как быть с Асей? Рассказать ей? – думал он по дороге. Конечно же, планы Курта «занять своё место» были отчаянной фантазией, но и фантазия, Саня это знал, могла в какой-то миг прорвать границу с реальностью и изменить ход жизни. Вот была у Софьи фантазия, что Курт ей друг, что, может быть даже, она слегка в него влюблена. Всё это жило в фантазийном мире, не воплощаясь. И вдруг со всей мощью действительности Софья взяла на себя его вину. Вот тебе и фантазия!
У метро Саня спохватился и позвонил Асе – спросить, можно ли к ним на вечер закинуть Леночку? Вопрос был трудный, и Саня об этом знал. Пугливая и замкнутая Марусина дочка не нравилась Серафиме – та считала кудрявую, с выпуклым лбом и голубыми глазами, крайне неизобретательную Леночку за куклу, а играть в куклы, тем более с куклами, она не любила. Ей больше нравился хомяк либо ящик с игрушками для мальчишек, вынутый как-то под Новый год с антресолей, из глубины Саниного детства, и уже не убранный на место. Леночка хныкала от скуки, Серафима сердилась и загораживала от Марусиной дочки свои игрушки. Наконец поругавшихся барышень утихомиривал кто-нибудь из сестёр, а чаще – призванный на помощь Илья Георгиевич, и начиналось чтение книжки.
– Ася, есть минутка? – дозвонившись, приветствовал он сестру. – Слушай, вы убьёте меня, если мы к вам Леночку на вечер закинем? Очень нужно! Мы, может, часиков…
– Саня, я в приюте! – перебила Ася. – Плохо с Агнеской! Мы тебе не стали звонить, потому что ну куда ещё тебя дёргать! Но раз уж ты сам позвонил, может, забежишь?
– А что плохо? – растерялся Саня.
– Пашка говорит, пневмония, а Тани нету! Она на вызове в Подмосковье.
– Какая ещё пневмония! Вы что, сдурели! А ну дай мне его! – разволновался Саня. – Или нет, без толку с ним разговаривать. Раз нет Татьяны, берите собаку и поезжайте к врачу!
Ася бросила трубку.
Саня прошёл несколько шагов и, замедляясь потихоньку, остановился. Что-то делает он не так, раз неотложные задачи не умещаются в земные сутки.
Выбирая между разговором с батюшкой об обязанностях крёстного и Пашкиными доходягами, Саня колебался недолго. Он с чистой совестью вызвал номер отца Андрея и сказал, что не придёт сегодня – появился срочный пациент. Тот отвечал молодым, весёлым голосом, пожелал ангела в помощь во всех благих делах.
20
Через пятнадцать минут, лихой и вольный, как игрок, промотавший всё, Саня влетел на территорию Полцарства и нашёл государя с фонендоскопом в ушах и глазами на мокром месте.
Агнеска, худая собака с гладкой бронзовой шкурой и волшебно-чёрными, немыми от пережитых бед глазами, была главной любовью и поражением Паши Трифонова.
Прошлой весной дети из окрестных домов нашли на опушке леса собаку с горлом, обмотанным железным тросом. Должно быть, живодёрство случилось давно – шерсть вылезла, железо вросло в мясо, из-под страшного «ошейника» сочилось. Агнеска зарылась в корнях берёзы – умирать. Пашка принёс её в Татьянину лечебницу на руках. От ужаса Агнеска закаменела – шерсть встала дыбом, лапы растопырились. Он нёс её, как деревянную лошадку-качалку. Но, едва почуяв пол, она вновь обрела гибкость и ползком удрала под диван.
Пашка не смог приручить Агнеску. В отличие от других собак она не отводила перед хозяином глаз, а немо терпела соприкосновение взглядов – столько, сколько потребуется. Так же немо и неподвижно, словно находясь за гранью выносимого, она терпела предпринимаемые Пашкой попытки общения и, стоило хозяину отвернуться, скрывалась под диваном. Пашка не знал, что придумать. Все попытки «социализации» упирались в клубок неизбывного Агнескиного ужаса перед миром.
В конце марта с Арктики пришёл ветер отступившей зимы и так загудел в лесных кронах, что даже в час пик не было слышно города – всё заслонял первобытный вой севера. В один из таких оледенелых, бьющих железным ветром дней Агнеска заползла в зимник и больше не выходила. Пашка поднял ставенку в конуре и услышал частое, с хрипом и присвистом, дыхание заболевшей собаки.
Когда Саня примчался, Пашка, стянув волосы резинкой и, совсем по-взрослому воткнув в уши фонендоскоп, как раз выслушивал Агнескины бока. Сдвинул брови и, ничего не сказав, протянул Сане.
Саня послушал и кивнул озабоченно.
– Александр Сергеич! Что делать? – спросил Пашка, чуть не плача.
Позвонили Тане, описали результаты осмотра, и тут же Наташка побежала в аптеку со списком продиктованных Татьяной лекарств.
Решено было отнести собаку в подсобное помещение бывшей спортбазы, где ночевал в тепле страдающий суставами Джерик. Пока устраивали собакам ночлег и бегали в загончик за Агнескиными игрушками, больная улеглась и, смежив шерстяные веки, отрешилась от суеты. Оба врача проследили движение рёбер под тощей шкурой. Собака дышала спокойнее, жаропонижающее начало действовать.
– Паш, ты домой-то сегодня собираешься? – спросил на прощание Саня.
– Собираюсь! – буркнул тот. – На последнем метро уеду и на первом вернусь. Если б не дед, я бы вообще тут жил, раз домой их взять не разрешает. Но ведь опять устроит инфаркт какой-нибудь!
Саня вздохнул и, впервые толком взглянув на сестру – тихую и нахмуренную, сказал:
– Ася, пройдись со мной до бульвара!
Когда брат и сестра вышли на аллею, на светлом ещё небе запорхало между ветвями облачко весенней луны. Вечер только приближался, но ручьи, захватившие днём весь лес, остановились. Под ногами начинало похрустывать. Некоторое время они говорили о том, что Агнеска, конечно, поправится. Только, должно быть, одичает ещё больше после уколов.
– Я Курту позвоню, мы с ним завтра пораньше придём, хоть на рассвете – чтобы Пашка не волновался, – сказала Ася.
– Ася, послушай! Я вот как раз хотел сказать тебе, – поймав момент, решился Саня. – В приюте не так много животных. Тебе не обязательно сюда приезжать. Пашка справляется.
Ася с застывшей полуулыбкой посмотрела в лицо брату:
– Это тебя Лёшка попросил?
– Нет! Это я тебя прошу! – твёрдо сказал Саня. – Прошу, потому что есть на то обстоятельства!
– Какие обстоятельства? – заволновалась Ася.
Саня качнул головой, не зная, как объяснить, и снял с виска сестры запутавшееся в волосах берёзовое семечко.
– Помнишь, мы в детстве ходили за малиной? Ты ехала на папе и иногда на мне. Больше всех набирала Сонька, папа чуть-чуть, а мама вообще не собирала. Она выискивала хорошие ягоды и подкармливала папу и тебя. – Он вздохнул, не находя слов. – Ася, я не знаю, как сказать! Тебе Бог послал мужа, Лёшку. В детстве тебя укрывала семья, а теперь защита твоей души – это он. Мир сейчас дикий, он наскакивает на человеческую душу и разрывает её, как дикий зверь. Посмотри, что он сделал с Куртом! В общем, я не знаю, как это всё сказать! – Он нахмурился, досадуя на неумение говорить складно, и умолк.
– Знаешь, Саня, – взяв брата под руку и уютно к нему прижавшись, проговорила Ася. – Я, конечно, согласна с тобой. Но мне в последнее время кажется, что я – это не я. Не та я, которая росла в нашей семье, веселилась, рисовала. Ты понимаешь, о чём я говорю? Мне кажется, у меня ещё ничего не определилось и всё впереди! – призналась она и уткнулась носом брату в плечо. – Так ты не хочешь, чтобы я приходила, из-за Лёшки? Или из-за Курта?
Саня в сомнении качнул головой, помолчал и сказал честно:
– Из-за Курта. Его по-другому надо спасать. И не тебе. Тебя он утащит в свой кошмар – и всё. То-то будет весело!
Ася шла, прислонившись к плечу брата, и думала: как хорошо! Вот она рвётся, как глупый подросток, – а Саня её ловит. Против её воли, но поймает всё равно. Можно колобродить, беситься, дойти до края – и всё равно не погибнуть, потому что у неё есть брат.
– Я и сама иногда боюсь, правда, – сказала она. – Боюсь, что я другая. И мне даже кажется иногда: может, это одержимость, болезнь?
Там, где лесная аллея выплёскивалась в город, брат и сестра остановились и рассудили, что Ася, во спасение Саниной семейной жизни, может прямо сейчас забрать с собой Леночку.
– А к Николаю Артёмовичу тогда уже вместе с Марусей зайдём. Всё же день рождения у человека – нельзя не навестить!
На этих словах Саня полез в карман за телефоном – позвонить жене – и вынул пустую руку. Обшарил себя всего, поглядел в сумке и вспомнил.
– Мы когда Агнеске делали укол, там, на столике я выложил. Идиот! Ася, ну-ка дай-ка я с твоего позвоню!
На мобильном сестры он быстро нашёл номер Маруси, вызвал и обернулся, услышав в отдалении знакомую песню звонка. Со стороны пешеходного проспекта, где стоял их дом, в своём синем плащике, с туго стянутыми в узел тёмными волосами, бежала Маруся. Саня видел, как она выхватила из кармана телефон и, не успев поднести к уху, наткнулась взглядом на мужа. Остановилась и закрыла половину лица ладонью – так что остались видны одни глаза.
– Марусь! Ну прости меня! – помчавшись навстречу, воскликнул Саня. – Мы когда Агнеску лечили, я там телефон забыл, в приюте! Я сейчас сбегаю!
– А почему в приюте, Саша? У тебя в приюте было собеседование с батюшкой? Или Николай Артёмович на коляске прикатил подышать? – спросила Маруся. Её миловидное круглое лицо, стремительно розовея, обрело сходство с июньскими пионами, так что Асе, наблюдавшей за сценой, сделалось тревожно – не случится ли сейчас взрыв парового котла?
Саня хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, развернувшись, побежал в направлении приюта – за оставленным мобильником.
Привалившись спиной к липе, Маруся большими тяжёлыми глазами поглядела на Асю.
– Там кто-то у него есть? – хрипло спросила она. – Кто-то, кто приманивает его? Какая-то женщина?
Ася опешила. Она хотела обозвать Марусю дурой и вдруг – вспышкой – увидела, что перед ней не глупость, а поле брани, душа, разорённая демоном ревности. Ей стало нестерпимо жалко брата, угодившего в эту пошлость.
Не помогли Асины заверения. Как ливень или буран, Марусю настигла и согнула истерика. Она плакала и билась лбом в шершавый липовый ствол.
– Я не могу выносить, что он привязался к этому логову! Он же приличный человек, врач! Разве я знала!.. – рыдала Маруся. – И скажи мне! Только правду, правду! – цепляясь за Асю, вскрикивала она. – Кто у него там?
– Ему Пашку жалко, – сказала Ася, стыдясь смотреть на плачущую Марусю. – Если с Ильёй Георгиевичем что случится – кто его будет ловить? Вот Саня поэтому старается, чтобы был контакт…
Утихнув, Маруся вытерла бумажным платком мокрое лицо, так что на щеках остались белые катышки.
– Он уходит от меня, – отрешённо проговорила она. – Саша от меня уходит. И я это знала – нечего было обманываться. Ещё в день, когда мы познакомились, в поликлинике. Я же видела – он всем нужен! Все только и думают, как его заполучить. Если не всего целиком, то хотя бы кусками! Разорвать его на куски, чтобы мне ничего не осталось… – И свела брови в тяжёлой думе.
– Марусь, ты дурочка! – сказала Ася. – Ты лучше гордись им, а не выдумывай!
Маруся помолчала и, стараясь выдержать голос ровно, без дрожи, объявила:
– Я не буду его ждать. Скажи ему, чтоб он шёл по своим делам! А я к Леночке – а то она у соседки!
Договорив, она развернулась и, взвизгивая от стремительно накативших валов истерики, побежала домой.
Ася проводила взглядом фигуру невестки. На секунду ей почудилось – может, это Лёшкина душа прибегала к ней в Марусином обличье?
В тот день, впервые с начала «собачьей истории», Асе сделалось страшно. Она подумала: хлипкий домик в глуши, мистические глаза больной Агнески и древние Пашкины колыбельные конечно же не могут быть правдой. И разве мог быть чем-то, кроме искуса, этот самоубийца с вещим фонографом и волшебной кучей волос?
И, конечно, не зря Саня сегодня вспомнил об их походах за ягодами. Пахнущий крапивой и брызгалкой от комаров малинник детства встал как страж на защиту её сердечной невинности.
Качаясь в вагоне метро, ловя на своей хрупкой фигурке одобрительные взгляды попутчиков, Ася чувствовала жар в щеках. «В самом деле! Стала бесстыжей! Муж, видите ли, не понимает её душевную тонкость! И всё думаешь только о себе, о своей душеньке!» – ругала она себя и спасительно воображала, как придёт домой и скажет: «Лёшка, прости меня! Я больше туда не пойду, раз это тебе так важно. Буду с тобой! Мир?»
В тот же вечер Ася покаялась перед Лёшкой и жила в неге восстановленного союза всю первую неделю апреля. И каждую ночь перед сном Марфуша прибегала в Асины мысли и расплёскивала перед хозяйкой грязно-белую шкуру – как талый снег. Она стелилась пузом по земле, хвост радостно мельтешил, и морда стремилась нырнуть под ласковую ладонь. Никогда ещё Ася не видела такой счастливой и грязной собаки. Она утыкалась в подушку и, как наяву, шебуршила Марфушину шерсть на загривке.
Глава пятая
21
Определённо, что-то неладное творилось у Болека в «зоне карьеры»! То одна, то другая помеха мешала ему вернуться в чёткий рабочий режим. Не прошло и двух недель, как он снова был вынужден нарушить «гастрольный график» и в срочном порядке явиться на переговоры с бывшей супругой, возымевшей новые имущественные претензии. Ей понадобилась маленькая вилла на побережье, где Болек в последние годы уединялся восстанавливать силы.
О том, чтобы уступить, не могло быть и речи, и всё же он полетел – разобраться на месте, дабы конфликт не выплеснулся на публику. Вынос сора из избы был главным и единственным орудием шантажа бывшей супруги.
На предложенную Болеком неофициальную встречу она взяла десятилетнего сына и поручила ему главную роль. Поглядывая на мать и всё более проникаясь жалостью к своей вымышленной судьбе, мальчик доказывал отцу, что тот отнял у него дом его детства, полный самых светлых воспоминаний. Ребёнок бывал в убежище Болека раза три, не подолгу, однако произносил свою речь искренне, вжившись в заранее приготовленный материнский текст.
Болек выслушал сына и уехал в аэропорт. Дожидаясь рейса, он связался со своим юристом и отдал распоряжения о подготовке дарственной. Затем прошёлся по залам, выбрал кафе поспокойнее и за чашкой чая позвонил домоуправляющей Марии Всеволодовне – сообщить, что вскоре ей придётся подыскивать другое место.
– Подумаешь, какая беда! Отняли игрушку! – мужественно сказала она. – Не печалься, купишь другую и позовёшь нас с Луишем!
– Договорились! – скрепя сердце сказал Болек. Он знал, что уже не вернётся в ту печальную загадочную страну, на край света, где прежде всегда мог укрыться и под эпический грохот волн выпить чаю с мудрейшей Марьей.
«Что ж, это к лучшему! Значит, будем двигаться дальше!» – подытожил он и в следующий миг, привалившись локтем на спинку кресла, уткнувшись в согнутую руку лбом, позволил себе пару минут слёз.
Тепло и уютно было плакать в обезличенной суете аэропорта, он никого не стеснялся, и никто не мешал ему. Мир был его домом. Это чувство, неоднократно испытанное Болеком в терминалах, на вокзалах, в толчее крупных городов, повторилось вновь. Через минуту-другую он утешился. В конце концов, разве плохо – подарить собственному сыну маленькую виллу на океане? Не каждый может позволить себе подобное!
Вспомнив таким образом о значимости собственной персоны, Болек сел в самолёт, который должен был доставить его в Санкт-Петербург, на завтрашний мастер-класс.
В полёте с ним случилось дежавю: как и в предыдущий раз, он внезапно почувствовал, что нездоров. Правда, теперь это был не фантом, а вполне достоверный весенний вирус.
Через сутки, валяясь в питерской гостинице, в томительной близости памятника Фёдору Михайловичу Достоевскому, с купленным в ближайшей аптеке термометром под мышкой, Болек думал о том, что, похоже, его карьера хочет сбросить его, как конь – задремавшего наездника. Конечно, можно было бы счесть эту мысль иррациональным последствием гриппа и выполоть из сознания, но – в том-то и беда – Болек был уверен, что мысль разумна. Они – «маэстро Болеслав» и его дело – перестали любить друг друга.
Накануне Болек провёл один из надоевших ему до смерти мастер-классов, который, к сожалению, нельзя было изъять из программы, он являлся «визитной карточкой» Студии.
Вначале всё шло по схеме. Немолодая женщина, чей брак недавно рассыпался, простёрши руки к потолку набрасывала в воздухе своё желаемое будущее. На смеси эмоций – где-то между смущением и восторгом – она рассказывала собравшимся, что видит себя на сцене, в роли признанного лидера, приносящего пользу людям и деньги – себе и детям. Болек знал, что мечта не сбудется никогда, потому что её и не было. В действительности женщине хотелось, чтобы муж покаялся и вернулся – больше ничего.
А дальше случился коллапс. К сцене подошёл человек лет пятидесяти, с интеллигентным лицом и подёргивающейся левой бровью. Вежливо попросив у помощницы микрофон, он сказал, что желал бы поделиться своей историей.
Его сын, добрый, порядочный мальчик, может быть, не хватающий с неба звёзд, но всё же получивший хорошее техническое образование, увлёкся программами Болеслава и совершенно переродился.
– Вы понимаете, у него появилась цель, – объяснял мужчина, морща непослушные брови. – Он потребовал разменять квартиру, ему нужен был какой-то стартовый капитал. Мы с женой кое-как выкрутились, продали машину, ещё кое-что и отдали ему эту долю, которую он требовал. Он уехал за границу работать по профессии, неплохо устроился. Там теперь всё у него налаживается, он доволен. Но совсем перестал общаться. Сказал, что из-за нас потерял ценные годы. Мы сами звонили ему иногда – но он так холодно отвечал…
Мягко оборвав исповедь, Болек заверил оратора, что это временный этап.
– Вам с женой теперь нужно… – перешёл он было к советам.
– Не перебивайте меня! Я не договорил! – неожиданно резко сказал мужчина, и бровь загуляла сильнее, словно он желал подать присутствующим некий таинственный знак. – Нам с женой больше ничего не нужно. Потому что её уже нет. Вчера было сорок дней. Она просто не смогла, не захотела жить, когда единственный сын, единственный!.. – Сморщившись, он махнул рукой.
– Мне очень жаль, – сказал Болек. – Но я уверен, что вам не следует винить в случившемся сына…
– А я его и не виню! – совладав с приступом горя, возразил мужчина. – Он просто глупый юнец. Я виню вас! Вы толкаете детей к какой-то там самореализации. А человека сначала надо научить любить! Жалеть своих близких, терпеть их несовершенства. Да! Терпеть свою нервную неуклюжую мать! А вы чему его научили?
Воспоминание было ужасно. Раньше Болек быстренько отработал бы его и «удалил», но теперь, валяясь с температурой, он нарочно вглядывался в эпизод. Как какой-нибудь мазохист держит руку над огнём, он держал свою мысль на произошедшем, не позволяя себе уклониться от чувства жгучей жалости, горького сокрушения о ненароком сломанной жизни. Образ несчастного стареющего человека, обвинившего его в своей трагедии, был чем-то важен ему. Безвыходным одиночеством? Непоправимостью? Вдруг в голову ему пришла очевидная и всё-таки ошеломившая его мысль: не так ли и он уехал? Оставил отца, бабушку, не чаявшую в нём души, оставил Софью.
Около семи утра, взрезая жалюзи, в номер ударило солнце. Болек проснулся и, открыв глаза, не смог сообразить, в каком он городе. Шатнувшись, дошёл до гостиничного окна и увидел весенний рассвет и на пустой ещё площади – задумавшегося Фёдора Михайловича. Сел на кровать и провёл по волосам. Затылок вспотел, как в детстве. Положил ладонь себе на плечо и похлопал: всё хорошо, всё хорошо…
Температура оказалась нормальной, но сладкий соблазн проболеть взятые на себя обязательства подкрался и не отпустил. Болеку захотелось домой, отдохнуть. Беда же была в том, что теперь, после потери укромного уголка на океане, он уже и не знал, где находится это место – дом.
Пора было приводить себя в рабочее состояние. До рейса в Ригу – следующую точку в графике семинаров и презентаций – оставалось часа четыре. Болек вздохнул и, дав себе ещё небольшую отсрочку, глянул почту. Среди писем было одно коротенькое, от Курта. Тот писал, что ему трудно, всё идёт не так, как он надеялся, и всё же удаётся потихонечку двигаться. Затем, как обычно, благодарил и под конец спрашивал: не будет ли его завтра в Москве, на дне рождения у Аси? Всё-таки круглая дата – четверть века! Они тогда могли бы пересечься и поговорить, хоть пару минут.
Болек дочитал и в раздумье поднял брови. Известие о дне рождения младшей кузины совершенно меняло дело! Естественно, он не помнил о нём. В последний раз ему довелось поздравлять Асю, когда той исполнилось пять. Но теперь событие пришлось как нельзя более кстати.
Он решил, что перенесёт мероприятия в Риге, отлежится сегодня как следует, а завтра утром отправится на «Сапсане» в Москву и лично поздравит Асю. Кстати, можно будет воспользоваться случаем и согласовать с родственниками дату «поездки в детство».
Составив этот маленький план, Болек почувствовал прилив аппетита и бодро спустился к завтраку. Приходилось признать: сачковать раз от разу становилось всё веселее! За столиком, в окружении милой его сердцу немецкой и французской речи (гостиница нравилась иностранцам) он открыл планшет и, забыв о намерении отлежаться, изучил, что сегодня вечером «дают» в Мариинке.
* * *
После примирения с Лёшкой Ася перестала появляться в приюте, и у Курта на душе поскучнело. Старая плесень проступила белёсой плёнкой и начала застилать дни. К тому же от своего консультанта он подхватил вирус ностальгии по детству. Ему дважды приснился одинаковый сон: он шёл по пыльным и солнечным улицам, по дачным просекам ранних лет и оба раза на пути откуда ни возьмись являлась его собака, спаниель Кашка.
«Кашка, я тебя умоляю, сгинь, пожалуйста!» – заклинал он её, но она не исчезала, больше того, призывно лаяла на хозяина, после чего вставала на задние лапы и, дотянувшись до лица (Курт был в детстве!), яростно лизала в нос и губы. Ей было что-то нужно от маленького Жени. Странность сна заключалась в том, что на самом деле Кашка появилась у Курта значительно позже, лет в пятнадцать, когда он был уже весьма рослым молодым человеком.
Видения расшатали наладившийся было в последнее время сон. Курт вновь стал просыпаться в чёрный разгар ночи и мучительно бодрствовать, озирая прояснившимся взглядом свои дневные деяния. И вновь трепыхнулась в сознании старая привычка – подхватив фонограф, двинуться во мрак, слушать лязг и глотать пойло большого города.
Всё грозило вернуться на круги своя. Существо Курта отторгало прописи. Попытка запоздало поставить почерк, превратить жалкие заваливающиеся друг на друга крючки если не в каллиграфию, то хотя бы в худо-бедно внятную жизнь рассыпалась на глазах. Правда, он пока ещё удерживался от «благородных вин», как любила подшутить над ним Софья, но сдача этого последнего оплота была лишь вопросом времени.
И скоро время пришло. Курт застал себя в том самом ресторанчике у дома, где когда-то провёл целую вечность – сотни тёмных часов. В последний раз он был здесь сразу «после смерти» – в компании своего неожиданного спасителя. И теперь, присев в уголок у окна, готовясь сделать привычный заказ, почувствовал неопределённый толчок в сердце. Положив руки на тёплое дерево столешницы, он попытался представить напротив себя Болеслава – его свободную позу, зеленовато-карие согревающие глаза.
Когда же образ возник более или менее ясно, Курт пересел на другую сторону – стараясь попасть точно «в шкуру» воображаемого учителя, примерить на себя его натуру, как пиджак. Ну вот – плечи расслаблены, одна рука, опёршись локтем о спинку стула, вольно повисла, улыбка, глаза тёплые, дружелюбные. И сразу захотелось глотнуть воды – простой чистой воды из стеклянной бутылки.
Следуя предписаниям тренера, Курт немедленно исполнил свою прихоть. Попросил бутылочку «перье», чашку эспрессо и принялся изучать посетителей, иногда отвлекаясь на весну за окном. Тем временем Болеслав неторопливо располагался в его уме, поправлял сбитые настройки…
Конечно, всё это было фантазией, наивной игрой, но Курт почувствовал, что его сознание проясняется. Теперь он мог оценить ситуацию непредвзято. Асин нынешний выбор – больше не приходить в приют – не был катастрофой. Он лишь обозначил препятствие, временный натиск противника. И ему, Курту, вместо того чтобы киснуть, следовало совершить ответный ход – тот, что приблизит его к цели.
Потихоньку пьянея от чистейшей воды, он взялся обдумывать комбинацию, но интриги не были коньком его прибитого многолетней хандрой ума. Ничего лучшего, чем грядущий в самом ближайшем времени день рождения Аси, не пришло ему в голову. Конечно, вряд ли его пригласят. Ну что ж, значит, придётся повести себя нескромно!
Курт слышал, как где-то очень далеко, в кармане у Болеслава рыдает его бедная совесть, заклиная его оставить в покое чужую жизнь. К счастью, расстояние оказалось достаточным, чтобы он мог не отвлекаться на эти звуки. Ближайшая цель была выставлена. Теперь ему предстояло найти для Аси подарок.
Курт верил, что каждому человеку предназначено в жизни несколько особенных вещей – своего рода талисманов, и был наделён даром распознавать их среди всевозможного барахла. Подобным магическим предметом стал для него фонограф. А через некоторое время обнаружила себя и ещё одна вещица.
После того как Лёшка исподтишка, не спросив хозяев, выставил его из дома Спасёновых, Курт мотнулся на три дня в Барселону – проветрить сердце. Там, в переулке, уводящем прочь от туристического центра, в одной лавчонке он увидел девичьи часы на трогательном браслете. Хрупкие серебряные бабочки, сплошь в бирюзовой крошке, водили хоровод вокруг воображаемого запястья. Стрелки замерли, но продавец уверял: нужно просто заменить батарейку. Курт купил их для себя – само собой, не чтобы носить. Он купил их своей душе. В те дни она была беззащитна, вся в слезах, в её вздрагивающей воде отражалась Ася.
Сейчас у Курта не было денег вот так запросто взять и сгонять в Европу. Зато он вполне мог смотаться туда, где несколько лет назад приобрёл фонограф.
Ярмарка на востоке столицы была открыта. Подняв воротник пальто, ладони сжав в кулаки и втянув в рукава, Курт прошёл по выстуженным сквозными ветрами рядам, где продавали картины, и свернул на барахолку. Подарка для Аси здесь было не найти, но взгляд разбежался. Перед ним открылись любимые «мужские» ряды с реликвиями для интуристов – монетами, шинелями, будёновками, армейскими фляжками, биноклями, а также цинично выставленными на продажу боевыми орденами. Совсем забыв, для чего приехал, Курт пошёл на звон – подвешенная на ленте спортивная медаль била о бок самовара.
Курт всегда был немножко Андерсеном. Стоило ему сосредоточить взгляд, предметы оживали и начинали рассказывать свои истории. На этот раз его привлекли дореволюционные карточки с цветами – на сбор помощи сиротам. «День мака», «день василька»… – прочёл он. Те сироты, даже если и дожили до старости, все давно уже умерли.
Хозяин палатки, мужичок-с-ноготок, даровитый торговец с заплывшим глазом, обмерил взглядом Курта, рассматривавшего сокровища на столе. Что-то тронуло его в облике и выражении лица посетителя. Он взял пластиковый стаканчик и, плеснув дымного жару из термоса, за ободки протянул Курту:
– Не торопись. Погрейся!
Курт машинально взял стаканчик. Барахло мужичка переместило его на ту удивительную карту России, где все эпохи существовали единовременно, многослойным дымящимся пирогом. Да и сам хозяин, угостивший его походным чаем, был типичным инвалидом восемьсот двенадцатого года.
Тем временем «инвалид» уже вовсю любопытствовал, не интересуют ли молодого человека награды Великой Отечественной войны, или, может быть, он желает взглянуть на коллекцию дореволюционных фотокарточек?
– Желаю, – сказал Курт и неожиданно признался: – Я собираю звуки. Это, по сути, та же фотография.
Сей же миг перед клиентом был распахнут замшелый альбом, полный снимков на толстых картонках.
– А это кто бы вы думали? – хитро спросил мужичок и ткнул пальцем в обломанную с нижнего угла карточку.
– Кто же?
– Поэт Александр Блок со своим спаниелем! На даче!
Курт улыбнулся. Юноша на снимке был не слишком похож на Блока, однако выражение лица выглядело вполне «серебряно», будто сквозь сон. А вот спаниель и правда оказался похож – на Кашку. «Кашка, не мы ли с тобой?» – подумал он, вглядываясь.
– Ладно, заверните мне поэта, – сказал Курт. – Почём он у вас?
Фотография была хороша. Она пахла тем давним временем, когда фонограф был юным. Но вопроса с подарком для Аси всё-таки не решала. Прояснившимся взглядом Курт облетел затхлые развалы. «И что ты ей здесь собрался купить? Саблю?»
– Может, что-то конкретное ищешь? – видя, что покупатель не удовлетворён, спросил мужичок.
– Мне надо подарок найти, необычный. Девушке на день рождения.
Мужичок бросил озабоченный взгляд на своё историческое богатство и, подумав секунду, махнул рукой по ходу аллеи:
– Туда иди, вниз. Там народный промысел, уральские самоцветы, серьги-броши. Там найдёшь!
Курт поблагодарил и, спрятав «Блока» в кармашек за пазухой, пошёл в указанном направлении. Когда же добрался до шалей и шкатулок, вдруг развернулся и зашагал прочь.
Он шёл к дому, слегка вскинув брови, словно был приятно удивлён неким известием. А затем побежал, помчался чуть ли не вприпрыжку. Ну как же он не сообразил сразу! У него давно уже был подарок для Аси!
Дома, достав из ящика стола часы с бирюзовыми бабочками, он внимательно осмотрел их и улыбнулся. Смысл покупки двухгодичной давности наконец-то раскрыл себя. Оказывается, приобретение было сделано для Аси! Заодно с часами Курт решил подарить ей и рыхлую, в чёрных крапинах минувших ста лет, фотокарточку. Полагая, что символически это всё-таки они с Кашкой, на обороте написал: «Асе». Городить упаковку для столь неземных даров показалось ему смешным. Он знал: когда настанет момент, то и другое он протянет ей на ладони.
Поздно ночью, спохватившись, Курт написал Болеславу доклад о пройденном этапе. Он не был уверен, что Болек дорожит успехами подопечных и, тем более, нуждается в их благодарности, и поэтому был краток. Но всё-таки позволил себе спросить, не будет ли его в Москве, на Асином дне рождения?
Утром от коуча нежданно пришёл ответ. «Буду! Насчёт пересечься – пока не знаю. Жень, да ты и сам справляешься!»
* * *
Болек любил трамваи. Он симпатизировал им в Берлине и Лиссабоне, Питере и Москве. Подобно воспевшему троллейбус поэту, в пору душевной смуты он садился в общественный транспорт и среди грустных стариков и подростков в наушниках обретал спокойствие.
Но на этот раз трамвай не помог. Добравшись на исторической «Аннушке» до Новокузнецкой, Болек вышел и зажмурился. Солнце, бьющее через голые ветки, взрезало душу и достало до того далёкого времени, когда маленький Болек шагал по этой самой улице с отцом – в гости на бабушкины «жаворонки». Булочки в форме птиц с изюминками глаз и клювом из фольги по стародавней традиции пеклись у Спасёновых ежегодно 22 марта. Дети носились по дому с жаворонками в руках, подвывая по-самолётному и пикируя друг на друга. И так щемяще пироговое тепло сплелось в памяти с потоком сырого воздуха из форточки, словно птицы эти, несмотря на всё веселье, были вестью о чём-то грустном.
Списав остроту воспоминания на недавний вирус, Болек приобрёл в первой встречной аптеке комбинацию антистрессовых витаминов и минуту спустя, на лавочке в Большом Толмачёвском, в тени «писательского» дома, запил таблетки водой. Сделал дыхательные упражнения и понял, что чувствует себя лучше.
Сегодня вечером его ждал рейс, но до отъезда в аэропорт он вполне успевал поприсутствовать на именинах у Спасёновых, ради чего и прибыл в Москву. Софья, которой он позвонил уже из поезда, сказала, будут только близкие, зато в полном составе. То есть приехавшие из волжского «скита» родители, дети и непременный Илья Георгиевич. Со смешанным чувством радости и сомнения Болек подумал, что давно не видел дядю Серёжу и тётю Юлю, и Саню не видел давно. Ну что же, надо полагать, все они друг другу обрадуются!
Что касается подарка, в его простреленную летучим вирусом голову пришла идея подарить имениннице то, что любит он сам. Если младшая кузина вдумчиво отнесётся к его дарам, это их сблизит. Оставалось сообразить – найдётся ли на сегодняшний день хоть что-нибудь, что ему дорого?
Поглядывая на проходящих мимо людей, Болек пустил мысли по воле волн, и вскоре память, вперемежку с водорослями и мусором, выбросила на берег кое-что из сокровищ. Он припомнил места, вызывавшие в нём чувство радости и восхищения, людей, которые были ему близки и приятны, животных – собак, кошек, лошадей, водных черепах и дельфинов, в разные периоды жизни открывших ему свой мир. Затем ему на ум пришли заведения, где его вкусно кормили, и гостиницы, в которых он особенно хорошо спал. В гостиницах он постарался вспомнить лица тех, кто приносил ему чай и ещё одно одеяло. Он мёрз всегда, даже на юге… Тут в памяти сверкнул больничный дворик в Арле, весь пёстрый от цветов, ныне – музей Ван Гога, и мысли побежали в сторону искусства. Пожалуй, в этой области у него был шанс найти для Аси что-нибудь подходящее!
Перебрав самые сильные «культурные» впечатления последних лет, Болек вспомнил старую запись – его любимая португальская пианистка играет Моцарта. Это были золотые часы! Он устраивался на солнечной террасе, ныне утраченной, писать книгу и негромко включал музыку. Марья приносила ему травяной чай и что-нибудь погрызть. Хорошо было застопориться на середине фразы и, обняв чашку ладонями, отстучать весь концерт ногтями по фарфору, блаженно щурясь на солнце. Его соло сопровождал покойный Клаудио Аббадо с оркестром – и всегда, поверьте, с блеском…
Следующей находкой памяти оказалась книжка – зачитанная до ветоши, в мягкой обложке, повесть Германа Гессе. В эту книжицу непонятным углом врезалась его юность. Возможно, с неё и начался крен в «самопознание». Речь в ней шла о весёлом бродяге, под конец непутёвой жизни узревшем Христа. Точнее Болек не помнил, но в глубине сохранилась нежность к весенним пейзажам старой Германии и звуку губной гармошки между строк.
«Ну что же, музыка и книжка – это подходит», – отметил он, и память, угадав намёк, сей же миг преподнесла ему нечто из области визуального искусства. Болек увидел, как наяву, картину над бабушкиной кроватью – постер на холсте с работой художника Лауэра «Портрет Антонии Брентано с детьми». Даму любил Бетховен, но бабушку привлёк вовсе не этот факт. Фишка заключалась в том, что мальчик на портрете был совершенным двойником семилетнего Болека. Черты же самой Антонии, хотя и не полностью повторяли бабушкины, всё же ясно напоминали её молодые фотографии – тонкий профиль, прозрачная кожа. Что касается второго ребёнка на картине, девочки, несмотря на отсутствие даже отдалённого сходства, её решено было считать Софьей.
Болек вынырнул из воспоминания с тремя самоцветами в кулаке – оставалось материализовать улов и преподнести Асе.
Покидая Большой Толмачёвский, он отметил, что переулок ожил. От метро в направлении Третьяковской галереи весёлыми кучками тянулся народ, желающий приобщиться к прекрасному либо поставить галочку в списке «must see». Многие улыбались, неулыбчивые же не могли испортить картину весенней радости, поскольку щурились на солнце, что вполне можно было счесть за улыбку.
Влившись в течение улиц, Болек за ближайшие полчаса уладил вопрос с подарками. Концерты Моцарта и книга культового немца нашлись в мультимедийном супермаркете неподалёку. А репродукцию он разыскал в Интернете и, зайдя в первое встречное фотоателье, получил распечатку с цветного принтера.
Уже направляясь к Спасёновым, завернул в цветочный киоск – но не за цветами. Ему нужна была оригинальная упаковка. Он выбрал имитацию сплетённой из травы рогожки и, согнув лист в кулёк, уложил в глубину получившегося гнезда свиток репродукции, коробочку с дисками и книгу.
Выйдя в обнимку с кульком из цветочной палатки, Болек свернул на Пятницкую и тут же наткнулся взглядом на знакомый силуэт. По другой стороне улицы, выдавая осанкой растерянное состояние духа, шёл молодой человек примечательной внешности. Собранные в хвост тёмно-русые кудри позволяли узнать его издалека. В опущенной левой руке, головками вниз, он держал букет, собранный из разнородных весенних цветов с преобладанием ирисов.
«Значит, всё-таки струсил? – подумал Болек. – Ну и ладно. Может, оно и к лучшему!»
22
Двадцатипятилетие младшей дочки решено было отмечать в семейном кругу, тем более что семья собиралась в полном составе редко. Родители приехали накануне вечером.
Расцеловались, наспех разгрузили сумки с огородными банками, и сразу же мама принялась хлопотать над утомлённым мужем, как птица над гнездом. «Серёжа, почему ты задумался? Что-то болит? Соня, где у вас тонометр? Надо папе померить давление!» Наконец угомонились, разместились в Софьиной комнате – отдохнуть с дороги. И вскоре тихонько заговорила флейта – папино универсальное лекарство от всех невзгод. Больше они не выходили из комнаты – только мама выбежала за ридикюлем с таблетками да потом за чаем. Ближе к полуночи, когда мама уснула, папа выглянул на кухню, поболтать с дочерьми, но был пойман пробудившейся супругой и отправлен спать.
В давние годы бабушка Елизавета Андреевна называла маму с папой «блаженными». Летом они проводили отпуск, бродя в обнимку или, в крайнем случае, за руку, томно глядя друг на друга и лишь изредка, по необходимости – на маленькую Асю. Старшие Саня и Софья не попадали в поле их единой, райски цельной души. Дети были декорацией сказочной любви, чем-то вроде погоды, способной украсить или испортить прогулку. В хорошие дни – солнцем и ягодами, в дни простуд и капризов – колючим дождём. Но ни Саня, ни Софья, ни даже Ася не могли вторгнуться в счастливую целостность и завоевать в ней место.
Тем удивительнее, что никто из детей не сумел повторить родительское счастье. Никому не было даровано этого погружённого друг в друга взгляда, когда весь прочий мир отступает на второй план.
Однажды Софья предположила, что родители истратили всю отпущенную их роду любовь, ничего не оставив потомкам. Даже Ася, на счастье которой старшие брат и сестра возлагали большие надежды, вплыла в семейную жизнь как-то боком, держась родного берега. «Эх, деточки! – сочувствовал добрый Илья Георгиевич. – Счастье по наследству не передаётся. Самим заслуживать…»
В канун двадцатипятилетия Ася засыпала в грусти, ворочаясь и жалея себя за то, что уже никогда у неё не будет беспечного дня рождения, какие бывали в детстве. С утра начнётся суета, мамины волнения по поводу ядовитого столичного воздуха, папиного самочувствия и неправильных продуктов для праздничного стола. Всё как всегда. Угловато и холодно будет в доме. Лёшка надуется, Софья вспомнит про суд, а единственное их утешение – Саня, разрываясь между родными, работой и ревнивой женой, забежит на часок и уйдёт.
Когда же утром Ася, тёплая со сна, дрожа на сквозняках хлопочущего дома, заглянула в гостиную, грустный мир перевернулся кувырком. На люстре и торшере, на шпингалетах окон, на солнечных дверцах старой румынской горки были развешаны воздушные шары, а над обеденным столом, перенесённым в гостиную и разложенным, висела растяжка из бумажных флажков «С днём рождения!». Восклицательный знак – на отдельном флажке. Ася помнила эту гирлянду с самых ранних лет – её вешали на именины всем детям.
Ася всплеснула руками, хотела засмеяться – и вдруг заплакала проливными слезами, чем привела в смятение всех близких, включая надушенного Илью Георгиевича.
Тут, подчинившись мамину незаметному тычку, вперёд вышел папа:
– Ася, ну вот. Мы с мамой тебя поздравляем! Ну вот… – и положил ей в ладонь пакетик. В нём была серебряная иконка Богородицы, на нежной, почти белой от сияния цепочке. Ася сейчас же надела подарок и теперь уже с полным правом расплескала оставшиеся слёзы – сначала у папы на шее, затем у мамы, у Сони, у Ильи Георгиевича и, присев на корточки, – у Серафимы, немедленно снявшей цепочку с тёткиной шеи – примерить. Богородица расположилась чуть выше пупка. Серафима была довольна.
А затем, ловко избежав церемонии родительского поздравления, явился Лёшка с ужасными цветами, несвежим розовым тряпьём, которые только совсем наивному мальчику и могли всучить продавцы. Поняв, что семейный бюджет пока не позволяет бриллиантов, Лёшка решил, что к цветам хорошо будет подарить вазу. Когда наконец у них будет своё жильё, вазу возьмут с собой.
– Это что, урна для моего праха? – спросила Ася, печально разглядывая сосуд с финтифлюшками. И хотя извинилась сразу, поправить дело уже не удалось.
– Тебе всегда всё не так! – вслед за миллионами несчастных мужей пробурчал Лёшка. – Другая бы прыгала от радости, что муж её любит, на руках носит! Любой подарок бы расхвалила!
Ася слушала Лёшкины упрёки покорно, не возражая, погружаясь, как в трясину, во вчерашнюю жалость к себе. Как будто в далёком прошлом вскрылся источник грусти, омрачившей всю её жизнь, – какая-то детская просьба, которую не услышали.
Она молча оставила Лёшку и разыскала на кухне занятую пирогами маму.
– Мамочка, а ты можешь исполнить одну мою просьбу? Очень важную!
Мама, оборвав на мгновение возню с рыбником, уставилась на младшую дочь.
– Может, вы с папой возьмёте к себе Марфушу? Она такая беленькая, она вас будет очень любить. Я бы к нам её взяла. Но у Сони ведь аллергия.
– А у папы, ты думаешь, нет аллергии? – сразу напала мама. – Если есть у Сони, то и у папы вполне может быть! Ты представь, если он начнет задыхаться!
– Но он же не задыхается от берёзы, от тополя, вообще ни от чего! Почему он должен задохнуться от Марфуши? – возразила Ася.
– Какая же ты эгоистка! – убеждённо сказала мама и, подхватив противень с пирогом, велела открыть ей входную дверь. Купленная Софьей новомодная плита не устраивала маму. Ещё вчера она договорилась с Ильёй Георгиевичем, что будет печь пироги в его старинной духовке.
Ася вздохнула. Нет – значит, нет. Обращаться к папе было бессмысленно. Он никогда не спорил с мамой, даже если был другого мнения.
– Это не стоит того, девочки, – говорил он, улыбаясь застенчиво и мягко. – Будет у вас своя семья, своя вторая половина – поймёте. Совсем не стоит того…
Ася любила отца – он был похож на Саню, такие же правильные черты лица, прямой нос, серые тревожные глаза. Только Саня как-то сумел раздобыть большую силу. У него был меч-кладенец против зла. А у папы только флейта. Зачем его мучить?
На кухне Ася взяла с подоконника купленный в супермаркете горшочек с живой петрушкой и принялась украшать салаты. Открыла ещё горох с морковкой, и чем наряднее становилась политая майонезом горка и вкуснее пахло праздником, тем ужаснее казалось ей собственное душевное разорение. Поспорила с мамой, обидела Лёшку – и всё зря. Никому не объяснишь, что она – другая. Одиночество!
Через пару минут на кухню явилась Софья и, пристроившись у подоконника, принялась тереть сыр для «цезаря». Не то чтобы Ася повеселела, но одиночество стало жиже – растеклось на двоих.
– Ты зачем расстроила маму? – сказала Софья с укором. – Больше ведь не приедут!
Ася хотела оправдаться, рассказать про отвергнутую Марфушу, но тут по её именинной грусти был нанесён ещё один весомый удар – дверь приоткрылась и в щель заглянул Илья Георгиевич.
– Девочки, как-то мне дома душно, – сказал он, бочком заходя на кухню. – Духовка-то печёт – о-го-го! Как-то сердце затеснило. Или, может, это шалит рефлюкс-эзофагит? Надо спросить у Сани! А ведь я сегодня спозаранку приготовил в честь именинницы… что бы вы думали? Харчо! Мне этот рецепт записали в Грузии сорок лет назад! Мы с Ниночкой были в Тбилиси… Подождите, я сейчас вам сыграю, только скрипку возьму! – И минуту спустя, приладив старенький инструмент под подбородок, заискрил кухню грузинским танцем, сменившимся танцем венгерским. Дальше готовили под музыку, не чуя ни сном ни духом, что во дворе мается Асин поклонник с букетом весенних цветов.
А затем в прихожей аккуратно щёлкнула входная дверь, прошуршало у вешалки, и мгновение спустя на пороге кухни явился гость.
– А почему у вас дверь открыта? – спросил Болек, затопляя пространство энергией каре-зелёных глаз. И хотя он был бледен и утомлён болезнью, а также рядом личных проблем, его вид показался собравшимся сияющим, полным здоровья. – Всех с именинницей! – широко улыбнулся он и протянул Асе странный букет без цветов – изящный зелёный кулёк с торчащей наружу «соломинкой» из свёрнутого в трубку листа. – Там моё сердце! – кивнул он внутрь подарка.
Ася развернула плотный лист распечатки и, узнав бабушкину картину над кроватью, засмеялась. Нырнула в кулёк, добыла диски, книгу и подняла на дарителя весёлый взгляд.
– Это то немногое, к чему у меня сохранилось чувство. Музыка очень красивая, может быть, лучшая!
– Да! Я уже слышу! – воскликнула Ася и на мгновение прижала пачку дисков к губам. – Мы сейчас её включим. Только у меня нет нигде дисковода…
– Ася, диск – это символ вечности! – сказал Болек. – А послушать можно и в Интернете. Попозже. Тем более, я вижу, у нас тут живая скрипка! – И сердечно приобнял Илью Георгиевича. – Здравствуйте, дорогой! Как поживает ваш труд?
Подсев к занятому банками, мисками и разделочными досками столу, Болек огляделся привольно и с удовольствием. Пахло бабушкиным добрым застольем – свежими салатами и пирогами.
Пока сёстры под руководством Ильи Георгиевича наколдовывали селёдке «шубу», на кухню заглянул дядя Серёжа. Обнялись – и сразу в его плечах и сутуловатых лопатках, в седоватой волне волос у виска Болек почувствовал то родовое, необъяснимо трогающее сердце, что ушло из его жизни вместе с отцом, даже раньше – вместе с отъездом.
На смену дяде Серёже прибежала Серафима, попугала Болека хомяком и ускакала в соседнюю квартиру – посмотреть, как там бабины пироги. Тем временем в гостиной над столом взметнулись и улеглись паруса скатертей. Софья принялась вынимать из буфета посуду бабушки – тарелки с выцветшим золотом и незабудками, соусники и салатники, баснословной старины приборы. Спасёновский дух жив!
– Болек, а ведь это для тебя старается Сонечка. Обычно эту посуду не достают! – шепнул Илья Георгиевич и помолчал, прислушиваясь. – Ребятушки! А вы чувствуете – Елизавета Андреевна с нами! Радуется на вас!
– С нами, говорите? – сказала Софья. – Ну тогда вот что! – И, порывисто распахнув дверцу буфета, достала тот самый запылённый коньяк, глоток которого выручил её в страшную ночь. – А давайте, раз уж мы собрались, за бабушку! Просто между собой. Илья Георгиевич, будете?
Неожиданную, прямо-таки пиратскую идею Софьи поддержали единодушно. Вспомнили бабушку и, обжёгшись глотком коньяка, дружно отпили из бокалов морс, отвар смородины с калиной – чуть терпкий, с детства любимый вкус.
Болек вспомнил: однажды в дошкольном детстве от одного из точно таких стаканов он нечаянно откусил кусок. Бог знает, как это вышло. И теперь, слегка нажав зубами на стекло, он почувствовал накат адреналина. Это была дикая, неукротимая жажда вернуть себе то, чем пренебрёг.
– Да, и, кстати, о бабушке нашей… – сказал он, взглянув на сестёр. – Я вам уже говорил, мне необходимо этой весной съездить к нам на Волгу. У нас там под крыльцом зарыта банка с детством. Она мне нужна.
Обе сестры с любопытством уставились на кузена.
– А что вы думаете? В ней – солидный резерв энергии! Мне он сейчас необходим, – продолжал он с самым деловым видом, так что невозможно было понять, шутит он или бредит.
– Погоди! Это какая банка? – заволновалась Софья. – Железная, из-под кофе? Ася, помнишь банку бабушкину?
Ася не помнила никакой банки и почувствовала обиду, как в детстве, когда старшие не брали её в игру. Болек взглянул на младшую кузину с улыбкой и негромко, словно секрет ещё был в силе, рассказал подробности:
– Мы её зарыли под крыльцом. Нас бабушка сама научила. Надо было положить туда что-нибудь ценное, что у нас было на тот момент, а потом, когда вырастем, найти и вспомнить, как мы жили. Мы даже нижнюю ступеньку приподнимали, дядя Серёжа помогал. Сделали сейф из кирпича, сверху кусок железа – обрезок от кровли, а потом уже земля.
– Ребята! Так у меня же там янтарный кулончик, из Юрмалы! – воскликнула Софья.
– Вот видишь! Теперь это талисман невиданной мощи! – сказал Болек. – А у меня там сильмарилл. И он мне очень нужен.
– Какой ещё сильмарилл? Кусок слюды у тебя был, я помню его прекрасно!
– В данном случае тот кусок слюды – именно сильмарилл! – возразил Болек.
– А почему кулончик теперь талисман? – ревниво спросила Ася. Конечно, всё это была шутка, игра, затеянная Болеком, чтобы развеселить сестёр, и всё же Ася расстроилась, что у неё ничего не спрятано в той драгоценной банке.
– Талисманом становится предмет, проверенный временем и труднодобываемый, – объяснил Болек и тут же перешёл к делу: – В начале мая у меня будет несколько свободных дней. Я поеду. Вы, надеюсь, со мной? Илья Георгиевич, и вы тоже, мы ведь уже договорились! – И гостеприимно улыбнулся, так, словно был единоличным владельцем квартирки в хрупком от времени купеческом особнячке, долгое время служившей Спасёновым дачей.
Сёстры переглянулись.
– Мне с Лёшкой на майские надо ехать в Анапу, у них там спортивный лагерь… – подавленно проговорила Ася, но сразу же собралась и сказала твёрдо: – Нет, пусть он едет один! А я потом к нему приеду. Правда ведь так можно?
– А может, как-нибудь перенесёте, чтобы и Лёшенька с нами? – брякнул добрый Илья Георгиевич.
– Да зачем он? – пользуясь отсутствием Асиного супруга, бесцеремонно возразил Болек, и в тот же миг с лёгкой руки волшебника на кухне Спасёновых расцвёл летний мир волжского городка. Солнце было местное – из окна. А всё остальное – ветер с реки и тёплая пыль дороги, и смородиновые кусты во дворике, с которых, прямо не слезая с качелей, удобно обрывать ягоды, – оказалось рождено силой коллективного воспоминания. Что за блаженство это речное лето! А мистический мрак колокольни чёрным августовским вечером, в шторм! А костёр с «шашлыками» из хлеба и помидоров! А вечный Первомай теплоходов!
Наперебой они вспоминали, как аукали заплутавшую в лесу Асю, и поход в монастырь на Яблочный Спас, и припомнили даже коммерческое предприятие по продаже туристам человечков из сосновых шишек, за которое бабушка на три дня посадила Софью полоть огород, а Болека, хоть он и был зачинщик, только выругала.
Было твёрдо условлено, что в мае Болек вынет неделю из рабочего графика и они соберутся прежним составом на территории детства. В последние годы дети Спасёновы навещали родителей на новом участке в окрестностях городка – десять минут езды от исторического центра. Там общими усилиями был выстроен добротный дачный дом, разбит сад и огород. Квартирка в дряхлом особнячке пустовала, тогда как именно в ней и хранились все сокровища детства.
– Если только к тому времени я не буду в тюрьме! – прибавила Софья, когда Илья Георгиевич убежал на зов – помочь с пирогами.
– Не будешь! – пообещал Болек. – Ты мне крайне необходима – значит, как-нибудь обойдётся. Ты ведь знаешь – мои желания для Вселенной приоритетны.
– А Саня с нами? – спросила Ася, обогнув стол и глянув в окно, на солнечный двор – не бежит ли брат?
* * *
Саню ждали долго. Давно накрыт был стол, остыли пироги, Лёшкины подмороженные розы одна за другой начали вешать головы. Софья угнездилась в кресле с ноутбуком – поработать, и Болек, внимая садоводческим историям тёти Юли, подумал, что теперь уже вряд ли успеет посмотреть, как младшая кузина задует свечи, – самолёт не ждёт!
– Слушайте, может, сядем уже? – буркнул голодный Лёшка, и сразу же позвонили в дверь.
Первой вошла молодая дама приятной полноты, белокожая и чернобровая, русская зимняя боярыня с властной складочкой над переносицей и яркими настороженными глазами – Санина жена. Впереди себя она подталкивала свою маленькую копию – пятилетнюю дочь.
Саня ворвался следом и, обняв Болека, первым оказавшегося у него на дороге («Ох, молодец, что приехал! Здравствуй!»), кинулся к матери и отцу. Схватил обоих в охапку и стиснул со стоном. «Тихо! Папу не задуши! Пусти!» – вскричала мама и, отстранив Саню, оглядела его смятённо и жадно – так что невольно и все остальные сосредоточили взгляд на её сыне. На нём была светлая великолепно выглаженная рубашка, но верхняя пуговица расстёгнута, а вторая застёгнута перекошенно – на третью петлю. Русые волосы давненько не стрижены, под глазами – синяки недосыпа, но сами глаза светлые и влюблённые. Саня как Саня. «Папа, ну ты как? Выглядишь хорошо! Илья Георгиевич, а я к вам собирался как раз! Я там кое-что придумал, попробуем поменять лекарство. А Пашка придёт?» – городил он вразнобой, желая и не имея возможности вникнуть с ходу во все вопросы.
Тем временем мама взялась перестёгивать пуговицы на рубашке сына. Мелькнул крестик на верёвочке.
– Серёжа! Надо крестик ему купить! Ты посмотри, какой у него облезлый. Где ты взял его? – И, отпустив наконец Саню, оглядела накрытый и, кажется, подтаявший от ожидания стол. – Ну что, садимся?
– Вы простите меня! Пришлось к Нине Андреевне! Ну нельзя было уже откладывать! – взялся объяснять Саня, сев возле родителей – напротив сестёр и Болека. – Представляете, ей, оказывается, не полагается эта медаль! Ну, к юбилею Победы. Мы-то с ней думали, дитя войны, к тому же дочь репрессированного! Я все инстанции обегал – нет, не подходит эта категория! Так обидно! Пришлось вот к ней заскочить, успокоить хоть как-то, чтоб не расстраивалась. Я прямо не понимаю, ну что, медаль одинокой старухе им жалко? И человек-то святой! Умница такая! Я её назаписывал даже на телефон – такие вещи мудрые говорит, не всякому даже и праведнику такое спускается. Сейчас я вам её покажу, у меня тут есть… А она бы немножко хоть медали порадовалась! – договаривал он, под улыбки родственников листая фотографии в телефоне.
– Да бог с ней, со старухой, Саша! Давай сначала поздравим! – зашептала ему жена и вдруг, словно не выдержав распиравшей её досады, обратилась к свекрови: – Это ужасное в нём! Он не может, чтобы кто-то ещё за него сделал! Всегда всюду ему надо влезть. И наплевать, что семья и что у сестры день рождения!
– Да что значит «влезть», Маруся? – изумился Саня. – Человек в доме престарелых, слепой и глухой! С ней даже по телефону не поговоришь толком – не поймёт половины!
– А те, кто её квартиру унаследовал? Где эти родственники? Вот они бы и бегали! – пылая синими глазами, сказала Маруся.
Саня сокрушённо махнул рукой и, отвернувшись от жены, разыскал взглядом именинницу. Ася, тоненькая и юная, не дашь и восемнадцати, с пушистым рыжеватым каре, за ушами подколотым невидимками, во все глаза смотрела на старшего брата.
– Ладно! Дайте, что ли, скажу тост! – решил он.
И тут же собравшиеся на именины ангелы подхватили старинный, с бабушкиными скатертями, стол и вместе с гостями вознесли в рай. Там, на небесах, зазвенели бокалы с шампанским и с морсом – за здоровье и любовь, за родителей, за Божьи дары, в обилии доставшиеся имениннице. Разговаривало взахлёб и смеялось родственное застолье, поздравляли младшую дочку и даже кричали «Горько!» – сперва родителям, а затем и Асе с Лёшкой. Опустела историческая супница с выщербленкой на ручке – харчо Ильи Георгиевича имело успех. Побежали по тарелкам закуски. А когда первый голод был утолён и женщины, отложив салфетки с колен, озаботились сменой блюд, Илья Георгиевич взялся за скрипку. Брызнул чардаш, но непослушные пальцы налепили ошибок. Саня подсел к расстроенному старику и вмиг уболтал.
И снова пили за именинницу морс и шампанское, и только с великим трудом удалось найти на столе место рыбнику, над которым тётя Юля хлопотала всё утро. Завязались разговоры.
Исчезнув на миг, Болек вернулся с планшетом и призвал всеобщее внимание. Оказывается, он недавно оцифровал фотографии из архива отца. Среди прочего были и совсем старые, дореволюционные. Все собрались на диване вокруг вновь обретённого родственника. Во время просмотра, однако, выяснилось, что дяди Серёжины запасы куда полнее, правда в электронный вид не переведены. Альбом и коробки хранятся в особнячке на антресолях.
– Саня, ну что ж ты! Такие документы исторические! Приехал бы, разобрался. А ведь, наверно, там всё уже и мыши съели. Мы-то в новом доме, на огороде… – растерянно проговорил дядя Серёжа.
– Папочка, не переживай! – подсев к отцу, сказала Ася. – Мы как раз сегодня договорились! Болек, я и Соня! И Илья Георгиевич с нами. Мы решили, что все вместе приедем к вам на майские! Саня, ты ведь поедешь? Маруся, вы с Леночкой ведь поедете, правда? У нас там одно важное дело! – И с быстрой улыбкой взглянула на Болека. Кузен выразил признательность кивком.
– Ага, у некоторых там под крыльцом зарыт сильмарилл! – подтвердила Софья.
Поездка обсуждалась на все голоса. Принялись решать, кто и где разместится. Болек, уж конечно, в особнячке, в бабушкиной комнате с окном на реку. Саню с семьёй и Илью Георгиевича – к родителям. «Мама, и Птенца! Птен-ца-бе-рём!» – отчаянно вопила Серафима, дёргая мать за рукав. «Ох, а как же я Пашу оставлю! Да ещё в канун экзаменов?» – сомневался Илья Георгиевич, но было ясно – старик ни за что не устоит перед соблазном вдохнуть майских деньков на Волге, в компании любезных душе Спасёновых.
Один Лёшка, отдалившись от всех, сидел в кресле и с видом обиженным и важным следил за матчем на экране телефона. Он твёрдо решил не поддаваться на провокации Асиных родственников, но, когда принялись обсуждать даты, не выдержал.
– Мне в мае на праздники с пацанятами ехать в спортивный лагерь! И никто меня не освободит. Это моя работа! – напомнил он не без пафоса.
– Лёш, а можно я одна, ненадолго? А потом сразу к тебе. Сразу-сразу! – подскочила к мужу Ася и улыбнулась, по-детски выпрашивая разрешение. – А то, может, больше и не будет такого случая – чтобы все вместе, даже и Болек с нами!
– Знаешь что! Билеты купили и поедем вместе, как решили, – буркнул Лёшка, чувствуя, как в груди стремительно растёт досада. – Нечего по отдельности. Я против! А на дачу можно в августе. Август – самое оно. Грибы-ягоды, речка.
– «Речка» – это Волга в районе водохранилища? – едко сказала Ася.
– Ребята! А рыбник-то хорош! – неожиданно громко заметил Илья Георгиевич. И все, включая хмурого Лёшку, обернулись и разыскали глазами блюдо с нарезанным ломтями и разваливающимся от спелости пирогом.
Когда же пирог был распробован, Илья Георгиевич сбегал домой за шахматами. «Ну что, Серёженька, сыграем?» Положили на диван доску с облезлыми клетками и сели по сторонам. Как в старые времена, с милым сердцу грохотком просыпались фигуры. А за плечами «ангелами-хранителями» игры выросли – у отца Саня, а у Ильи Георгиевича – Болек. Серафима курсирует вдоль дивана, охотясь на «съеденных». Лёшка косится из кресла – всё же и у него в детстве случались шахматы с дядей Мишей, вот только фигур с каждым разом становилось всё меньше, дядя Миша заменял их на всякий хлам, и наконец получились шашки…
Продвигалась партия, постукивали истёртые фигуры, и всё говорило о том, что над старым нет нового. Надёжно только прошлое семьи, а жизнь молодых Спасёновых дымится клоками, как порезанный на ломти рыбник, стынет на глазах.
Всё это понял Болек, единственный, кто в силу отдалённости мог увидеть творящееся со стороны. Присев возле Ильи Георгиевича и аккуратно подсказывая ходы, он томился отсутствием движения. Нет, его родственники не герои и не авантюристы, вряд ли их соблазнит сильмарилл. Может статься, его приезд в Москву окажется всего лишь милой нелепостью.
Покинув на время Илью Георгиевича, Болек подошёл к столу, положить себе ещё поджаренной с розмарином картошечки. А когда вернулся, подопечному был объявлен мат. «Эх! Вот же маху дал!» – воскликнул старик, виновато взглянув на Болека, и в тот же миг в прихожей коротко и резко прозвенел дверной звонок.
Серафима помчалась открывать. Взобравшись на стул, дотянулась до задвижки, повернула и через мгновение с воплями радости повисла на Пашкиной шее. Так они и въехали в комнату.
Спустив Серафиму на диван, Пашка буркнул приветствие собравшимся и подошёл к Илье Георгиевичу.
– Дед! Ключи дай! Я забыл в той куртке.
– Паша, ох, большой! Ну надо же! Взрослый! Садись скорее к нам! Тарелку, Соня! Там чистые, под салфеткой! – засуетилась мама и вдруг умолкла. Все, кто был в комнате, с тревогой смотрели на подростка. Спутанные волосы, грязные, вымокшие чуть ли не до колена джинсы и, главное, отчаянное выражение лица – всё это никак не подходило к празднику.
Саня рванулся, чуть не уронив загородивший дорогу стул, и через миг был возле Пашки.
– Паша, что там у вас?
Пашка машинально поддёрнул повыше манжет клетчатой рубашки с оторванной пуговицей и сглотнул.
– Да, Паша, ты почему в таком виде! – заволновался Илья Георгиевич.
– Что-то с собаками? – подала голос Ася – и тут Пашкину немоту прорвало.
– Они рассыпали отраву! – сказал он, отчаянно взглянув на Саню. – Александр Сергеич! Яд по всему парку! Цианид, что ли. Всё розовое! И листовки, что это из-за нас! Что это типа протест защитников города против «притона блохастых»! – Он оборвал, захлебнувшись. Взял себя в руки и почти спокойно прибавил: – К Татьяне уже принесли хозяйского терьера умирающего. Началось. Дед, давай ключи!
– Нет! Я тебя никуда не пускаю! Сиди здесь, со всеми! Ты слышишь меня? – крикнул Илья Георгиевич. Его щёки покраснели.
Пашка вылетел в прихожую и, поискав взглядом, взял брошенные у зеркала ключи.
– Дед, я за зарядкой. У меня телефон сел, – сказал он и вышел прочь.
Саня поглядел на Илью Георгиевича, затем на Асю и на родителей. Выражение горя на его лице сменилось простой и привычной решимостью делать то, что требует от него момент.
– Вы простите! Я с ним! – сказал он и, быстро выйдя на лестничную площадку, позвонил в квартиру напротив.
Ася вскочила порывом и хотела кинуться за братом, но скрепилась и, решив выдержать роль, подошла к мужу.
– Лёшечка, ты только, пожалуйста, не ругай меня! – шепнула она, присев на подлокотник кресла. – Мне надо сейчас в лес, помочь. Я сбегаю и вернусь! К чаю уже вернусь – вот посмотришь!
– Да делай ты что хочешь! Не обещай только в другой раз! Одно враньё!.. – сипло буркнул Лёшка и отвернулся, всем своим наивным мальчишеским обликом выражая обиду.
– Ребята, не ссорьтесь! – воскликнула мама. – Настюша, ну что же ты с мужем споришь из-за ерунды! Как тебе не стыдно! Конечно, мы тебя никуда не пустим. Даже не думай!
А папа отвёл взгляд и начал расставлять по доске фигуры.
– Хорошо, я никуда не пойду! – сказала Ася и, с приметно закипающими в глазах слезами, выбежала на балкон. Крепко, со звоном, хлопнула дверью.
То, как быстро жизнь разогнала застой и открыла возможности, восхитило Болека. Как у всякого любителя бурь, ужасные вести и последовавшее затем обострение конфликтов вызвали в нём оживление. «У всех всё рушится? Ну что же! Это нас объединит!» – подумал он с удовольствием. Ему давно уже стало ясно: мирным путём колымагу спасёновского быта не сдвинуть. Чтобы осуществить мечту, нужна была маленькая победоносная война, к развязыванию которой он решил приступить немедленно.
– Я поговорю с Асей, – сказал он, подойдя к собравшейся на диване кучке взволнованных родственников. – Как человека отчасти нового она меня послушает.
Тётя Юля и дядя Серёжа жалко взглянули на племянника.
– Болюшка, поговори обязательно! – воскликнул Илья Георгиевич. – И потом с Пашей! С Пашей непременно! Он совсем у меня отбился!..
– Болек, ты обалдел? Да она тебя с балкона спустит! Не видел ты сестёр Спасёновых в гневе! – сказала Софья.
– Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого! – улыбнулся Болек и, чувствуя прилив вдохновения, вышел в прихожую, за пальто.
Возвращаясь, одной рукой в рукаве, он задержался возле Лёшки и, пряча улыбку, спросил:
– Алексей, а вы-то не против моего посредничества?
Лёшка сидел на прежнем месте, в кресле, и хмуро копался сразу в двух гаджетах, телефоне и планшете.
– Против. Я сам разберусь, – буркнул он себе под нос, рассчитывая, как маленький мальчик, что сказанное вполголоса не будет считаться.
– С ней не надо разбираться, Лёш, – участливо проговорил Болек. – Любящий не подавляет натуру любимого, наоборот, с восхищением вглядывается в его космос.
Лёшка вскинул взгляд. Его лицо порозовело и заметно напряглись скулы.
– Это вы, что ли, в космос вглядываетесь? Или, может, это ваше дерево кудрявое, с ящиком?
– Дерево кудрявое? – удивлённо поднял брови Болек. – Да, «дерево» пожалуй что вглядывается. Алексей, а вы молодец – яркий образ подобрали!
С лицом не то чтобы зверским, но всё же пугающим, Лёшка вскочил, явно намереваясь покинуть стан врага. Но сдержался – сорвал со стола яблоко и, плюхнувшись на прежнее место, углубился в свой телефон.
В этот миг кто-то мудрый, должно быть Илья Георгиевич, догадался включить телевизор. Звук чужих голосов заполнил комнату и принёс успокоение.
Дядя Серёжа предложил старику новую партию. Софья с тётей Юлей при помощи Серафимы принялись убирать грязную посуду. Маруся, глядя в дверной глазок на площадку, караулила мужа.
«Ну что ж, пора!» – решил Болек и, мимоходом задёрнув шторы, вышел к Асе на укрытый безлистыми липовыми ветвями балкон.
«Ах, подлец! Не боишься схлопотать за такие дела в скулу от Вселенной?» – думал он, поплотнее прикрывая балконную дверь. Но нет, не было страха. В этом шатком, продувном мироздании только маленький краешек детства казался ему достаточно тёплым, чтобы спастись. За него он был готов бороться.
– Не помешаю? – спросил он у Аси.
Ася дёрнула плечом – всё равно. Она стояла, уперев голые локти в железку перил, и сердито вытирала тёкшие против воли слёзы. От борьбы с самой собой её лицо стало упрямым, твёрдым.
– Принести тебе что-нибудь накинуть? – спросил Болек.
Ася мотнула головой.
– Жалко Марфушу мою и всех… – хрипло от слёз проговорила она. – Всё равно их там всех затравят. Я не понимаю, почему я не могу быть с ними? У меня ведь есть время! Есть силы!
– А кто тебе сказал, что не можешь?
Ася покачала головой:
– Я не знаю, кого мне слушаться. Хочу держаться за что-то доброе, но у меня как будто руки скользкие… Они все – и мама с папой, и Лёшка, даже Саня иногда – все ничего не понимают. Они думают, что я сюси-пуси с акварельками! И меня в этом убедили. А я – другая! И я хочу делать, что Пашка скажет, а не что они.
– А с чего такое уважение к пацанёнку? – полюбопытствовал Болек.
– А ты вот представь! – заволновалась Ася и обернулась к Болеку горячим мокрым лицом. – Ты собака, ты целую вечность бредёшь по страшной зиме! Ты дышать уже не можешь от холода, и все двери перед тобой закрыты! И вдруг какой-то ангел тебя подбирает! Это же не просто помощь. Это – благая весть! Ты начинаешь верить! И все твои замученные братья чуют нутром эту весть – есть такой ангел на свете, и это всё меняет! Это всё меняет в нашем городе, на нашей планете, во Вселенной вообще!
Болек с интересом слушал Асино признание. С каждым словом её лицо приобретало всё новую, более глубокую черту боли, пока, наконец, не стало сплошным страданием. Нет, господа, так не годится!
Конечно, он должен был сказать ей, что она сотворила себе кумира и бредит, что её родственники правы: нельзя вот так легкомысленно ставить под угрозу союз с преданным супругом. Должен был – но что-то удерживало его. Лоб, взмокший в угаре обильной трапезы, обдувало резким русским ветром. Ни за что он не назвал бы его апрельским – февральским, это да. В конце зимы на набережной Сены можно поймать похожий.
Болек слегка перегнулся через перила. Ещё во дворе он приметил: старая липа раздваивалась почти у самой земли. Ствол шёл прямо, а равный ему по величине сук – вбок. Диковинным шатром он укрывал дом, вникал ветвями в домашнюю жизнь его обитателей. Полвека назад заботливому садовнику следовало обрезать у саженца боковую ветку, тем самым придав липе классический силуэт. Но тогда бы не было моста, подведённого великолепной дугой прямо к балкону Спасёновых.
По аналогии с липой история с приютом, как внезапно выстреливший и начавший набирать силу «пасынок» Асиной жизни, определённо нравилась Болеку. «Да – зыбко, топко, по-ранневесеннему! – думал он, глядя на дворик в мутных лужах. – Но разве для того тает, чтобы снова замёрзло? Пусть реки прорвёт и половодьем смоет трусливых!»
– Ну что, домой? – кивнул Болек на Асины посиневшие, в мурашках, локти. – Простудишься! – И испытующе поглядел в измученное сомнениями личико младшей кузины. – Давай возвращайся! Ты всё же герой дня, все тебя ждут!
– Мне надо в приют, – сказала Ася. Помолчала и оглянулась через плечо на гостиную, уютно темневшую за стеклом балконной двери. – Мне надо в приют сейчас! – взглянула она на Болека и опять обернулась на дверь, обдумывая предстоящий прорыв. – Бесполезно, да? Набросятся и не пустят? Только зря опять скандал…
– Как же быть? – сморщил брови Болек, и по смешному выражению его лица стало ясно: он отлично знает выход.
Ася прижалась к перилам балкона и поглядела в сторону, на кубик бойлерной, возле которой они с Лёшкой привязывали собак. Она тогда ещё боялась погладить Марфушу, вытирала руки салфетками…
– Я хочу уйти! Сейчас! – твёрдо сказала она и, напугавшись собственной дерзости, широко распахнутыми глазами поглядела на сообщника.
Болек потрогал, проверяя на крепость вольно расположившийся у Спасёновых на балконе липовый сук, и перевёл взгляд на Асины голые руки. «Ладно, скину ей пальто», – подумал он, и в тот же миг пелена между мечтой и реальностью оказалась прорвана. С треском и искрами, вызывая у участников закономерный восторг, фантазия двух безумцев хлынула в жизнь.
Стараясь не шуметь, быстрыми и чёткими движениями Ася переставила из угла табурет и, взобравшись на него, как на ступеньку, бочком села на металлический борт. Потянулась правой рукой (Болек подстраховал) и ухватила толстый липовый сук. Сцепление ладони с корой было отличным. Ася почувствовала, что могла бы, как макака, повиснуть на одной руке – безо всякого риска. Ободрившись, сползла пониже и ткнулась мыском в развилку ствола. Есть! Осталось броском перенести левую руку – и побег удался. Спуститься дальше по ветвям – детская забава. Главное – не раздавить гнездо. Где-то там было гнёздышко…
Вися над двором, в обнимку с шершавым стволом, чувствуя грудью и животом токи весны, Ася посомневалась секунду – правда ли? Или, может, сон? Да – сон, конечно! И, зажмурившись, съехала по стволу до нижнего сука. Встала обеими ногами и спрыгнула на землю.
Болек приветствовал её с балкона сложенными ладонями. А затем снял пальто и, прицелившись между ветвями липы, бросил Асе в руки.
– Там в кармане билет, ещё три поездки. И мелочь кое-какая, – подсказал он негромко, склоняясь через перила.
Ася укуталась в замечательно тёплое сукно и, рассмеявшись от пережитого волнения, помахала кузену. Застучали по льдистому асфальту летние туфли-лодочки и, проскользнув через арку, стихли.
Болек был доволен. С наслаждением он представил себе, как, должно быть, жжёт кожу ладоней после древесного наждака. Немного смущало, что Ася ушла в его пальто, а ему вот-вот на самолёт. Но разве это чрезмерная плата за приключение? Доедет на такси, а в дьюти-фри что-нибудь купит.
Когда он вышел с балкона в гостиную, со стола убрали и готовились уже подавать десерт. На кухне звенела посуда и переговаривались женские голоса.
В комнате взбудораженный Саня, сидя за столом, машинально перелистывал Серафимин журнал про животных.
– А ты с Пашей не уехал разве? – удивился Болек.
– Уехал! – с горечью отозвался Саня. – До метро дошли, и Сонька мне позвонила, что у нас тут бардак, все расстроились. Ладно, после чая тогда… Ну что за люди! – вдруг вспылил он и захлопнул журнальчик. – Как я там детей одних оставлю, со зверьём! Ведь это же не просто нечаянно яд рассыпали. Это агрессия! Выплеск страшной злобы! – И, резко поднявшись, прошёлся по комнате. – Лёш, Ася-то куда делась? – обратился он к Лёшке, сидевшему в кресле со своими игрушками.
– На балконе, – отозвался тот. Он уже успел остыть от гнева и теперь, вынырнув из гаджетов, позвал: – Ася! Давай уже, иди в дом! Простудишься!
Нет ответа!
Поднявшись, Лёшка выглянул за балконную дверь и в смущении вернулся. Он точно помнил, что его жена не проходила через гостиную.
– А где Ася-то? – с удивлением взглянул он на Болека.
– Ася? – Болек вздохнул и чуть помедлил. – Алексей, я бы так сказал… Ася восстанавливает свою идентичность, а где именно – не принципиальный вопрос.
– Она что, ушла? – всё ещё не понимал Лёшка.
– Можно и так сказать, – с удовольствием подтвердил Болек. – Тут невысоко, так что…
Договорить ему не дали. Получив грубый пинок в грудь, Болек стукнулся о горку с посудой. Зазвенел потревоженный хрусталь.
Пронёсшись по дому, Лёшка ещё раз обследовал совершенно пустой балкон, поднял и отшвырнул табуретку, свесился через перила и, пятнисто-красный, вернулся в комнату. Обвёл ужасным взглядом сбежавшихся на шум родственников и, подхватив валявшийся в кресле планшет, умчал прочь.
– По липе? – взглянул на Болека Саня и тихо взялся за голову.
23
– Господи, вот ненормальная! А всё вы! Объясняют же – беда случилась, надо помогать! А вам и дела нет! – надевая пальто, сокрушался Саня. В прихожей его провожали все, кроме отца, – не выдержав семейного конфликта, тот скрылся и прислал вместо себя тихий голос флейты, доносившийся из Софьиной спальни.
– Саня! Ты там Пашу не оставляй! Привези его домой, слышишь! – умолял напуганный Илья Георгиевич.
– Привезу, не волнуйтесь. А потом ещё Лёшку искать, мирить их… Марусь, вы не уходите! Пусть девчонки поиграют пока! – сказал он жене. (Серафима с Птенцом, дремавшим рыжим цветком на её плече, нахмурилась. Леночка успела ей надоесть.) – Если я не вернусь, то вы сами потом домой…
– Как не вернёшься? – Маруся поплывшим взглядом коснулась случайных лиц – Болека, Софьи, свекрови – и, кинувшись на грудь мужу, замерла.
– Да вернусь, вернусь, куда я денусь! Я ж не на войну! Я имею в виду, если поздно вернусь! – уточнил он, торопливо похлопав жену по плечу и отстранив. – Соня, вещи Асины дай мне! Она же раздетая! – И, прихватив мигом собранные пакеты, вышел за дверь.
В прихожей неудобно и громоздко, словно невидимый шкаф, встало молчание.
– Постойте-ка! Это дяди-Серёжина? Я накину? На пять минут! – вдруг сказал Болек и, сорвав с вешалки чью-то куртку, вылетел вслед за братом.
Он догнал его в арке двора и поймал за рукав:
– Подожди! Можешь мне уделить минуту?
Саня остановился. В конце концов, ну что от минуты изменится!
– Ты прости! – сказал он. – В первый раз у нас такое! В кои веки ты приехал – и такое вышло! Ну, видишь, беда в приюте…
– Приют – это просто катализатор. У вас уже давно революционная ситуация в цвету! – возразил Болек, подходя к лавочке у подъезда и кивком приглашая брата сесть. – Взять хотя бы эту жуткую идею тащить Асю в спортлагерь!
– Почему жуткую? – удивился Саня. – Пусть едут, что ж тут плохого!
Болек вздохнул и, подумав мгновение, решительно форсировал разговор:
– Сань, он, может, и неплохой парень. Но совершенно не подходит нам в родственники!
– В смысле? – не понял Саня.
– Очень просто. Он то, что принято называть «не пара».
Не раздумывая, как если бы перед ним завертелась граната, которую требовалось накрыть, Саня взял Болека за грудки и тряхнул:
– Слушай! Тебя двадцать лет в этом доме не было! Откуда ты знаешь, кто кому пара, а кто нет! Он честный парень, ответственный. Он Асю любит!
– И в благодарность за «ответственность» ты даёшь ему право навязывать Асе свою систему ценностей? – спросил Болек, сдёрнув Санины руки. – Может, всё же позволите ей решать самой? Она и так инфантильна, лет на пятнадцать тянет, не больше!
Саня опустился на лавку. Были люди в его жизни, с которыми когда-то он встретился, а потом судьба развела, но связь сохранили сны. Болек принадлежал к их числу. Саня примерно знал, что происходило с ним, и по цепочке последних событий – повторный приезд, неожиданное благоволение сёстрам – догадался: их кузен угодил в кризис, погнавший его к истокам, к забытой родне.
В свою очередь, и Болек видел, что товарищ его детства не в лучшей форме. Работа на износ, сёстры, параноидально настроенная жена, какие-то старухи, подростки, собаки плюс Илья Георгиевич с коллекцией страхов и сантиментов, кулём свалившийся на слабеющего героя. Саня ни от чего не отказывался, каждое дело горело. Этот жар завистливо чувствовал Болек и сознавал: то горячее, незаживающее, поражённое опасно размножившейся бактерией сострадания, что являло собой теперь Санину душу, нуждалось в поддержке, которую он мог бы ему оказать.
– Знаешь что, Сань, к тебе родители приехали. И у жены, как я вижу, некоторые фобии на твой счёт. Давай я поеду вместо тебя. Всё равно у Аси моё пальто!
– Это мои дела, – мотнул головой Саня. – Там ребёнок мой, Пашка. Не мой, Ильи Георгиевича… Но и мой. И сестра моя с ума сошла. Это надо – с балкона удрать! Нет, я сам должен ехать, ты ни при чём. – И крепко потёр лоб ладонью.
– От «ни при чём» до «при чём» всегда один шаг, – возразил Болек. – И потом, дураку ясно: ты же не тянешь всего этого! Рассыплешься вот-вот, как мангал перегоревший! А во мне, наоборот, слишком много льда, не знаю, чем растопить, – мне бы как раз на пользу. Поделись, и обоим станет легче! – взглянув с коммерческим прищуром, предложил он.
Саня ничего не ответил, и Болек продолжил:
– Скажи мне, зачем тебе это надо? Все эти чужие дети, чужие конфликты? Ты же себя ослабляешь, забираешь силы от основных задач. Если у тебя амбиции спасителя человечества – придумай что-нибудь сильное! Вся эта мелкая возня проблему жизни и смерти не снимет.
Саня обескураженно смотрел на брата.
– И Асю не взваливай на себя, – продолжал Болек. – Позволь ей самой решать! Даже если она ошибётся – это полезный опыт.
– Я не согласен, что опыт приобретается ошибками. Опыт приобретается терпением, смирением и мужеством. А если человек себе в молодости все кости переломает – уже и не пригодится ему никакой опыт, – качнув головой, сказал Саня.
– Позволь ей – и увидим, кто прав! – настаивал Болек.
– Что значит «увидим»? Это сестра моя, а не поле для экспериментов!
Саня поднялся с лавки и, подхватив пакеты с Асиными вещами, зашагал прочь из двора.
– Подожди! Я всё-таки с тобой! – нагоняя его, сказал Болек. – Мне в любом случае надо увидеть этот приют, хотя бы из-за Курта. Софья просила поработать с ним.
Саня остановился и с внезапной жалостью поглядел на брата. Что-то и правда с ним было не так. Заморский принц, сторонившийся их все эти годы, явился и, как маленький мальчик, просит принять его в игру.
– А самолёт? – спросил он. – Ты что, не летишь?
– Чёрт! Да! Самолёт… – Болек заложил ладонь за голову. – Ладно, Саня, прости, что задержал! Знаешь, мне жаль, что меня не было двадцать лет, – прибавил он. – Но я наверстаю!
* * *
«“Меня не было двадцать лет!” Интересно, в каком это смысле – “не было”? Может, и правда не было!» – думал он, поднимаясь по лестнице. А когда вошёл, оказалось, что уже сервирован чай по-спасёновски. Сладкие пироги с яблоками и черникой, заварочные чайники, отдельно чёрный, а ещё с чабрецом и мятой, и кофе, кому по-турецки, кому американо из кофеварки, да с горячим молоком, а Илье Георгиевичу «облегчённый» растворимый.
Болек сидел над тарелкой, упёршись локтем в стол и заслонив «козырьком» ладони лицо. Немного стыдно было за пособничество беглянке, но и радостно. Он чувствовал: всё это были удары по ледяной глыбе внутри. Крушить её, пока не рассыплется!
Родственники за лишившимся именинницы праздничным столом пытались замять неловкость передачей друг другу того или иного лакомства. Одна Серафима не унывала. «Я задую пирог! Ася мне разрешит! Я так сильно задую!» – кричала она, выковыривая из коробки свечи.
– Сонь, а у вас сохранились фотографии того лета? Ну, когда я в тебя влюбился? – спросил Болек, не стесняясь присутствующих, словно давняя жизнь сердца мирно лежала на антресолях, в альбомах и коробках со снимками.
– Ох! А я ведь помню, Болюшка! – воскликнул Илья Георгиевич, выручая обескураженную Софью. – Елизавета Андревна тут, конечно, перегнула, устроила шекспировскую трагедию, я ей говорил! Какие уж там вы родственники! Ты западный у нас славянин, а мы русские. Но нет! Строго-настрого! А Сонечка-то сколько плакала, но всё равно – кремень! Раз бабушка сказала – ни-ни! Вот был авторитет у старшего поколения!
– Так это бабушка, оказывается, всё испортила! – улыбнулся Болек. – А я-то думал, у меня классическая неразделённая любовь.
– Там в квартирке, в коробках, все фотографии, – подсказал дядя Серёжа.
Шутливый диалог о любви немного скрасил отсутствие именинницы, хотя некоторых и поверг в растерянность. Илья Георгиевич, задумавшись, облил жилетку кофе, а Софья разбила чашку.
Расстроенную и сердитую, с пылесосом в руках, Болек поймал её в коридоре и преградил дорогу.
– Вот оно, Соня! – воскликнул он. – Это именно то, что нужно! Сегодня я увидел мою альтернативную линию жизни!
– Болек! Что ты вообще творишь! – возмутилась Софья. – На Лёшку наехал! Асю с балкона спустил! И я тоже, как дура!.. Что происходит?
Болек улыбнулся и произнёс загадочно и важно:
– Ты права. Что-то происходит, это наверняка! Думаю, начинаются перемены.
– Если тебе скучно – покумекал бы лучше, как сделать, чтобы я не села за дядю Мишу! – яростно зашептала Софья и, боднув кузена плечом – дай дорогу! – прорвалась с пылесосом в гостиную.
За окном, в липовых ветвях загорелось закатное солнце. День сложил лепестки, и сложил лепестки Асин праздник. Брат с сестрой так и не вернулись. Тётя Юля, омрачившись, слушала дяди-Серёжин пульс.
Болек, трогательно простившись со всей роднёй, накинул выданную ему из шкафа старую Санину куртку и растворился в весеннем тумане подъезда. На Пятницкой сел в такси. Перед аэропортом ему ещё нужно было заехать на Ленинградский вокзал, где оставил чемодан. Когда машина тронулась, он обернулся, стараясь разглядеть на прощание дом. А через полсотни метров велел шофёру остановиться и вышел.
В задумчивости пересёк Большую Ордынку и свернул в скверик неподалёку от Третьяковки. Там, устроившись на скамейке, достал планшет и, помедлив совсем немного, набрал в строке поиска «аренда квартир в Москве».
24
Никогда прежде вопросы вроде того, что задал ему сегодня Болек, – «Зачем тебе это надо?» – не смущали Саню. Он знал, что ответа не нужно. Нужно действовать по-солдатски, исполняя волю командира. А волю эту понять нетрудно – она проявляется в движениях совести. Чувствуешь направление – иди и делай. Так он и поступал всегда.
Но сегодня, оттого ли, что в семье было неладно, вопрос чуткого наблюдателя – «Зачем?» – а также его слова о «перегоревшем мангале» попали в сердце. Он остановился и впервые испытал головокружительное чувство потери оси, может быть, даже потери веры. Само собой, через миг Саня вытряхнул из головы глупости и побежал дальше, но пуля осталась внутри.
В лесу вечерело. По хрупкому, тающему насту розовыми следами ступало солнце. Саня встревоженно глядел по сторонам, путая закат с размывами отравы. Когда он вынырнул из орешниковых кустов, глаза первым делом отыскали во дворике сестру.
Ася сидела на лавочке, вытянув ноги по плоскости доски, подальше от растёкшегося яда. Чёрное с лёгкой серой строчкой пальтишко Болека, сшитое, судя по божественному качеству материи и кроя, явно на небесах, укутывало её до колен. На ноги были натянуты серые шерстяные носки изрядного размера, должно быть из местного Пашкиного обмундирования. Внизу, на отравленной земле, косолапо повёрнутые мысками друг к другу, стояли синие резиновые сапоги, тоже местные. Возле Аси на краю лавочки скромно пристроился Курт.
Несколько часов назад Курт прибыл во дворик на Пятницкой, полный решимости позвонить в дверь, сказать, как он рад, что однажды она родилась, – и удалиться. Он вовсе не собирался описывать Асе безнадёжные вечера в приюте, куда она больше не приходила, не собирался даже дарить ей свой бирюзовый талисман – не те у них отношения. Просто отдать цветы – и всё.
В цветочном киоске Курт набрал пёстрый весенний букет – такой, чтобы Ася выбрала сама, что ей по вкусу. Тут были розовые душистые лилии, первые тюльпаны разных сортов, нарциссы и острые синие ирисы, были нежные мелкие цветы на веточках, названия которых он не запомнил. Герберы, гвоздики и розы показались Курту грубыми – их он не взял.
Оставив в киоске свой недельный паёк, горячий и взволнованный, он сперва побежал в студию – Аси там не было. Затем пришёл во двор и чуть не столкнулся с Лёшкой. Тот пронёсся через арку – и тоже с букетом. Кто-то всучил ему кучу несвежих роз. Курт не сдержал улыбки, сознавая превосходство своего замысла над скучным выбором противника. Смущало только, что явление к Асе с цветами, даже если не переступать порог, всё же носило оттенок наглости.
Пока он раздумывал, по апрельскому воздуху двора сладко поплыл голос скрипки. Курт поднял голову. Должно быть, это Пашкин дед репетировал в честь именинницы что-то старинное. Он раза два слышал от Пашки жалобы на дедовы экзерсисы.
Как человек, глубже других воспринимающий мир через слух, Курт знал: есть музыка, под которую невозможно совершать иные поступки, кроме праведных. Скрипка Ильи Георгиевича, как витязь ангельского воинства, встала перед ним, запрещая вторжение. Отступив через соседний двор, он направился к метро и на перекрёстке с Пятницкой краем глаза поймал элегантную фигуру Болеслава. С примечательным кульком в руках тот направлялся к Спасёновым. Конечно, надо было перебежать дорогу и догнать его, но в тот момент Курт ещё слышал внутренним слухом музыку.
И вот теперь, сидя возле Аси, он обнимал пристроенный на коленях ящик фонографа, как торбу со счастьем. Рядом с лавкой, прямо на земле, стояла большая железная банка из-под краски, полная синего огня ирисов. Такой же цветок горел на коленях у Аси, оживляя зелёным стеблем чёрную ночь сукна.
Ещё одна парочка – Пашка с Наташкой сидели на ступеньке шахматного павильона и лузгали семечки, ссыпая шелуху в стакан из-под фастфудовской колы. При этом Пашка поглядывал в книгу из библиотеки Ильи Георгиевича – «Преступление и наказание». Достоевский странным образом увлёк не приученного к чтению подростка.
Увидев Саню, никто из четверых не замахал ему и не окликнул, как будто пошевелиться или нарушить молчание здесь, посреди ядовитого снега, было опасно для жизни.
Ася с вопросом взглянула на брата. Несмотря на удавшийся побег и цветы от поклонника, её лицо было утомлено и хмуро.
– Ася, одежда твоя, – проговорил Саня и положил ей на колени пакеты, аккуратно, чтобы не смять ирис. Протянул затем Курту ладонь – здравствуй! – и подошёл к крыльцу, где сидели дети. Жёлтый пёс Джерик, единственный, разуму которого Пашка доверял полностью, а потому не запер, ограничившись увязанными вокруг лап бахилами, подковылял и ткнулся Сане мордой в колени.
Тем временем в шахматном павильоне забурлило – собаки учуяли гостя.
– Так и сидят взаперти? – спросил Саня.
Пашка сплюнул шелуху и мельком обернулся на дверь, за которой толкалась и поскуливала хвостатая команда.
– А куда я их выпущу? Александр Сергеич, это же всё течёт! Вы посмотрите! – И кивнул под ноги.
По земле дворика и правда текло. Приметная на снегу, в ручьях отрава делалась невидимой.
– Кстати, в дом в обуви не заходите никто! – предупредил Пашка. – Эй вы, на шлюпке, слышали? В дом в обуви не заходить! – крикнул он Асе с Куртом.
И снова легла неподвижная тишина. Даже лес не смел трепетать, боясь разбудить глупых ворон и воробьёв и породить новые жертвы.
– Как мама с папой? Обиделись? – спросила Ася у брата.
Судя по нетвёрдому голосу, каким она задала вопрос, ей было стыдно. Рвалась помогать, а в итоге сама спасалась на жёрдочке, поджав лапы.
– Никто не обиделся, – проговорил Саня. – Наоборот, все тебя ждут. Поехали. Может, Болеку пальто вернуть успеем. Он, наверно, уже в аэропорту.
– Не надо ему ничего возвращать. Это залог! – вдруг улыбнулась Ася. – Он, знаешь, такой оказался хороший!.. А как Лёшка, буянил?
Саня неопределённо качнул головой. Ему не хотелось говорить о личном при посторонних, особенно при Курте, сидевшем теперь возле его сестры столь тихо и очарованно, что можно было подумать – жених.
Помолчав, он обратился к Пашке с Наташкой:
– Ребят, а пошли обойдём вокруг площадки, посмотрим, что там где насыпано. В конце концов, лопатой снимем подозрительное. Не могут же они вечно в павильоне без выгула!
Пашка тряхнул стаканчиком.
– Думаете, есть смысл? Всё вон растеклось.
– Да есть, Паша, смысл, есть! Всегда есть смысл, если семечки не лузгать! – оглядываясь и прикидывая масштаб работ, проговорил Саня. – Ася, а ты давай домой! Давай влезай в сапоги, хватит загорать! Мама с папой ждут! Ну нельзя же!..
Ася послушно обулась, но и не подумала уходить, а пересела на доску качелей, болтавшуюся между двумя берёзами. Прижалась виском к облезлому тросу и легонько оттолкнулась ногой. В пальто Болека и Наташкиных синих резиновых сапогах у неё был совсем сиротский вид.
– Саня, мы ведь не просто так сидим, – жалобно проговорила она. – Мы ждем, что скажут Татьяне!
– А что ей должны сказать? – не понял Саня.
В этот миг, отложив на ступеньку том Достоевского, Пашка поднялся со своего места, и все присутствующие, проследив его взгляд, увидели летящую по тропе Татьяну.
Она двигалась быстрым шагом на грани бега, балансируя между волевой сдержанностью и срывом в плач. На подступах к шахматному павильону замедлила ход и окинула взглядом собравшихся.
– Где собаки? Все целы? Никто не приезжал? – запыхавшись, спросила она, и тут же отчаяние беглеца сменилось на её лице облегчением: неужели обошлось?
– Танюлька, ну что? Рассказывай! – подскочила Наташка и успокоительно погладила Пашкину тётку по плечу.
– Полиция документы на школу спрашивала, – отдышавшись, сказала Татьяна и плюхнулась на лавочку рядом с Куртом, отёрла ладонью лоб. – Я им говорю, мол, обалдели! У меня сто лет здесь ветеринарный пункт! А сама молюсь, чтоб никто не взлаял. Думаю – вот сейчас Тимка зальётся или ещё кто и спросят меня: а что это у вас, гражданочка, по ту сторону здания? Кто это там в казённом флигеле хвостами машет? А потом смотрю: идёт Людмила. Я аж зажмурилась! Но она молодец, не выдала. Пойдёмте, говорит, уважаемые, ко мне в дирекцию, – и увела всю бригаду со следа! Сказала, позвонит. Александр Сергеич, с нас для Люды бутылка и конфеты. Поделишься? Тебе ж дарят, а ты не пьёшь! – И, взглянув на Саню, впервые за день улыбнулась. От этой улыбки её простое, грубоватое лицо на мгновение стало нежным. Свою неуместную любовь к Сане Татьяна обычно умела скрыть, но тут, «на стрессе», воля ослабла. – Александр Сергеич, ты скажи мне, что делать будем? Ведь выметут! И школу мою выметут. Эх, я как знала! Что-нибудь да выйдет, и на меня всё свалят. А всё из-за него! – И с упрёком взглянула на племянника. – Надо было гнать вас, а мне, дуре, всё жалко. Ведь каждую тварь с того света вытаскивал, жалел! – Не выдержав, она утратила мужество. Поплыли глаза. – Я бы взяла их! Да у меня в однушке своих хвостов сколько, ты же знаешь – куда мне ещё? К Пашке нельзя, к вам нельзя. Ни к кому нельзя, у всех обстоятельства! Передержку искать? А где найдёшь, чтобы с калеками возились, и на какие шиши, и что потом?
Саня подошёл и сел возле Тани на лавочку. Она сразу же ткнулась головой ему в плечо. От её волос и ветровки пахло военно-полевой смесью ветеринарного пункта, спиртом, землёй и ранами. А возможно, это просто был запах корма, пропитавший рабочую форму.
Два призрака у качелей – Курт и Ася плюс Наташка с Пашкой на ступеньке – молча наблюдали за старшими.
– Таня, терпи, не деморализуй народ, – шепнул Саня. – Через полчасика позвоним твоей Людмиле и всё решим.
– Ох! Да вот она! – крикнула Наташка.
Элегантная дама из администрации парка, с макияжем и укладкой, приличествующей теледебатам, пробиралась по лесным сумеркам к шахматному павильону. Её высокие сапоги были доверху обёрнуты в полиэтиленовую плёнку – дама боялась яда.
– Здравствуйте, господа! Собак вам придётся вывезти сегодня же! – начала она с места в карьер. – Забирайте сами, или вызываем отлов и постараемся получить места в муниципальном приюте. И ключик мне от павильона будьте добры! Ваше заведение, Татьяна Фёдоровна, пока не трогают. Я им объяснила, что ветпункт и собачье логово – это разные вещи. Но это пока – на первый раз. А теперь у меня лично к вам информация, уважаемый защитник бездомных! – спокойно и строго обратилась Людмила к Пашке.
Тот поднялся и флегматично прислонился к стене павильона. Сырое дерево слилось с волосами, и сам он словно бы растворился в наступивших сумерках. Собаки за дверью скулили и нетерпеливо взлаивали.
– Вы, уважаемый Павел, своими противоправными действиями спровоцировали других нарушителей отравить весь лес. Вы видели листовки? Они протестуют именно против бродячих животных в парке. Против вашего рассадника опасности и болезней.
– Они стерилизованные и привитые, со всеми справками, – глядя в сторону, бросил Пашка.
– Ну, справки, молодой человек, допустим, вам тётя пишет!
– Мы всё равно здесь останемся, – вскинув на начальницу угрюмый взгляд, сказал Пашка.
– Ну и наглый! – ахнула Людмила. – А я-то с ним по-хорошему! В общем, Таня, извини, я вызываю службу, и, будьте добры, без эксцессов! Два года у вас было, чтобы всех пристроить, – а вы новых только копите!
– Кого пристроить? Мышь со сломанным позвоночником? – прошипел Пашка. – Или Василису с эпилепсией? Или Джерика тринадцатилетнего, у которого лапы не гнутся? Наташка вон два года уже фотки постит! Я бы всех взял, но вы это деду моему скажите, с астмой!
Людмила больше не спорила с ним. Грациозно перепрыгивая топкие места, она пробиралась по тропинке в сторону аллеи.
Саня поглядел на Пашку – тот пошёл к загончику, осматривая снег по сторонам. Перевёл взгляд на Татьяну, нахохлившуюся и какую-то красную, словно её отшлепали по щекам, и, вдруг сорвавшись, догнал Людмилу.
Если Бог не подарил бы Сане сердечную простоту тона и сочувствие ко всякому встречному, вряд ли Людмила стала бы с ним разговаривать. Но был, был у него этот дар, и Людмиле пришлось замедлить шаг и с видом важным, слегка надменным прислушаться к его торопливым речам.
– Людмила Ивановна! Вы правы! – заговорил он, стараясь шагать в ногу с начальницей. – Согласен во всём! Но вы всё-таки послушайте. Мальчик толком без отца, без матери растёт и вот поставлен на такое дело – собаки! Да, это всё не по правилам, это даже глупо, я понимаю. Но ведь что он делает, Пашка? Вы посмотрите непредвзято! Собирает отказных животных, вылечивает их, насколько возможно, и адаптирует к жизни с людьми – если бы только нашлись эти люди! – объяснял он, торопясь и волнуясь, но всё-таки чувствуя, что голос сердца пробивается через волнение и внятен Людмиле. – И мы с вами его с этой дороги сейчас развернём. Мы скажем ему – Паша, это никому не надо. Отдай собак туда, где им будет намного хуже, и навещай в часы свиданий. А ещё лучше – займись компьютерными играми, как девяносто девять процентов твоих сверстников. Ведь вы понимаете – это очень тяжело, почти невозможно, грамотно организовать приют, раздобыть место. Да ещё мальчику, школьнику! Вы вглядитесь! Пашка – редчайшее явление в нашем мире! Давайте заступимся за него! И он тогда тоже очень за многих сможет заступиться, не только за животных. Может быть, и для нас с вами однажды…
– О! Да вы оратор! – перебила Людмила, внезапно остановившись и с любопытством глядя на умолкшего Саню. – Но этим меня не проймёшь! Я на службе! – И, вскинув красивую голову, продолжила путь.
Саня почувствовал, как холодеет спина.
– А чем вас проймёшь? – сказал он вслед.
Людмила обернулась и сощурила глаза.
– Я же вас помню, как вы за родственника своего переживали! – воскликнул Саня, догоняя её. – Нормальное в вас было тогда человеческое чувство!
На этих словах изящные брови Людмилы взмыли вверх. С выражением удивления и благоволения она смотрела на внезапно узнанного героя.
– Ох! А я всё думаю – знакомое лицо! Как же я вас не признала? Напомните имя-отчество!
Лет десять назад, когда Саня был совсем ещё молодым врачом, Людмила привела к нему своего престарелого родственника, и очень они сошлись – дед и Александр Сергеевич. Доктор отослал его в кардиологический центр, но старик всё равно записывался к нему время от времени – для ободряющей беседы. Когда деда увозили на «скорой» – как оказалось, в последний путь, он наказывал внучке позвонить доктору Спасёнову, передать поклон и узнать, что пропить от бессонницы…
К шахматному домику возвращались в согласии, едва ли не под руку.
– Договорились! Из уважения к вам я закрою глаза, насколько возможно, – сказала Людмила. – Даю вам пару недель – это всё, что в моих силах. Вы тоже поймите, я ведь не могу из-за вас должностью рисковать! Вместо спортплощадки – логово! Это же я буду крайняя! Нет, сумасшедшая я, честное слово! – заключила она и, споткнувшись на кочке, вцепилась в Санин локоть. – Всё! В вашу слякоть больше не полезу!
Саня остановился и сумбурно, может быть, излишне горячо поблагодарил чиновницу.
– Вы не забывайте, заходите в гости! – сказала Людмила. – Прямо к нам в дирекцию. Мы с вами чаю попьём, вспомним деда моего! А если к вечеру, так можно и коньячку! – И, улыбнувшись, потрепала Саню по плечу.
– Ребят, в общем так… – вернувшись во дворик, начал было Саня и умолк. Пока он отсутствовал, произошла перемена: в лесных сумерках возникла ещё одна фигура. Она таилась в тени орешника и была двухглавой. Подхватив на руки дочь, на кочке прошлогодней травы, как на льдине, на последней тающей тверди, отделяющей их от гибели, застыла Маруся. Судя по выражению лица, ей было страшно дышать.
У Сани обрушилось сердце. Он сильно вздохнул, набираясь мужества, и пошёл навстречу жене.
– Марусь, ну зачем вы пришли! Я уже вот собирался идти. Видишь, поговорили с Людмилой Ивановной из администрации. Разрешила пока сохранить приют. Представляешь, я, оказывается, деда её лечил – она меня узнала! Помню его, такой человек энергичный, учитель труда, общественник. Инсульт, но уже за восемьдесят было… – быстро и безнадёжно говорил Саня. – Я сейчас ребятам расскажу в двух словах, и всё. Это недолго!
– Да, я понимаю, – сказала Маруся, ужасными глазами взглянув на мужа. – А я Леночку несла всю дорогу. Боюсь поставить в яд… – И, покрепче прижав к себе дочку, канула в орешник, на заветную тропу, связавшую приют с цивилизованной частью парка.
Саня не побежал следом. Знал, что надо, необходимо, – но не смог, как будто затекли ноги. Он стоял на месте, сомнамбулически покачиваясь с носков на пятки.
Ася подошла и дотронулась до его плеча:
– Саня, ну и что? Чего ты расстроился? Ничего ведь нового!
Он взглянул на сестру:
– Ася! Это база! Я основу рушу, и при этом ещё какие-то подвиги замышляю! – и, махнув рукой, пошёл искать Пашку. Тот бродил по периметру площадки, осматривая снег.
– Ну что, есть что-нибудь? – спросил Саня, догнав его.
Пашка мотнул головой:
– Похоже, они по аллеям сыпали.
– Ну и выпускай тогда, хватит бояться. Пусть хоть погуляют! Последим просто, чтоб с земли не подбирали.
Пашка без возражений направился к шахматному павильону и отпер дверь. Собаки мохнатым ручьём устремились во дворик. Заплясала возле Пашки Василиса-падучая в юбках шерсти. Тимка, спотыкаясь, боднул Курта головой в живот.
Пашка подхватил певчую Мышь на руки и, сев с ней на лавку, проговорил, глядя в пустоту:
– Я хочу взять в кучу всех моих собак. И пусть нас всех вместе взорвут.
– Паш, ты чего? Взорвут! А мы? А дедушка твой! Ты подумай – дедушка-то как! – возмутилась Наташка.
День потравы погас и ушёл в ночь. Пашка отвёл собак на площадку. Те сразу разбрелись по домишкам – спать. Умчалась на «железку» Наташка. И так уже позднотища – дома будут ругать. Ушли к трамвайным линиям шаг в шаг, на расстоянии локтя – Ася и Курт с фонографом на плече. Ушла затем и Татьяна, озабоченная и смущённая судьбой приюта и Пашки, и особенно своим сегодняшним рёвом на Санином плече. Ей бы остаться с племянником – но дома ждут невыгулянные звери.
– Паш, я к семи прибегу, продержишься? – сказал Саня и всей измятой, побитой и выжатой, как в стиральной машине, душой понял, что, оставляя Пашку, совершает что-то ужасное. Ну а если бы решил заночевать в лесу – ужасное было бы иного рода, но не легче.
Покинутый всеми государь перенес Асину банку с ирисами в домик, чтобы цветы не замёрзли, притащил из ветпункта электрический обогреватель и на узком диванчике устроился на ночлег – для тепла прямо в куртке.
Уже задремав, спохватился, что не позвонил деду, и, предвкушая упрёки и всякого рода занудство, вызвал номер. Илья Георгиевич негодовал. Ночёвка внука в лесу была форменным безобразием!
– Дед, ну что ты прямо как Санина Маруся! – огрызнулся Пашка.
Илья Георгиевич ещё долго потом шаркал из комнаты в кухню и обратно, пил капли, глядел за стекло, стараясь рассмотреть показания уличного термометра. Вышел затем на балкон – разогнать духоту в груди – и, прислушавшись, различил долетавший из соседской форточки успокоительный звон посуды, голос Аси и Сонин смех.
* * *
Когда Ася вернулась домой, со стола в гостиной было убрано всё, кроме Лёшкиных роз с несвежим кантом, оставленных, вероятно, Асе в укор. По сравнению с этим розовым кошмаром букет Курта, заночевавший в приюте, казался украденным с эльфийского луга.
– Соня, а Лёши дома нет? – спросила Ася у сестры, наводившей порядок в переполненном холодильнике.
Софья покачала головой, а затем вдруг захихикала и, растопырив испачканные в майонезе пальцы, обняла сестру за шею.
– Аська, ну вы с Болеком даёте! Даже я повеселела. Может, на свете всё не так страшно? Как думаешь? Может, это такая сказка, где всё равно всё хорошо кончится?
Тут за окном с трескучим громом взорвалась сосулька. Сёстры вздрогнули и переглянулись, обрадованные одинаковой мыслью: это померкший день «чихнул» в ответ на Софьины слова – значит, правда!
В своей комнате Ася отдёрнула штору и поглядела: не бежит ли Лёшка? Окно их спальни единственное в квартире выходило на улицу, а не во двор. По бессонной Пятницкой вперемежку слезились добрые и злые огни Москвы: окна жилых домов, светофоры, храмы и рестораны.
Ася смотрела на огни, и постепенно картину за окном начали вытеснять фрагменты прошедшего дня. Она снова оказалась в лесу, в пальто Болека и туфлях-лодочках, щедро черпавших на аллее цианидную слякоть. Память стёрла горечь дня, оставив только сладкое. Волшебно, что Пашка без лишних слов простил ей длительное отсутствие! Волшебно, что Курт ждал её с охапкой весенних цветов и долго не мог сказать ни слова, только смотрел на неё во все глаза, как на лесного оленя, а потом обронил: «Прикольно, что ты пришла!» Волшебно появление Сани, привезшего ей вещи! Ну а если вспомнить побег по липе… Ася с замершим дыханием взглянула на ободранные ладони и, открыв планшет, включила музыку, которую подарил ей Болек.
Праздничная, тайно тревожная мелодия наполнила комнату – как будто через окно плеснули звёздного неба. Ася села на кровать и, положив на колени планшет, склонила голову набок. Ей захотелось помириться с Лёшкой. Этого требовала музыка – ссора нарушала её гармонию, не давала раскрыться во всей полноте. «Где он там, бедный?» – подумала Ася и решила: уж конечно, в своей «последней коммуналке»! Купил пива и тужит о жизни бок о бок с осиротевшей дяди-Мишиной берлогой. Она уже потянулась за телефоном, брошенным на кровати, когда тот зазвенел сам.
С чувством победы, вполне готовая к примирению, Ася схватила мобильник, но нет – номер был чужой. А через мгновение трубка заговорила голосом Болека.
«Долетел!» – поняла Ася и улыбнулась. Это было трогательно – что родственник, которого она едва помнила из детства, примкнул к семейной традиции докладывать друг другу о перемещениях в пространстве.
– А я как раз сейчас Моцарта слушаю! – сказала Ася в ответ на приветствие. – А репродукцию отняла Сонька и уже у себя повесила, в раме!
– Как там родители? – спросил Болек. – Обиделись на нас?
– На меня уж точно, – сказала Ася. – Я бы обиделась! И Лёшка бродит неизвестно где, – прибавила она.
– Ну, это ему на пользу, – заметил Болек и после небольшой паузы сказал переменившимся голосом, как будто с улыбкой: – Ася, у меня к тебе есть одна лёгкая и увлекательная просьба! Погаси, пожалуйста, свет в своей комнате, отдёрни шторы и посмотри в окно!
– Да! Уже! – отозвалась Ася и, выключив лампу, заинтригованно пробежалась взглядом по блестящему огнями вечеру.
– Хорошо. Тогда прицелься на жёлтый высокий дом. Видишь мансардное окно? Полукруглое, больше, чем остальные. Тебе должно быть видно над домами.
Ася живо сняла с подоконника герань и стопку бумаги, дёрнула фрамугу и высунула голову на сырой воздух.
– Нет… Я не пойму, какое? Их там много.
– Хорошо, сейчас… Видишь – которое мигает!
В сиренево-синей, усыпанной стеклярусом огней вышине Ася разглядела очертания дома. Полукруглое окно на верхнем этаже вспыхивало и меркло.
– Да! Вижу! – воскликнула она, и тут же её кольнула невозможная догадка. – Болек, я не понимаю! Ты долетел?
– Долетел? Ну, можно сказать и так! – отозвался он со смехом. – По крайней мере, куда-то приземлился!
В накатившем восторге, забыв о тяготах дня, Ася глубже высунулась в окно и замахала рукой в полную дрожащих огней темноту московской вселенной.
* * *
«Ну вот… Всё это получилось хорошо. Отлично!..» – подумал Болек, укладываясь спать на новом месте.
Рубеж был взят! Неведомый мастер сложил края, и дыра в двадцать лет исчезла. Он снова был в семье и эту самую семью собрался теперь поправить по своему вкусу, изъять лишнее и уютно вписать себя.
Он лёг по-кочевому, прямо в одежде, поскольку ещё не успел обзавестись необходимыми предметами быта. «Всё-таки надо было поискать “апартаменты”, хоть была бы готовая постель…» – подумал он запоздало, впрочем без особого сожаления.
Вскоре тонкий мост дрёмы перенёс его в дом на Пятницкой. Болек увидел Асино беспокойное лицо, приблизил, как в микроскоп, и, пройдя насквозь, очутился внутри её сознания, где во мраке мотались и завывали ветром лесные деревья. Затем черты Аси преобразились в Софьины, и наконец волшебник, вполне довольный своими сегодняшними безумствами, провалился сквозь хрупкий настил «прозрачного сна» в счастливое беспамятство сна глубокого.
Глава шестая
25
…А проснувшись, опять, как в последнее время часто бывало с ним, не сразу догадался, где он. К счастью, роскошный, почти во всю стену, полукруг окна быстро восстановил память. Болек был в Москве, в самом центре столицы, минутах в трёх ходьбы от сестёр.
Вчера вечером на поиск квартиры у него ушло рекордно мало времени. Первый же адрес, который они с агентом пришли посмотреть, устроил его, и вовсе не потому, что Болек был всеядным, – скорее наоборот. Просто квартирка, расположенная в мансардном этаже солидного дома, оказалась изысканной.
Она состояла из небольшой со вкусом обставленной гостиной, спальни и кухни; всюду пахло только что завершённым ремонтом. Главное же – из полукруглого, в форме арки, окна просматривался кусочек дома Спасёновых. Ощущая себя немножко Великим Гэтсби, Болек прикинул расположение комнат и понял, что окно в торце – Асино.
Встав с постели, он отдёрнул шторы и, щурясь на поднимающееся солнце, окинул взглядом уютную панораму Замоскворечья. С удовольствием прошёлся по дому, выглянул во все имеющиеся окна и на кухне обнаружил, что из предметов, необходимых для приготовления кофе, в его распоряжении есть только газовая плита.
Близлежащие заведения, где Болек рассчитывал позавтракать, ещё не открылись. Пришлось топать к метро, в бессонную кофейню при «Макдональдсе».
Сидя у окна в закутке всемирной забегаловки, с глубокой и свежей после сна душой, он понял, почему остался. С опозданием в двадцать лет его настиг дар, обильный и бесполезный, как цветение необъятной сирени в бабушкином дворе, – семья, сёстры и брат, известие о Сониной любви. Содрать шкуру рациональности и голеньким упасть в этот цвет! В молочную реку отрочества! Как, бывает, во сне рушишься в бездну – и просыпаешься на мягкой подушке, в лучах летнего утра. Правда, пока ни подушки, ни лета у него не было. Был сырой апрель, сломанный брак, подвешенная на волоске карьера и незастеленная кровать в чужом доме.
Прикидывая план на день, Болек вспомнил, что приехал с одним чемоданом. К тому же после пожертвованного на Асин побег пальто он испытывал некоторые затруднения с верхней одеждой. Сегодня ему предстояло пройтись по магазинам и обрасти вещами для новой жизни, но до открытия торговых центров было ещё несколько часов.
Задумавшись на миг, он вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный лист, на котором Ася нарисовала ему дорогу в приют. Нет, он вовсе не собирался спозаранку общаться с угрюмым подростком и его собаками. Но разведать место для велосипедных прогулок или пробежек, раз уж ему вздумалось пожить в Москве, – почему бы и нет? Лесопарк вполне бы его устроил!
Прихватив с собой кофе в бумажном стакане, Болек вышел на улицу. Несмотря на раннее ещё утро, было видно – наступает день, которому будет по силам значительно продвинуть работу весны. Ясное небо и подсвеченный солнцем лимонный след самолёта намекали на летний отпуск. Довольный началом дня, Болек поднялся в своё новое жилище надеть под ветровку свитер и вызвал такси до парка.
Разыскать крохотный приют в большом и безлюдном лесопарке на деле вышло легко. Не имея иных ориентиров, кроме Асиного рисунка, Болек двинулся по центральной аллее и там, где через канаву был перекинут мостик, поднял с земли надорванную, пахнущую клеем листовку. «Нам не нужно лишней крови! – прочёл он. – Наши ружья направлены против бездомных разносчиков заразы. Освободите парк от логова, или мы продолжим борьбу!»
Сунув бумажонку в карман ветровки, Болек перешёл мостик и ещё раз сверился с Асиным планом. Да, всё верно! Вбок от надёжного асфальта аллеи в заросли уходила снеговая тропа. Оскальзываясь, он двинулся по талому насту, а через некоторое время его слух уловил голоса. Слова размазал ветер, но общий тон спора был явно недружелюбен. Через полсотни метров орешник закончился. Тропа выплёскивалась из гущины ветвей – ровнёхонько в эпицентр событий.
Притормозив в тени кустов, Болек увидел хлипкий дощатый домик и двор, а во дворе – человек восемь взбудораженных, то, что принято называть «агрессивно настроенных» парней и двух женщин в спортивной одежде, стоявших чуть поодаль. Появление Болека прошло незамеченным. Внимание собравшихся было направлено на тощенького заспанного подростка, что стоял на крыльце домика, упёршись ладонью в дверной косяк.
– Вам чего? – спросил Пашка сиплым голосом и, прищурившись, оглядел толпу.
В тот же миг два парня подхватили его под мышки и перенесли со ступеньки на землю двора.
Болек, стараясь не хрустнуть льдинкой, отступил в глубь орешника. Суть происходящего в общих чертах стала понятна ему. Теперь следовало вызвать подмогу, а самому продолжать наблюдение из укрытия.
Пока он соображал, как позвонить в службу спасения, круг сомкнулся, и подростка стало не видно в сердцевине вопящей сходки. Вожак стаи, коренастый и большеголовый, требовал ключи от собачьего загончика.
– Нет у меня ключей! Ключей нету! Ясно? Я вам книгу дам, хотите? Хотите книгу, я вас спрашиваю? Берите, пока дают! – западающим голосом, кажется, безо всякого смысла выкрикивал Пашка и, отбиваясь локтями, стремился прорваться к домику.
– Чего он лепит? Какую книгу? – обернулся к своим вожак.
Воспользовавшись секундным замешательством врага, Пашка вырвался из кольца и, взбежав на крыльцо павильона, как на маленькую трибуну, рявкнул нежданно окрепшим голосом:
– Книгу, говорят вам! Там про лошадёнку! Её впрягли в жутко тяжёлое и забили насмерть! Ясно! Её секли по самым глазам, по морде! А когда она упала, мальчик пытался её защитить, но не смог! Он с ней упал и стал целовать её мёртвые глаза и губы! А потом он вырос и убил их всех! Поняли вы, дебилы? Уяснили, что вам будет, если сунетесь? – орал он с хрипом, с предельным накатом, таким, что сходка умолкла, только шипела тихо, как затухающие угли.
Болек с изумлением слушал альтернативную версию прославленного романа.
– И ты мне тут ручища не распускай! Лучше о себе думай, кто ты! Это ты её засёк! – наставив лоб на двинувшегося к нему вожака, крикнул Пашка. – Ты насыпал яд, чтобы живые умирали! И поэтому и тебя, и всех! Всех, кто вас поддерживает!.. – Он запнулся, придумывая кару. – Всех вас надо лишить родительских прав!
– Да кто ж тебе сказал, что мы яд одобряем! – воскликнула женщина в спортивной форме. – Мы одобряем, чтоб дикие животные тут не гнездились, а никакой не яд! Ты, может, ещё крокодилов в пруду разводить надумаешь? Умный-то! А где ты лошадь-то эту видел, которая упала?
Пашка, откинув с лица волосы, обвёл взглядом обезображенные душевным уродством лица догхантеров.
– Ладно, Достоевского вы не читали, – произнёс он с усмешкой. – А Евангелие? У моего деда есть Евангелие, и там Заповеди блаженства! Что вы думаете, они про одних людей? Они и про животных. Про Франциска хоть, может, слышали? Тоже нет? Мои собаки все и нищие, и плачущие! И не цыкайте тут! И ещё они птицы небесные – не заботятся о завтрашнем дне! – Тут он вдруг замолчал, схватился рукой за голову, словно желая все волосы разом сгрести на лицо, и через паузу, внезапно севшим голосом прибавил: – У меня у моего деда просто есть Евангелие…
Болек с упавшим сердцем закрыл глаза и снова открыл. Он знал, что сейчас начнётся.
– Твари твои, что ли, бесятся? Ключ давай! – прогнусавил вожак, услышав многоголосое подвывание с площадки, и, шагнув к Пашке, взял его за футболку.
– У тебя пневматическая винтовка! – сказал Пашка дрогнувшим голосом и поглядел в спрятанные под нависший лоб глазки-пуговки. – Ты и ворон стреляешь? Зачем? Тебя лупили, наверно, в детстве – отыгрываешься?
– Люди добрые! – оглянувшись, крикнул большеголовый. – Люди добрые! Чего ждем! – И вдруг остановился взглядом на тропинке, ведущей к спортбазе. – А вот и тварь вылезла! Давите волчару! – указал он на очень старого рыжего пса. Пёс вышагивал по тропе на негнущихся лапах и хриплым лаем совестил дебоширов.
Два парня с баллончиками вышли из кучи и, остерегаясь, направились к собаке.
– Джерик, уйди! Фу! Беги отсюда! Беги к Татьяне! – сипло и тонко закричал подросток и вдруг заплакал. – Джерик! Беги! Беги! – вскрикивал он, рыдая.
С этого мига погром вступил в решающую фазу. Огромные рты извергли брань. Звенело стекло, разбиваемое безо всякой разумной цели. Взвыл и, отчаянно заскулив, упал настигнутый камнем старый пёс. Страшные руки подхватили мальчишку за ворот футболки, за волосы и, вероятно, ударили в грудь – пытаясь крикнуть, он закашлялся. Обе женщины, ненароком примкнувшие к сходке, визжа умчались прочь.
Сердце Болека застучало вкривь и вкось. Ладонь, сжимавшая мобильник, вспотела. «Ноль один, ноль два, ноль три», – бессмысленно вертелось в голове. Он уже собрался бежать на центральную аллею за подмогой, но вместо этого кашлянул в кулак и не то чтобы с охотой, но бодро, как штатный актёр, которому не приходится выбирать, вышел на сцену.
Энергичный, немного взмыленный, словно только с беговой дорожки, он остановился в паре метров от галдящей кучи и грянул звонко и дробно:
– Прекратить противоправные действия!
Морды обернулись, и каждая, как порцию отравы, получила дозу пронизывающего чёрного взгляда.
– Десять шагов назад от несовершеннолетнего!
Тон приказа был таков, словно в кустах, за спиной у Болека, притаился отряд бойцов. Толпа колыхнулась и отступила. Только большеголовый ещё продолжал держать Пашку за шиворот.
– Ну ты! Надолго ведь сядешь! – ясно проговорил Болек, и руки большеголового мгновенно оставили жертву.
Позже маэстро Болеслав немало повеселился над собственным выступлением. Но в тот момент он и правда чувствовал себя уполномоченным едва ли не государством казнить без суда.
– Пошли вон! – отчеканил он с презрительным холодом и с высоты, словно бы стал вдруг ростом с берёзу, проследил, как улепётывают со двора провинившиеся муравьи.
Через минуту инцидент можно было считать исчерпанным.
«Ну, толк-то есть пока от профессии…» – подумал он, с удовлетворением отмечая, как ровно, без ускорений, работает вжившееся в роль сердце.
– Паш, ты как, в порядке? В полицию звоним? – спросил он героя в порванной футболке, присевшего на корточки возле рыжего пса.
Подросток не услышал его.
– Джерик, ну что ты так лёг? Лапу больно? Сустав тебе, гады, подбили! Где больно? Тут? – бормотал он, осторожно ощупывая собаку.
Болек вздохнул, пересёк дворик и, сев на качели, позвонил брату.
– Саня, давай гони в лес! – сказал он. – Тут у вас погром натуральный! Не волнуйся – кроме пары стёкол, все живы.
Полчаса спустя Саня уже сидел рядом с Пашкой на старом диванчике. У порога стояло ведро с осколками стекла, а через прорехи в домик свободно заходил сырой лесной ветер.
Устроившись в гнезде из пледа и куртки, государь, обычно молчаливый, выговаривал утреннее потрясение. Его лицо не порозовело ещё, но уже не было снеговым, как пять минут назад, – страх отпускал, на смену ему шла волна горячего бреда.
Пашка начал с того, что, давясь словами, пересказал Сане свой сегодняшний сон. В нём они с Наташкой шагали по заледенелой местности, напоминавшей фотографии блокадного Ленинграда, и волокли за собой большие тяжёлые санки. На них они грузили попадавшиеся по дороге тела окоченелых собак, впрочем, были оптимистичны и живо обсуждали методы размораживания. А затем из воронки вихря возник ледяной и прозрачный враг. Наташка, выхватив меч, взлетела к нему. Мечи зазвенели, как стёкла. От звона Пашка проснулся и увидел, что за разбитым окном светло, в рассыпанных по полу осколках блестит солнце. Тут же ещё одно стекло взорвалось, повалили крики, и он, пригнувшись, как под пулями, перебежал к противоположной стене, где на полке с чашками остался его телефон. Но позвонить не вышло – экран погас в руках. За холодную ночь аккумулятор сел. Тут ему стало противно трусить. Он вышел на крыльцо и увидел толпу орков, которые почему-то совсем не боялись солнца.
– Да, Саня, и он по этим оркам как врежет Фёдор Михалычем! – заметил Болек, сидевший тут же, за составленным из нескольких парт столом. – Паш, ты, между прочим, проявил недетскую силу духа! Книжка-то вот эта? – спросил он, листнув брошенный на столе старенький синий том.
Пашка покосился на говорившего и перевёл взгляд на Саню. Тот сразу заметил: «карельские» глаза больше не были прозрачными – кто-то в озере хорошо взбаламутил воду.
– Александр Сергеич, почему люди всегда хотят забить лошадёнку? Этому есть научное объяснение? – спросил он, сев на диване и, кажется, намереваясь всерьёз обсудить этот вопрос. – Почему всех живых, весёлых им надо убить, и никто даже не возражает? Зачем тогда мы в школе проходим всё это? Россия, нищая Россия! Всех этих Есениных? Для чего они нас долбают этим всем, раз на самом деле всё общество – за живодёров?
– Ну что ты глупости говоришь! При чём тут «всё общество»!
– При том, что нас хотят с полицией выгнать! А живодёры устраивают убийства и пытки всякие, а их даже не ловят, – сказал Пашка. – Вон, они свободно на великах рассекают! Если я отравлю догхантера – меня посадят в колонию, а если он сто животных потравит – ему ничего! Никто и разбираться не будет! Ну и прославляли бы тогда живодёров в школьной программе! Нашли бы писателей соответствующих.
– Видишь ли, Паша, – вступил Болек. – Так вышло, что по документам живодёр – человек и гражданин. У гражданина по конституции есть право на жизнь и на защиту государством. А животные не граждане, и их права крайне зыбкие.
– А есть где-нибудь государство с другой конституцией? – оживился Пашка.
Саня, озадаченный до глубины души, молчал. Он никак не думал, что Пашка поставит вопрос в масштабах страны.
– Эмигрировать собрался? А язык хоть знаешь? – спросил Болек. – Паша, приют – это не вся твоя жизнь, только один её эпизод. Тебе надо постараться увидеть жизнь в целом. Чего ты хочешь, чем планируешь заниматься. Если, допустим, ты собираешься…
– Я не хочу в целом! – сказал Пашка, угрюмо глянув на чужого. – Я хочу, чтобы мои собаки дожили в своей семье и спокойно умерли!
– Можно найти законное место для приюта и переехать, – терпеливо продолжал Болек. – Здесь-то в покое тебя вряд ли оставят. Ну, или, если пугают хлопоты, есть идея попроще. Сделайте фотографии и тексты, переведём их и на нескольких языках запустим у меня на страницах. Усыновителям пообещаю книжку с автографом. Ваши псы в неделю по Европе разлетятся! Ещё драться за них будут!
– Я не клиент вам, чего вы лечите меня! – мутно глянув, буркнул Пашка.
– Паша! – возмутился было Саня, но Болек сделал упреждающий жест.
– Ага, и с утреца, когда тебя тут на вилы подымали, – тоже был не клиент! – тепло улыбнулся он.
– Да! Не клиент! Это вы клиенты! Вы все здесь лечитесь! Приходите сюда совесть свою лечить за собачий счёт! А я тут живу! Отвалите! – крикнул Пашка, и раненый Джерик заворчал, поддерживая хозяина.
– Будешь ждать, когда приедет машина с распоряжением и всех вывезет? А где тут любовь к животным?
Пашка исподлобья смотрел на врага.
– Я понимаю, тебе жалко вашего единства, семьи, – сочувственно проговорил Болек. – Но время приюта на данной территории вышло. Так случалось даже с целыми цивилизациями. Ты должен трезво решить, как минимизировать ущерб. Пристроить в вашем случае, похоже, единственный выход. Давай так: мы с Александром Сергеевичем… – И оборвал.
С искажённым лицом Пашка глянул чуть в сторону, мимо Болека, и прошептал тихо, но внятно:
– Отойди, сатана.
Это было сказано так ужасающе всерьёз, что Болек встал с места и, помедлив мгновение, вышел вон из домика.
Пашка упал головой на скомканную куртку и замер, отвернувшись к стене. Верный Джерик с перешибленной лапой тыкал мордой в ладонь хозяина, надеясь на отклик. Саня положил руку на Пашкину спину и почувствовал, как слабеет волна гнева. Нервная система подростка истощилась, он сдался.
– Александр Сергеич, закапайте там Норе в глаза, – попросил он уже совсем смирно.
– Да, Паш, – кивнул Саня, взял с полки лекарства, сдёрнул с гвоздя пару поводков и вышел во двор.
Оглядевшись, он сразу увидел Болека: тот стоял возле обнесённого сеткой вольера с домишками и разглядывал вывеску.
– Полцарства! – проговорил он, увидев Саню. – Так, значит, Пашка – коронованная особа? А это его народ? – кивнул он на столпившуюся за сеткой братию.
– Зря ты. Бесполезно с ним об этом, – расстроенно проговорил Саня и отпер калитку. Болек вошёл вместе с ним в самую гущу стаи. Саня едва успел схватить за ошейник Гурзуфа, возмущённого вторжением чужака.
Сборище нищих и калек произвело на гостя странное впечатление.
– А Пашка-то со своей русской литературой прав! – сказал он, задерживая взгляд на косматом Гурзуфе, глухо порыкивающем, вопреки запрету. – Похоже на Россию в миниатюре.
Саня, занятый глазными каплями для старой эрделихи Норы, отвлёкся и поглядел на стаю. Пугачёв-Гурзуф, метущая юбками Василиса-падучая, кроткая Марфуша, разночинец-интеллигент Филька. Пара бродяг Щён и Чуд. Безногий, но бравый солдат Тимка…
– Может, и так, – сказал он и, взяв самых послушных – Фильку и Василису, запер калитку. Собаки радостно потрусили впереди, вынюхивая весеннюю таль.
– Мальчик героический, сомнений нет, – перепрыгивая с кочки на кочку, говорил Болек. – Но все его отговорки – это отговорки, не более. Я серьёзно говорю: дайте мне фотографии зверюг и вкратце историю каждой псины – всё сделаем. Усыновителей пробьём на благонадёжность.
Саня покрутил шеей, как будто что-то мешало, и заговорил, на ходу подбирая слова:
– Вот ты прав, да. Но и нет. Я не знаю, как тебе объяснить. Ты понимаешь, здесь у нас было хорошо. И Пашка, он просто хотел защитить свою маленькую победу добра. Извини уж за лексику… А ты явился из другого мира и предлагаешь разобрать храм по камушкам. Пашка ведь не просто так ерепенится. Животные все, так или иначе, калеки. Будет очень трудно и им, и новым хозяевам…
– Но ты ведь не будешь возражать, что эту вашу «победу добра» сложа руки не защитишь? – сказал Болек. – Надо задать параметры и поискать подходящее решение!
– Нет… – качнул головой Саня. – Мне кажется, не нужно никакого решения.
Болек замедлил ход.
– Поясни!
– Ну, иногда его просто не нужно – потому что оно в любом случае будет проигрышным. Ты пойми, Полцарства – это не организация и не клуб по интересам. И это не приют в обычном смысле слова. Это любящее единение живых существ. Его нельзя будет повторить, раскидав фигуры по свету, или иным каким-то образом. Приют живой, и если Пашка согласится уничтожить его, пусть даже это и очень разумно со всех сторон, – это будет… ну, это будет гибель.
– Саня, ты меня поражаешь! Честное слово, ты ещё тот псих, похлеще меня! Может, это в генах?
– Нет-нет, это можно понять! – быстро возразил Саня. – Я это тоже сначала не понимал, а потом понял. Если Пашка приют не предаст, то он сохранится где-то в памяти мира, в вечности, ну, как сохранились великие произведения искусства и великие подвиги. Сейчас я тебе приведу пример – и ты поймёшь! Вот почему праведники, когда у них требовали всего лишь отречься от веры, шли на смерть, но не отрекались? Ведь всяко разумнее было бы сохранить жизнь, а дальше действовать во благо своей же веры? Но ведь нет. Ведь нет… – сказал он, качая головой.
– Саня, ты говоришь о религиозных фанатиках! – возразил Болек.
– Не всегда! – перебил Саня. – Бывают ситуации, когда и я, и ты, и все мы чувствуем, что разумный поступок не есть правильный поступок! Это сверхрационально, может быть. Это надо постигать не умом, а какой-то вспышкой правды. Но это так! Именно поэтому Пашка прав в своём упрямстве.
– Много бреда, Саня! Ну, сам подумай, ведь не можем же мы настолько противопоставлять себя обществу! Если людям не нравится, что мальчишка приютил в городском парке инвалидов собачьих, – мы должны считаться.
– То, что ты называешь «обществом», хочет, чтобы ты примкнул к армии клонов! – горячо возразил Саня. – Чтобы ты выбрал навязанную тебе попсу, общественный строй, продукты, услуги. И, конечно, масса всегда поглотит уникума, без вариантов! Если только в нём нет чего-то огромного. Самого главного. В Пашке оно есть! Ты пойми, собаки заперты на отшибе, они все до одной привиты, воспитаны, за ними следят!
– Саня, но это же самозахват территории!
– Ты прав! – внезапно смирился Саня. – Но Пашка этого не примет. А я не хочу, чтобы он сломался. Поэтому я буду думать как он. Не обижайся! – прибавил он сокрушённо.
– Обижаться я разучился лет пятнадцать назад – это слишком энергозатратно, – улыбнулся Болек и, запрокинув лицо к солнцу, почувствовал, как лоб начинает пощипывать летним жаром. – Да и какие тут могут быть обиды? Наоборот, я хочу проникнуться. «Я не буду спасать приют, потому что хочу, чтобы он выжил!» Мне сейчас это близко – я ведь тоже теряю логику! – признался он, но Саня уже его не слушал.
Сделав круг, он запустил собак в загончик и, бегло приласкав остальных, тех, кому сегодня не повезло с прогулкой, вышел на тропинку. Остановился и, мотнув головой, словно стряхивая наваждение, поглядел на Болека:
– Слушай! А вообще, почему ты здесь? Ты же вчера должен был улететь!
– Ну слава богу! А я думал, спохватишься или нет! Между прочим, я ещё и успел снять скромный пентхаус, у вас там, на Новокузнецкой.
– Зачем? – поражённо спросил Саня.
– Даже не знаю, что тебе на это сказать! – пожал плечами Болек. – Видишь ли, человек не всегда знает наперёд, зачем совершил тот или иной поступок. То есть у него есть представления о своих целях, но часто ошибочные. Лично я не стал бы торопиться с ответами, но если…
– Да говори ты толком! Что ещё случилось? – разволновался Саня.
Болек прислушался и бережно, словно на плечо села бабочка, произнёс:
– Во мне родилось сомнение!
26
В тот вечер Маруся пекла пирог. Когда пропищал таймер, она открыла духовку и, взглянув на совершенно плоский корж, поняла, что забыла о разрыхлителе теста. С этим блином, вполне вкусным, особенно если намазать вареньем, они с Леночкой попили чай, но угощать подобным творением мужа, конечно, было нельзя.
После чая Маруся перешла ко второй попытке. Пока новый пирог пёкся, она вымыла посуду и пошла проверить, не появилось ли чего-нибудь новенького на «рабочем месте» мужа. Вечерами её Саша любил завалить кухонный стол книжками, но утром Марусе не к чему было придраться. Книги с тетрадями лежали стопкой на стуле у окна.
Подойдя, Маруся перебрала стопку. Взяла том Флоренского, полистала – какая-то чепуха. Затем наугад открыла Шеллинга – та же история. Слова в этих книгах складывались в сплошной забор, через который Маруся никак не могла увидеть смысл. После попалась книжка некоего митрополита Антония – что-то она о нём слышала! – Маруся открыла, наткнулась на главу «Вопросы медицинской этики» и закрыла.
Вздохнула и, приподняв стопку, вынула с самого низу потрёпанную ученическую тетрадь в клетку, выпущенную фабрикой «Восход». Её страницы были исписаны мужниным почерком разных лет и обстоятельств – небрежным и аккуратным, крупным и мелким. Текст представлял собой список имён и фамилий с комментариями в скобках, частью медицинского, частью личного характера. Маруся знала, что сюда муж заносит трагические истории некоторых своих пациентов или просто встреченных им людей и для чего-то бережёт и пересматривает этот список, вместо того чтобы пересмотреть, например, свои свадебные фотографии!
Маруся сжала зубы, распираемая желанием порвать тетрадь, но смирила себя и спрятала её на место, под книги. Пошла затем в спальню и, взяв книжку по психологии про «мужчин с Марса» и «женщин с Венеры», села за стол читать.
Маруся читала и перечитывала её уже месяц и много всего применила на практике, но чувствовала, что бестселлер популярной психологии не рассчитан на её мужа. Все уловки и премудрости отношений, кропотливо освоенные Марусей, проскальзывали вхолостую, не оказывая нужного действия.
Нет, книжка больше не увлекала её. Выскользнув из текста, она рассеянно смотрела сквозь буквы и видела сумрачный лес и своего мужа Сашу, захваченного колдуньей. Владение Марусиной противницы охраняли страшные псы. Размывы яда очертили её убежище, не позволяя Саше вернуться домой, к жене. Никаких сомнений: он был пленён и, конечно, уже испил любовный напиток, связавший его с чужой женщиной. Вопрос – с которой из двух? Маруся заметалась между некрасивой Татьяной и новой напастью – виденной ею вчера симпатичной Людмилой. Колдунья оказалась двуликой!
Маруся встала и с книгой в руках прошлась по душной от пирога кухне. Её муж, хотя и запутавшийся, всё-таки пока не бросил её, приходил ночевать домой, а значит, за него стоило побороться. Нанести удар! Посмотрев на раскрытую книгу, Маруся вцепилась в обе половинки и потянула. С треском лопнули нитки, обнажился жёлтый клей корешка. Стиснув зубы, она разорвала книжную плоть на куски и, истратив все силы, заплакала от страха и путаницы. Хорошо, что на слёзы у неё осталось совсем немного времени.
В четверть девятого она, как всегда, подсела к окну и стала внимательно смотреть на ведущую из парка дорожку. С минуты на минуту под расплывающимися в лужах фонарями должен был возникнуть её дорогой муж Саша. На этот раз он задержался совсем ненадолго. Маруся различила на краю леса знакомый силуэт, но обрадовалась лишь на короткий миг. В плечах у мужа и в наклоне головы виднелась тяжесть тревожных мыслей.
Маруся была права. К утренним волнениям о Пашкином приюте прибавились ещё заботы. По дороге домой Саня позвонил сёстрам. Оказалось, что бывший Софьин супруг каким-то образом узнал об аварии, и теперь Софья опасалась, как бы он не взялся оспаривать в суде опеку над Серафимой.
Саня повесил голову. Даже на вверенном ему крохотном участке вселенной не удавалось поддерживать мир! Плот бросало с волны на волну, то один, то другой его угол загребал солёную воду.
Выйдя из парка на бульвар перед домом, Саня поднял взгляд и различил в окне силуэт Маруси. Помахал ей и, отложив мысли о сёстрах, постарался настроиться на семейный вечер.
В последнее время, желая бесконечно оберегать мужа, Маруся освоила ряд новых полезных блюд, призванных умножать здоровье. К сожалению, Саня не мог есть эту несомненно правильную еду – смесь бурого риса, гречки, моркови, чего-то там ещё, без масла, с йогуртовым каким-то соусом, и прочее в том же духе.
Оттого ли, что всё это было пропитано ревнивым накалом чувств, или просто слишком уж не похоже на благословенные застолья Спасёновых, еда не лезла в горло. А есть было надо! И Саня покорно принимался за ужин, утешаясь мыслью о чае с хлебом и родительским вареньем, который ждёт его ночью, за уединённой работой.
И всё-таки на этот раз он попробовал отвертеться от каши.
– Марусь, давай чуть попозже? Я на минуту к Пашке забежал, умял там у них полбуханки. Наташка два кирпичика принесла, тёплые ещё!
– Милый, ну, может, хоть немножко? Давай? А ещё у нас пирог на овсяных хлопьях! Хочешь, с кофе подам? – улыбаясь со слезами, сказала Маруся и вдруг, словно из-за угла её личности выскочил убийца, продолжила чужим, сдавленно-резким голосом: – Саша, а ты всё-таки можешь мне объяснить, зачем этот приют? Есть большие приюты, муниципальные, они для того и созданы. Всё равно вас разгонят – зачем тратить жизнь на эту бессмыслицу?
Саня взглянул на жену – правда ли не понимает или просто злится?
– Ты просто совсем ни во что не веришь, Марусь, вот в чём беда.
– Почему ни во что? – покраснела Маруся. – Я верю в психологию. В то, что мы можем выстраивать нашу жизнь!
– О! Это тебе к Болеку! – вздохнул Саня и, сев за стол, покорно придвинул тарелку.
– Саша, а если бы приюта не было – ты бы мог не ходить через парк? – вкрадчиво спросила Маруся. – У тебя там нет никакого другого дела?
– Нет, Марусь, – устало качнул он головой и где-то на дальнем плане сознания, «затылком» почувствовал, что валится в бездну. Клоками чёрной ваты распадается и летит к чертям бессмысленная попытка семьи. Не за что зацепиться, а если бы даже и было, не стал бы…
– Ну хорошо, – сказала Маруся, заглаживая свои тёмные шелковистые волосы за ухо. – Я тебе верю. Я и сама так думала. Ну, ты тогда расскажи мне, как там у них? У вас…
Сане не хотелось делиться случившимся, но он чувствовал – молчать нельзя. Грех – намеренно увеличивать пропасть.
– Пашке утром стёкла побили, – сказал он, ковыряя вилкой крупу. – И самого чуть не пришибли. Болек их разогнал. Похоже, догхантеры.
– Догхантеры?
– Ну, по-русски живодёры. Хотят, чтобы не было ни собак, ни кошек, ни птиц. Верят, что спасают город. Совсем они больные, вот что плохо. Морально покалеченные. Боятся людей, боятся всякой жизни. Их и ненавидеть даже нельзя. Вот такие новости! – Саня опёрся локтём о стол и потёр лоб. – А у Николая Артёмовича мне очень не нравятся ноги. Вот сел он в свою коляску – и ленится. Ну всё же к чёрту атрофируется!
Маруся не расслышала его последнюю реплику. Слова о догхантерах произвели на неё значительное впечатление. Она подошла к окну и, продолжая приглаживать волосы, взглянула на сумеречный лес.
– А как они объединяются? – не оборачиваясь, спросила она. – Ну, эти маньяки?
– У них есть сайты. Встречаются, вместе выходят на охоту…
Маруся обернулась и с улыбкой поглядела на мужа.
– Саша, ну что, пойдём досмотрим тот фильм?
Всё время совместной жизни, всегда, каждый день, Сане было жалко Марусю. Он думал: вот, росла в Калуге девочка, никто особенно её не любил. Мечтала. Через ошибки и трудности добилась мечты. Старается. Конечно, старается! В меру возможностей. А её воплотившаяся мечта – дорогой муж – отворачивается и вместо мирной жизни ищет подвига. Эх ты, князь Андрей!
Понять! Понять человека! Уделить время и понять! – принуждал он себя и ничего не делал. Была на нём и ещё вина – за Марусину дочку Леночку. Он иногда играл с ней, болтал о всякой всячине, отводя в сад, но нисколько не выделял среди других детей, о которых время от времени ему доводилось заботиться.
Однажды Саня заглянул в распечатку, оставленную, должно быть, специально, там, где лежали его книжки, и узнал, что жена изучает психологические рекомендации на тему взаимопонимания в семье. По-простому их тему можно было сформулировать так: как сделать, чтобы чудак, доставшийся тебе в мужья, был доволен.
С той поры Саня знал, какую трудную и тщетную работу по сохранению семьи ведёт Маруся, и мог догадаться, о чём она будет думать вечером, когда уткнётся с трагическим лицом в своё вышивание или книжку. Она будет корить себя долго и беспощадно. Стала спорить – дура! Не высказала увлечённости – дважды дура! Полезла с ревнивыми вопросами – идиотка!
От сознания Марусиных стараний Сане ещё больше хотелось бежать – если не из дому, то хотя бы на территорию собственных мыслей.
Когда закончилась мелодрама и Маруся пошла укладывать Леночку, Саня вернулся на кухню, как обычно готовый к побегу в свои вечерние занятия, и увидел на столе пирог. Рядом стояла десертная тарелка, конечно приготовленная для него. Солнечная нетронутость круга поразила его. Он огляделся, взял нож и двумя нажимами прорезал угол в осыпающемся, вероятно, очень полезном корже. Вздохнул и мужественно съел, запивая водой. Поглядел на щербатый круг и почувствовал, что одним куском дело не поправить. Требовалось продемонстрировать Марусе, что её труд оценён по достоинству. Превозмогая внутренний протест, съел ещё. И сразу на душе сделалось легче. «Не слишком ли просто стало очистить совесть?» – подумал он и в своём уголке за кухонным столом открыл планшет – разобрать скопившуюся на почте корреспонденцию.
Саня любил это зыбкое состояние, когда после дневного труда на него вдруг наваливался труд поздневечерний – написать письмо ждущему ответа человеку, почитать информацию по затруднительному случаю или разобрать не получившиеся у Пашки задачки, чтобы в следующий раз объяснить.
Собственных сил у Сани не было, но кто-то лучший, чем он сам, в миллион раз талантливее и мудрее, подхватывал его работу и исполнял с небывалой глубиной и свежестью мысли.
Просматривая новые письма, на некоторых он задерживался и припоминал историю пациента. Одна женщина жаловалась, что по ночам кто-то из соседей-злопыхателей за углы приподнимает их дачный дом и покачивает, «…только, Александр Сергеич, прошу – не говорите супругу! Он всё равно мне не верит!».
«Да, это уже симптом… Как-то надо разбираться», – угнетённо подумал Саня.
Следующее послание раздосадовало его – парень-инфарктник, совсем ещё молодой, приучившийся в Саниной компании к быстрой ходьбе через парк и неплохо сбавивший вес, опять взялся за пиво, засел на диван, расползся. «Александр Сергеич, я один не справляюсь! – жаловался он. – Может, можно к вам присоединиться в какое-нибудь удобное время?» «Вадим! Я что вам, группа здоровья?» – написал было Саня, но стёр и, ничего пока не ответив, открыл другое письмо.
Оно было от дочери одного пожилого пациента, давно уже переправленного Саней к кардиологам. На днях ему должны были поставить кардиостимулятор. «Александр Сергеевич, я вам звонила, но вы были недоступны. Я решила лучше в письме. Нам Варвара (помните её? Акимова!) рассказала, как вы её Настю отмолили. Александр Сергеевич, мы с мамой вас просим на коленях, съездите с нами в Даниловский монастырь на службу, за папу попросить! Вы скажите, когда вы сможете, а мы к вам подстроимся!»
«Просим на коленях!» Саня выдохнул и попытался придумать ответ. Он хотел объяснить, что никого не «отмаливал», не обладает полномочиями и вообще понятия не имеет, как это делается. А с Варварой – так они просто столкнулись в храме на Пятницкой. Он шёл к сестрам и заглянул на звук хора. Ну и поговорили о Насте. Что за бредовые предположения!
Текст был намечен, оставалось вбить его в письмо, но вместо этого Саня открыл ежедневник и, почесав затылок, прикинул: если служба ранняя, он сможет, пожалуй, и завтра. Это даже удобно, потому что в воскресенье не бежать на работу. А домой к завтраку он успеет…
И, подперев ладонью подбородок, задумался.
Он не был воцерковленным, хотя любил вдвоём с Асей отстоять службу в канун праздника и любил как-то глубоко, родственно, русскую иконопись и облик новгородских и суздальских храмов. Иногда ему казалось, что всё его существо на каком-то сквозьклеточном уровне пронизано верой предков. Тихие, исполненные смирения образы старинного православия были ему близки и понятны, а перед нынешней Церковью он порой опускал взгляд, будто что-то в её уверенном голосе вступало в противоречие с сердцем.
Как бы то ни было, Саня чувствовал благодарность, что его не выпускают из круга традиционной веры, не дают забыться. Он решил, что завтра обязательно съездит в Даниловский.
А утром на почту, где вчера так и не навёл до конца порядок, пришло письмо от Болека, короткое, деловое и успокоительно трезвое. Он написал, что переговорил со своей бывшей клиенткой, ныне чиновницей «как раз по вашей теме». Она бралась оказать ему услугу – свести со специалистом, который поможет раздобыть подходящее место для маленького частного приюта. «Ну что, запускаем поиск?» – спрашивал он последней строкой.
Саня не знал, что ответить. И всё же тем краем сознания, где рождается творчество и сны, догадался: дело приюта принято на рассмотрение. Тот факт, что к ним прислали «тайного советника» (или кем там ещё назначен в этой истории Болек?), – хороший знак.
27
Уже которую неделю по Замоскворечью гулял Великий пост – ветреное и сырое время, когда трактиры и ресторации увешаны призывами отведать постных блюд – не потому, что среди клиентов много постящихся, но из простительного желания не упустить повод к рекламе.
Иногда и Лёшка, страдающий неизвестным ему до сей поры томлением, заглядывал куда-нибудь на бизнес-ланч со стаканчиком пива. Забивался в угол к окну, горемычную голову подперев левой ладонью, в правой стиснув вилку и тыкая ею в остывшую котлету.
Холодна же потому бывала котлета, что Лёшка задумывался, и всё больше о грустном. Он не был ни поэтом, ни мистиком, однако с кем поведёшься – от того и наберёшься. Усвоив Асины категории, он чуял сердцем: уютный дом сестёр – в эпицентре землетрясения. От подземных толчков взвизгивает посуда, наземь летят картины и люстры, дымится штукатурка. Того и гляди оползшие стены погребут под кирпичиками их с Асей единую кровь и плоть – души врозь пойдут гулять по свету. А среди мёртвой разрухи Илья Георгиевич станет зазывать призраков на супчик с чесночными гренками!
Вроде бы никто не выгонял его из дому и сам он не убегал, жили бок о бок. Но больше не было Асиного смеха за завтраком, и ужинали врозь – кто когда придёт. А главное – посередине постели выросла диванная подушка и Берлинской стеной разделила общий сон на два независимых государства. Подушку ту Лёшка тронуть, тем более пересечь не смел, только молча недоумевал: как вышло, что Ася такая неумолимая?
И вот наконец Илья Георгиевич его спас! Столкнулись, как обычно, на лестнице – сосед выносил мусор. И как-то вдруг само собой Лёшка оказался на кухне у старика.
Он и не помнил, когда в последний раз изливал кому-нибудь душу вот так, на всю катушку. А тут вдруг – прорвало! Сопя и отворачиваясь, чтобы не выдать избыток чувств, и всё же срываясь то в хрип, то в детскую тонкоголосую жалобу, Лёшка рассказывал Илье Георгиевичу о своих рухнувших планах. О том, как мечтал продать комнату, чтобы была у них с Асей своя квартира, пусть хотя бы и в спальном районе, настоящая семья, дети, поездки на море. И вот теперь из-за «собачьего» каприза его жена сходит с правильного пути! Просто валит её в кювет, как пьяного дядю Мишу.
– Лёшечка, ты не сердись на меня, старого. Но подумай: что значит «правильный путь»? Какой такой правильный? Да и если б он был! – рассуждал Илья Георгиевич, подкладывая гостю со сковородки горячих сырников. – Тебе сейчас нужно не судить её, а понять! Ты сам к ней иди. Знаешь, как с подростками – если хочешь сохранить контакт…
– В приют не пойду! Сказал уже! – отрезал Лёшка.
– А я и не о приюте! – заторопился Илья Георгиевич. – Настенька у тебя человек разносторонний. Что, если тебе подтянуться к ней, скажем, в культурном плане? Поближе к её интересам?
Лёшка хотел было рявкнуть на старика, чтоб не смел обзывать его бескультурным, но вдруг что-то сжалось в груди – а кто он, если не неуч?
Всю свою молодую жизнь Лёшка верил: главное для мужа с женой – чтобы вместе. А всякие там глупые увлечения – это мелочи, на которые и внимание обращать не нужно. И вот на тебе! Похоже, это он как раз и оказался для Аси мелочью, увлечением глупым…
– Не знаю я, куда ещё подтягиваться! – буркнул он. – Ну рисовать она любит. Хотя теперь, может, уже и разлюбила. Поймёшь её разве! – Он помолчал, поскрёб коротко срезанными ногтями лоб и наморщился. – Ну, музыка ещё… Вон этот их родственник ей подарил – теперь всё бродит, слушает…
– Ну, вот видишь! – обрадовался Илья Георгиевич. – Конечно музыка! А я тебе помогу.
Ася слушала много чего. Всякую заумь из прошлых веков. Было время, она напяливала на Лёшку наушники и, улыбаясь, ждала, когда лицо любимого просветлится. Лёшка вёл себя как баран. Отклячивал челюсть и сводил зрачки в кучку.
И вот теперь они с Ильёй Георгиевичем взялись выбирать, на какой сердцеплавильный перформанс следовало пригласить Асю, чтобы она оттаяла. Лёшка, глядя в экран телефона, зачитывал вслух афишу на месяц. «Бог ты мой! Это сколько же в Москве чудиков!» – поражался он про себя, проматывая бескрайнюю простыню классических концертов. Илья Георгиевич исполнял роль эксперта.
– Моцарт, Лёша! Конечно, Моцарт! – перебил он его на одном из анонсов. – Вот Болек правильно подарил, ты с него пример бери – он знает. Только Моцарт! Даже больше и не читай!
Лёшка ненавидел классику ещё больше, чем вегетарианскую еду, которой некоторое время назад, слава богу, недолго, успела поувлекаться супруга. От заунывных звуков, которые всё пилят и пилят мимо сердца – просто нулевое попадание! – ему безудержно хотелось спать. И всё-таки необходимость «подтянуться» к жене, сколько ни хорохорься, была очевидна. Есть жёны, которым надо роскошь всякую. Ася хотя бы не из таких. Ну что ж, придётся задабривать её духовными ценностями.
– Значит, вот, – прячась от дождя в галерее перед залом Чайковского, по телефону докладывал Лёшка Илье Георгиевичу. – Билеты в Анапу сдал, объяснил ситуацию старшему тренеру – вроде понял. И купил правый амфитеатр, сказали, хорошие места, прямо возле сцены. Блин, дирижёр только какой-то иностранный. Цена как на поезд! Вот бред! Одно дело – тебя везут из Москвы на море, в купе! А тут – за час в неудобном кресле… Моцарта Двадцать третий и Двадцать шестой. И «Экспромты» Шумана. Или Шопена… Кого-то на «ш». Не помню, щас гляну…
– Не волнуйся, главное – Моцарт! – успокоил его Илья Георгиевич и вздохнул, завидуя молодёжи. – Я тебе вот что хотел сказать: вы, когда пойдёте, обязательно зайдите в буфет. Хороший театральный буфет – это особое впечатление. Можно взять кофе с пирожным, не знаю, какие там сегодня в моде, а можно даже и шампанского, под бутерброд с рыбкой…
– Да это всё равно ещё не скоро! – оборвал старика Лёшка. – Ну что, я к ней?
Досадная для Лёшки комбинация с билетами, концертными и железнодорожными, возымела действие, и ровно такое, как предрекал мудрый Илья Георгиевич. Ася смягчилась, снова затеплилось в жизни что-то любящее, домашнее. В этом тепле Лёшка окончательно признал своё поражение: пусть вертят им как хотят, только не вышвыривают на мороз одиночества!
На территорию приюта он хотя и не захаживал, но Асю частенько встречал у входа в парк, дожидаясь её звонка в «стекляшке» с чебуреками и пивом. А в минуты досады, которые всё же бывали, приучился себя вразумлять: ну а ты чего хотел, брат? Она же у тебя добрая, искренняя. Не «барби», слава богу, а человек!
28
Давно прошли вымоленные Саней две недели отсрочки, но пока никто не посягал на Пашкин приют. Тем временем снег со всего леса сбежал в канавы и потёк через край. Земля жадно выпила воду. Вошла в силу тёплая ветреная весна.
На полянке у шахматного павильона проклюнулись жёлтые цветы. Наташка мигом связала государю тюбетейку из ниток цыплячьего цвета – чтобы тот гармонировал с мать-и-мачехой. Пашка примерил её и, хмуро глянув в бочку с водой, снимать не стал.
Под апрельским солнцем его лицо загорело тихим, чудесно ровным загаром с оттенком золота. Никто из граждан Полцарства не сомневался: только особенные, таинственные и нежные отношения человека с природой могут окрасить кожу в такой драгоценный цвет! А вот у «приютских» девушек от солнца лицо розовеет, а бывает, ещё и облупится нос!
В одну из суббот Пашка устроил домику трёпку – отмыл его с ног до головы, включая все оставшиеся в наличии стёкла. Теперь солнце прожигало комнату насквозь, вонзало стрелы в южные окна и, пробив северные, растворялось в кустарнике. В лучах света шахматный павильон стал совсем призрачным. Невесомо он парил в дыму грядущей зелени, так что солнечным утром в него бывало трудно поверить.
В собачьем загончике тоже был наведён порядок. Прошлогодние листья вымели, домики почистили, отмыли игрушки, выстирали подстилки. Взбудораженные весенними запахами собаки толклись на площадке, ожидая своей очереди на прогулку по парку, а Джерик, мудростью и послушанием отстоявший свободу, возлежал на подушке от старого кресла, грея больные суставы под ярым апрельским солнцем.
В выходные во дворе шахматного павильона запахло краской – попечители Полцарства взялись подновлять оконные рамы, красить ступеньки и лавки – словно больше никто и не собирался их выселять. К тому же на майские праздники ими было придумано мероприятие, одобренное начальством парка в лице добрейшей Людмилы, – серия мастер-классов для детей и родителей под названием «Рисуем питомцев».
«Фишка» заключалась в том, что приготовленные Асей образцы рисунков обладали несомненным сходством с обитателями приюта. По окончании бесплатного урока дети и взрослые могли познакомиться с животным, послужившим моделью, и даже поправить рисунок с натуры – в компании художника Аси Спасёновой и начинающего кинолога Паши Трифонова.
Поначалу Пашка ворчал, но в итоге признал идею правильной. Может, так и найдутся хозяева, на которых, к тому же, можно будет внимательно посмотреть, прежде чем доверить им друга.
Вокруг шахматного павильона, где должны были проходить занятия, планировалось расставить фанерные щиты с портретами приютских собак. Плакаты были поручены Асе. Именно тогда, за работой, она поняла, что в рисовании, с которым совсем было распрощалась, скрыта возможность проникновения в суть вещей.
Рисуя Тимку-безлапого, она догадалась, откуда берётся его неистощимая радость. Тимка мчится в душе на всех четырёх, просто с некоторых пор левая передняя лапа стала бесплотной, как ангельское крыло. А Василиса-падучая во время сеанса открыла ей тайну, что помнит свою прежнюю семью и часто в пелене обморока видит лицо хозяйки, лифт, грязный коврик у двери и вешалку с пропахшей дождём одеждой. И всё это мило ей, как мило человеку его детство и отчий дом.
Первым был готов плакат, посвящённый Гурзуфу с Марфушей. Старинные друзья предлагались к усыновлению парой, желательно на зимнюю дачу и с непременным условием – «не на цепь». Ася гордилась получившимся рисунком: на вьюжной улице, у заледенелого водостока, свернулись клубком две замёрзшие псины – Гурзуф и Марфуша. А над ними в зимнем небе радужным облаком колышется собачья мечта – уютный дом, Марфуша на крыльце в объятиях румяного мальчика, а внизу у ступеней Гурзуф преданно поднял морду на маму с папой.
Всё это, слезливое и миленькое, что так ненавидела Ася в своей работе, теперь казалось ей превосходным, поскольку могло разжалобить публику. Щит был установлен возле ветеринарного пункта. Татьянины посетители замедляли ход и одобрительно разглядывали рисунок. Впервые в жизни Ася подумала, что её художественный навык не так уж плох, раз есть шанс приманить на него собачье везение.
Ушёл надрыв, Ася успокоилась и стала счастлива простым счастьем, которое обычно приходит после избавления от какого-либо жгучего противоречия. Всё перетряхнулось в её жизни и устроилось наново. Теперь она занималась делом, и даже многострадальный Лёшка снова стал казаться ей милым и любящим, вполне подходящим, чтобы прожить с ним добрую жизнь. Хорошо было и то, что брат Саня при встречах взглядывал на неё без прежнего тягостного беспокойства, с надеждой, как будто Ася шла на поправку после опасной болезни.
Может быть, только один человек на свете – Курт – видел, что дом Асиного счастья собран из хлипких досок. Временное укрытие не защищало от вторжений – Ася трепетала в нём, и точно так же на всех ветрах трепетал, раскрываясь, позднеапрельский лес. В этой быстрой весне, в солнце, ещё не закрытом зелёными кронами, Курт впервые за последние годы различил не скрежет, а музыку – лёгкое кружение в ритме вальса.
Навёрстывая упущенное, он набрал работы и теперь забегал в приют лишь ненадолго. По дороге покупал пару больших брикетов пломбира. За столом в шахматном домике они делили мороженое и раскладывали по тем самым чашкам, из которых зимой пили чай. Упаковку вылизывал Джерик.
Иногда зыбкий от света приют сводил Курта и Асю наедине – на лавке или в подсобке за мытьем мисок, и тогда между ними случались короткие тревожные разговоры, нарушавшие Асин мир.
«У нас тут, в реальном времени, происходит какая-то вечная история, и кого-нибудь, конечно, распнут, – сказал однажды Курт. – Мне даже кажется, что я отчасти апостол, возможно, будущий евангелист! Или, может, Иуда?» И вдруг зашёлся тихим смехом, так что смущённой Асе пришлось с мисками в руках пережидать припадок.
Почти все часы апреля, проведённые им на земле Полцарства, Курт записал на диктофон. Он приходил, вешал фонограф на ветку – сегодня здесь, завтра там, и звук незаметно капал – как берёзовый сок. Этот сок был сорным, с угольками собачьего лая и золой человеческих голосов. Иногда в нём попадались янтарины – неземной красоты птичья трель или гремящий вихрь ветра. Полный всхлипов и потрескиваний, ломающийся, как у подростка, голос леса был оцифрован и сохранён для потомков.
Когда же Ася, заметив, что болтала с Наташкой в опасной близости фонографа, попросила Курта стереть кусок с их разговором, он решительно отказался:
– Ни за что! Это не твоя собственность, а часть великого произведения!
Это было правдой лишь отчасти. Он хотел бы ответить Асе по-простому: «Стереть твой голос? Вот уж нет! Вернусь домой и буду слушать!» Но смирил порыв и в дальнейшем продолжал держать себя скромно, заботясь лишь о том, чтобы в нужную минуту оказаться рядом, быть на подхвате.
Курту даже нравилось терпеливо, без суеты ждать благоприятного момента, пока однажды, самым обычным солнечным утром, его не озарило: вожделенного «момента» не будет. У него на душе лежат неоплаченное убийство и вина перед Софьей – глыбы, из-под которых никогда не пробьётся новая жизнь.
29
Зыбкое равновесие было нарушено, когда в одном из разговоров с Асей Курт узнал, что Болеслав поселился в Москве. «Он тоже с ума сошёл, прямо как мы все. Заразился! – улыбаясь, рассказывала Ася. – Сонька сказала, он все их налаженные программы решил отменить».
Известие поразило Курта. Он увидел в нём знак и, не раздумывая, написал своему избавителю. Болеслав согласился на встречу без охоты и заранее предупредил, что не сможет уделить ему больше двадцати минут.
В условленный час, подойдя к перекрёстку и различив на другой стороне улицы ресторанчик с газовой лампой, где была назначена встреча, Курт остановился и поискал глазами учителя. Маэстро Болеслав, расположившийся за столиком, поглядывал на проходивших мимо людей и был похож на охотника, которому давно не везло. В его лице смешались тревога и голод, утомление, отчаяние и азарт.
Курт перебежал улицу и вошёл на террасу. Мимика Болека, двинувшаяся было в сторону дежурной улыбки, «передумала» и осталась как есть – беспокойной и неустроенной. Раз уж его засекли, не имело смысла скрываться.
– Здравствуй, Жень, присаживайся. Слушаю тебя! – сказал он, быстро взглянув на Курта, и углубился в счёт, который подал ему официант.
Курт, умевший читать потаённые взгляды и, особенно, интонацию, вспомнил Асины слова о творящихся с Болеком переменах. Гуру был разобран по винтикам и углублён в саморемонт. Ему, конечно же, было не до страждущих.
– Ну, рассказывай, – сказал он, отложив счёт. – Как поживает твой мир? Всё ещё скрежещет?
– Да нет! Я теперь слышу музыку, вроде вальса.
– Так в чём же дело? Танцуй!
– Не могу переодеться к балу – одежда вросла! – объяснил Курт, улыбаясь детской улыбкой. – Хочу содрать с себя лохмотья, но они как будто вшиты в меня, как бывает, бирку модную вшивают.
– Если бы все мои клиенты так выражались, я был бы уже в сумасшедшем доме. И не в качестве врача. Слава богу, мало у кого есть фантазия, – заметил Болек, слегка поморщившись, как будто хорошенько представил себе вшитую в тело «бирку». – У нас не очень много времени. Сформулируй, пожалуйста, без метафор!
– Без метафор вряд ли смогу, – виновато возразил Курт. – Ну, в общем, новая жизнь как бы уже пришла, плещется тут вокруг – а я не могу в неё вступить. Что-то есть между нами, какое-то препятствие. И я боюсь, что сейчас музыка доиграет – и всё, шанс потерян. Надо понять, что меня не пускает, верно?
– Вот видишь – я совершенно тебе не нужен! – пожал плечами Болек и хотел подняться из-за стола.
– Нет, мне очень нужно, чтобы сказали вы! – взмолился Курт.
Болек вздохнул:
– Хорошо. Вот я повторяю тебе твои слова. Пойми, что именно тебя не пускает. И не бегай больше от этого бревна посреди дороги. Отволоки и сожги.
– А если это вина? Большая настоящая вина?
– Покайся и прости её себе! – сказал Болек с досадой. – Женя, мы же договаривались. Я тебе не врач и не тренер. Ты и вообще вполне сообразительный человек, тебе не нужны советчики!
Вот чудно! – думал Курт, покидая место их короткой встречи. Оказывается, он и правда отлично знал, что именно его тяготит, и – да! – больше не хотел убегать!
На следующем перекрёстке он огляделся по сторонам и направился во двор, где жили Спасёновы. Никто не гарантировал ему присутствие дома Софьи – той самой «помехи», «бревна», страха и ужаса, которого он избегал с той поры, как она взяла на себя его вину. К трагической аварии прибавилось ещё и смутное неудобство, заключавшееся в том, что Софья и Ася – сёстры.
Софья была старше его, умнее и твёрже. Она была цельной и всё-таки охотно общалась с ним и временами снабжала работой. Конечно, он ей нравился. Иначе после первого же заказа она дала бы ему отставку за несоблюдение сроков и качества. Правда, никаких других признаков симпатии Курт не замечал – Софья держалась строго… А затем она вздумала его выручать.
Он чувствовал, что по отношению к старшей сестре его любовь к Асе была если не подлостью, то чем-то очень несвоевременным, а потому дурным. Этот странный расклад ему хотелось забыть покрепче – но нет, не вышло. Вина перед Софьей! Да, это было то самое «бревно», которое надлежало убрать.
Он шёл к Спасёновым как на казнь, и все двери перед ним оказывались открыты. Ему даже не пришлось звонить в домофон – консьержка проветривала подъезд. Поднимаясь по лестнице, Курт всё ещё не знал, что именно хочет получить от Софьи. Прощение? Благословение на любовь к Асе? Или, может, пожар справедливого гнева? Проклятия, слёзы, тумаки – хоть какое-то наказание, которое облегчило бы груз вины!
Дверь ему открыл Пашкин дед, так что на секунду Курт усомнился – в ту ли попал квартиру? Он окинул взглядом прихожую: Сонин чёрный плащ с красным шарфиком в рукаве, значит, дома. Лёшкиной куртки нет – значит, отсутствует. А что Ася на работе – это он знает и так.
Илья Георгиевич снизу вверх взглянул на молодого человека и любезно осведомился:
– Женечка, ноги у вас не промокли? Теплынь-то смотрите какая, одни лужи! А в комнате у нас, где я сплю, так уж представьте, голуби наладились гнёзда вить! – сообщил он и, заметив удивление в лице гостя, спохватился: – Ох! Не в комнате, конечно же! На балконе! Утром спать не дают. И можно их понять – видите, какая весна! А я вот грешник, всё думаю – вдруг последняя?
Гость с участием слушал старика и вдруг мгновенным движением подхватил соскользнувший с полки серый, с бледной жёлтой ниткой Асин берет. Удержал в руках и бережно положил на место.
– Извините. Это я, наверно, задел, – проговорил он поспешно.
Илья Георгиевич уловил интонацию и догадался: молодой человек с волшебными волосами стоит на тонком льду. Хрупкий этот ледок Илья Георгиевич знал по своим сердечным приступам. Это был даже не страх – скорее недоумение и потерянность. Выражение лица гостя напоминало кинематографический миг, когда стрела уже вошла в грудь героя, но ещё не успела оборвать жизнь.
– Да что же мы тут с вами застопорились! – воскликнул Илья Георгиевич. – Проходите, там Сонечка на кухне, мы сейчас кофе… Вы ведь к Соне? А хотите, у нас есть прекрасный чай «пуэр», Сонечке привезли прямо из Китая! Очень оздоравливает! Или, может, дождётесь нашего блюда? Я что-то затосковал, зашёл, а Соня дома – стали готовить! И знаете, что мы с ней придумали?
Он не успел договорить. Наотмашь распахнулась дверь кухни, и хозяйка, сдув с лица чёрную прядь волос, сказала:
– Здравствуй, Жень! Илья Георгиевич, вы извините, я попозже вас позову. А пока у нас дело.
Старик, смутившись, торопливо отступил к двери.
– Сонечка, и коренья, коренья – прямо сразу туда кинь, всю горсть! Там на блюдечке, я приготовил…
Софья закрыла за стариком вертушку замка и, не сказав гостю ни слова, возвратилась к плите.
– Я к тебе. На минутку буквально… – заговорил Курт, робко входя на кухню.
– А я думала, к Асе! – Софья высыпала в бурлящую кастрюлю приправу из блюдца и, упёршись ладонью в бок, прямо поглядела на визитёра. Но уверенный жест не скрыл положения дел. За время, что Курт не видел Софью, она поникла как-то слишком заметно. Ушёл из глаз деловой прицел, и плечи как будто стали уже. – Ладно, садись, а то тебя не обойдёшь, мешаешься на ходу! – велела она, кивнув на стул, и взялась резать нитки, связывавшие пучки зелени.
Курт послушно сел и снизу вверх взглянул на Софью. Он подумал: пожалуй, и не придётся ничего говорить. Сейчас она отлупит его этой зеленью по щекам, и покаяние свершится само собой.
– Пришёл узнать, как я себя чувствую? – спросила Софья, кроша на доске кинзу, петрушку и лук. – Так вот, мне хреново. Мне очень страшно! Такой ответ устраивает?
Курт, замерев, следил за больше отчаянными, чем энергичными движениями Софьиных рук. После зелени в дело пошли помидоры.
– Хочешь знать, жалею ли я, что ввязалась за одного поросёнка? – продолжала Софья, стирая тыльной стороной ладони отлетевшие на щёку красные брызги. – Да! Очень! Но как представлю вашу милость в местах не столь отдалённых, то сразу перестаю жалеть. Я поступила правильно! – почти выкрикнула она. – И Саня так считает. К тому же героизм мне идёт! Согласен? – И, обернувшись к потрясённому гостю, продемонстрировала ему своё бледное и худое, с тревожными глазами и резкой складкой между бровями лицо.
– Соня, я верну тебе долг! – тихо сказал Курт.
– Обойдусь. У меня есть близкие. Я не одна! – бросила она и, подхватив доску, счистила помидоры в кастрюлю с ароматной гущей. – Кофе я тебя угощать не буду, извини! Можешь к Илье Георгиевичу зайти. Кофе, чай – это он всегда на ура, с кем угодно! – Софья помолчала и, резко обернувшись, прибавила: – Если ещё есть вопросы – слушаю!
Без толку было напоминать Софье, что он не задавал ей вопросов. Лучше попросить прощения и уйти. В конце концов, разве не затем он пришёл? Как раз затем! Совершить эту самую пошлость – сказать «прости» человеку, который пойдёт за него под суд. «Прости!» – и ты свободен!
Курт поднялся со своего места и, грустно вытянув руки по швам, сказал тихо и как будто с упрёком:
– Соня, я ведь тебя люблю. Всё остальное – это так, просто необходимость выживания. А тебя я люблю. И если с тобой что-то пойдёт не так, я всё исправлю. Ты меня знаешь – я найду выход!
Софья взметнула брови, готовясь высмеять наглого манипулятора, как вдруг что-то сорвалось. Её лицо вместо гордой насмешки выразило страдание.
– Прости меня, – смиренно кивнул Курт и шагнул к двери.
– Нет! Подожди! – крикнула Софья. – Подожди. Оставайся, поговорим! Мы с Ильёй Георгиевичем делаем чахохбили по рецепту его грузинского друга. Сейчас позову его, и все вместе попробуем! – сказала она и порывисто протянула руку – удержать гостя.
– Чахохбили я не заслужил, – качнул головой Курт и, не смея больше взглядывать на Софью, вышел.
От вранья его прошиб пот. Он и сам не знал, как пришло ему в голову вместо просьбы о прощении ляпнуть такое! Должно быть, виной была приобретённая за последние недели свобода. От души, с барского плеча, ему захотелось подарить Соне радость – и он запросто позволил себе эту прихоть. Будем надеяться, она не отнесётся к его признанию всерьёз…
И все-таки через стыд Курт ощущал блаженство пройденного этапа. Он сделал то, чего боялся, – посмотрел в глаза человеку, которого подвёл и обманул. Он видел беду в его лице, принял сначала его справедливое презрение, а затем великодушное прощение – и теперь мог жить и действовать дальше.
Когда он вышел от Софьи, на улице стал подниматься ветер. По прогнозам в ближайшие сутки к Москве должен был подойти холодный циклон. Он надвигался свежими порывами, и где-то в неведомых землях вместе с этим циклоном уже был отправлен навстречу Курту белый кораблик Случая.
30
Не досталось Асе субботним утром нежного кофе с молоком. Софья истратила весь пакет Серафиме на кашу, пришлось пить чёрный. От чёрного этого вкуса Ася почувствовала себя деловой, взрослой, оторвала от Софьиной пачки стикеров листок и, устроив его на столе, между чашкой и тарелкой, сдвинула брови: так-так, какой у нас на сегодня план?
А вот такой: днём подряд две группы. С одной рисуем кувшин с тюльпанами, с другой, где только дамы, – кошку на окошке. Зато вечером долгожданный концерт, Лёшкина «трубка мира» – Моцарт! Супруг велел быть на «Маяковской» в шесть с четвертью. Между этими двумя жёстко запланированными отрезками времени была ещё пара часов, которые Ася собиралась потратить на приют. Нужно было завершить последние приготовления в шахматном павильоне, повесить на дверь афишку с весёлым приветствием, помочь Пашке прогулять собак и прочее.
Так ничего и не написав на листке, Ася посмотрела на телефоне погоду и нахмурилась. Разобравшись с талой водой, солнечная весна отбывала сегодня вечером. На смену ей по экранчику телефона плыли одинаковые круглые тучки с косым дождём и красной стрелкой лихого восточного ветра. Под утро ноль. Эх, завтра пусто будет в парке!
Накануне шахматный домик был обустроен к приёму Асиных маленьких учеников. Оттащили в здание спортбазы неуместный диванчик, убрали чашки с чайником, развесили по стенам рисунки – получилась студия. А яркая афиша давно уже притягивала взгляды у входа в парк. За прошлую неделю на указанный в афише телефон Аси позвонило не меньше дюжины мам и бабушек – уточнить, действительно ли будут бесплатные занятия?
Достав из шкафа в спальне серо-голубое трикотажное платье с вышивкой цвета салата – весеннее! – Ася глянула мимоходом в окно. В солнечной мути улицы все далёкие окна перепутались, слились друг с другом и сияли расплавленным золотом утра. «Солнышко, подержись, потерпи до завтра!» – собираясь, просила Ася. И, назло прогнозу, отправилась на работу в лёгких туфлях и платье, зонт оставив висеть в прихожей.
В небольшой промежуток между работой в студии и музыкальным вечером с Лёшкой Ася, как и планировала, помчалась в приют. Метров за пятьдесят до цели, в глуши орешника, она расслышала волнение в собачьем загончике – глухое и смурное, как начало народного бунта. Гурзуф взлаивал с подвыванием, тявкали Чуд и Щён, хрипло возмущалась Нора-эрделиха. Почуяв бесприютный дух беды, Ася побежала бегом. На лету зацепила о ветку платье.
И действительно, была беда! Подробности случившегося Асе рассказала Наташка. На мудрого многострадального Джерика, бессменного приютского сторожа и доверенное лицо Пашки, напал человек из числа догхантеров. Он приехал на велосипеде, пшикнул в старого пса из газового баллончика и нанёс несколько ударов. Когда на скулёж прибежал Пашка, оказалось, что обе задние лапы повреждены.
– Плакал так! Лапами передними скрёб, переживал, что не может встать! – жалобно рассказывала Наташка. Её голос подпрыгивал, и дрожали пальцы, которые она стискивала друг в дружке.
В первый раз Ася видела Пашкину «медсестру» такой. Плотно сжав губы, она огляделась, как будто надеялась, что враг ещё может быть поблизости, и глухо спросила:
– Видели, кто сделал?
– Не-ет, – заплакав, махнула рукой Наташка. – Я хотела догнать – а там уже точечка вдалеке!
– Собака – это такое существо. Она сначала радует, отдаёт тебе всю свою радость, но у неё её так много, что и не жалко. А потом что-то случается – и тогда ты отдаёшь ей всю свою радость, и у тебя остаётся одно горе. Так всё это устроено! И с моей Кашкой так было, – сказал Курт, пока на лавочке у ветпункта они ждали Татьяниного решения.
– Мне так странно… – проговорила Ася. – Мне кажется, большинству людей всё это без разницы… Не только Лёшке. И я их всех за это сужу. Саня вот никого не судит, всем только, наоборот, оправдание придумывает. А я – да, сужу! – твёрдо кивнула она и, отстранившись, вынула загудевший в сумочке телефон. Сначала она хотела отбить вызов, но увидела имя и, тяжело вздохнув, ответила.
– Ася, ну что, ты выехала? Успеваешь? – кричал ей в ухо Лёшка. – Короче, я уже тут. Тебе сколько ещё?
– Лёш, у нас Джерик ранен. Мы тут все… Я не могу! – смято проговорила Ася.
– Что не можешь! Что ты опять не можешь! Даже и вообще не думай! Давай выдвигайся быстро, а то опоздаем! – потребовал Лёшка изменившимся голосом, то ли испуганно, то ли зло.
Ася хотела терпеливо объяснить ему, в чём дело, но тут в глубине ветпункта скрипнула дверь.
– Подожди минуту! – крикнула она и бросила телефон в сумку.
Смешной, в Танином рабочем халате из двери ветпункта вышел Пашка и прислонился плечом к росшему возле ясеню. Следом появилась Татьяна, всклокоченная и постаревшая, с морщиной между бровями, такой глубокой, словно кто-то пытался сложить из её лица самолётик.
– Повезём к Бурлакову на Пресню! – объявила она. – Помните, как он Мышь нашу поднял? И Джерика авось не сдаст. Если есть шанс – не сдаст! – твёрдо прибавила она, глянув на племянника.
– А что с ним? – робко спросила Ася.
– Да не поняли мы толком, может, позвоночник, – сказал Пашка и дёрнул плечом, словно хотел отвязаться от самого себя.
Пока собирались, Ася как «младшая по званию» навела в кабинете ветпункта порядок. Увязала пакет с медицинским мусором и подумала: научи её кто-нибудь, теперь она, пожалуй, смогла бы сделать укол или даже поставить капельницу. Не упала бы в обморок. Если надо – точно бы не упала!
У Татьяны в хозяйстве были носилки. На них уложили Джерика – донести до шоссе. Курт взялся за край, у изголовья Джерика, подождал, пока Пашка закинет на спину рюкзачок.
– Знаете, ребята, я не поеду! – вдруг сказала Татьяна и, бросив сумку, опустилась на табурет. – Нет у меня сил. Везите сами. И потом, два «джека» у меня должны прийти, на вакцинацию. Что, звонить, отменять?
– Ладно, сами, – буркнул Пашка.
– Спасибо, ребят. Я, может, Саню сейчас попрошу, – кивнула Татьяна и, выбрав на телефоне номер, прижала трубку к уху. – Александр Сергеич, сможешь, как закончишь, подъехать на Пресню, в клинику? – спросила она. – Ну, к Бурлакову, который Мышь лечил. Вот туда решили. Да… Сустав перешиблен, и за позвоночник боюсь. Поезжай, побудь там с ними. Мало ли что, пёс-то старый! А то нет у меня уже сил моральных! Когда есть, сама всё тащу, ты знаешь. А сейчас прямо не могу, вынесло меня… Ты уж прости! – На последних словах её голос исказился, и она скорее дала отбой.
* * *
В лечебнице на Пресне пробыли долго. Печален был Саня. Оставив Пашку за дверью, он поговорил с ортопедом, и тот сказал: зря только мучаете старую собаку. И так артроз неимоверный, а тут ещё травмы! И всё-таки сделали операцию в надежде хоть на малое облегчение. Проснувшись, Джерик глядел на хозяев блестящими глазами, обиженно и горько. Тёплым носом ткнулся в Пашкину ладонь.
– Вот красивый какой ты у нас! – протягивая и свою подсолённую слезами руку, сказала Наташка. – И шёрстка какая! Прямо как золотая осень!
– Всё прекрасно, что живое! – проговорил Саня.
Поначалу собрались разместить Джерика в тепле ветпункта.
– А останется с ним кто? Опять Пашка? Чтобы ему окна камнями высаживали? – спохватился Саня. – Нет, ребят, надо домой к кому-нибудь! Жень, давай, может, к тебе? Родители ведь не каждый день заходят?
Курт пожал плечами: мол, это как повезёт!
– Ладно, давайте ко мне, – махнул рукой Саня. – Всё, собираемся, поехали. У нас только кот, но Джерику сейчас не до кота. А с Марусей…
– Не геройствуйте, Александр Сергеич. Вы нам нужны живой! – рассудила Наташка. – Мы Тане сейчас позвоним. Она своих хвостиков в комнате запрёт, а Джерика на кухне устроим. У неё кухня нормальная, метров восемь.
Когда подъехали к Таниному дому, хозяйка уже успела организовать на кухне маленький лазарет. Под столом, завешанным весёлым лоскутным одеялом, была устроена чистая и укромная палатка для раненого. Джерика переложили на подстилки, и он, отвернувшись в угол, затих.
У Татьяны жило две собаки и три кота. Все пятеро оставались запертыми в комнате, пока Саня привинчивал на кухонную дверь обнаружившуюся в хозяйстве задвижку, на случай если звери вздумают без спроса познакомиться с новым жильцом.
Он толком не разглядел Татьянино жильё, но и без разглядываний ему было ясно, что здесь обитает аскет – в истинном смысле этого слова. То есть не тот, кто сознательно практикует минимализм в интерьере и вегетарианство в еде, а человек, сосредоточенный на главном. А потому, к примеру, состояние сантехники интересует его лишь в том смысле, чтобы можно было вымыть лапы животным. А состояние обоев не интересует вовсе. Зато вопрос чистоты в Танином доме был решен на отлично. Потёртый линолеум пола сиял, а из запахов преобладали аромат собачьего шампуня и средств для мытья полов.
Если спросить Саню, он, конечно же, предпочёл бы цветущий и тёплый, полный картин, растений и милых предметов дом на Пятницкой. Но и Танина квартирка как-то грустно понравилась ему. Он много видел разных домов, и этот был из числа «добрых».
Когда Джерик заснул, пошли в комнату и среди воспитанных Таниных кошек и псов сели пить чай. Окраинный район светился в окне сплошной многоэтажной россыпью. Через тонкие перекрытия в комнату проникали голоса чужих телевизоров.
– Александр Сергеич. Столько злобы! Я спать не могу от вопросов. Взрослая тётка – и не могу! Ты умный. Как жить? – сказала Татьяна, подперев кулаком висок.
– Да нет, я не умный совершенно. Мы тут все дураки, – проговорил Саня.
– Я серьёзно, а ты отшучиваешься!
– Таня, ну как я тебе скажу! Откуда я знаю! – возразил он с упрёком и качнул головой, раздумывая. – Мне вот что кажется. Если нет особых сомнений, можно просто жить, служить там, где поставлен. А когда они уже заедать начинают, вопросы, тогда нужно искать поддержку. Может быть, даже в книгах…
– Ну, молодец, придумал! – сказала Татьяна, читавшая большей частью статьи по ветеринарии. – Гарри Поттера, что ли, читать? И что это изменит?
– Тогда лучше уж Робинзона Крузо! Вот действительно хорошая книга! – ответил Саня. – А вообще надо пробовать читать философов. Древних мыслителей. И выбирать среди них тех, кто до тебя задавал твои же вопросы и вообще похож на тебя душой. Понятно, что нет ответов, – продолжал он, помолчав. – Ответ можно получить только благодатью. Раз – и в тебе есть знание! И всё-таки книги помогают хотя бы путь какой-то наметить. Они как лестницы в небо… Такие шаткие, страшно ступать. И всегда обрываются на полпути.
– Александр Сергеич, и вы забираетесь на эти лестницы? – склонив голову, спросила Наташка.
– Надо забираться, Наташ. Бесполезно кругами бегать по матушке-земле. Это всё равно что кружиться на дне колодца. На земле всё равно всегда побеждает смерть. И надо что-то с этим делать! Что-то надо… – проговорил Саня и, поняв, что добредил до многоточия, ощутил, как резко, с физической болью заныла совесть. На дворе ночь! Сказал Марусе, что сгоняет на Пресню, туда и обратно, а в итоге сидит у Татьяны. Совершенно выпал из времени! – Наташ, глупости я говорю. Не грузись, не о том надо думать…
– Почему? – возмутилась Наташка. – Я тоже хочу на лестницы!
– Ладно, ребят, простите! – сказал Саня, поднимаясь из-за стола. – Ася, пошли, я до метро тебя доведу, и по домам. Таня, прости, пойдём мы…
Татьяна вздохнула, нахмурив брови. Хотела что-то сказать, осеклась – и всё-таки сказала:
– Ты бы лучше домой сестру свою проводил! А то вон Алексей её прибегал, буянил. Спалить нам всё грозил. Поговори там с ним.
– Спалить? – переспросила Ася.
– Я уже уходить собралась, примчался! Секту, говорит, вашу спалю… – хмурясь, подтвердила Татьяна.
– Интересно, он имел в виду личный состав? Или только помещение? – с бодрой улыбкой уточнил Курт.
Ася беспомощно взглянула на брата:
– Слушайте, ну что вы к словам цепляетесь! Конечно, расстроился человек. Мероприятие пропало, а он ведь готовился, ждал. Ася, и ты бы лучше по-человечески с ним!.. – сказал Саня и, покачав головой, вышел в прихожую.
– Танюлька, я тоже пойду, – поднявшись, проговорил Пашка. – Я собак там одних не оставлю, как хотите.
– А может, им одним хорошо? – сказала Наташка. – Может, собаки по ночам вообще превращаются в людей? Когда никто не подглядывает. В таких бродячих королей и принцесс, в лохмотьях. Сидят себе вокруг костра и обсуждают наши дела! – Подошла и, просунув руку Пашке под локоть, прижалась к плечу. Тот отвернулся с досадой, но руку не вырвал.
– Паш, я сейчас забегу, проведаю, как они! – из прихожей сказал уже одетый Саня. – А потом утром приду, прямо как рассветёт! Мне же рядом – главное, чтобы мои спали крепко. А ты пока отдохни. Надо поспать. Тем более что завтра ваше рисование! Ты не сомневайся, кого-нибудь да пристроим. В семью хорошую пристроим, вот увидишь!
– А до утра им одним в лесу – это, типа, нормально? – буркнул Пашка, но всем, кто его любил, было видно: через недовольство прорывалось желание напуганного и усталого мальчика никуда больше не идти, лечь и уснуть.
Совсем как к человеку, зашли тихонько к Джерику на кухню и остановились на пороге. Забинтованный пёс дремал в палатке под столом. Как у кроватки с больным ребёнком, смотрели тихо.
– До свидания, Джерик! – проговорила Ася. – Пока, ребят! Я теперь, наверно, долго не смогу приходить… Нет, на рисование прибегу, конечно. А так – буду замаливать сегодняшний концерт. Видите, раз он уже с ума начал сходить, грозит поджечь…
– Ну, удачного примирения! – бросил Курт и, выйдя из кухни, вернулся в комнату. Прикрыл за собой дверь. Там его ещё раз приветствовали Татьянины звери, но почуяли излучение тоски и отхлынули прочь.
31
Прощаясь, Татьяна дала Асе свой плащ, чтобы не замёрзла в платье. Кутаясь в неподходящий размер, как недавно в пальтишко Болека, Ася шла рядом с братом по чёрному ветреному бульвару.
– Саня, как же ты сегодня вырвался к нам? – взяв его под локоть, спросила она.
– Да как-то, знаешь, на удивление! Конечно, говорит, а как же, поезжай обязательно! Чуть ли бутербродов с собой не дала… Я даже подумал: вдруг приду – а дом заминирован?
– Их надо лечить – её и Лёшку – от ревности, – сказала Ася. – Давай с Болеком поговорим – пусть он их размагнитит!
– Не надо никого лечить, без толку, – качнул головой Саня. – А с Лёшкой просто будь мягкой. Он пускай глупости мелет, он ребёнок ещё, мужчины позже взрослеют. Люби его, и всё у вас нормально будет. А вот Марусю я запустил, конечно… – продолжал он, нахмуриваясь. – Знаешь, как пуговица на последней нитке, а ты всё надеешься – ещё до завтра протянет, и так каждый день. Кажется – ну сядь, разберись, поговори с человеком по-нормальному!.. – Саня помолчал, решая, рассказать ли сестре ещё об одном обстоятельстве. Вздохнул – и признался: – Ася, ведь она вещи мои проверяет! У меня всё перелистано – все книги на кухне, тетрадки. Чёртова моя зрительная память! Не замечал бы – и жил спокойно. Про карманы уже молчу – это само собой. Конечно, сам виноват. Отдалился, совсем уже далеко…
У спуска в метро остановились и мигом озябли. Ветер порывами двигал на лес пласты тяжёлых туч.
– Ты зайди к Илье Георгиевичу обязательно! – велел Саня на прощание. – Скажи, что Пашка у Татьяны. А то этот буркнет по телефону чего-нибудь, толком не объяснит – а дед потом всю ночь не спит.
В метро Ася впервые за день почувствовала успокоение. Она закрыла планшет с наброском очередной собачьей афишки и быстро оглядела вагон. Напротив дремала полная румянолицая девушка, её ровесница. К стеклянным дверям, не слыша объявления остановок, прислонился подросток в наушниках, с независимым выражением ещё совсем детского лица – вроде Пашки. В углу – косматый старик с рюкзаком, этакий «таёжный странник», как захотелось почему-то назвать его Асе. На мгновение она почувствовала, что в мире нет ни одного чужого ей человека, все они проживают общую земную судьбу. И от этого ещё больше стало жалко Джерика, и Саню, и даже Лёшку.
Выйдя в половине одиннадцатого на оживлённую площадь, в обманную радость города, Ася вызвала номер мужа. Телефон был выключен. Заставить Асю трепетать, жив ли, не ввязался ли в историю, – самая меткая Лёшкина месть!
«Ничего, пошёл, наверно, к себе», – утешала себя Ася, мчась к старому дому, где некогда, по соседству с покойным дядей Мишей, жил Лёшка. На втором этаже третье слева окно оказалось светлым. Сырой подъезд и три пролёта, призрак дяди Миши в углу…
У двери квартиры Ася остановилась, переводя дух, и постаралась увидеть сердцем миг примирения. «Лёшка! Ну что ты прямо как Маруся! Чего ты злишься? Я же тебя люблю!» – скажет она, а Лёшка обязательно отвернётся букой: «Любит она! Как же! Не ври мне ни на грамм! Никогда!» И вдруг – стиснет Асю до хруста в плечах, так что она запищит, но зато и поймёт – вот оно, на всю жизнь!
Домой вернутся в обнимку – как два безусловно раненных, но живых бойца, всерьёз рассчитывающих на кулинарную помощь Ильи Георгиевича. Вдруг он принёс им чего-нибудь вкусненького? Скажем, вегетарианские голубцы с подливкой, штук пять?
На упрямый Асин звонок в дверь коммуналки вышел дяди-Мишин племянник, зануда лет сорока пяти, разбирающий в комнате пожитки покойного. От его одежды пахло лежалой пылью, лавкой старьёвщика. С подозрением оглядев Асю, племянник сказал, что Лёшка забегал час назад и снова ушёл. Свет вот выключить забыл, а дверь запер.
В тревоге, колеблясь между виной и обидой, Ася пришла домой. Звонить не стала – вдруг укладывают Серафиму? Отперла дверь, чуть не сломав ключ, и увидела свет на кухне. Софья сидела за столом в пушистом банном халате и обтачивала пилочкой свои боевые ногти. Правда, без красного лака они не были столь угрожающи. Напротив, что-то хрупкое мелькнуло в их светлых пластинках – крыло мотылька. Мокрые волосы лежали по плечам чёрными перьями.
– Ты в чём это? – спросила она, окинув сестру строгим взглядом. – На помойке, что ли, нашла?
Ася поглядела на свои измазанные весенней землёй ботинки и на полы Татьяниного плаща в зацепках от собачьих когтей.
– Соня, Лёшка не приходил?
– Приходил. Руки мой и за стол. Ты посмотри на себя – на кого похожа! Бледная, зелёная! – проворчала Софья и, поднявшись, включила чайник.
Ася без аппетита взглянула на остывшую гречневую кашу с грибами и утратившие хруст гренки. И вдруг обеими руками схватилась за спинку стула, как будто пол ушёл из-под ног.
– Соня! Я так верила всегда – всё хорошее охраняют ангелы! Почему ангелов нет?
– Ты о приюте? Не психуйте, есть у вас ангелы. Болек вам уже территорию какую-то новую ищет.
– Болек? Территорию? Не может такого быть! – воскликнула Ася и в изнеможении опустилась на стул.
– Может, – сказала Софья, разбалтывая в чашке сахар. – На вот, пей! Теперь от него всего можно ждать! Он тут мне знаешь что заявил? Говорит, люди совсем перестали стремиться к проникновению в суть вещей! Всем надо сразу к цели. А как может быть разумная цель у человека, пренебрегающего созерцанием? Так что поздравляю! Одним психом больше.
– Да он так просто болтает!
– Дай бог, чтобы просто. А Лёшка твой злой как чёрт. Вещи взял. Вон, носки по коридору валяются – пока шёл, из сумки падали. Соберёшь потом. Опять поругались?
– Я концерт прогуляла, ну, на который он билеты в Анапу поменял, – подавленно сказала Ася и, выбравшись наконец из рукавов плаща, подпёрла ладонями голову. – Соня, я действительно не могла! Тут нет моей вины! А как подумаю, что Лёшка там стоял один у зала Чайковского, то как будто и есть. Такое чувство противное, как когда пол грязный… Сразу хочется его вымыть… Вот и где правда?
– Правда, что ты равнодушная дурочка! – сказала Софья. – Ты и Курт. Два сапога! Закопались в своих душевных сокровищах, а больше ни до кого и дела нет. Ты в курсе – он же тут приходил, о любви говорил! Врал, конечно. Не понимаю только, зачем.
Ася заморгала и жалко посмотрела на сестру.
– Да, вот так! Тоже всякие у него чувствительные переживания и самобичевания. А я в тюрьму могу сесть, и ребёнка у меня могут забрать из-за вас, утончённых!
– Почему из-за нас? – сморщила брови Ася.
– Нипочему! – отмахнулась Софья и, прихватив со стола маникюрный набор, ушла к себе.
Ася глотнула чай и, обжёгшись, отодвинула чашку. Ну вот, забыла зайти к Илье Георгиевичу, Саня ведь просил! А теперь поздно. И правда – эгоистка.
Придя в пустую спальню, Ася мигнула выключателем и подошла к окну – где там Болек? Но ничего не различила в ответ. Ещё раз позвонила Лёшке – недоступен. Уже в постели машинально открыла планшет, нет ли писем, и над значком почты увидела алый флажок послания. Письмо было от Курта. Текст отсутствовал, зато в приложении оказался маленький аудиотрек. Ася надела наушники и сразу узнала на дальнем плане заглушаемый всевозможными шорохами голос брата: «Паша, а ну-ка давай вылезай из меланхолии! Ты человек или кто? Если человек – на земле никакого почивания на лаврах быть не может! Никогда. Смотри, за скольких ты отвечаешь! Умойся холодненькой – и за математику!»
Конец записи растушевал ветер, но, как всякий шедевр, она не исчезла с финалом, а продлилась в сознании.
Ася отложила планшет с наушниками, тяжко вздохнула и принялась вытягивать из манжета пижамы торчащую нитку. Дёрнула, и неловко – шёлковая тесёмка отпоролась. Бросила глупое занятие и, встав, прошлась по маленькой комнате. Вспомнился Джерик – его инвалидный шаг на негнущихся лапах и как он поднимал морду, чтобы хозяин погладил нос. Ася согнулась, почувствовав спазм, и вдруг расплакалась как-то навыворот, как будто слёзы рождались в животе. Горечь о собачьей боли распирала её изнутри, и не было никакой возможности избавиться, если только через приступ рвоты. Ася подышала и сдержалась. Потом легла.
И тогда, оттеснив страдание, её окружили близкие существа, те, кто думал о ней в эту минуту. Она засыпала в их мыслях, как в цветочных подушках, и от каждой шёл свой аромат. Мысли Сани пахли ромашкой, травами с лесных опушек детства. Мысли Курта были как талый лёд и фиолетовые ирисы – без запаха, от них шёл только ветер. Мысли Болека пахли почему-то апельсиновой цедрой и шоколадом, а Марфушина мысль была неявная, бесформенная, как дым, и пахла мокрой собачьей шерстью.
Глава седьмая
32
Чёрный на фоне ночной синевы, атмосферный фронт двигался на Москву. Он наступал, съедая звёзды. То и дело вперёд вырывались нетерпеливыми всадниками порывы ветра – с пылью и сором из-под копыт.
Курт шёл по опустевшим улицам точно как в пору гибели, ничего не различая, кроме вечного гула города да смаргивающей рекламы. Его мысли перемалывали и смаковали Асину последнюю фразу – о том, что теперь она будет «замаливать» перед мужем пропущенный концерт и не придёт долго.
Курт знал, что уже не увязнет во мраке, что должен будет встать утром и взяться за работу, которой, слава богу, набралось много. Что не забросит себя, а будет упрямо, по шагу, двигаться. Но сейчас ему было больно. Он держался за эту боль, как за разбитую коленку, и ждал, когда пройдёт.
Вернулся домой в полночь и сделал то же, что и всегда, – включил на компьютере Асин голос.
Его аудиоархив за последние недели пополнился чудесными образцами. В туманах и шорохах лесных записей ему порой удавалось отыскать ясную форму, чёткий смысл – что-то, что выделяло фрагмент из потока и превращало в законченное произведение. Например, чудесный миг, когда после морозной ночи в старом железном рукомойнике возле загончика звякал обмылок льда.
Свои находки Курт иногда посылал Пашке с Наташкой. Затем рискнул и отправил Асе. Вроде бы ей понравилось.
На этот раз, покопавшись в аудиофайлах, Курт скинул Асе привет: под бэк-вокал зимнего ветра и хруст тропинки Александр Сергеевич мотивирует Пашку на занятия математикой.
Прошла пара минут – Ася поблагодарила смайликом. Теперь можно и спать! Но нет – где-то сидела заноза. Странное чувство, что забыл в лесу душу, углублялось и ширилось, распирало грудную клетку. Сперва Курт попытался запить его тёплым молоком. Затем подышал, как было написано в книжке Болека. Наконец лег и уже начал засыпать, как вдруг ясно увидел на рябиновом суку качаемый ветром фонограф! Днём он, как всегда, включил режим записи и повесил ящик на обломанную ветку, а потом завертелось с Джериком.
Пройдёт пара часов, и по хлипким стёклам шахматного павильона, по его ржавой крыше забарабанит обещанный Гидрометцентром дождь. Забьёт по ветвям в зелёных почках и по старинному ящику с тонкой электроникой внутри. Да, электронике той конец!
Курт вгляделся в темноту, растёкшуюся за освещённой чертой шоссе. Ничего не поделаешь – придётся идти! Надо надеяться, лесные разбойники уже спят.
И всё-таки, помятуя о недавнем погроме, ему захотелось взять с собой какое-нибудь оружие защиты. Скажем, топорик из ящика с инструментами. Порывшись в стенном шкафу, Курт разыскал его и закатился смехом. Топором по живому – едва ли! По живому, как выяснилось, он умеет только автомобилем.
Благоразумно положив в карман фонарик, он вышел из дому, пересёк проезжую часть и оказался захвачен в плен восточным ветром. Понукая конвоируемого толчками и обшвыривая ветками, шквал прогнал Курта по освещённой аллее парка и передал из рук в руки, а точнее, в лапы бушующему орешнику.
Если, как пишут в волшебных историях, на земле и правда существуют ветры, которые приносят удачу, то этот был одним из них. Буря взбодрила Курта. С наслаждением он вслушивался, как скрипят в огромном ночном дому рассохшиеся балки и воет в трубах.
Когда огни аллеи остались позади, Курт вонзился светом фонарика в орешниковую гущину, но, пройдя немного, погасил – сам не зная почему. Остановился и прислушался – ничего. Тихо прошёл в темноте и, выбравшись у шахматного домика, замер. На грунтовой дорожке, идущей параллельно аллее, сверкнули лучи. Три велосипедиста, один за другим, хрустя прошлогодней листвой и ветками, вкатились во дворик. Курт скользнул за угол шахматного павильона и вжался в стену.
В загончике зашёлся лаем Тимка – Курт узнал его звонкий голос, впрочем, уже через миг солист был заглушён густым собачьим хором.
Возле загона всадники закопошились, пристраивая велосипеды. Курт не смог определить звук точнее, его заслоняла завеса лая.
Морщась от шороха куртки, он нащупал в кармане телефон, убрал громкость, свёл к минимуму яркость экрана и попробовал вызвать номер Сани. Сенсор с трудом распознал прикосновение задубевших пальцев, и в миг, когда вызов пошёл, Курт нажал отбой. Его отвлёк звук щедро расплёскиваемой жидкости. Тонущий в лае, но различимый, он повторился – ещё и ещё. «Валим!» – скомандовал гнусавый голос. А затем, как в кино, вспыхнул навязший в зубах кадр – размётанное ветром пламя.
Курт уже после подумал – опрометчиво было выскакивать из укрытия сразу, не убедившись, что поджигатели смылись. Но тогда он даже не вспомнил о них. Просто увидел мысленным зрением, как весёлого пса без передней лапы охватывает огонь – его и всех остальных, таких шерстяных, лакомых для быстрого пламени.
Схватив из угла между крыльцом и стеной лопату, он вмиг очутился возле калитки. По бокам её пылали ветви засохшей туи, горели тряпки и ближайшие к сетке конурки. Почему-то Курт решил, что первые минуты этот огонь будет «благодатным», не обжигающим. И правда, срубая замок, он не чувствовал жара. Только потом, заметив опалённые рукава, ужаснулся: какая ещё «благодать»! Обыкновенное адское пламя – языки человеческого безумия и ненависти.
О, как разгневались деревья! Как лают ели и взвывают клёны, отчаянно скулят берёзы! А впрочем, кажется, обошлось без жертв. Василиса, выбежав на волю, закувыркалась по земле, стряхивая искры с длинной шерсти. Остальные, отскочив на достаточное расстояние, грозно облаивали огонь.
Спокойно и просветлённо, словно убивший чудище витязь, Курт подошёл к запертой спортбазе и задумался, как половчее выбить стекло. Протянув через окно поливочный шланг, он сможет начать тушить. Вызывать пожарных сразу нельзя, с ними приедет полиция. Сначала нужно дождаться ребят и увести собак.
Он уже достал мобильник – обзвонить своих, как вдруг почувствовал покалывающий жар в ладонях. Медленно, ещё не понимая собственных мыслей, Курт убрал телефон в карман. Значит, Татьяна сказала – примчался, грозил спалить…
Мысль, что Лёшка, простой бесхитростный парень, додумался нанять подонков и сжечь приют, была абсурдна. Конечно нет! Он ни при чём – подожгли догхантеры. Но каково совпадение! Сев на корточки, Курт загипнотизированно уставился на расцветшее в туях пламя.
Ах, если бы Лёшка и правда был виноват! Но нет, он невиновен, а потому всё в его жизни пойдёт как надо. Ася ещё повозится с собаками, а затем окажется, что молодая семья собралась завести ребёнка или что время занято разменом жилплощади и прочими семейными хлопотами… Ася не придёт день. Не придёт неделю и месяц. И наконец не придёт никогда. Что же сделает он? А какие у него варианты! Умирать уже пробовал – не помогло. Значит, вернётся в свой обжитой мрак. То-то рады будут его тюремщики-черти!
Неподвижно Курт смотрел на клочковатый огонь и вдруг перестал слышать. Лай собак слился с гулом сердца, а затем и то и другое смолкло и из тишины поднялось величественное, как рассвет, озарение. За какой-нибудь миг он увидел во всём блеске и полноте комбинацию, призванную изменить его будущее.
Как испокон веку герои сказок с чистой совестью шли на кражу и даже убийство, лишь бы спасти отца-государя или отвоевать возлюбленную, так же и Курт почувствовал, что должен совершить тяжёлую, но необходимую работу зла.
Забыв об огне и собаках, он вернулся во дворик, снял с рябины фонограф, откинул крышку и вынул диктофон. Заряда осталось немного.
«Потерпи, родной!» – шепнул Курт и прослушал последние минуты записи. Тут было всё, что нужно. Лай собак, шелест шага, хруст огня.
Прикинув время, когда Лёшка мог явиться за Асей в приют, он подвинул курсор в поисках нужного фрагмента и попал сразу. «Ася! – раздался в отдалении голос Лёшки. – Да где вы все! – И, через паузу треска и шороха, совсем близко: – Ну всё, допрыгались, братцы! Спалю ваше логово на хрен! Знать будете, как семьи рушить!»
Реплика шла на крещендо и увенчалась оглушительным треском. Судя по всему, фонограф получил кулаком в бок.
Курт поглядел на красную полоску заряда в углу, задержал дыхание и, подобно хакеру из фантастического триллера, совершающему филигранную правку будущего, скопировал кусок Лёшкиной ругани. Выдохнул и перенёс фрагмент в тишину перед поджогом, одним боком – к похрустыванию шагов по листве, другим – к лаю Тимки, первым почуявшего вторжение. Прослушал – вышло грубо. Такие дела надо дома верстать, за компом. Но некогда, некогда… Наскоро подровнял частоты и громкость, чтобы разница между фрагментами не била по ушам, отключил диктофон – остаток заряда был нужен на демонстрацию Асе преступных намерений супруга, – и, заложив от дождя отверстие пакетиком из-под бумажных платков, повесил фонограф на сук, где оставил его накануне.
Сознание совершённого подлога – дерзкого и судьбоносного, такого, что отголоска хватит, может быть, на всю жизнь, – пронесло Курта мимо тропы, по лесной целине. Сбитые ветром ветки вперемежку с подмёрзшей землёй хрустели адски. Курт чувствовал, что идёт по битому в крошку стеклу. А когда выбрался наконец на расчищенную аллею и беснование под ногами стихло, – снова услышал лай брошенных собак и посвист ветра, разносящего по лесу огонь и дым.
Выйдя на пешеходный проспект, отделявший лесопарк от домов, Курт осознал, что пришёл не домой, а к Сане. Усмехнулся: с чего бы? И хотел уже двинуться в обход леса к шоссе, но вместо этого остановился и вслушался.
Со стороны домов до него долетел звук – гнусавый скрежет уже слышанного им сегодня мужского голоса. Курт обернулся и в торце девятиэтажки, у тёмного входа в подвал, увидел группку людей. Это были те самые всадники, тени которых он четверть часа назад видел в приюте. Двое остались в сёдлах, один спешился и разговаривал с женщиной. Её приятная, полноватая немного фигура с тёмным узлом волос на затылке показалась Курту знакомой, а когда он различил голос, взвизгивающий полушёпот… Да! Он её знал!
Очарованно Курт смотрел на нервные движения Саниной жены, вытаскивающей из кармана плаща и сующей парню смятые деньги, и на развязную позу главаря, принимавшего плату за труд. Тот склонился и что-то шепнул ей. Маруся взмахнула руками и, развернувшись, неуклюже побежала к подъезду. Во дворе едва слышно пискнул ключ домофона.
Один из парней, бросив велик, поискал на земле выскользнувшую купюру. Нашёл и отёр бумажонку о куртку.
Участие Маруси в поджоге не пробудило в Курте ни ужаса, ни злорадства, только болезненное сочувствие. Что она выдумала? Приревновала к кому-нибудь? Или просто сошла с ума?
Он вспомнил её заплаканное лицо – когда она испугалась за мужа в отравленном лесу и бесстрашно рванула с дочерью на руках по тем самым ядовитым аллеям. Как-то уж слишком она любит Саню. Вот уж эти Спасёновы! Есть в них какой-то свет непонятный, неявный. Привыкнешь к нему и уже помыслить не можешь, как без него жить.
Сочувствуя и от души желая, чтобы Марусино безумство – как, впрочем, и его собственное – осталось сокрыто, Курт зашагал к дому. Хорошо было идти по бульвару, крепко стояли фонари, не качались и не выли, в отличие от лесных деревьев. Бьющие в лицо и грудь широкие полотнища ветра пробирали холодом до костей, но одновременно и жаром, и счастьем! Он прожил блестящий день! Слушаясь интуиции, отправился ночью в лес, сбил с калитки замок и спас собак из огня – раз. Два – нанёс жёсткий удар по противнику. Три – узнал тайну Маруси и сердечно пожалел несчастную, чуть не спалившую живьём его любезного безлапого Тимку. Всё это вместе означало радикально новый подход к жизни. Остатком старого христианского сознания Курт отследил, как добро и зло начали смешиваться в нём, подобно жидкостям в активированной бомбе. Между ними больше не было грани.
У дома он остановился и оглядел городскую ночь. Чёрный, звёздный, как летнее небо, аромат преступления щекотал грудь. Циклон унёс дым пожара на запад. В лицо тёк восточный ветер, смешанный с каплями дождя. А хотя восточный ли? Или здесь не действует земная система координат? Курт понял, что вступил в мироздание, где никогда не бывал прежде. Он не знал в нём ни одной звезды.
Дома, выполоскав из волос въевшийся дым и сунув одежду в стирку, Курт забрался с чашкой чая в постель – ждать. Конечно, хорошо было бы заснуть. Когда кто-нибудь из друзей разбудит его страшным известием – сонный голос и на щеке след от подушки, – это было бы то, что надо! Но нет, рассчитывать на сон не приходилось.
Почему-то ему совсем не думалось ни о парнях с канистрами бензина, ни о разбежавшихся по лесу собаках. Всё заслонял образ Аси. Он еле сдерживал жажду позвонить ей – этому вырывающемуся из ладоней ветру, этому снегу, вытекающему из пальцев. «Стоит ли правда того, чтобы пропала жизнь двух человек? – размышлял Курт. – Ведь он чуть не погиб! Или, может, его драгоценная совесть желает, чтобы он снова умер без Аси? А затем в лапах примитивного обывателя та же участь постигла бы и её?»
Обратив внутрь себя тёплый и мягкий взгляд, который он перенял у Болека, Курт прислушался. Определённо: он был благодарен судьбе за предоставленный случай. Нет – никакой вины! Он был благодарен.
33
Около пяти утра Ася проснулась. Ей приснился нелепый, детский какой-то кошмар – будто в двадцати метрах от неё упала космическая станция. Ася успела подумать: сейчас пойдёт взрывная волна! А затем беззвучно вспыхнул огонь, и сознание отключилось. Проснувшись сразу после «смерти», Ася зажгла лампу и, схватив телефон, ещё раз вызвала Лёшкин номер – нет ответа. Посмотрела с мольбой на экран – ну что же это такое! И тут же в ладони завибрировал звонок.
– Ася! Приют сожгли! – захлёбывался в трубке Наташкин голос. – Александр Сергеич позвонил оттуда – уже всё сгорело! Давай приезжай! Собак будем искать, они там лают по всему лесу!
– Как? – воскликнула Ася. – Наташ, подожди! Я не понимаю!
– А вот так! Вот так вот надо, если что не нравится! Чиркнул – и всё! – шумно дыша, сказала Наташка. – Ладно, пока! Электричка моя! – И сунула телефон в карман.
Ася ещё некоторое время настороженно слушала шелест куртки и гулкий топот. Ей хотелось проследить, благополучно ли добежит белокосая девочка со смешным носом-картошкой, Пашкина боевая подруга. Только когда зашумели двери и заглушённый шорохом Наташкиной куртки голос диктора объявил следующую остановку, Ася нажала отбой.
Не охая и не ужасаясь известию, почти не думая, как солдат, Ася оделась и подошла к окну. В свете фонарей нёсся почти параллельно земле дождь и в нём снежная мошкара – неуклюжие комары, многолапые пауки и прочая мелочь, гонимая ветром. Майский снег! Зонт не поможет. Разве только в качестве транспортного средства – долететь до леса.
В прихожей, разыскивая кошелёк, Ася нашумела – уронила сумку. И сразу из комнаты, щурясь и отводя с лица волосы, выглянула Софья.
– Ты куда это собралась?
– Приют подожгли, Соня!
Софья взбодрилась мигом. Подошла, сдёрнула с гвоздика Асины ключи и, тремя решительными щелчками заперев дверь на нижний замок, сжала в кулаке связку.
– Ночью никуда не пойдёшь. Утром – пожалуйста.
– Пойду, – тихо сказала Ася. – Уже утро.
– Ещё нет! – возразила Софья, вынимая вторую связку из кармана собственного плаща. Третья была у Лёшки – стало быть, за пределами досягаемости. – Ты себе уже не принадлежишь, дорогуша. Если меня упекут – с кем Серафима останется?
– Я пойду. Соня, ты же знаешь – я слезу по липе, – просто, безо всякого вызова сказала Ася.
Софья в упор поглядела на сестру: да, пожалуй, слезет.
– Ну и дура! – сказала она, кидая ключи на подзеркальный столик. – Шапку хоть надень! Снег вон валит.
Шапку Ася не надела, зато обмотала вокруг шеи цыплячий шарф, связанный мамой давным-давно – память детства, накинула пальтишко и вышла.
Замоскворечье эхом разнесло её предутренние шаги. Как же добраться? Метро закрыто. Трамваем? Ей захотелось побежать на Ордынку, к Иверской Божией Матери, и, упав, просить защиты всем. Но посольства Небес на земле запираются на ночь. И очень глупо! Можно подумать, ночью в них нет нужды.
На перекрёстке кинув взгляд в сторону центра, Ася почувствовала: Москва бодрствует. В ресторанах и клубах совершаются встречи, большей частью ошибочные. А ближе к Кремлю – таинственной и древней оси московского мира – бессонные интуристы поглощают энергию весеннего космоса. Таких немного, большинство спит в гостиничных номерах, пропуская самое главное – под утро в небе над Москвой снами проплывает Россия. Облака пахнут раскисшими полями с оттаявшими ледышками картошки. Сквозь поредевшие слои смога пробивается свежесть весенних рек. Во всё остальное время мегаполис накрыт куполом – он непрозрачен, как стёкла застоявшейся в пробке машины. Только перед рассветом…
Образы эти, как помрачение, заслоняли от Аси случившееся. Мгновениями она вспоминала события последних суток и, чувствуя холод в животе, вызывала снова и снова Лёшкин номер. Теперь он был «в сети». В ухе кружилась юбкой клёш глупая латиноамериканская мелодия, но Ася знала, что Лёшка не возьмёт трубку.
Когда пустыми дворами она вышла к трамвайным рельсам, мимо неё по кромке проезжей полосы мелькнул, как призрак, модный велосипедист, слитый со своим конём в единую игрушку-трансформер. Если бы Асе велосипед! А то – на чём ехать? Ночных такси она безотчётно боялась, а трамвая пока дождёшься! В ту же минуту, услышав позади грохоток, она обернулась и припустила бегом к остановке.
Первый трамвай принял её в свою светлую комнату, где не собралось ещё людей. Ася села к окошку и закрыла глаза. А когда, на подъезде к лесной остановке, открыла, то сразу увидела Курта. Он замахал, различив её в освещённом вагоне, и улыбнулся едва ли не со слезами – словно встретились ненароком, в разрухе войны. Подхватил со ступеньки, как маленькую, и помог перепрыгнуть лужу.
– Целы? – спросила Ася.
– Не знаю. Я ещё там не был. Наташка сказала, ты едешь. Решил, дождусь тебя.
Шли молча и не так чтобы рядом. Между ними сквозил метр пустого пространства, но Ася чувствовала, что окружена заботой своего спутника, как королева множеством слуг. Один снял с её плеч тревогу, другой обмахнул лицо ветром, третий забрал из-под ног труд земного шага, и теперь Ася летела словно на облаке, четвёртый – пообещал, что всё будет хорошо…
Не понимая своего чувства, Ася мельком взглянула на Курта.
– Не быстро идём? – тут же спросил он, склоняясь и вглядываясь в её слабо освещённое фонарём лицо.
У поворота на тропу Ася остановилась. Запах гари, принесённый порывом ветра, перебил дыхание, и тут же из темноты на них бросилось чудище – косматый Гурзуф.
– Что ж ты бродишь! Домой, домой! Пошли с нами! – сказала Ася, отбиваясь от собачьих приветствий.
Ну вот и дворик! Шахматный павильон цел-невредим. Туи по краям баскетбольной площадки сгорели, внутри закопчённой сетки – пожарище. Домишки обуглились, а вокруг растерянно топчутся погорельцы.
Мгновение – и вошедшие оказались окружены мокрой собачьей толпой.
– А Пашка где? Паша не пришёл? – спрашивала Ася у Василисы-падучей, у Тимки, у колченогого Фильки, Чуда, Щёна и остальных, гладя морды, наперебой рвущиеся к её рукам. – Ну, пойдёмте тогда во двор. Саня-то хоть здесь? Давайте пойдёмте к Сане!
– Александр Сергеич домой побежал. Сказал, заболела жена, с высокой температурой, – отозвался Курт.
Ася нахмурилась. В первый раз на её памяти болела Маруся. Выбрала момент!
Вдвоём с Куртом они собрали собак и загнали в шахматный павильон – до прихода Пашки. А когда вернулись во дворик, Курт вдруг замер, уставившись на рябину. Присвистнул и, подойдя, сдёрнул с ветки ящик фонографа.
– Забыл? – ахнула Ася.
– Ну да. Похоже, когда с Джериком поехали. Всё теперь, залило насмерть… – проговорил он, сокрушённо осматривая корпус.
– А вдруг нет! – заволновалась Ася. – Вдруг что-нибудь записалось! Может, голос того, кто поджёг?
Она сбегала в домик за тряпкой, тщательно вытерла фонограф, а затем лавку. Курт присел, поставил ящик на колени и, вынув диктофон, понажимал.
– Да, вырубился, похоже. Не знаю… Сейчас посмотрим. А, нет! Заряд только сел почти. Ну что, слушаем?
На нужный момент попали не сразу. Записанный звук был однообразен – ничего, кроме ветра.
– Стой! Вот здесь! Слышишь, как лают? – на одном из отрезков воскликнула Ася и плотнее прижала наушники. – Это сколько тут времени?
Курт взглянул на дисплей и, прикинув, отозвался:
– Где-то полночь.
Ася почувствовала, как сохнут губы и к вискам набегает волна частого пульса. Ну вот – за лаем ничего не слышно. А, нет – потрескивает… Шаги! Хруст усиливается. И вдруг – в паузе между волнами собачьего протеста, отчётливо – знакомый голос. Затем – оглушительный треск, словно кто-то саданул по фонографу кулаком, и через миг тишины – снова шквал возмущённого лая.
– «Спалю ваше логово…» – беззвучно, словно пробуя угрозу на вкус, повторила Ася и взглянула на Курта. – Что это? Это что, он?
Курт сочувственно опустил голову.
– Как же это может быть? – Ася сняла наушники и обвела взглядом дворик. – Нет, конечно это он! Всё правильно! – кивнула она и жалобно посмотрела на Курта. – Я хочу послушать ещё раз!
– Незачем! Ты так с ума сойдёшь, – качнул он головой.
Ася сжала губы и, схватив диктофон, принялась без разбора тыкать в гаснущий экран.
– Где? Как тут у тебя включается?
Курт мягко вынул гаджет из Асиной ладони.
– Не нужно, Ася. Мы это сотрём! – сказал он. – Просто сотрём и никому не расскажем. Ничего не было.
– Как же не было! – воскликнула Ася, во все глаза глядя на Курта. – Как не было, когда всё сгорело! И он ведь угрожал! Вчера, помнишь, Таня сказала? Я-то думала, он так, сгоряча. И Саня… Ох! – Она умолкла, закрыв лицо руками.
– Ася, я понимаю… – с грустью проговорил Курт. – Но если мы оставим запись, ему могут предъявить обвинение в поджоге. А там кто знает, ещё и потраву на него свалят. Ты этого хочешь?
Ася опустила руки и слепо поглядела перед собой.
– Всякое может случиться с человеком, – продолжал Курт. – Я по себе знаю. Черти могут одолеть… Ася, я прошу тебя, давай сотрём! Не нужно вот этой мести. Пусть на совести его останется.
Ася в тревоге поглядела на Курта: знает ли он? Можно ли верить его выбору?
– Подожгли живодёры, те же, что и яд рассыпали. Так и будем считать! – окончательно решил Курт и, кивнув для пущей уверенности, нажал «del». – Ну вот и всё!
Сунул гаджет в ящик, опустил крышку.
Страх и омерзение, что ухитрилась оказаться женой нелюдя, впились в Асю. Она поднялась со скамейки, но не сдвинулась с места – вросла в раскисшую землю. Видя, что в данных обстоятельствах дружеское сочувствие не обидит её, Курт прислонил изваяние к груди, погладил по волосам – они были влажные. Ася слышала через грудную клетку, как мощно, окрылённо бьётся чужое сердце. Руки у Курта подрагивали, но это была дрожь избытка – клокотание вдруг явившихся новых сил, с которыми он ещё не успел обвыкнуться.
Напитавшись этой неприручённой силой, странной в недавнем самоубийце, Ася почувствовала облегчение. Спазм разжался, и полились слёзы. Сначала она плакала беззвучно, не сходя с места, как пораненное, истекающее соками дерево, а затем разошлась навзрыд.
– Ася, всё это ерунда, перемелется! – утешал её великодушный друг. – Это просто его ревность, понимаешь? Ты, главное, не выдавай его. Он и так уже наверняка сто раз пожалел. Послушай… – переменил он было тему, но оборвал.
– Что?
– Нет, ничего, – сказал он и мягко выпустил её из объятия – давая понять, что не намерен злоупотреблять бедой.
А затем явился Пашка. Он был строг и собран, волосы для ясности мысли увязаны в хвост. Дождевые тучи задерживали рассвет, а то бы Ася заметила под внешней деловитостью государя выражение тяжёлой растерянности. Он не смог прибыть на место катастрофы первым, потому что возились с Джериком. Решали с Татьяной, взять его или оставить. И если взять – то как довезти? Наконец вспомнили про старую детскую коляску на балконе. Пашка помчался бегом, а Татьяна позади тихонько везла в коляске Джерика.
– Собак пересчитали? Все здесь? – спросил он и, не дожидаясь ответа, вошёл в шахматный павильон. С минуту доносилось приветственное поскуливание и шорох, а затем Пашка возник на крыльце и, закрыв за собой дверь, сказал: – Мыши и Марфы нет!
– Нет Марфуши? – не поняла Ася. – Так я же видела…
– Марфы и Мыши нет! – повторил Пашка. И, спрыгнув с крыльца, пошёл кликать пропавших по ближним полянкам. Понемногу его голос отдалялся и наконец сгинул в гудящем ветром лесу.
Сколько ни просила Ася – так и не добилась от фыркающего Гурзуфа, где тот потерял Марфушу. Старый пёс не желал брать след и отправляться на поиски.
– Эх ты! Где же твоя верность! – корила его Ася, а когда, отчаявшись, загнала дяди-Мишиного сироту обратно в шахматный домик, со станции подоспела Наташка.
– Эй, ребята! Вы как? Представляете, электричка стояла! Товарняк на путях заклинило! – кричала она, запыхавшись, и махала обеими руками, длинноногая и смешная, как кукла на верёвочках. На светлую спутанную пряжу волос нахлобучена шапка с помпоном, и пуговицы джинсовой курточки застёгнуты наперекосяк – так что правый угол воротника задевает щёку.
Подойдя к Наташке, Ася посмотрела в её серые глазки, одновременно напуганные и отважные, поправила оранжевую шапку, перестегнула правильно пуговицы и крепко прижала к себе. На секунду ей показалось, что эта курносая девочка – её дочка. Дочка шла ночью по глухим дорогам, в одиноких вагонах чудом избегла страшных людей – и вот наконец в безопасности. «А вот мама свою младшенькую отпустила, не спасла!» – думала Ася и чувствовала, как жалость и любовь смешиваются в её душе с горечью.
Наташку оставили успокаивать и жалеть собак, а сами пошли к шоссе и у метро разделились. Курт отправился искать пропавших вдоль опушки леса. Ася же собралась вернуться в Замоскворечье и покликать Марфушу по родным улицам, у знаменитой мусорки «Майский день» и в иных заветных собачьих углах. Конечно, это далеко, но бывают ведь у собак чудесные способности – вдруг возьмут да по ветру отыщут дорогу домой!
34
Расставшись с Куртом у выхода из парка, Ася направилась к метро, по-собачьи нюхая воздух, надеясь почуять подсказку – что понравилось бы Марфуше? Дождливое утро промыло и разделило запахи города на отдельные пряди. Пахло водой, стремящейся к водостокам, бензином и самую малость съестным – ларьковой выпечкой вроде сосисок в тесте. Ася огляделась и увидела на другой стороне улицы киоск с открытой сбоку дверцей. Из припаркованной рядом «газели» в неё заносили коробки. Еда – там!
Марфуша – умная собака, рассудила Ася. Она не будет перебегать дорогу, а пойдёт по подземному переходу, тем более что зимними ночами им с Гурзуфом не раз доводилось нырять в коридор на выходе из метро «Третьяковская».
По скользким ступеням Ася спустилась в переход. Здесь по углам притаились совсем иные запахи – разрушенной плоти, истлевших вещей. Даже музыка – флейта или гитара, иногда звучавшие в гулких стенах, не разгоняли дух гибели. Так пахла в последние годы дяди-Мишина судьба.
«Марфуша!» – позвал умноженный эхом Асин голос, и тотчас на другом конце огромного коридора откликнулись. Ася услышала тонкое поскуливание и поспешила на звук. Через пару десятков метров, в закутке под скошенным потолком, она обнаружила то, что искала.
Мужик с распухшим, словно бы обмороженным лицом и мутноглазая женщина, склонившись, объяли Марфушу бесформенными руками и колдовали над её шеей. Асе показалось, они стягивают ей горло тросом, какой Пашка однажды снял с шеи Агнески.
Ещё не зная, что будет делать, Ася подбежала к людям, пленившим Марфушу, и вдруг почувствовала, что проваливается, оседает в потусторонний мир. Сердце в груди колыхалось без ритма и стука, как мотаемый по двору палый лист. Беззвучно Ася выкрикивала грозные слова и, кажется, притопнула даже ногой – но не услышала ни шелеста. А потом вдруг разжало – как, бывает, в самолёте после крутой посадки наконец прорезывается слух – и дяди-Мишин брат по судьбе загундосил:
– Да ты чё? Как душим? Мы не душим, мы ей поводок вяжем, а она брыкается! Она щенков потеряла. Щас пойдём искать, по запаху!
Марфуша рванулась к Асе, но мужик удержал её за ошейник.
– Тих-тих-тих! Куд-да!
– Отпусти! Это моя собака! – крикнула Ася, вцепившись в верёвку, и неожиданно крепко дёрнула.
– Чего дерёшь! Шею ей оторвёшь! – просипела женщина, придя на помощь другу. – Ей щенков надо искать, вон, молоко у ней!
Запах перегара и тлена обволок Асю. Топь засасывала, мешая дышать.
– Какие щенки! Она стерилизованная! Вы читали, что у неё на ошейнике? – крикнула Ася. – Телефон хозяина видели? Отдайте! – И, ломая ногти, распутала тугой узел верёвки. Марфуша в отчаянной радости бросилась пачкать и драть Асино серенькое пальто.
– Ну… извиняемся… – проговорил мужик, начав что-то соображать, и Ася увидела на его отёкшем лице выражение тупой грусти. – Скулит же… – продолжал он оправдываться. – У нас рыжая… выла по щенкам… на весь прям переход. Так мы подумали, раз воет…
Трогательные спотыкания взамен бранных слов, предпринятые мужиком из уважения к юной незнакомке, как и сам смысл его речи, поразили Асю. Удивлённо и мягко она посмотрела в лицо Марфушиного заступника. Что-то наплывало из ниоткуда, врывалось в душу. Это было знакомое чувство, не раз испытанное ею, когда она приникала лбом к иконе Богородицы и различала тонкий аромат лилий. Малодушный взгляд косился в поисках вазы с цветами, а сердце знало: так благоухает чудо.
Ася добыла из сумки денежку и неловко протянула мужику.
– Спасибо, что вы её пожалели, – сказала она. – А это на щенков, если найдёте!
И, взяв Марфушу за ошейник, быстро пошла прочь из подземелья. Почему-то ей казалось, что она обидела слабых. Отняла у них редкий шанс проявить сострадание. Кого ещё им жалеть? Кто беднее их самих, если не бесприютный зверь? Но, с другой стороны, ведь замучают! – и Ася, поглядев на трусившую рядом собаку, представила, как с похмелья этот самый добряк пнёт Марфушу беленькую тупой жестокой ногой.
К их возвращению рассвело совсем. Вынырнув из мокрого орешника, Ася заметила как будто впервые – лес был подёрнут зелёной дымкой, а вдоль северной стены домика ещё лежали пластины стеклянного снега, продырявленные водяными струями.
На лавочке возле рябины, той самой, на которой Курт забыл фонограф, нахохлившись под зонтом с обломанной спицей, сидела Наташка. Оранжевый помпон на её шапке вымок и растрепался.
– О, нашлась Марфа? Молодцы! – воскликнула она, увидев вбежавшую во дворик Марфушу, грязную и виноватую. – А Пашка ещё бродит. Танюлька приехала с Джериком. Они там в кабинете у неё.
Ничего не сказав, Ася взошла на крыльцо и приникла к окну сбоку от двери, тому самому, где один из квадратиков был выбит и заложен пластмассой. Круги, неумолимо сужаясь, загнали некогда вольных жителей в маленький павильон. Собаки, запертые на тощей терраске, спали, сбившись в одну осеннюю шкуру, но кое-кто почуял человека и, подняв голову, фыркнул.
Ася открыла дверь. Собаки дружно выплеснулись на дворик и обнюхали пропахшую чужбиной Марфушу. Особенно рад был Гурзуф, немедленно положивший лапу на Марфушину грустную шею.
Минуту-другую собаки мирно топтались во дворике, а затем насторожили уши и дружно рванули к загончику, навстречу хозяину – по тропе мимо сгоревшей баскетбольной площадки шёл Пашка.
Он был прозрачный и мокрый, словно выкупанный в пруду. Рубашка прилипла к телу, из разорванных джинсов светилась коленка, а куртки не было вовсе.
Не обращая внимания на приветствия собак и Наташкины ахи по поводу мокрой одежды, Пашка сел на ступеньку, вытер ладонью лицо. Марфуша кувыркнулась в слякоть у крыльца и подставила пузо, но хозяин проигнорировал лакейскую выходку.
– Мыши нет, – сказал он. – Хоть бы голос подала, глупая собака! Чип надо было ставить… Хрен знает, где она отлёживается!
– Паш, пошли переоденешься! – теребила его Наташка. – Там Танюлька пришла, с Джериком! Джерик в коляске детской – такой прикольный!
– Да знаю я, – оборвал Пашка. – Его в кабинет надо перенести, и укол уже пора.
Наташка примолкла, наморщила нос и светлые брови.
– Ну чего, сбегать к Тане за халатом? Переоденешься? – всё-таки спросила она. Помолчала и по-матерински прибавила: – Паш, а куртка-то где?
Тот мотнул головой и склонился к Марфуше. Отстегнув ошейник, разгрёб уверенными, уже совсем мужскими руками шерсть на загривке. На розовой коже темнела небольшая, но глубокая царапина.
– Это, наверно, ошейником прищемили, – сказала Ася.
Пашка бросил на Асю беглый взгляд и спросил невпопад, вероятно, давно об этом думая:
– А когда Александр Сергеич придёт?
Ася виновато повела плечами:
– Наверно, не прямо сейчас. У него Маруся заболела…
– Знаю я, что заболела! – вспыхнувшим голосом перебил Пашка. – Наташ, фукорцин принеси! Нет, не хочу! Он розовый! Давай зелёнку. Она там в коробке на полке. И вату.
Наташка кинулась исполнять поручение.
– Паш, мы их пристроим, – сказала Ася. – Я поругаюсь с Сонькой и возьму Марфушу. Может, и Курт с родителями договорится.
– Ой, нет! Он не договорится! – воскликнула Наташка, подавая Пашке пузырёк и вату. – У него когда собака умерла, бабушка так расстроилась, что тоже умерла. И мать сказала – всё, никаких животных! А квартира-то их!
– Ну, значит, ещё что-нибудь придумаем! – нарочно подбавляя в голос уверенности, сказала Ася. – А потом, вы знаете новость про нашего Болека? Он собрался нам раздобыть территорию, а он всё может!
– Да наплевать, – оборвал Пашка, немилосердно пачкая тёмной зеленью беленькую Марфушину шерсть. – Блин, надо было промыть, конечно…
– Что наплевать?
– Наплевать мне на вашего Болека! – И, поставив пузырёк на крыльцо, пошёл, как был, в мокрой рубашке, по вязкой земле в глубину леса. – Мышь! – орал он. – Мыша, ко мне!
Ася вслушалась в его удаляющийся крик и вдруг поняла: он звал не пропавшую собаку – это было бессмысленно после целого утра поисков. Может быть, Пашка звал Саню, но и это имя было лишь маской. Маленький потерявшийся мальчик, спотыкаясь, брёл по лесу и звал маму.
А дальше был воскресный день с дождём и ветром. Урок «Рисуем питомцев» пропал. Ася вспомнила о нём, только когда заметила смельчаков, решивших, вопреки непогоде, привести детей на занятие. Она видела, как родители в недоумении останавливались у обгорелых туй и, вдохнув запах гари и разорения, спешили прочь, покрепче перехватив руку ребёнка.
Пашка с Куртом искали Мышь, на кушетке ветпункта под присмотром Наташки спал Джерик, собаки толклись во дворе, тыча носами в первую мать-и-мачеху, и надо всем этим горем радостно шумели деревья. Их огромные светлые души встречали на небе весну.
Татьяну снова, как в день потравы, вызвали в администрацию, и снова, переживая томящее дежавю, все вместе ждали вестей.
Из остатков заварки, кончившейся, как обычно, некстати, Наташка приготовила жидкий чай, насыпала в тарелку сушки. Попили чаю, накормили собак и, закрыв их в домике, чтобы ещё кто-нибудь не пропал, вышли во двор.
Пашка то и дело бросал взгляд на сумеречное пространство леса – словно надеялся заметить робкую тень Мыши. Курт, весь день проискавший с ним исчезнувшую собаку, держался заметно хуже государя. Его руки, сжимавшие чашку, подрагивали.
Наконец появилась Татьяна. Энергичный шелест ветровки и брызжущая из-под кроссовок земля говорили о том, что беседа в дирекции парка была напряжённой. Танины волосы торчали клочьями пожухшей травы, как будто с утра ей не довелось причесаться. Уже влетев во дворик, она споткнулась и, разразившись проклятиями, нагнулась перешнуровать кроссовки.
– Ну что, рады? – гневно спросила она. – Революционеры! Партизаны! – И, поднявшись, дунула себе на лоб. Всклокоченные волосы порхнули. Её лицо было живо и яростно. – Пал Николаич, тётка твоя с тобой говорит! Может, встанешь?
Пашка поднялся с лавки и, вытерев правую ладонь о штаны, упёр её в бок.
– О, да у нас поза! – воскликнула Татьяна. – А знает ли ваше величество, что мне от аренды хотят отказать? Я пять лет отдала, чтобы здесь закрепиться! – И вдруг, сорвав с себя ветровку, в сердцах швырнула оземь. – Сколько тебя умоляла – пристраивать не умеешь, так хоть новых не тащи! Ты же видел – всё против! Нет, ему надо было в больничку играть! Вместо того чтобы постараться хоть!
– Танюлька, ну неправда это, ты же сама знаешь! – вступилась Наташка. – Мы всё время стараемся. Помнишь, Дуся была, так мы её сразу пристроили, в неделю! Потому что она молодая, симпатичная.
– Знаю – и что? – рявкнула Таня.
Пашка слушал перепалку молча, чуть вскинув голову, а затем сорвался и зло зашагал прочь. По ту сторону спортбазы хлопнула дверь – он зашёл к Джерику.
– Танюша, на платочек! – сказала Наташка и вложила в Танину руку бумажную салфетку. – А то у тебя вон земля на щеке. Вытри! А хочешь, пойдём лапки тебе покрасим? У меня есть, как ты любишь, чёрненький!
– Какие мне ещё лапки! – отмахнулась Татьяна и косо глянула на Асю с Куртом. – А вы вообще нахлебники! Повесили свои проблемы на мальчишку несмышлёного. Животных они любят! А за чей счёт вы их любите? За счёт страданий ребёнка! Особенно этот вот лузер! – И мотнула головой в сторону Курта. – Что, домой взять не мог Тимку своего?
– Я не лузер. Я потомок старинного рода, не сумевший приспособиться к власти демоса, – возразил Курт. – А взять не могу, потому что на то нет воли владельцев квартиры.
– Потомок он! – огрызнулась Татьяна и без сил опустилась на лавку. – Ой, мама, не могу я больше!..
– Танюш, ты хоть расскажи, какие там дела? – осторожно попросила Наташка.
Татьяна вытерла большой ладонью лицо и, скрепившись, принялась докладывать новости:
– Да какие дела! К Людмиле заявилась девчонка из газеты. Хочет писать статью «Пожар в лесопарке». Ей сказали, что приют незаконно существует при школе. Ещё кто-то там намекнул, что пожар – это протест местных жителей против угрозы бешеных животных. И Людка всё, в кусты. Говорит, чтоб завтра освобождали, или будут нас выдворять с правоохранительными органами, и никакого Александра Сергеевича чтобы не присылали – не поможет! И насчёт продления аренды тоже теперь, говорит, неясно… Пашку мне жалко, ребят! – прибавила она, помолчав. – Родители идиоты. И я тоже дура – допустила это всё. Как он будет теперь, когда разгонят? Слушайте, позвоните уже Сане! Почему его нет, когда нужен?
Ася принялась было объяснять и умолкла, поняв: никакая больная Маруся не оправдает в глазах этих людей отсутствие брата.
– Но он придёт! – поспешно заверила она Таню. – Он обязательно вырвется! Может, попозже.
– Нам-то что сейчас делать? – спросила Наташа.
– Что делать. Садись, звони, ищи передержку, если денег соберём! – сказала Татьяна, сморкаясь в салфетку, и пошла мириться с племянником.
35
Вечером предыдущего дня Лёшка прямо с порога концертного зала помчался в лес. Ему хотелось увидеть воочию, на что именно променяла Ася их давно запланированное культурное мероприятие. В ладони хрустели ножки розовых роз в обёртке, этих расхожих цветов, что с необъяснимым упорством, получая упрёк за упрёком, он выбирал для Аси, словно в детстве какой-то дурак научил его, что любимой женщине следует дарить именно такие цветы.
Бросив розы в орешник, с набирающим обороты гневом, Лёшка обежал территорию приюта. Дёрнул калитку загона – на площадке взлаяла и кинулась к сетке кучка безродных псов. Густой бас Гурзуфа был особенно грозен – Лёшка шарахнулся, пронёсся мимо и взбежал на крыльцо шахматного павильона. Рванул дверь и чуть не отлетел – она распахнулась перед ним с издевательской лёгкостью. Внутри всё было готово к проведению весёлых уроков рисования. На стенах Асины рисунки – щенки и котята. Чистота, и пахнет ремонтом. Поцарапанные парты обклеили плёнкой под дерево, оконные рамы выкрасили водоэмульсионкой, вместо выбитого стекла вырезаны по размеру и втиснуты куски цветной пластмассы – тоже мне витражи! Но Аси нет. И вообще нет никого – ни мелкого Трифонова, ни Наташки, ни «кудрявого дерева».
Он спрыгнул во дворик, пнул ногой лавку и заозирался, не зная, куда податься. Гнев рвался наружу. Пользуясь безлюдьем, Лёшка бранился вслух. От души выплёскивал на расцветающий лес огонь обиды, грозился. Ткнул кулаком в ящик, свисающий на ремне с ветки рябины. Забытый фонограф, качнувшись, ударился со стуком о ствол.
Обогнув здание спортбазы, он увидел Татьяну со шваброй, счищавшую грязь со ступенек ветпункта.
– И где они все? – рявкнул он. – Ася где?
Татьяна опёрлась о щетку и сурово взглянула:
– Ты чего шумишь-то?
Розовые щёки Лёшки пошли белыми пятнами.
– Это я шумлю? Да вашу секту разогнать надо и судить! Кормите тут свою манию величия! Мол, вот мы какие милосердные! И Асю я вам не дам! Не уймётесь – вообще спалю ваше логово! Инстанции бы на вас натравить – да я не стукач!
– Иди отсюда. От тебя уже лес оглох, – сказала Татьяна и, отжав тряпку, занялась крыльцом.
Лёшка проклял ещё раз всю их собачью контору и, злой, понёсся домой, на Пятницкую – разбираться.
«Ну что, разлюбила тебя Ася? – думал он, как будто нарочно шпыняя себя побольнее. – Надоел ты ей до чёрта, так, что готова бежать от тебя хоть в Гринпис!»
Выйдя из метро, Лёшка пошёл по родной улице, словно рыцарь, лишённый наследства. Сырая, в сумеречных огнях, плитка, постеленная вместо асфальта, теперь и с велосипедными дорожками, скользила под ногами. Молчали звонницы – а чего бы им петь? Падшая личность Артемий, дяди-Мишин приятель, в закутке под оградой церкви укладывался спать – тоже нашёлся парижский клошар! Есть ведь комната своя, дядя Миша ещё говорил, что есть…
Свернув в тёмный двор с единственным деревом, в родной свой, детский дворик, Лёшка угодил взглядом в кривую трещину на стене. За последние годы она расползлась всерьёз. Так ведь и комнату не продашь, если дом на снос! Он ещё раз оглянулся на тополь и ступил в пропахший подвалом подъезд.
Наследив по облупленному паркету прихожей, Лёшка повернул ключ и неприкаянным пацаном встал на пороге комнаты. Вообще-то он считал себя парнем не хлипким, способным противостоять трудностям. Но теперь вдруг сел на корточки, голову положил на мамин диванчик. За что? Просто за то, что он не фанат дворняг? А разве нельзя приносить пользу в другой области? Вот, к примеру, он учит своих пацанят расти мужиками, не ныть, не выпендриваться и не ябедничать. Что – если дети не собаки, так они и не в счёт?
Стиснув ладонями виски – словно стараясь выжать из головы разбухшие и бесформенные мысли об Асе, он встал и пошёл в ванную умыться. Там на полочке ещё остался тюбик дяди-Мишиной лет пять назад вымазанной до последней капли пасты.
Умывшись холодной водой и поостудив жалость к себе, Лёшка решил не киснуть дома, а пойти разгулять обиду по ночной Москве. Телефон отключил – пусть Ася понервничает, если совесть ещё осталась!
Молодецким шагом он прошёл по Пятницкой до ночной реки, через мост – на Раушскую набережную и, примагниченный сияющим чудом Василия Блаженного, двинулся в сторону Красной площади. На реке сердце смёрзлось от ветра. Он развернулся и, дойдя до Тверской, совсем потерял себя. Чужая Москва разлилась перед ним огнями центральной улицы.
Лёшка не любил этих мест – они словно вытесняли его из родного города, унижали богатым блеском его простую замоскворецкую честь. Лёшка не знал, как зайти в красивый ресторан, и не имел роскошной машины, которую можно было бы у такого ресторана эффектно припарковать. Да и не в роскоши дело! На этих улицах водились и вполне демократичные кофейни, но в них, углубившись в планшет, распивали латте и зелёный чай пижоны а-ля Болеслав и загадочные фланёры вроде Курта. Рядом с ними Лёшка чувствовал себя дураком, наглухо отставшим от жизни.
На мгновение его озарило мыслью: может, ему нужно перемениться? Полюбить музыку из хруста и шелеста, которую слушает этот Курт, и тогда у них станет больше общего с Асей? Эх! Как же грустно, одиноко, обидно!
И всё-таки прогулка помогла. Совершив бессмысленный круг и возвращаясь домой по холодной апрельской ночи, Лёшка принял решение: выдержать воспитательную паузу и к Спасёновым не ходить, переночевать у себя, на мамином диванчике. А уж завтра накупить любимой Асиной выпечки – круассанов, витушек с корицей – и явиться к завтраку, без претензий и допросов, почему прогуляла концерт. Единственная просьба: пусть не выдувает его из дому лютым холодом, а объяснит по-простому, по-человечески, как ему полюбить этот их дурацкий приют.
В ту ночь сгорел собачий загончик в лесу. Быть может, поэтому Лёшка видел дурные сны и проснулся наутро сомневающимся и раздражённым. Поленился бежать в кондитерскую, пропустил часы семейного завтрака и вымокшими переулками пошёл на работу. Провёл две воскресные группы, а затем уже было поздно идти к Спасёновым – начались Асины уроки в студии рисования. Лёшка решил, что придёт мириться вечером. Наслонявшись по улицам, он продрог, дождь и ветер причесали по-своему его светло-русую голову. Он увидел своё отражение в стекле киоска с цветами, где хотел купить Асе розы, – и что-то вдруг удручило его в собственном облике. Кажется, именно то, что раньше нравилось. Вихрастый, крепкий, простой, пришёл жене за букетом. И за это – именно вот за это! – его, кажется, разлюбили. Необъяснимо упав духом, он развернулся и пошёл к Спасёновым с пустыми руками.
Лёшку впустила Софья. Её лицо было утомлённым и строгим – как всегда в последние дни.
– Ну ты, Лёш, даёшь! – сказала она, отступая и глядя как-то с прищуром, словно брезгуя касаться его взглядом. – Как же тебя угораздило? Состояние аффекта или от рождения убогий? – И, тряхнув смоляными волосами, свернула в гостиную. Дверь захлопнула со щелчком.
У Лёшки пересохло во рту. Он потрогал губы пальцами – они спеклись в корку. Уютный жёлтенький свет прихожей, на золотистых обоях – Асина акварель «Земляника», собственные тапочки на полу, которые никто, слава богу, ещё не выкинул, – всё как-то перекосилось в глазах. Он дёрнул дверь и, сунув голову в щель, взмолился:
– Сонь, что «угораздило»? Что ночевать не пришёл? Так я по улицам гулял. Думаешь, не обидно? Стоял там, как баран, с билетами, нафуфыренный! Цветы купил!
Софья поднялась и, велев Серафиме не мешать, вышла в прихожую.
– Видно, моль какая-то, Лёш, у нас завелась, – проговорила она, взглянув на этот раз мягче, с долей сочувствия. – Я подставила себя и дочку. А ты – сжёг приют. Но только я по глупости, а ты со зла.
– Я? Сжёг приют? – выдавил Лёшка севшим от изумления голосом и хотел что-то ещё сказать, но свояченица нажала ручку и распахнула дверь:
– Давай, Лёш, топай. Ася сказала, тебя не пускать. Не знаю, как ты всё это будешь улаживать.
О пожаре Софья знала от Аси, звонившей днём, тогда как оповестить Илью Георгиевича никому не пришло в голову. Ему было известно только, что внук ночевал у тётки из-за очередного собачьего приключения. Пашка был одет совершенно неподобающим образом и без зонта! А ведь всё утро лил дождь, гремел предсказанный Гидрометцентром восточный ветер, так что даже Илья Георгиевич, обычно страдающий от духоты, закрыл на кухне форточку. На телефонные просьбы деда объяснить, что происходит, или хоть вернуться за тёплой курткой Пашка односложно грубил: «Обязательно!» А потом, как видно, телефон сел, и Илья Георгиевич остался в неведении относительно планов внука.
К вечеру он сделал радио потише и некогда чутким, теперь же изрядно подсевшим слухом пытался уловить – не зашумят ли по лестнице скорые, через ступеньку, Пашкины шаги? Когда у Спасёновых стукнула дверь, старик на всякий случай метнулся к глазку и увидел Лёшку.
Асин супруг вёл себя странно. Боднув плечом захлопнувшуюся дверь, дал круг по лестничной площадке. Вернулся к двери, протянул руку к звонку, но звонить не стал. Постоял в задумчивости и, сорвавшись, чечёткой сбежал по лестнице.
Несомненно, что-то стряслось у Спасёновых! Илья Георгиевич заволновался и, почувствовав вдохновение, устремился к соседям – делиться жизненным опытом. Дверь открыла Софья и, кажется, была рада старику, если можно назвать радостью облегчение, мелькнувшее на её бледном, усталом лице. Она собиралась куда-то – уже были морковно-алым накрашены губы и обведён чёрным один глаз.
– Что, заступаться пришли? – спросила она с укором. – Наябедничал?
Илья Георгиевич затоптался, соображая, как возразить.
– И что вы предлагаете, любезничать с ним? Человек сжёг приют! – продолжала Софья, занявшись у зеркала вторым глазом. – Из ревности, из гадкой злобы. Я тоже не одобряла эту их собачью историю, но нельзя же вот так. А если мы с Серафимой ему разонравимся – так он и нас спалит?
Илья Георгиевич заморгал.
– Что ты говоришь, Сонечка? Пашин приют сгорел?
– А вы не знали? – Софья пристально поглядела в глаза Ильи Георгиевича, укрупнённые толстыми стёклами. – Ну простите, простите меня, что расстроила! Они, наверно, решили вас не волновать. – И погладила старика по плечу. – Не беспокойтесь, все живы-здоровы. Ася мне звонила. Они там порядок наводят. Там только домики собачьи сгорели, больше ничего.
На кухне Софья накапала Илье Георгиевичу корвалолу.
– Саня ругается, что я бромовый наркоман! – жаловался он. – Ну а как без капель, когда такой внук! Но сейчас уже лучше… – сказал он, прислушивась к сердцу. – Вот прямо сразу легче!
– Илья Георгиевич, можно я отойду на час? Приглядите за Серафимой? Ася должна была остаться… – холодно, как всегда в минуту неловкости, проговорила Софья.
– Ну конечно! – растерявшись, согласился старик. – Мы только ко мне пойдём, можно? А то у меня там по радио… – Он смутился и оборвал.
– Спасибо! – кивнула Софья. – Тогда я какао ей быстро сварю – и бегу! А мне тут сон про вас приснился, чудной. Рассказать? – наливая молоко в турку, усмехнулась она.
Илья Георгиевич опасался снов, но теперь, успокоенный корвалолом, всё же решился выслушать.
– Как будто вы себе устроили гнездо на липе – вон, прямо за нашим кухонным окном! – И кивнула за штору. – Мы утром с Серафимой собрались яичницу жарить, сковородку уже поставили, масло положили. А вы нам с липы подсказываете, что, мол, надо огонь убавить, а то яичница пойдёт пузырями! Представляете? Вон с той ветки! – Софья кивнула на окно.
– Ругайте меня, ругайте… – жалко проговорил Илья Георгиевич. – Паша меня ругает, и ты, Сонечка…
– А насчёт Аси, – не слушая жалобы старика, продолжала Софья. – Так у неё, похоже, наконец настал подростковый возраст! Я бы очень не хотела её разрыва с Лёшкой. Пойдёт по моим стопам, станет стервой независимой. Не хотела бы, честно! Что же всем нам так не прёт!.. – И умолкла, сосредоточенно глядя на взбухающее какао. Сняла, перелила в кружку, подумала и, взяв маленькую кофейную чашку, налила остаток Илье Георгиевичу. – Угощайтесь! Молоком холодным разбавить вам?
Старик погрузился во вкус какао-бобов, как в молодость, и благодарно взглянул на Соню. Она усмехнулась и вдруг, порывом, призналась:
– Илья Георгиевич, а у меня ведь очень большие проблемы! Действительно большие. А я, как дура, думаю не о том, как отмахаться, а о том, что хочу любви. Хочу ожить, понимаете? Пусть в тюрьме, пусть хоть на плахе – но чтобы со мной снова был трепет жизни! Я устала тянуть всё это. Зарабатывать, кормить, тащить. Знаете, смешная история… – Она села к столу и, забывшись, разворошила пятерней с такой тщательностью устроенную прическу. – Мне показалось, что я влюбилась в мальчика, так, слегка… Он глупый, моложе меня, я поэтому его собой никак не нагружала, радовалась просто какому-то оживлению чувств. А потом – взяла и предала себя, предала свою дочь, потому что этот дурак… В общем, чтобы его спасти. А он, со страху, что ли, полюбил нашу Асю. Да… Знаете, я всё время мёрзну, руки мёрзнут, ноги, вот – хожу в шерстяных носках! – сказала Софья и вынула из тапки ступню в сером узорном носке.
Илья Георгиевич, хмельной от корвалола, с упоением выслушал исповедь. В кои-то веки с ним говорили как с человеком, достойным тайн, а вовсе не старой калошей! Если бы он был молод, он дал бы Софье какой-нибудь счастливый совет. Но кто станет слушать забавного старика! С такой безнадёжной лысиной и животиком любые идеи звучат старомодно. Эх, душа-то у него молодая – вот в чём горе! А запихнули в старый мешок. Почему бы не быть нам, как эльфам, вечно юными?
– Сонечка! – проникновенно заговорил он. – Ты такая молоденькая, обаятельная! Тебе просто стыдно, непростительно разочаровываться! Верь – ещё будут в жизни чудеса! Я вот старый, а всё равно жду. Иногда проснусь и думаю – а вдруг Ниночка явится и, как Беатриче, меня уведёт, безо всякой смерти? – И смущённо пожал лежащую на столе худую, в синих жилках, Софьину руку.
– Илья Георгиевич, тошно мне! – сказала Софья. – Мы сейчас встречаемся с бывшим мужем. Он подъедет. На девяносто девять процентов – будет какая-то подлость. У меня сейчас трудный момент, он воспользуется. И при этом наивно надеюсь: а вдруг, наоборот, предложит помощь? Было же в нём что-то хорошее, когда мы женились? Представляете, какая дура? – покачала она головой. – В общем, зайдём куда-нибудь кофе выпьем…
– Сонечка, вы лучше выпейте шампанского! Ах, я бы так на вашем месте выпил шампанского! – не вполне уяснив смысл Сониного свидания, посоветовал Илья Георгиевич и, молодой чужой молодостью, задумался. Жалко, с Ниночкой они пили шампанское редко, а всё больше слушали вечерами пластинки с классической музыкой. От этого прожитая жизнь, если глянуть через плечо, казалась грустной и серебристой.
36
Ася с Марфушей приехали домой на такси. На Пятницкой память качнулась и выплеснула на поверхность тупые ревнивые слова, которыми Лёшка сопроводил поджог. Сделалось вдруг страшно, что он может оказаться дома, – но только на секунду. Выбравшись из машины, Ася прошла через двор очарованным шагом – как героиня эпоса, чью деревню сжёг враг. Не было, правда, в руке меча – только Марфушин поводок. Но погодите, дайте срок, – и меч добудем! Марфуша, спешившая рядом с хозяйкой, почувствовала, как разбегаются вокруг Аси волны гнева, и поджала уши.
В подъезде Асин воинственный шаг был перебит окликом консьержки:
– Настя, обратите внимание – у нас тут выставка-продажа! Семён Аркадьевич привёз картины своего друга, недорого. Есть миленькие!
Ася, подтянув Марфушу к ноге, оглядела стены. И правда – всё было завешано дурно намалёванными рощами и букетами, в которых розы невозможно отличить от пионов. Среди цветения выделялось одно никуда ни годное море и два городских пейзажа, оба с Останкинской башней. Непритязательность полотен и наивная практичность, с какой был придуман вернисаж, смутили Асю. Она почувствовала, как затихает в груди мотор войны.
– А собачка – ваша? – спросила консьержка. – Подождите! У меня для неё тут есть! – И вынесла пакетик с куриными косточками.
– Спасибо, – сказала Ася, машинально взяв пакетик.
Общительная женщина улыбалась ей и Марфуше. Улыбался воздух подъезда – ароматом заваренного консьержкой растворимого кофе. Любительские картины улыбались завитками краски. Обывательский мир старого дома принял Асю в объятие, и она растеряла воинский дух. Скорее домой! Там она согреется, выполощет из пушистых волос дым и горе. Положит в розетку родительского варенья, вскипятит чаю и устроится в обнимку с племянницей на диване читать книжку. В уютном гнезде почитать ребёнку сказку – это такое же немудрёное средство от грусти, как мёд от простуды. Возможно, оно и не вылечит душу, но поможет продержаться до лучших дней.
Когда Ася с Марфушей поднялись на площадку, Илья Георгиевич и Серафима уже успели не единожды разложить пасьянс. Утомившись, оба теперь смотрели мультфильмы, при этом старик оставил дверь в прихожую открытой и чутко прислушивался, в надежде уловить на лестнице Софьины шаги. Что греха таить, хотелось уже сдать вахту, чтобы спокойно распорядиться стариковским вечером. Может, удалось бы заняться своим научно-литературным трудом. А потому, стоило Асе звякнуть ключами, Илья Георгиевич был тут как тут.
– Ох, Настенька! А собачка – Пашина? Тоже из погорельцев? – спросил он, высунувшись из двери и осторожно приглядываясь к Марфуше. – Ты скажи, как хоть он там?
– Он взрослеет, Илья Георгиевич, – проговорила Ася. – Учится смотреть в лицо дикой человеческой злобе.
Илья Георгиевич покачал головой – скорее неодобрительно, чем сочувственно.
– Лучше бы к экзаменам готовился! – заметил он и, поправив очки, вгляделся в Асино новое, хмурое и усталое лицо. – Настенька, а ведь ты поразительно похожа на Сонечку! Я-то думал, ты на Саню похожа… А нет!
Ася дёрнула плечом и отперла дверь.
– А Сонечка-то ушла! – спохватился старик. – Сказала, что ненадолго. Тут у меня Серафима…
Постелив дома в прихожей плед для Марфуши – лежи пока здесь! – Ася пошла к Илье Георгиевичу забрать племянницу.
В гостиной у Трифоновых торшер оранжево освещал кресло и столик с телепрограммой, шумел Серафимин мультик, долетал из кухни добрый запах еды. И всё равно, войдя, Ася почуяла дух сиротства. Сколько она помнила себя, ей всегда хотелось наколдовать Трифоновым в комнату огромную наряженную ёлку с подарками – чтобы развеять печаль жилища. Сегодня роль ёлки исполняла Серафима с хомяком, сидевшая на стуле по-турецки, вбуравившись взглядом в мультфильм.
– Настюша, пойдём-ка поговорим! – предложил Илья Георгиевич загадочным шёпотом и увёл Асю в Пашину комнату.
Здесь ей показалось совсем уж холодно – так что больно коже. Бесприютные учебники на столе и подоконнике. Диванчик с наброшенным поверх неубранной постели покрывалом, и на нём – футбольный мяч. Ася присела на край и вопросительно поглядела на старика.
– Я всё знаю про Лёшу! – скорбно начал Илья Георгиевич. – Мне Сонечка рассказала. Ты подумай, такие страсти ведь только от большой любви! Так боится тебя потерять, что на всё готов!
Ася опустила взгляд на истёртый паркет у дивана.
– Знаете, в чём дело… Я не кроткая и не милая, как вы тут все думали. Я другая. И у этой другой ничего нет и никого нет. Нет даже просто почвы под ногами. Какая уж ей большая любовь! – сказала она и едва ли не с вызовом взглянула на Илью Георгиевича.
– Ну как же ничего нет, Настенька! Есть семья. Есть любимая работа! – участливо предположил старик.
– Это у той тупицы была любимая работа. А я не хочу больше учить их. За их желанием рисовать ничего нет – ни одной спасённой жизни. Одни сюси-пуси, чтоб только на стенку повесить или выложить в соцсеть.
– Настенька, нельзя слишком строго… – начал было Илья Георгиевич, но Ася гневно перебила:
– И я не хочу семьи с Лёшкой! Потому что за его семьёй тоже ничего нет. Одно скряжничество! Мой дом, моя жена, моё добро! А я не хочу ничего своего! Хочу сплестись одним клубком со всеми, кого не пускают в дом, и греть их, сколько хватит моего тепла! – проговорила она внезапно охрипшим голосом.
– То-то и беда, что нисколько! Нисколько не хватит! – взволнованно возразил Илья Георгиевич. – Через ненависть никому не будет тепла!
– При чём тут ненависть? – возмутилась Ася. – Какая ещё ненависть! Наоборот!.. – И, внезапно сообразив, кивнула. – Ну конечно, я ненавижу. Да. Я ненавижу… – Она отвела взгляд и растерянно перекатила ладонью притихший на диване мяч.
– Вот послушай-ка целебную вещь! – сказал Илья Георгиевич и, сбегав в комнату за скрипкой, прикрыл поплотнее дверь, чтобы не мешал Серафимин мультфильм. Вздохнул и приладил инструмент под подбородок.
Подчинившись, Ася легла бочком на Пашкин диван и заслушалась тонким, как истёртая золотая нить, звуком. Она знала эту музыку – это была «Сицилиана» Баха. Ну вот, думала она, Бог решил спасти её от ненависти и послал докучливого старика со скрипкой.
Краем сердца Ася помнила о сидевшей в незнакомой прихожей Марфуше, но не шевелилась, боясь прервать процесс исцеления. Несмотря на слабость пальцев и тонкость мелодии, музыка не была жалобной. Она казалась Асе жнивьём, спелыми хлебами, зрелыми лугами. Да, она была похожа на сноп золотых колосьев – большими трудами собранный урожай любви.
Пролетели пять минут золотого звука.
– Саня говорит, что справедливость – это душевное буржуйство. Слишком это дерзко – на земле её требовать. Надо просто простить… – сказала Ася, когда Илья Георгиевич опустил смычок.
Старик присел на стул у постели.
– А с этим и не поспоришь, Настенька. Всё так. Смирение да прощение – простой хлеб, но им будешь сыт, а справедливости искать – вечно ходить голодным.
Ася кивнула. Явление Ильи Георгиевича с микстурой скрипичной музыки было очень спасёновским – очень папиным, когда он дудочкой изгонял мамину зубную боль, очень Саниным, когда мучительно бросавший курить брат стал разводить на блюдце игрушечные костры из облетевших на подоконник сухих цветков герани и найденных за плинтусом хвоинок от новогодней ёлки. Поэтичные нелепости были частью милого мира, который рушился вокруг Аси.
– Хорошо. Я поговорю с Лёшкой. В конце концов, Бог ведь сберёг собак. Мы никак не поймём, что там произошло, почему калитка оказалась открыта… Может, он сам и открыл? – сказала она с надеждой и, поднявшись, вышла в гостиную. – Серафима, пошли! Там у нас собака дома! Марфуша у нас! Переживает, волнуется. Пошли жалеть её! Птенца только крепче держи.
– Собака у нас? – поразилась Серафима, мигом соскочив со стула. И тут же в прихожей запел старенький «соловьиный» звонок.
– Это Паша! – всполошился Илья Георгиевич и кинулся открывать.
И правда, в дверь ввалился внук и, не обратив ни малейшего внимания на присутствующих, прямо в куртке и кроссовках зашёл на кухню.
– Дайте что-нибудь! – прохрипел он, шаря на полочке с дедовыми лекарствами. Выковырял аспирин, разгрыз и, страшно морщась, запил прямо из кувшина.
– Паша, что с тобой! Что болит? – бросился к внуку Илья Георгиевич.
– Дед, свитер мой где, который ты стирал? И куртку дай другую! Я задубел уже в мокрой! – переводя дыхание, сказал Пашка.
– Паша, это что значит?! – сипло крикнул Илья Георгиевич. – Какой ещё свитер! Я никуда тебя не пущу!
Ася задержалась в прихожей у Трифоновых и, не обращая внимания на Серафиму, торопившуюся к Марфуше и дёргавшую её за руку, наблюдала через открытую дверь комнаты за Пашкой.
Обшарив шкаф, он набил барахла в спортивную сумку, выудил из-под стола телефонную зарядку, снова сбегал на кухню и, кинув к вещам аспирин и пакет сушек, стал переодеваться. Куртка, которую он вытащил из шкафа, была тесновата в плечах – он носил её два года назад.
– Ладно, дед, покеда. Всё нормально, я на связи! – И, не дав Илье Георгиевичу шансов на возражения, вышел за дверь.
– Подожди! – велела Ася племяннице и, выдернув руку из ладошки Серафимы, сбежала по лестнице вслед за Пашкой.
Она настигла его во дворе. Он остановился и прямо посмотрел Асе в глаза:
– Василиса Мышу нашла в загоне!
– Нашла? – переспросила Ася, и в её лице смешались секундная радость и ужас.
– Поворошила там носом и нашла Мышь. Завыла – мы прибежали. У неё, может, ноги отказали, а потом её домиком завалило. Но не сгорела, шкура целая. Просто задохнулась в дыму.
Ася широко распахнула глаза, и сразу по лицу покатились крупные горячие капли.
– Паш, а ты? Ты не заболел? – как во сне сказала она и потянулась ладонью ко лбу подростка.
Пашка мотнул головой:
– Нормально я. Деду только не говори. Следи там за ним! – и пошёл прочь из двора.
Ася не стала мыть напуганную Марфушу в ванной. Протёрла шкуру и лапы влажными салфетками и разрешила хихикающей от восторга племяннице угостить гостью курочкой.
Марфуша поела и, довольная, улеглась в прихожей – мордой на ботинки хозяйки. Тем временем разыскали подходящие игрушки – скрасить новый Марфушин быт – и подумали, где устроить уголок с водой и едой. Асе показалось даже, что теперь, когда в доме есть собака, у всех у них начнётся настоящая, хорошая жизнь. Известие о Мыши она пока что отодвинула прочь из сознания, как если бы и не рассказывал ей ничего Пашка, и вообще не приезжал – так, приснилось.
А затем повернулся ключ, и вошла Софья.
Скандал, случившийся сразу, как только старшая сестра обнаружила в квартире собаку, Марфуша пережидала, забившись в ванную.
– Сонечка! Всё у нас будет хорошо! Всё будет хорошо! – кричала Ася, стараясь не дать сестре говорить. – Ты посмотри, какая она беленькая, смотри, тихая какая, деликатная собака! Там всё сгорело! Она теперь с нами, я это твёрдо решила, всё!
– Она с нами! С нами! – во всё горло кричала Серафима, охраняя Марфушу у двери в ванную.
– Да вы что! А я! А со мной что будет? Забыли, что было, когда мы того сеттера взять хотели? Сейчас же убери её! И пропылесось! Господи, что же это творится!
– Сонечка, там их некуда девать! Ну совсем некуда! И страшно там! И кто караулить их будет? – тараторила Ася, обнимая и целуя сестру. – Мы с Марфушей будем у меня в комнате – ты и не заметишь! Всё обойдётся! Ты меня пожалей, и я тебя буду жалеть!
– Стоп! Хватит! – крикнула Софья и оттолкнула сестру. – Хватит чушь пороть! – И остывшим, твёрдым голосом проговорила: – Хочешь, чтобы я задохнулась от собаки? А мне надо жить! У меня – дочь!
Ася опустила руки и отступила на шаг. Её лицо, секунду назад полное жалости и горя, схватил, как озёрную воду, лёд.
– От хомяка не задыхаешься – и от Марфуши не задохнёшься. Таблетку выпей – и не задохнёшься! – усмехнувшись, сказала она. – Я тоже здесь живу и могу держать собаку. Я здесь прописана!
– Да ты что, с ума, что ли, сошла? – удивлённо, как будто даже с тревогой, сказала Софья. – Ненормальная! Вон отсюда с животным!
Ася вошла в ванную и погладила дрожащую спину Марфуши, успокоительно почесала за ушами и пристегнула поводок. В прихожей обулась, через локоть перекинула пальто и, подтолкнув Марфушу вперёд себя, вышла. Дверь оставила настежь. Она крепко, с размахом, захлопнулась от сквозняка, когда Ася выходила из подъезда.
А через минуту из окна Асиной комнаты высунулась Софья:
– Ася! Собаку отведи и вернись! Слышишь меня!
– А-ся! Ду-ро-чка-ты! Вер-нись! – вопила, влезши на столик у окна, Серафима с Птенцом на плече.
Эти родственные вопли Ася хотя и слышала, но не вникала в смысл – как будто звали кого-то постороннего. Очнулась, только когда её имя произнёс совсем другой голос – тёплый, похожий на свежий мёд, на крепкий чай из луговых трав, такой, что вылечивает с одного глотка. С ней говорил Болек.
Ася сама вызвала номер кузена – почти автоматически, смутно подумав, что и этот маленький шанс приютить Марфушу следует испытать.
– Ну конечно! Звони в домофон – я дома! – услышала она в ответ на просьбу о встрече. – Или, может, спуститься к тебе?
37
Время после Асиного дня рождения Болек прожил в чередовании тревоги и куража. Он будто шёл по минному полю, а вокруг кусками взлетала на воздух созданная им страна. То тут, то там рушились здания, которыми так гордился.
В день, когда Курт – крайне некстати! – напросился на встречу, Болек пережил очередной взрыв, сродни тому, что случился на семинаре, где мужчина с дёргающейся бровью обвинил его в своей семейной драме.
На этот раз бомба пришла по почте. Болек любил время от времени проверить «обратную связь» – письма с разноязыкой благодарностью от бесчисленных заочных учеников. Проглядев в кафе за чашкой чая список корреспонденции, он выбрал письмо на русском. В теме стояло: «Моя история».
«У меня была вера, – писала женщина. – Я знала, что Вселенная – это нечто большее, чем цепь причинно-следственных связей, а моя личность – нечто большее, чем набор физических данных, условных рефлексов и привычек. Теперь я знаю, что моё мировоззрение всего лишь кусок пластилина, из которого я могу вылепить ангелочка, а могу – монстра.
Конечно, вы ни в чём меня не разубеждали. Просто учили грамотно обходиться со своими ресурсами. Я была увлечена, много работала и научилась неплохо владеть собой, добиваться целей, избавляться от негатива. А когда зуд самосовершенствования прошёл, я поняла, что потеряла веру. Всё, что я приписывала Божественному промыслу, оказалось плодом моего созидательного либо разрушительного образа мыслей и действий. Всё, в чём уповала на Чудо, стало достижимо моими собственными усилиями.
И я хочу вам сказать: как ужасно то, что случилось со мной! Я – чудесная старинная пластинка, с которой кто-то стёр всю музыку. Теперь это просто чёрный диск, для которого можно придумать любое практическое употребление. Хоть торт на него клади, хоть вращай на пальце. Но музыки нет.
Вы справедливо скажете, что грош цена такой вере, которую можно так легко выбить из рук. Да, вы правы. Тогда в чём моя претензия? Я пишу вам всё это единственно для того, чтобы попросить: предупреждайте людей, что в ходе движения к амбициозным целям они могут утратить тот неуловимый смысл бытия, который у них был».
«А мосты-то и правда горят!» – подумал Болек и в тот же миг понял, что больше не хочет подбадривать себя.
Не дожидаясь счёта, он оставил под чашкой купюру и пошёл домой. Его лицо было собранно и твёрдо. На автомате улыбнулся консьержке, в лифте перемигнулся с десятилетней соседкой, возвращавшейся с пуделем после прогулки. Отпер дверь, вошёл и привалился к стене виском. Больше не нужно было держать мимику. Он с удовольствием облил бы слезами прекрасную жизнь, оказавшуюся подделкой, но не было слёз – один вырывающийся из груди сухой кашель. Фонарик юмора, где ты! Как нужен сейчас твой луч – улыбнуться собственной глупости и начать всё сначала. «Интересно, – успокаиваясь, подумал Болек, – когда меня разберут по кирпичам и сложат заново, впаяют ли в новую кладку изумруды? Или, может, в ней сделают нишу для распятия и горшков с цветами?»
Ничего особенного не случилось. Его «система» была одной из многих тысяч существующих даже не философий – методик, в которые можно встраивать жизнь, точно так же, как можно располагать предметы быта внутри дачного дома или квартиры. Каждый выбирает по своему вкусу и достатку. Да, он руководил ещё одной игрой, которая кому-то помогла, а кого-то, напротив, сбила с пути. Нормальное течение жизни!
Осознав это, он словно бы спустился ещё одним уровнем ниже в воронку, которую почуял давно. Внутренний завал, прежде скрытый, начал проступать наружу. Он выразился в неубранной посуде и горе бессистемно накупленных книг. И всё же нельзя падать вечно! Требовался выход на новый старт, разумное и сильное действие, способное потянуть за собой всю историю.
Когда Болеку позвонила Ася, он кинулся было наводить порядок в комнате, как вдруг почувствовал разочарование. Глупо надеяться на обновление за счёт Спасёновых! Ничего не будет нового, и в этом великая скука!
В юности Болек полюбил свою профессию за то, что она предоставляла ему возможность, подобно таможеннику, иметь доступ к «тайне чемодана». Со временем выяснилось, что люди таскают в своих разномастных тарах одни и те же пожитки, редко блеснёт что-нибудь новенькое, – и он утратил былое любопытство к секретам души.
Выходя в прихожую встретить Асю, Болек с грустью подумал, что багаж младшей кузины известен ему до дна. Бегство по липе обнадёжило было, но закончилось всё тем же тоскливым семейным миром. Союз с твердолобым неудачником и навязчивое желание «быть хорошей» – выбор жалкий, но популярный. Так что теперь тебе нужно, Ася? Консультацию по налаживанию семейной жизни от мастера, который с лёгкостью развалил свою?
Но, если взглянуть иначе, – тут он привычным движением мысли перевернул ситуацию солнечной стороной, – разве он не рад визиту? Ася – это меленькие жёлтые нарциссы с весенних парижских рынков. Такими приятно полюбоваться за чашкой кофе, оторвав взгляд от ленты новостей.
Приготовив улыбку, он открыл дверь и в первую секунду слегка потерялся. На пороге стояла хмурая девочка с грязно-белой собакой на поводке. Обе явно не подходили для украшения интерьера. Впечатляли зацепки на Асином ещё недавно миленьком сером пальто и чуть ли не обвиняющее выражение глаз, которые она устремила прямо в глаза хозяину. «Будет интересно!» – понял Болек и, отступив от двери, дал дорогу гостям.
– Вот, – сказала Ася, опуская взгляд на собаку. – Это Марфуша. Ей только переночевать, а то у Соньки аллергия. А утром заберу. Я её выгуляла. Она до утра будет спокойно в прихожей сидеть. – И ещё раз испытующе посмотрела в глаза кузена.
Ася была готова к отказу и решила заранее: если вместо немедленного согласия начнутся расспросы – она уйдёт сразу, не унижая себя и Марфушу выслушиванием оправданий.
По вздрогнувшим ресницам и взгляду, мимолётно скошенному на входную дверь, Болек прочёл её план.
– Ну зачем же в прихожей? – сказал он, решительно беря у Аси из рук катушку поводка. – Пусть проходит – кресло свободно! Только, может, лучше сначала в ванную?
Пока в душистой пене мыли покорную Марфушу, Болек узнал от Аси сюжет прошедшего дня.
– Лёшка? – поднял он брови. – Лёшка поджёг приют? Нет, это исключено! Такого не может быть!
– Я это знаю точно. Я слышала, – бережно вытирая Марфушины уши, чтобы не попала вода, сказала Ася.
– Ты была там в момент поджога?
– Там был фонограф. Курт забыл его там, на ветке, – и всё записалось. Лёшкин голос, проклятия.
– Ты слышала запись сама? – потускневшим голосом, словно Ася принесла очень плохое известие, спросил Болек.
Ася кивнула:
– Мы с Куртом послушали, и он сразу стёр. Он сказал: пусть лучше думают, что это догхантеры. Он ведь прав? Там погибла одна собака. Она умела петь, – прибавила Ася, помолчав. – А Лёшка… Ну, ему теперь придётся жить с этим. Посмотрим, как он справится! – холодно проговорила она.
Болек посмотрел в сторону. Ощущение причастности к чему-то дурному возникло внезапно и легло на душу плотным туманом.
– Да. Мне тоже любопытно – как он будет с этим жить. Я, честно сказать, не предполагал… – проговорил он и, переборов минутный сумрак, взглянул на Асю. – Ты точно знаешь, что запись подлинная?
Ася хотела переспросить, о чём это он, но тут Марфуша, поняв, что её не держат, сиганула прочь из ванной. Фонтан мелких брызг, как заставший врасплох дождь, оборвал разговор.
Спустя пару минут, сидя в гостиной на корточках и вытирая махровым полотенцем дрожащую Марфушу, Ася продолжила рассказ:
– А Марфушу я отбила в переходе, у бомжей. Они решили, что она щенков потеряла, хотели помочь… Вот почему так устроено? Те, у кого и так всё хорошо, живут себе припеваючи. А кто и так уже рухнул – на того ещё и бесы налетают, как тля на ослабленное растение. Ведь, по смыслу, наоборот, там ангелы должны быть, на дне, чтобы помочь! А их нет! Почему так? – требовательно взглянула она на Болека и вдруг сама себя перебила: – Подожди! Соня сказала, ты ищешь место для нашего приюта? Это правда?
– Не то чтобы ищу. Просто задал вопрос человеку, который в этой области располагает некоторыми возможностями. Выйдет ли что-нибудь, не знаю, – уточнил Болек. – Ну что, тебе чай или кофе? Пошли на кухню, выберешь сорт!
Ася выпрямилась с мокрым полотенцем в руке.
– Я ничего не буду. Захочу – водички попью из-под крана! Извини, я миску забыла для Марфуши. Найдёшь куда воды ей налить?
Болек сдержал вздох. Перед ним была воительница одного дня от роду, но уже беспощадная. Желавшая защитить добро и ставшая частью зла. («Вот тебе и волжский городок! – усмехнулся он про себя. – Похоже, яхту, на которой хотел провести отпуск, захватили головорезы!»)
– Ася, ты мне родственница, – сказал он проникновенно. – Поэтому, позволь, я нарушу профессиональную этику и помогу тебе без твоего запроса. Можно? Скажи мне: ты впервые испытываешь горечь в таком масштабе? Или было уже что-то похожее? – И мягко, но властно усадил Асю на диван.
– Я не горечь испытываю. Я ненавижу! – дёрнув плечами, но оставшись сидеть, сказала Ася. – Ненавижу Лёшку! Ненавижу всех живодёров! Но догхантеры просто выродки, их даже жалко. А кого действительно надо ненавидеть – это обывателей. Нормальных, со здоровой головой. Вот этих всех, кто от своего здоровья жуёт чего-нибудь на ходу и проходит мимо голодной, больной собаки или кошечки, у которой всё болит и стонет, всё зудит! Просто проходит мимо, как будто её и нет! А ведь мы в ответе! Нам Бог целую планету доверил – чтобы мы о каждой твари заботились, а они что делают! Вот этих уродов равнодушных я буду крушить. Не дам им жить в тепле! Я придумаю, как их достать, чтоб они на своей шкуре почувствовали!
– Ну хорошо, а если тебя кто-то вздумает доставать за то, что ты, скажем, инвалидам не помогаешь? Детьми-сиротами не занимаешься и прочее?
– Больными Саня занимается, – отвернувшись, сказала Ася.
– Ясно, у вас разделение труда. Ну тогда ладно, круши меня, я согласен! – вздохнул Болек и пересел в кресло напротив Аси. – Нет, серьёзно, я ведь как раз и хочу именно пожить в тепле!
Ася, перебирая Марфушину шерсть, молчала.
– Да! И нет у меня других целей. Пожить в тепле, в детстве моём – недели этак две! – признался Болек. – Думал, устроюсь в бабушкиной комнате у окна, буду смотреть на реку, а вы меня будете звать на завтрак, на чай, ну и погулять. И, кстати, вкусно поесть – моя слабость. Так что давай круши, я стопроцентно твой клиент! – заключил он и сделал серьёзный вид.
– Тебя не буду – ты Марфушу принял на постой, – сказала Ася.
– А помнишь лесной пруд? – понизив голос, спросил Болек. – Там ещё куча стрекоз – просто всё в голубых льдинках! И кувшинки белые! Мы за ними охотились – ты, я и Сонька. Тебе лет пять было или шесть. Ты по-собачьи плавала, фыркала, помнишь? А потом обязательно появлялся Саня и вопил, что мы тебя утопим. А вода там такая густая, медленная. И тёплая. Прогревалась хорошо. Очень тёплая…
На этих словах летние глаза Болека проникли в Асины зимние, и она почувствовала, как лёгким течением её относит прочь, в благоуханную заводь, лесной илистый пруд с коричневатой водой. По сияющей глади скачут солнечные водомерки, а на глубине – каких сокровищ там только нет!
Вода оказалась живой – она пахла елью и земляникой и хотела играть. Ася проплыла от берега до берега, толкаясь в бока воды, получая шлепки по щекам, смеясь и уворачиваясь. Выбралась на сушу, в мягкую траву, и сразу оказалась окружена весёлыми ребятами – колокольчиками и ромашками. Только непонятно, как с ними дружить, какие игры они понимают? А вот и он – бабушкин любимец Болек – торжественно надевает маленькой Асе на голову корону из добытых в пруду лилий. «Ты принцесса!» – говорит он внушительно, и Ася верит – она принцесса!
Ася не смогла бы сказать, сколько длилось видение. Под конец оно стало призрачным, шатнулось, как отражение в окнах поезда, и с лёгким свистом испарилось – но не вполне. Перед ней были те же глаза. Тот же волшебник, что в детстве надел на неё венок, теперь следил за её пробуждением.
– Я была в трансе? – проговорила Ася, трогая свои неожиданно сухие волосы.
– Ты просто отдохнула! – сказал Болек. – Просто вспомнила, что внутри всегда есть свет. Сейчас мы выпьем чаю. А потом ты пойдёшь домой, помиришься с Софьей и ляжешь спать. И проспишь до утра крепко и счастливо, а Марфуша переночует со мной.
Пока Болек готовил чай, Ася подошла к окну и, открыв центральную створку, вдохнула сырой и сладкий воздух улицы. В нём смешались дымки ресторанов, запах оттаявшей земли под деревьями, бензин и свечной аромат вечерних служб. А вот и их дом! Маленький краешек виден, и на втором этаже горит свет.
Насмотревшись, Ася вернулась к столику, где уже был сервирован чай, и почувствовала умиротворение. Ей нравилась комната, и коробка с маленькими пирожными, которую принёс Болек, и ползущий из кухни густой, немного развязный голос джаза. Нравились глаза хозяина, его доверительный тон и симпатия. Оттого, что этот посторонний человек вдруг оказался своим и даже решил остаться в Москве, мир сделался крепче. Под чай с пирожными жизнь стало меньше качать. Асей овладело уютное спокойствие за себя и своих, как будто Болек являлся особой, приближённой к Судьбе, и мог за них заступиться.
После чая Ася погладила мокрую Марфушину голову, поцеловала в лоб и вышла на улицу, размякшая от тепла, почти плачущая. Ей вовсе не хотелось возвращаться в состояние собранной злобы, а хотелось, чтобы было лето, детство, чтобы пахло из кухни медовыми коржиками. Целых два противня румяных месяцев! И чтобы завечерело, но ещё не легла прохлада – значит, чай будем пить в саду.
В тот вечер Ася помирилась с Софьей и заснула крепко, как ей и было велено, даже не успев погасить свет, так что её троюродный брат в пентхаусе с полукруглым окном мог всю ночь наслаждаться иллюзией ночного неодиночества.
38
Проводив Асю, Болек послал своё профессиональное душевное равновесие к чёрту и дал расцвести тревоге сполна. За свою карьеру он успел наводнить мир немалым количеством обретших силу монстров. Ему нравилась мощь, с какой люди, освобождённые от всевозможных внутренних оков, устремлялись к новым вершинам и пропастям. Год назад он бы обрадовался исцелению Жени Никольского, чуть не задушенного собственной совестью. Теперь же ему стало не по себе. Как если бы в горах, сотрясая воздух, начался сход лавины.
Загадочная комбинация с поджогом пока не раскладывалась на составляющие, но стрелка, переведённая на Лёшку, явно указывала на Курта. Болек был почти уверен в этом. Его случайный полуученик вырос над собой и больше не желал в петлю. Он хотел жить и, поняв, что для жизни ему остро необходима Ася, отважился на разбой.
Болек отвёл шторы – огни большого города, те, что обманывали его по всему свету, суля единство, а вместо этого досыта кормя одиночеством, впервые показались ему правдивыми. По крайней мере, одно жёлтое пятнышко – окно Спасёновых – никто не мог отменить. Болек знал, что утром Ася придёт за Марфушей с прежней ненавистью в душе и отчасти в этом будет виноват он – фокусник, привыкший выпускать из бутылок джиннов.
Зачастившее в гости чувство вины после стольких лет разумного взгляда на вещи нравилось Болеку уже тем, что противостояло неприятной оледенелости сердца. Вина обжигала, и это было прекрасно! В кипящей душе таял обмылок недавнего айсберга.
Конечно же, Болек не собирался поднимать мировую революцию, но чувствовал, что имеет право взорвать систему в самом себе и выложить в мир съёмку с места событий. Допустим, написать книгу. Весёлую исповедь, которая поставит точку в его нынешней профессиональной деятельности. Беда, что пока он не знал даже приблизительно, что последует за этой «точкой». Останется ли хоть что-нибудь, когда он сбросит всю шелуху? До недавнего времени он отрицал существование цельной, неделимой истины. Теперь же ему страстно хотелось, чтобы она была.
В рассеянных мыслях Болек принес из кухни еды и чаю. Марфуше достался хлеб с кусочками сыра. От слабосолёной сёмги она отказалась, робко потупив морду, а больше ничего «собачьего» в холодильнике не нашлось.
Возможно, думал он, кормя Марфушу сыром, неделимая истина – это как раз и есть упрямый, не шибко умный пацан со своим собачьим приютом. Вот о чём толковал ему Саня…
Уже из постели он позвонил Марье Всеволодовне и рассказал, что живёт теперь в Москве, а в комнате у него сидит скромная уличная собака.
– Марья, у меня к тебе просьба, – перешёл он к главному. – Помнишь, ты меня учила: если чувствуешь поломку, первым делом проверь любовь и отвагу. У меня всё на нуле! Срочно нужен твой мастер-класс! Хватай Луиша, билеты я закажу. И насчёт визы – свяжусь с девочкой в агентстве, она быстро всё сделает. Давай, тебе понравится! Окна – почти на Кремль!
– Что ты, сынок! Я и не летала с тех пор, как сюда приехала! У нас с Луишем и загранпаспорта нет! – возразила Марья. – Да и что это ты вздумал на себя клеветать? Ты очень отважный, милый! А любовь я на тебя нашлю, не беспокойся. Мне это даже проще на расстоянии!
Засыпая, Болек подумал, что завтра же накупит Марье русских подарков – павловопосадских платков, льняных рушников, вологодских кружев, прихлопнет всё это жостовским подносом и отправит срочной посылкой. Вряд ли подаркам найдётся применение в быту, но сердцу Марьи Всеволодовны будет радостно – прислал «сынок».
Прошедшая ночь была странной. Одной из многих странных ночей, которые выпадали на долю Болека. Ему доводилось спать в лодке, в космическом коконе юрты, на заваленных снегом маленьких аэродромах. На этот раз необычность заключалась в том, что у него нашла ночлег робкая собака Марфуша – существо, языка которого он не знал. Марфуша переживала в чужом доме. Сидела у двери комнаты, устало свесив голову, смыкая веки, но не осмеливаясь лечь. Угощение лишь немного смягчило её тревогу. Когда же чужой человек гостеприимно предложил ей расположиться в кресле, Марфуша поджала уши и сбежала в прихожую, где ещё пахло землёй приюта, соскользнувшей крохотными комочками с ботинок Аси. Уснула не скоро и во сне вздыхала тяжело и горько, мешая Болеку спать. Он слушал собачьи вздохи, как детские всхлипы.
В семь утра пришла Ася. Ответив на звонок домофона, Болек включил кофеварку – ему нужен был аромат «позитива». И действительно, когда Ася вошла, стало ясно – от умиротворения не осталось и следа. Губы его младшей кузины были сжаты, лицо выдавало боль и решимость. С тревогой волчицы она обежала взглядом прихожую – где Марфуша?
– Ушла спать под стол, – сказал Болек и открыл дверь кухни.
Ася скупо погладила расплясавшуюся от радости собаку.
– Позавтракаешь со мной? Расскажу, как переночевали! – предложил Болек, хотя уже видел: ни хлынувший из двери запах славного колумбийского кофе, ни даже фирменная улыбка волшебника не помогли. Единственное, что оставалось, – принять и разделить Асин тон.
– Спасибо, не могу, – сухо сказала Ася. – Мне надо Марфушу к Пашке, а потом у меня утренняя группа. И ещё надо придумать, какую пошлость будем сегодня рисовать, чтобы этим дурам понравилось.
– Понятно. Будете с барышнями рисовать что-нибудь миленькое… – мягко перефразировал Болек. – Видишь ли, Ася, на свете очень мало подвижников! Редко, когда попадётся хотя бы один на группу. А обычным людям порой очень хочется нарисовать что-нибудь, просто для радости, без высшего смысла – это придаёт им сил. Ты придаёшь им сил, понимаешь?
– Не надо меня тут нейропрограммировать! – отрезала Ася.
– Кстати, у меня тоже сегодня семинар. Целый зал честолюбцев – и ни одного подростка, который просто хотел бы стать ветеринаром! – сказал Болек.
– Так не ходи! – бросила Ася. – А насчёт подвижников – я, как дурочка, поверила Соньке, что ты место для приюта ищешь. Но оказывается, ты просто спросил там у кого-то, кто уже и думать забыл – все всегда забывают. Зачем тогда зря болтать? Спасибо, конечно, за Марфушу… – смутившись, заключила она и, взяв собаку на поводок, поскорее вышла за дверь.
Болек вздохнул, поднял полотенце, на котором спала Марфуша, и сунул в стиральную машину. Затем вышел на середину комнаты и, глядя в широкий полукруг окна, несколько раз подпрыгнул, болтая руками, как тряпичная кукла. Укрытые дождливыми облаками крыши прыгали вместе с ним.
Расслабив таким образом мышцы, он констатировал, что критический излишек печали удалось вытрясти. С тем, что осталось, можно жить. Через полчаса, свежий, прозрачно-грустный, в тон дождливому утру, Болек вышел на весеннюю улицу.
Его путь лежал в офис на набережной. Сегодня днём он должен был провести трёхчасовой семинар для практикующих тренеров: новый взгляд на бизнес-коучинг или что-то вроде того. Название придумала Софья. Но прежде чем погружаться в опостылевшие дела, Болек решил позволить себе лёгкую трапезу.
Поселившись на новом месте, он первым делом обследовал окрестные заведения и выбрал наиболее подходящее для одиноких воскресных завтраков и позднего чая. Ему понравилась терраса с парой газовых ламп и тихим джазом, не наносящим существенного вреда мыслительному процессу. К тому же ясным утром над старинными московскими особнячками вставало солнце. Подставив лицо его лучам, можно было вообразить себя где-нибудь в парижском кафе с видом на Сен-Жермен-де-Пре. Тем трогательнее выглядела отделка интерьера – пледы и шторы цвета листвы платанов.
В углу, где им был облюбован столик, стоял «пюпитр» с газетами на английском, французском и русском. Болек брал разные, в зависимости от настроения. И особенно хорошо было завтракать в воскресенье, слушая глубокое и округлое пение русских колоколов, столь не похожее на плоский звон Европы. В этом месте, под согревающей плечи лампой он чувствовал себя спокойно. Здесь была та же путаница времён и стран, которую Болек ощущал в себе самом.
Пока несли завтрак, он, подобно миллионам землян, открыл планшет и, смело наступив на те же грабли, зашёл в «почту». Рабочий ящик был полон, но после исповеди об утрате веры Болека не тянуло в него заглядывать, а в личном висело одинокое письмо от бывшей жены. С шевельнувшимся сердцем он посмотрел на приветливо глядевшее с фотографии профиля женское лицо и открыл.
Бывшая супруга выражала надежду, что Болек не станет спорить: платить за обслуживание недавнего «подарка» – маленькой виллы на океане – придётся ему. Без обслуживания всё придёт в негодность и мальчик не сможет там отдыхать, – разумно замечала она.
Письмо сопровождал вопрос – всё ли с ним в порядке? А также ссылка на некий популярный психологический ресурс, опубликовавший материал, посвящённый ему. Название статьи можно было перевести примерно так: «Неужели выгорание?»
Отмена ряда семинаров в городах Европы, а также планы пожить в русской речной глубинке, среди родных, озвученные на петербургской встрече насквозь простуженным Болеславом, заставили автора статьи предположить, что прославленный коуч не в форме. Мастер, настроивший столько сердец, давший стольким людям импульс к великолепной жизненной игре, судя по всему, ныне и сам переживает кризис, – делал вывод журналист. Вопрос в том, приведёт ли это к уходу из профессии или обернётся реформами внутри школы?
Болек прочёл новости о себе, как газету из будущего. Поглядел на имя автора – оно было незнакомо. Вздохнул и, свернув окошко, возвратился к письму жены.
Он перечитал его, обращая внимания на строй фраз и выбор слов. Несмотря на отсутствие прямого шантажа, прилагаемая статья и тон отдельных реплик намекали, что супруге не составит труда посредством нескольких публичных высказываний убить его репутацию «учителя жизни», а вместе с ней и карьеру.
«Ну и славно! Убейте! А то, похоже, харакири мне не по зубам!» – подумал Болек и, кратко отписав, что брать на себя содержание виллы не планирует, занялся стынущим омлетом. Декорация семьи, на фоне которой он строил карьеру, рухнула, непрочные краски стекли с картонных лиц. Теперь – забыть.
Через час, складывая вымокший зонт, Болек заходил в здание бизнес-центра, где они уже третий год арендовали офис. Здесь же, в конференц-зале, проходили значительные мероприятия, вроде мастер-классов заезжих звёзд, а в помещениях поменьше – рядовые занятия.
Залы являлись его местом силы. Резкий запах фломастеров и офисной мебели, «казённое» освещение, мягкие стулья на металлических рамах – всё это был привычный, давно покорившийся ему мир. Он знал, что скоро увидит множество глаз, восхищённых его мастерством, почти влюблённых. Контакт глаз с аудиторией был главным наслаждением таких вечеров. Мгновенный обмен доверием, который мог сделать постороннего человека другом! Что говорить, это была его «зона комфорта», в которой он мог бы прожить безбедно хоть до старости. И вот ведь – всё же не смог! Не смог почему-то.
Войдя в пустое помещение, он подошёл к доске и, взяв зелёный маркер, нарисовал собаку.
– А! Ты уже здесь. Здравствуй! – окликнула его Софья. Она вошла, держа в руке стаканчик кофе, бледная, с маникюром цвета алого мака. Что-то Марфушино было в её глазах – как будто она потерялась и искала помощи. Свободной рукой откинула волосы с плеча и посмотрела на рисунок. – Это что, Асина псина?
– Да бог с ней, – бросив внимательный взгляд на сестру, перебил Болек. – Рассказывай, что ещё у тебя стряслось! И не возражай – ты уже раскололась.
Вчерашняя встреча Софьи с бывшим мужем оказалась сплошным глумлением. Тот как «честный человек» решил донести до неё свои намерения лично. Ему нужна была дочь, и он не сомневался, что сможет убедить суд в том, что ребёнок рискует жизнью, оставаясь с матерью, сбившей на скорости человека. «Может, давай договоримся мирно? – предложил он. – А то я слышал, всё равно ведь тебе в тюрьму!»
– Ты понимаешь, у него ещё молодые родители, им скучно. Его мама очень хотела внучку, – угнетённо сказала Софья. – Его никогда не устраивали воскресенья. Я-то, правда, надеялась – женится, будут другие дети…
Ничего особенного не было в Софьином случае, подобные проблемы вполне поддавались разруливанию. Но почему-то в тот момент Болек не смог окинуть ситуацию взглядом профи, с безопасного бережка. Он вошёл в эту реку как жертва, и от ледяной воды перехватило дух. Ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться и сказать спокойно:
– Тебе ничего не грозит, обещаю! Просто доверься.
– В последний раз я доверялась в пятнадцать лет. Бабушке! – усмехнулась Софья. – Нет, доверие для меня непозволительная роскошь. Да и что ты можешь сделать? Сам подумай: мать сбила человека на превышенной скорости. Болек, он отсудит её!
– Почему ты выбрала его? – спросил Болек. – Тогда, несколько лет назад?
– Поняла, что пора заводить ребёнка, и поставила цель.
– Ты поставила цель…
– Он подходил по параметрам. И нет – я не считаю это ошибкой! Я поставила цель – и добилась! – отвернувшись, упрямо проговорила Софья.
Болек присел на мягкий офисный стул возле кулера и, налив в стаканчик воды, глотнул.
– Ну да – мы всегда совершаем лучший выбор из возможных. Так сказал классик…
– Ты промок? – помолчав, спросила Софья и провела ладонью по рукаву его пиджака.
– Да, там моросит. Представляешь, мне написала одна женщина… – опёршись локтем о столик с кулером и сунув кулак под щёку, сказал Болек. – Я разрушил её веру. Тем, что объяснил, как всё функционирует, и научил использовать потенциал своего мозга, управлять настроением и прочее… Она утратила веру!
– Ну, это уж её проблемы! Значит, вера такая была.
– Да-да, она так и пишет. Но дело не в этом. Дело в том, что я её надул. «Подсадил» на лженауку, в которой есть всё, кроме главного. В ней нет цельной и вечной истины! А значит, она ложна. Я не могу объяснить – не владею в должной мере философской терминологией, но ведь ты понимаешь?
Софья с недоумением смотрела на воодушевлённого спикера.
– Так ты теперь считаешь, что истина есть?
– Нет, не считаю. И именно поэтому ты не доверяешь мне. Как можно довериться тому, для кого всё условно? Сегодня добро на севере, завтра на юге. Нет ничего абсолютного. Милая беспринципность, невинное манипулирование, безобидное враньё, – разгорячаясь, говорил Болек. – И, Соня, я очень завидую вашему соседу Пашке. Тому, что у него есть собачий приют и его надо отстаивать. У него есть добро и есть зло. У него есть истина. А у меня нет истины. Поэтому я поддерживаю любые чёртовы цели и учу этому других. А ведь лет в семнадцать истина была! Так куда она могла подеваться? Может, просто моя обнаглевшая логика забила шестое чувство? – Он вздохнул и умолк. Что-то важное, тяготившее его, выплеснулось.
Софья, опустившись на стул и подперев ладонью голову, смотрела на своего спятившего кузена.
– Болек, у нас собран зал. Ты ведь не собираешься отменять семинар? Или да? – тихо спросила она.
Он вышел, слегка потирая ладони. С видом таинственным и счастливым, словно должен был сообщить публике превосходную новость, оглядел собравшихся, при этом каждый в зале почувствовал, что лично поймал его взгляд.
– Рад вас видеть! – негромко, всё с той же долей тайны, проговорил Болек и переждал взволнованный шорох зала, выросший за пару секунд в волну рукоплесканий. – Боюсь, я не смогу приступить к делу, пока не поделюсь с вами впечатлением последних дней! – начал он с места в карьер. – В одном из лесопарков столицы есть маленький незарегистрированный приют для собак. Изначально он появился при ветлечебнице. Подросток помогал там своей родственнице, ветеринарному врачу. Он оставлял и вылечивал собак, от которых отказывались хозяева. Некоторых ему приводили с улицы. Так на территории лесопарка у них сложилась община, почти семья. Позавчера приют сожгли догхантеры. Администрация парка требует немедленно ликвидировать то, что от него осталось. Пристроить в добрые руки старых животных, требующих постоянного лечения, тяжело, почти невозможно. У нас пара дней. Я никогда не занимался животными и понятия не имею, как грамотно поступить в этой ситуации. Вас двести человек в зале. Велика вероятность, что кто-то из вас или ваших близких знает, что нужно сделать. Окажите себе эту честь – проявите участие!
– Болеслав, у нас собрание волонтёров? – выкрикнули из зала.
– Позвольте я уточню ваш вопрос. Вы хотите узнать, какая связь между подготовкой тренеров и моей историей? – перефразировал Болек, глядя на возмутительницу спокойствия в левом секторе. Впервые с начала карьеры ему захотелось грома и молний.
Блестящая речь, призванная любой ценой донести до собравшихся идею сомнения, уже вскипела в уме, но за секунду до первого слова – мгновенным цветным прозрением – Болек увидел Асину студию. В безмолвном гневе младшая кузина расшвыривала рисунки с розами и котятами, кисти, вазы, мольберты. Вспышка была столь яркой, что Болек почувствовал резь в глазах. Сухой лёд сковал губы. На преодоление видения у него ушло две-три секунды.
– Связь обнаружится, когда после семинара ко мне подойдёт один из вас и даст профессиональную консультацию по ситуации с приютом! – сказал он уверенно, словно знал наверняка: такой человек в зале есть. – А теперь поаплодируем коллеге за вопрос – и в работу!
Он отыграл вечер как полагается. Был остроумен и пламенно убеждён в эффективности методов, предлагаемых публике. Россыпь приёмов, опробованных с добровольцами тут же, на сцене, прошла на ура. И долго ещё обсуждали в кулуарах, что бы значила эта притча о подростке и собаках и был ли подставным человек в зале, посмевший упрекнуть Болеслава в отклонении от темы?
После мероприятия – прогулочным шагом по набережной, затем по людной Пятницкой – Болек и Софья дошли до дома и поднялись в квартирку с эксклюзивным окном – спасать героя от разыгравшейся головной боли.
– Раз уж тебе надоел коучинг – ты бы мог почитать им Шекспира! – сказала Софья, выуживая из косметички таблетку. – Думаю, две трети зала просто приходят подпитаться твоей энергией. Они смотрят на тебя как на солиста венской оперы.
– Это ты смотришь на меня как на солиста венской оперы, потому что меня любишь. Уверяю тебя, они более практичны, – морщась, возразил Болек. Он сидел в углу диванчика, подперев висок бутылкой с горячей водой. Спазм не проходил, напротив, становился чётче, в нём как будто начали вырисовываться прутья клетки, разлиновавшей сознание.
– Почему ты передумал? – сев напротив, спросила Софья. – Я боялась, ты начнёшь толкать им свои новые идеи, про истину. Неужели та тётка тебя сбила?
– Почему передумал… – Болек поставил бутылку на столик и потёр лицо ладонями. – А вот потому. О каком доверии может идти речь, если я начну срывать занятия? Знаешь, Соня, конечно я сам во всём виноват – во всей нашей жизни. Тогда, у бабушки, я был маленький. Я просто не был готов к трудностям и потребовал, чтобы мне дали вытащить другой билет. А какой другой? Откуда другой, если он всего один? Просто фальшивку сунули, и покатился в чёртову сторону. А сегодня ночью мне стало грустно, и я позвонил Марье Всеволодовне. Ну, помнишь, я тебе о ней говорил? Так вот, она во спасение обещала наслать на меня твою любовь. Как ты на это смотришь?
Софья знала, что проклятый манипулятор читает её мимику и интонации, всё её раненое существо, как внятный печатный текст, и постаралась совладать с чувством.
– Кто-то там нашлёт на тебя мою любовь! Прекрасно! – сердито проговорила она. – А я? А обо мне кто-нибудь хоть раз подумал? Или опять всё в одни ворота?
Глава восьмая
39
Вчера сгорел приют и Ася узнала «правду о Лёшке». Вчера же к вечеру обнаружился страшный плод его деяний – погибшая собака. Худая Мышина мордочка, хилые лапы и редкая шерсть, сгорбленный излом позвоночника – знакомое, жалкое и теперь уже мёртвое существо нашлось под обгорелыми досками зимника.
Это было накануне, а утром, как раз ко времени, когда Ася, забрав у Болека Марфушу и доставив в приют, вернулась домой, подготовиться к занятию с воскресной группой, Лёшка пришёл мириться. Боясь опять нарваться на отповедь свояченицы, он открыл дверь своим ключом. Снял куртку, постоял, ожидая – не выйдет ли кто? Тяжко вздохнул и, подхватив под мышку припасённый подарок, направился в комнату.
Когда Лёшка вошёл, Ася сидела за своим маленьким столиком в спальне и простым карандашом рисовала качели. Как и в приюте, они были устроены между двумя деревьями, только крепились невозможно высоко, у самых макушек. Рисунок запечатлел высшую точку разгона – миг, когда «пассажирка», девочка лет семи, сорвавшись с доски и раскинув крыльями руки, взлетала над кронами леса. Вопрос о её приземлении оставался открытым.
– О! Рисуешь? – заробев на пороге комнаты, проговорил Лёшка. – А я нам с тобой подарок принёс! – И вынул из пакета полуметровую раму.
Это была одна из тех картинок, что развесил в подъезде их предприимчивый сосед. Тоскуя о несбывшихся планах, Лёшка выбрал море – васильково-синие волны с отрадным мазком белил по линии горизонта – парус!
– Ну, ты, конечно, лучше рисуешь! – на всякий случай прибавил он. – Но нельзя ведь только своё вешать! А хочешь, на дачу вашу отвезём, родителям подарим?
Ася коснулась взглядом фигуры мужа и продолжила штриховать.
– Ну ты чего? Совсем, что ли, обиделась? – Лёшка бросил картину на кровать и сел перед женой на корточки. – Обиделась, что я ночевать не пришёл? Ну а я-то ведь тоже обиделся! А вчера меня Сонька вообще огрела! Что, типа, я чего-то там у вас поджёг. Я не знал прямо, куда бежать. Побежал к Сане, а у него Маруся болеет. Он сказал, чтобы я не слушал глупостей. Чушь всё это, ничего я не поджигал! Ты брату хоть своему веришь? Мелкий Трифонов у вас просто рехнулся со своими хвостатыми. Ну! Ася! – И он просительно потянул Асю за локоть.
Ася обернулась с влюблённым и грустным, тихим лицом. Лёшка подумал было, что примирение удалось, как вдруг заметил тонкие проводки: под Асиными пушистыми волосами были наушники. Она «смотрела» на музыку.
Тогда, проявив изрядное терпение и жажду мира, Лёшка встал, вынул из ушей жены «затычки» и произнёс свою речь ещё раз. Он сказал, что у них будут дети – как минимум двое, будет своя квартира и работа хорошая. Вот он закончит институт, и всё у них со временем будет, что она только ни пожелает. Хоть Париж! И бросаться этим всем из-за временных недоразумений не просто глупо, а непозволительно. Он, Лёшка, этого не допустит.
Ася смотрела на него глухо – «через стекло». Если бы Лёшка был чутким, он понял бы, что Асино существо отторгает предложенную им жизнь, рвётся из неё прочь, как из выношенной скорлупы, чтобы родиться в ином мире. Но для него выражение Асиного лица означало только, что он опять ляпнул не то, не с тем самоцветом посулил колечко.
Он вышел из комнаты растерянный и красный, рыская взглядом – в какую стену долбануть кулаком. Наткнулся на дверь в гостиную и, нажав ручку, заглянул. Серафима возилась с цветной бумагой и клеем на застеленном газетой журнальном столике.
– Живодёр ты! – крикнула она слышанное накануне слово.
Лёшка ошеломлённо посмотрел на Асину племянницу и впервые за всё время осознал: случившееся – это не «бред» и не «недоразумение», а чьё-то осознанное, со смаком задуманное и осуществлённое зло.
Когда Лёшка ушёл, Ася ещё раз поглядела на свой рисунок и в минуту закончила сюжет. Девочка, взлетев с качелей, распахнутыми руками обняла верхушки деревьев, а далеко внизу, у подножия великих сосен, рассыпался мизерный город с небоскрёбами-спичками, задымлённый облаком пыли.
Пока Ася собиралась в студию, за окнами пошёл сильный майский дождь. Замоскворечье поднахмурилось, затушевало золотые маковки и с головы до пят пропиталось духом грибного леса. Конечно, свежему воздуху способствовало и воскресенье без машин. Ася вышла на Пятницкую и направилась к студии.
Она понимала, что немного, а может быть, уже и порядочно «сошла с ума». Догадывалась об этом потому, что ни дождь, ни особенный запах городской весны в первый раз в жизни не тронули её сердце. Она шла, принюхиваясь к затаившемуся злу, распознавая его в чертах прохожих. Встречные девчонки и дамочки, серьёзные господа и расхлябанные парни, все казались Асе потенциальными врагами приюта, теми, кто изъявит «молчаливое согласие». Единственным, кто приглянулся ей, был бомжеватого вида старик с зажатым в кулаке мятым пакетом. Да и то лишь потому, что обездоленностью своей напоминал собак.
Ася – милая девушка в коротком пальто, с шарфиком цвета мимозы – была в том опасном состоянии духа, когда до тюрьмы и сумы один шаг. Чувствуя, что прямая дорога к студии не предоставит ей повод для схватки с врагами, Ася в неосознанном поиске боя решила сделать крюк. Дождливым переулком она направилась туда, где недавно снесли деревянный дом, и, проходя мимо огороженной забором стройки, нашла то, что искало сердце.
Из-за дырявого щитового ограждения до её слуха долетел зов о помощи – он был высказан по-собачьи, но Ася прекрасно поняла смысл. Через несколько метров, за углом переулка, она увидела рыжую, с клочковатой шерстью собаку, бросавшуюся под ноги прохожим. Сделав короткий прыжок, она отскакивала к забору и призывно скулила. Пережидала в надежде, встряхивала головой и снова кидалась к людям. «Господи, бешеная!» – воскликнула пожилая женщина и, заслонив собою внука, бочком перешла на другую сторону мокрого переулка. Внук энергично замахал на собаку лопаткой. Мужчина предпенсионного возраста, шедший следом за бабушкой с внуком, остановился и, подняв обломок кирпича, сделал предупредительный выстрел. Собака отскочила и на некоторое время прекратила попытки установить контакт с человеческим племенем. Этого, с кирпичом, Ася догнала и сильно толкнула в спину. Просто и нагло толкнула. Он изумлённо обернулся.
– Она ведь на помощь зовёт человека! Неужели такой тупой? – сказала Ася ему в лицо, развернулась и, подойдя к рыжей собаке, проговорила с лаской и тревогой: – Ну пойдём, рыженькая! Веди меня! Что там случилось?
Через минуту они вдвоём – рыженькая и Ася – уже приникли к отверстию в фундаменте. Тысячу раз случавшаяся история повторилась снова – внизу пищал щенок. А ещё через пять минут чернявый рабочий, найденный Асей, слазил в подвал через люк и принёс кутёнка. Сел на корточки и, улыбаясь с детским счастьем, опустил на землю возле матери. Ася хотела прощупать комочек на предмет повреждений, но собака схватила своего ребёнка за шкирку и, ринувшись прочь, исчезла в глубине стройки. Ася порылась в кошельке и протянула рабочему денежку, но тот рассмеялся, мотнул головой – обойдусь.
Расцеловать его? Подарить ему флешку? Зонтик? Зеркальце с крышкой из муранского стекла? – думала Ася, быстро припоминая содержимое сумки. Усмехнулась и неожиданно для самой себя – гибко и глубоко поклонилась. Выпрямилась, ясно посмотрела в смущённое лицо рабочего и, развернувшись, выбралась через прореху в заборе на улицу.
Ася опоздала в студию на десять минут, встретила косоватый взгляд девочки-администратора и, войдя в зал, улыбнулась собравшимся за мольбертами ученикам.
– Извините за опоздание! Просто тут такое по дороге случилось! – сказала она и, расставляя чуть вздрагивающими, ещё влажными от дождя руками композицию на столике, поделилась историей.
Рассказывая о происшествии, Ася чувствовала, как её голос взволнованно всплёскивает и срывается. Она знала, что не все одобряют её слова. Но разве это повод молчать? Саня всегда утверждал: что бы ни было, люди – братья. И надо упрямо, упорно обращаться с ними как с братьями, пусть даже тебя высмеивают в ответ.
– А если бы она правда была бешеная? – выслушав Асин рассказ, сказала Алла, самая прилежная из Асиных учениц. У неё был особенно тщательно выписан кувшин и складки. – Я бы кирпичом не стала кидать, потому что я их боюсь, вдруг ещё хуже набросится. Но сразу бы позвонила в соответствующую службу.
– Мне кажется, пока стройка – ей тут лучше. Там такой парень хороший, – он бы ей возле бытовки сделал тёплую конуру, и она жила бы на воле, растила щенят, – терпеливо, всё ещё помня Санины слова о братстве, сказала Ася. – А в муниципальных приютах, там, конечно, волонтёры – святые люди, но их же не хватает на всех животных. Да и мест там нет. И щенков куда?
– Ну, милая моя, это же не люди, потерпят! И так сколько наших бюджетных денег идёт на все эти кошачьи богадельни! Лучше бы увеличили пособия по уходу за ребёнком.
– А куда же их тогда? – спросила Ася – и тут же услышала где-то в области затылка тихий хохоток: «На мыло!»
Ася не знала наверняка, шепнул ли это кто-то из учеников или породил её собственный раздражённый мозг, но на всякий случай взяла из вазы высокую кисть. Держа в руках оружие – шпагу или, может, кинжал, она почувствовала себя твёрже.
– Животные, они же не наши рабы и не обуза нам. Они человеку даны для обучения милосердию, чтобы он о них заботился, как о маленьких неразумных детках! – сказала Ася.
– Да, чтобы заботился! – пискнула из-за мольберта юная Алёна. – Я им на следующее занятие еду принесу, можно? Вы тогда передадите?
– Детки не кусаются, а меня возле школы болонка тяпнула, я в пятом классе был! – внезапно проговорил всегда молчавший парнишка, худенький и робкий, с косоватой зализанной чёлкой, имевший неистребимую привычку рисовать мелко. – Хорошо, вроде хозяйская – не стали уколы делать. Мы доминирующий вид и обязаны себя обезопасить.
– Слава, при чём тут это! Люди тоже кусаются, да ещё как! – воскликнула Ася. – Бывает, куснут водородной бомбой – и города нет! Не об этом ведь речь. Вы представьте: у собаки попал в беду щенок. Она не может объясняться словами, у неё нет ни денег, ни документов, ни прав. Но она сообразила, что надо позвать человека! И вот она кидается ему под ноги и на своём языке молит помочь. Вы представьте только, какая она умница и какая раненая душа, но не отчаивается, зовёт и зовёт этих тупых, бесчувственных наделённых властью тварей!
– Ну уж вы, Настя, извините! У вас мир перевернулся! Назвать человека тупой тварью, а животное – умницей! – твёрдо сказала Алла и выставила в проход между мольбертами крупную ногу в узкой брючине.
Ася удивлённо взглянула на этот нелепый шлагбаум.
– Анастасия Сергеевна, у неё инстинкт – по щенкам плакать! – почуяв поддержку масс, заметил Слава и впервые за все занятия поднял на Асю взгляд. У него оказались совсем бледные голубые глаза. – И у крыс инстинкт, и вообще они умные. У меня у сестры – домашняя крыса, мы её любим. А беспризорных крыс травят, и правильно делают.
– Травят? – спросила Ася. – А может, жгут? – И, мгновенным движением ткнув кисть под подбородок врага, приподняла. Слава выронил карандаш и замер. Глаза замигали, выражая ужас жертвы, к горлу которой приставили нож. – Когда вы умрёте, вы сразу попадёте в концлагерь, – проговорила Ася задумчивым тоном рассказчика. – Вас там сначала заколют препаратами и запрут в тёмный ящик – на карантин. Ну или в душегубку – вшей выпаривать. А зимой замёрзнет водопровод и вам не будут давать воды – чтоб вы грызли сухой корм и сходили с ума от жажды. И погулять из клетки вы уже не выйдете никогда. Устраивает? – И резко, будто гвоздодёром выдернула кисть из-под трясущегося подбородка ученика.
Пространство вокруг Аси встало вверх дном: взревели мольберты и стулья, и десяток разномастных голосов, за вычетом робкой Алёны, наперебой заклеймили безумную. Кто-то проверил, удалась ли на телефоне видеозапись дебоша, – и радостно взмахнул мобильником.
– Психичка! Жди, за тобой приедут! – сверкнул во всеобщем гвалте голос Аллы.
А дальше Ася не слышала. Сорвав с вешалки пальтишко, она вырвалась вон и, сбежав по крутой лестнице, нырнула под утешительный дождь.
На сердце, бьющемся весело и страшно – в два раза чаще шагов, звенела радость! Наконец-то Ася проткнула душный полиэтилен реальности и выскользнула прочь из мира людей. Это не Славу, а воплощённого беса она держала кистью под подбородком!
Какое-то время внутри ещё звучал грустный тихий голос: «Что ты делаешь, Ася? Зачем нарочно изображаешь безумие? Твой кровавый бой не воскресит Мышь и не смоет с Лёшки его преступление. И никто тебя не поддержит – даже Саня!» Но Ася мотнула головой – и голос выскочил вон.
Вскоре справа заклубился седыми кудрями храм Николы в Пыжах – Ася ему улыбнулась. Затем прошла немного и, перебежав дорогу, заглянула через низкую дверцу в пригожий садик Марфо-Мариинской обители. Марфа, Марфа… Марфуша!
Снова перебежала – к розовой церкви, накинула на голову шарф и вошла через тугие двери в согретый, светящийся изнутри полумрак. Приникла лбом к стеклу – под нежным, юным ликом Иверской Божьей Матери – и полетела дальше.
Этот мотыльковый путь, порхающий по церквам, как по цветам, Ася не смогла бы никак объяснить. Она не знала, чего искала. Её резвость была резвостью собаки, которую гонят смертельный холод и голод. И как оголодавший зверь повсюду ищет съестное, так же инстинктивно, подгоняемая страхом гибели, Ася искала духовный хлеб.
Ушёл восторг разбоя. Понемногу она начала сознавать, что изгнана из мира людей. У неё больше не было мужа и работы. Не было даже обожаемого брата Сани – он остался на небесах своей святости, тогда как его сестру смыло с грязной водой весны.
В каком-то дворе Ася села на корточки возле лужи и, подняв тополиную ветку, провела ею по воде. Серый, душистый, пахнущий тополиными почками дождь пускал по луже круги и разгонял Асину душу ручьями по всему Замоскворечью. Она чувствовала, как её существо уносится с дождём в полные водостоки, впитывается в землю дворов, уходит паром в зависшие над Москвой бледные тучи.
«Меня нет… – думала Ася. – Ах, как хорошо, меня нет… Значит, больше нет ненависти». И вдруг счастливым ёканьем сердца почувствовала – она растворяется не одна. Закрыла глаза и сквозь привычный гул мегаполиса различила прямо над головой негромкий, с бубенцами сыплющихся дождинок, голос дерева. Тополь, укрывший двор, старый, неуклюжий и зябкий, уже выпустил почки и потряхивал ветвями, как мокрыми крыльями. Он был помечен краской к уничтожению, потому что его июньский пух не вписывался в людской комфорт.
Ася подошла, несколько раз поцеловала кору и, прижавшись щекой, улыбнулась. Ясное сознание, что она ушла со стороны людей и перешла на сторону этого дерева и прочих существ, не обладающих правом и паспортом, наполнило сердце весельем. Скорее в приют – к Пашке, ко всем собакам!
Перепрыгивая лужи, а в кое-какие и ступая ногой, Ася понеслась ветром к остановке трамвая.
40
Неизвестно, обдумывал Пашка варианты спасительных действий или отдался «реке событий», как это было свойственно ему. Так или иначе, в то утро, проснувшись в головокружении и ознобе, он совершил самое верное из возможного – выиграл время.
То есть сперва прошёл из ветпункта, где ночевал, в шахматный домик и вывел на прогулку стосковавшихся взаперти собак, а затем, пламенея и пошатываясь, явился в администрацию парка и, надеясь повторить подвиг Александра Сергеевича, сказал, что просит отсрочки. В ответ Людмила по-русски, от сердца, послала его к лешему. «Отсрочку ему! Я тебе что, военкомат? Лечись, и чтоб духу вашего не было!»
Пашка оценил щедрость. «Лечись» – так это, может, не меньше недели! А неделя по нынешним временам – век. Столько всего может случиться! За неделю лес из юного неоперившегося птенчика превратится в крылатую стихию и укроет шахматный домик, а может быть, и унесёт. За неделю умрёт и воскреснет Христос, и пасхальная радость умягчит «сердца злых человек»… Эти слова Пашка услышал утром по радио, вечно бормочущем в Танином ветпункте.
И день пошёл своим чередом. Похоронили Мышу под берёзой и остались постоять, почтить память певчей – Пашка, Наташка, Ася, Курт и все собаки, кроме раненого Джерика и Пашкиной любимицы – напитанной вечным страхом Агнески, заползшей в домике под диван. Из людей отсутствовал Саня. Он позвонил и объяснил виновато, что жене всё ещё плохо. Конечно, никто не заподозрил бы его во лжи, но чувство тревожного недоумения родилось в каждом. О Сане молчали.
Земля пахла уже не прелой листвой, а свежестью. Не снеговая сырость, а май слышался в чёрных комьях с ростками травы.
– Паш, у меня Мышины песни записаны, – может, тебе понадобится, – проговорил Курт, скорбный, с поникшими плечами. Если бы он вдруг окаменел так, на могилке у Мыши появилась бы статуя ангела.
– Да ладно вам! Мыша – счастливая собачка! – высмаркивая последние слёзы, сказала Наташка. – Вон сколько народу её любило! Я видела, на сайте одного приюта прямо рубрика есть такая: «Они не дождались». И всё морды, блин, такие грустные! Это вот да… А Мыша чего? Ей попёрло! Что ей, плохо с нами было?
Когда Наташка договорила, Гурзуф повернул косматую морду к погоревшему загончику и взлаял гневно и обличительно. К его мнению присоединились остальные собаки. Сердясь, они обругивали людей, и лес, и глупую Мышь – за нерасторопность. А возможно, это был залп славы над могилой товарища.
– Надо чаю выпить, с мёдом, – сказал после похорон Пашка. – Чего-то мне как-то… Наташ, чайник поставь!
Наташка послушно и резво пронеслась в шахматный дом и запорхала вдоль сдвинутых парт, расставляя чашки, высыпая на блюдца печенье и вафли к чаю. А мёда-то и нет! Вот дураки – никто не додумался принести мёд!
Холодно. Эх, как же холодно было в тот вечер в разорённом Полцарстве! Призрачно клубились в сумерках дворика обездоленные собаки, тыкались носами в колени и руки людей. Наконец хозяин дал команду: «Домой!» – и, распахнув дверь в Наташин уют с чаем и вафлями, подождал, пока собаки зайдут в шахматный домик.
Ну вот, чай поспел. От пара и тесноты потеплело. Уцелевшие звери толкутся внутри, обнюхивают стол и углы. У Пашки блестят глаза, он увязан в Наташкину кофту. После блужданий в пролитой дождём рубашке не только голос сел, но и явно поднялась температура. Весь день государя бил озноб, а теперь от нурофена из аптечки ветпункта – хорошо, жарко. Тесно друг к другу сидят за узким столом – Пашка, Наташка, Ася, Курт и прибежавшая на чайный дымок Татьяна. Честно делают вид, что решают приютское будущее.
Наташка, растрёпанная сильнее обыкновенного, с пружинками белых волос, кое-как рассыпанными по плечам, проверяет свои публикации в соцсетях по сватовству собак. Её маленькие глазки-льдинки унылы.
– Ну вот и что? Мы и так им всем возраст скостили и про болезни не пишем – и что толку? Советуют вот тут передержки… Больше ничего.
Все заглядывают в планшет. Под фотографией колченогого Фильки с седой мордой – сочувственные комментарии: «Бедный!», «Лапа!», «Жалко!», «Удачи, малыш!» – и прочее.
– Это наши собаки – кому они нужны, если и нам не нужны? – сурово говорит Ася. – Мы должны наплевать на капризы родственников и взять их к себе. Просто взять! Я возьму, что бы Сонька ни говорила! Куплю ей зиртек или кларитин – пусть лопает, и не будет никакой аллергии! – И вдруг, словно проснувшись, растерянно смотрит на собравшихся. – Ну а Соню-то мою мне тоже жалко!
– Если бы не тот случай с Кашкой и бабушкой… – виновато говорит Курт. – У меня мама сказала – со следующей собакой меня похоронишь. Ну что я могу? Нет, всё равно возьму, конечно… А если родители меня выставят, нас всех приютит Саня! Как вам такой план?
– У него семья, – хмуро напоминает Пашка.
– Семья? – смеётся Курт. – Не думаю. Не уверен… Вряд ли!
Ася взглядывает изумлённо, но Курт отмахивается:
– Не важно! Не сейчас.
– А поехали все на «Рижскую», помолимся святому мученику Трифону! Он животных защищает. А ещё и как бы тёзка! Пашка, ты у нас чей? Трифонов! – предлагает Наташка.
– А чего молиться? – Пашка смотрит в угол. – Если они есть – им что, без молитв не видно? Слепые они, что ли? Вот, мы тут – это и есть молитва. – С чашкой выглядывает на крыльцо.
И последний свет дня стекает вместе с малиновой краской неба в землю.
Первой ушла Наташка – ей пора было на электричку. Затем собралась Татьяна. Закапала Норе в глаза, строго, не церемонясь, сунула в пасть страждущих таблетки и оглянулась на племянника.
– Раз упрямый такой – иди хотя бы ночевать в кабинет! И на ключ запрись! Мало тебе прошлого раза? Люди-то злые!
– Да всё уже. Выплюнули всю злость, откуда ещё? – буркнул Пашка, заворачиваясь в плед, и «шотландским» красным клубком, колени к подбородку, закатился в угол кушетки. – Ася, можешь к деду моему зайти? Посмотри, как он там, – сказал он, с трудом попадая зуб на зуб. – Скажи, что я не один, наври чего-нибудь, чтоб не волновался там.
– Паш, я к ночи вернусь! – садясь на корточки возле Пашкиного дивана, сказал Курт. – Асю провожу, домой забегу за свитером – и назад.
– Ну слава богу! – обернулась Татьяна. – А то я уж думала, опять психовать всю ночь.
– Идите уже все! – буркнул Пашка. – Поспать дайте!
* * *
В тот день, заканчивая дневную работу над заказами и собираясь в приют, Курт всеми силами старался не думать о том, что ему предстояло. Он знал, что должен увидеть плоды своей «комбинации», перетерпеть их тяжесть и, не допустив отката, сделать следующий шаг к Асе. Её вырванная из привычного мира душа легко могла стать добычей разбойного ветра. Мгновенное промедление – и момент упущен. Следовало крепко взять её за руку и уже не отпускать.
Дождь уплыл, оставив по себе струйки пара над лужами. Под оком майского солнца, зная, что виден как на ладони, со всеми тайными шрамами и затемнениями, Курт пришёл в лес и за целый день с похоронами Мыши, Пашкиной простудой и обсуждением горестных обстоятельств так и не смог приблизиться к Асе. Если вдруг они оказывались вдвоём, Ася, бледная и чужая, похожая на серый лёд, принималась жалеть и гладить столпившихся во дворе собак. Курт не смел вторгнуться в её грусть. Оставался последний шанс – вечерняя дорога к метро.
Знание, что «точка невозврата» пройдена, помогало ему не думать о жертвах, а сосредоточиться на любви. Любовь к Асе представлялась ему то детскими саночками, для которых он заботливо расчищал двор и дорожку в некой классической сельской местности, то корзинкой с черникой и лесным сором, а то маленьким паршивым котишкой, расчёсывающим и сдирающим шерсть до проплешин. Курт видел его у магазина и никак не помог, но этому, невидимому, будет оказана лучшая помощь в мире! Курт чувствовал себя ревностным опекуном своей любви, её телохранителем, слугой и высоким покровителем одновременно. Ради неё он был готов на всё, и ему не было стыдно. Разве что сегодня, когда хоронили Мышь, сердце заныло. Но рядом стояла Ася, и он, видя головокружительно близкую цель, сумел сохранить мужество.
– Ася, ты на трамвае? Или, может, лучше на метро? Я провожу тебя, можно? – спросил он, подстраиваясь под её шаг.
Ася кивнула и, крепко сжав у груди воротник пальто, ускорила шаги. Курт поймал взглядом тоненькое запястье под рукавом – сколько нужно вынуть бирюзовых звеньев, чтобы браслет пришёлся впору?
– Ты замёрзла! – проговорил он заботливо.
Ася не ответила, прошла несколько метров и вдруг взорвалась:
– Какое дело, что я замёрзла! Замёрзла – и что? Так мне и надо! Не всё барыне горячий шоколад!
Курт не нашёл, как спасти незадавшийся разговор. Дальше шли молча. Наконец сквозь деревья засветились огни, на высотке алым и жёлтым замигала реклама.
У подземного перехода Ася остановилась и, скосив взгляд вниз, туда, где недавно нашла Марфушу, сказала:
– Я не пойду.
Перед шумно текущим шоссе крепко, как маленькую, Курт взял Асю за руку и нырнул в просвет между машинами. Перебежали и на разделительной полосе, покрытой линялой травой и сором, остановились переждать встречный поток.
Огненная река текла полноводно. Ася загипнотизированно смотрела на череду машин.
– Как ты думаешь: ничего сделать нельзя? – спросила она. – Я имею в виду, против этого порядка вещей? Слабых всегда замучают. – И тут же сама себе ответила: – Если только Санина Противотуманка поможет. Но её нет. Противотуманка – это вымысел.
Курт опустил взгляд. Когда хоронили Мышь, он думал, что обязательно должен искупить зло счастьем. Стать счастливым настолько, чтобы таинственные силы Вселенной признали его преступление оправданным. «Ведь всё-таки важно, – думал он, – на что ты пустил украденный динар. Пропил или посадил сад?»
– Ася, я думаю, зло можно победить счастьем, – сказал он, осторожно заглядывая ей в лицо. – Горе можно победить счастьем. Вот смотри, здесь так грязно, шумно. Но всё это можно победить счастьем.
Объяснение на разделительной полосе не было задумано Куртом, но экспромт захватил его. Бешено мигающая вывеска питейного заведения, грохот попсовых музык, взвесь выхлопов – всё шумное и грешное, что было в московской ночи, не имело власти над ним и не могло ему помешать.
– Ася, у меня есть ты. Никакого лучшего средства против зла не придумано! – не узнавая своего голоса, говорил он. – Я тебя люблю – и этим можно победить Мышину гибель. Оправдать её в вечности.
Ася, мучительно сдвинув брови, слушала. Ещё не умом, только инстинктом почуяв опасность, Курт протянул руку – удержать её, но опоздал. Сорвавшись, она метнулась за край полосы и, в мгновение ока перерезав поток машин, оказалась на другой стороне. Её безумство сопроводили возмущённые гудки.
– Не смей! – крикнула Ася. – Даже не приближайся! Вы все, все – дураки! – И, отчаянно махнув на Курта, побежала прочь.
Плотно текли машины, на лицо оседал мелкий дождь – брызги из-под колёс. «Ух ты! – слегка усмехнулся он. – Ну вот и всё…»
Искупить преступление «счастьем» не удалось. Теперь, сколько Курт ни сжимал своё сердце, стараясь придать ему форму мундира, оно расползалось, как квашня. На место почти исполнившейся мечты зашёл ужас содеянного.
Совсем забыв, что должен был вернуться и подежурить с Пашкой, Курт пошёл домой и на кухне, заварив чаю, включил последнюю запись певчей Мыши. Колыбельная длилась пару минут, Курт переслушивал её снова и снова. Это был ни на что не похожий нутряной, изнаночный звук, а «с лица» Пашка аккуратно помогал Мыши человеческим голосом. Чувствуя одобрение, Мышь выла всё исступлённее, и Курт понимал, что дело не в старании заслужить лакомство, а в таинственной правде своего народа, которую Мышь, как всякий истинный талант, стремилась высказать отпущенными ей средствами.
Курт слушал и думал про угол зимника, в который перед смертью забилась собака. И угол кухни, где он сидел, разбалтывая в чае сахар, казался ему конечным метафизическим углом Вселенной – неизбежным, с великанскими волокнами пыли, оплётшими ничтожную душу Жени Никольского.
Когда, досыта нахлебавшись Мышиной колыбельной, Курт выключил запись и вернулся в комнату, она показалась ему странной, очень странной. Разобранный диван на середине, окна без штор. Он сорвал их после первой встречи с Болеславом, поверив, будто у него есть шанс.
Мрачно оглядев эту глупую декларацию новой жизни, Курт вздохнул и, морщась от усилия и тоски, задвинул диван на прежнее место, в угол. Затем вынул из шкафа постиранные, но не выглаженные шторы, придвинул стул и принялся вешать мятые полотна. Он надевал петли на крючки с обречённостью раба, готовящего себе виселицу. Покончил с правой шторой и опустил затёкшие руки.
В той половине окна, что осталась незанавешенной, светился, как украшение, забытое после Нового года, ровный рогатый месяц.
«Если б можно было выпутаться из жизни среди людей и заняться созерцанием фаз луны!» – подумал он и собрался уже занавесить месяц шторой, как вдруг тот мигнул ему отчётливо и дерзко: «Позвони Болеславу!»
«Позвони Болеславу»! Это было почти кощунство! Звонить тому, кто исподволь внушил ему, будто его жалкая жизнь стоит того, чтобы идти по головам!
«Но ведь он предупреждал тебя: будет откат! Позвони! Не сходи самовольно с маршрута!» – настаивал месяц, весёлый и звонкий, как погремушка.
В смятении Курт вернулся на кухню, залпом выпил остывший чай и, несколькими крепкими вздохами запихнув куда-то вглубь, в позвоночник, разверзающуюся бездну, «позвонил Болеславу».
41
После семинара Болеку пришлось констатировать: он не так-то свободен, как кажется. Смена курса потребует мужества и подготовки. Правда, рискованный спич в начале занятия всё же принёс плоды. Как он и предсказывал, в перерыве к нему подошла женщина – волонтёр из муниципального приюта, огненная и бойкая Виолетта. Было условлено, что завтра она навестит Полцарства и поделится опытом поиска «добрых рук», адресами передержек и прочим тайным знанием посвящённых.
Перипетии дня, начиная с пробуждения в обществе Марфуши и заканчивая объяснением с Софьей, отозвались мигренью. Таблетка приглушила боль, но чувство неудавшегося побега из плена карьеры осталось.
Проводив Софью и вернувшись домой, Болек нашёл свою квартирку с волшебным окном хотя и милой, но маловатой, теснящей грудь. Он поглядел из окна вверх и предположил, что за его мансардной комнатой должна быть площадка, на которую, возможно, не так уж и трудно выбраться.
Через пять минут не слишком серьёзных хлопот по добыче ключа (он обнаружился у консьержки) Болек был на крыше. Он стоял, прислонившись коленями к низкой решетке, отделявшей скат от мутноватого воздуха вечерней Москвы, и смотрел по сторонам, намечая направление на Лиссабон. Там жили Марья и Луиш – люди, на время заменившие ему родню. Пусть излишество в виде маленькой виллы на океане изъято из его жизни – он всегда сможет остановиться в их сельском домишке, особенно если вожделенный городок детства окажется призраком.
Чистенький и весёлый молодой месяц смотрел в лицо Болеку – в малоэтажном небе Замоскворечья, не считая колокольни Климентовского храма, они были один на один.
Как-то давно, в одном из «расширяющих сознание» путешествий Болек видел на озере куски льда цвета морской волны. Прозрачные и сияющие ледяные фигуры были укрыты шапками снега. Ультрамарин цвёл из-под снежных кровель, изучая чистейший свет. Тогда Болек впервые почувствовал: все эти кристаллы, будь они хоть алмазы, все розовые, как заря, долины цветущих лотосов, и синие, как надежда, лавандовые поля, и огромные, похожие на разрез спелого манго месяцы – не приближали его к ответу. Так же, как и то, что он мог вдохновить любого желающего на успех и проследить этапы достижения, – не приближало к любви. А что же тогда приближало? Одуванчик у осыпавшегося крыльца. Бабушкина суета с обедом. Подвыпивший лодочник, возивший желающих до колокольни.
Наклюнувшуюся было медитацию сорвал звонок. Софьин подарочек – странный, тянущий душу тип, которому сдуру взялся давать советы, – желал говорить с ним. Болек с удовольствием не ответил бы, но дело Жени Никольского слишком плотно касалось сестёр – ему хотелось быть в курсе.
Он сказал, что Женя может приехать и около дома позвонить ему. Он объяснит, как попасть на крышу.
Через полчаса Курт уже сидел на скате, ссутулившись, обняв сцепленными руками колени. Впереди и внизу качались блики ночных огней, и небольшая ровная площадка между мансардными окнами, на которой, скрестив руки на груди, замер его наставник, казалась палубой. У их разговора был свидетель – сизый голубь с белыми, словно покрытыми инеем лапами, спрятавший голову во вздыбленных перьях. Грохот крыши и приближение людей не произвели на него впечатления – возможно, птица была больна.
– Она умела петь, – рассказывал Курт, косясь на голубя. – Я даже думаю, она была певчей по призванию, если судить по тому, как это действовало на нас. Ну вот… А со мной случилась такая вещь: всю предыдущую жизнь я худо-бедно был человеком. Сам пропадал, но других не губил. А теперь вроде как наоборот – сам ничего, а других…
– Это что, претензия ко мне? – удивлённо обернулся Болек.
Курт покачал головой:
– Нет, это претензия к себе! – и решительно поднял взгляд. – Болеслав, мне нужно признаться в одной страшной вещи! Ведь вы соблюдаете врачебную тайну?
– Жень, я не врач тебе и не исповедник, мы просто разговариваем, – напомнил Болек. – К тому же мне примерно известно, что это за «страшная вещь».
Курт резко поднялся и, поскользнувшись, чуть не вылетел за борт.
– Этого не может быть! Даже из своих никто не знает!
– Я догадался, – вздохнул Болек. – Понял из контекста. Так что, считай, исповедь состоялась.
Курт почувствовал, как в висках заколотилась кровь. Ещё полминуты назад он хотел в подробностях рассказать, как дал сгореть приюту, как затем, сфабриковав «улики», устранил конкурента и убедился, что всё сотворённое зло только отдалило его от цели. Он уже чувствовал признание на губах – особым, терпко-солёным «букетом». Но теперь словно онемел.
– Нет, ты, конечно, можешь рассказать, мне интересно. Вдруг я ошибся в деталях? – пожал плечами Болек.
Курт взглянул на голубя – тот переместился чуть дальше по скату крыши и вытащил голову из перьев.
– Это я был за рулём в тот день! А Софья взяла на себя вину, потому что за пару часов до того я выпил.
– Вот оно что! – вскинул брови Болек. – Я думал, ты хочешь поговорить о другом.
– О другом?
– Ну да. Я думал, ты о поджоге, – подходя и садясь на корточки у самой ограды, сказал Болек. – И, знаешь, несмотря на гибель собачки и на понятное возмущение Асиного супруга – всё хорошо. Ты молодец, Жень.
– Вы издеваетесь? – тихо, почти совсем исчезнувшим голосом проговорил Курт.
– Нет, я правда считаю, это намного лучше, чем смерть. Ты с опозданием учишься жить. Во взрослом возрасте это трудно, бывают всякого рода неуклюжести. И всё равно это лучше, чем смерть.
Болек взялся за оградку и, свесив голову, поглядел вниз. Из весеннего переулка пахло сыростью луж и пленительным дымком ресторанной кухни, готовящей для какого-то счастливца стейк.
– Я недавно слышал, как учат петь. Вон там, на Большой Ордынке! – кивнул он через крыши домов. – Девочка должна была просто голосить во всё горло под минусовку – не попадая в ноты. Просто раскрывать свою силу. А уж потом, когда она обвыкнется с этой силой, речь пойдёт о том, как её направить в нужное русло. Ты умирал, потому что отказался от себя. И вот наконец ты рискнул – и на первый раз вышло плохо.
Курт молчал, с величайшим вниманием слушая монолог наставника.
– Ты всё взорвал, но не вызволил принцессу. При этом взрывной волной смело невинных. Но это не должно стать последним действием в твоей жизни.
Курт сделал шаг, громыхнув железом кровли.
– Вы хотите сказать, после всех напрасных жертв я должен продолжать? Только теперь уже «попадая в ноты»? Вы, наверно, думаете, я монстр?
– Нет, я думаю, ты просто не очень ловкий. Размахнулся и чуть не снёс себе голову собственной саблей. Мог хотя бы проверить, все ли собаки выбежали, – возразил Болек и, морщась, надавил на висок костяшками пальцев. Головная боль вернулась. – А с Лёшей… Лучше бы, конечно, не исподтишка, а в честном бою – самому было бы спокойнее. Но уж как смог. Это лучше, чем отказаться.
– Вы так считаете?
– Растаптывать заветные желания опасно для жизни, и ты это знаешь. Иногда твоя натура чего-то страстно желает. Ты можешь двадцать лет внушать себе, что тебе этого не надо, ты всем доволен. Ты можешь в это даже поверить. Но однажды твоя душа вздыбится из-под гнёта и прогремит, как Божий глас. И скажет: забирай обратно свою лабуду, а мне дай то, что я требую.
– И что же делать? Забить на всё, чему мама учила? – усмехнулся Курт. Теперь он уже понимал, что приехал напрасно. Глупо было просить отпущения грехов у того, кто втянул тебя в них.
– Увидь себя как замысел, Женя! – обернувшись, произнёс Болек и посмотрел Курту в глаза. – Увидь свою основную мысль! – И, взяв его за локоть, потянул со ската на ровную площадку, где недавно стоял сам. – Нащупай себя настоящего, доверься и действуй!
Курт молчал, прислушиваясь к шевелению неясных чувств. Здесь, без наклона под ногами, ему сразу стало спокойнее.
– А замысел может быть гнусным? – спросил он.
Болек поднял брови, словно никак не ожидал услышать подобное предположение, и твёрдо возразил:
– Исключено! Он прекрасен. Увидь себя как прекрасный замысел и сделай, что должен.
Курт вздохнул и впервые за разговор широко поглядел вдаль. Перед ним была старая Москва, Асины родные улицы и церкви. Над крышами соседней Ордынки мелькнула ночная стайка.
– А где голубь? – вдруг спохватился он и, оглядевшись, различил птицу на крыше соседнего дома.
– Не так-то он был и мёртв! – заметил Болек и, видя, что кризис пройден, легко, словно и не было позади серьёзного разговора, спросил: – А скажи-ка мне, Женя, ты летаешь во снах?
Курт недоумённо взглянул.
– А что тебя удивляет? Я, например, люблю иногда облететь Европу. Долетаю до Португалии, трогаю ладонью скалу на мысе Рока – это крайняя западная точка, как говорят туристам. Дальше – всё, океан. И оттуда в обратный путь. Особенно хорошо по ночному небу – тогда внизу все эти бриллиантовые броши – города, селения. Но и под солнцем неплохо. Иногда снижаешься, разглядываешь знакомые шпили и купола. Ага – вот он, купол Брунеллески, берём севернее – Кёльнский собор. Ты трогал когда-нибудь кресты на шпилях Кёльнского собора? А я – да! Во снах человек очень многое может. Это придаёт уверенность и в обычной жизни. Обязательно научись летать!
На этих словах Болек сунул руки в карманы и, праздным, отчасти рисковым шагом пройдясь по краю крыши, направился к люку. Аудиенция была окончена.
Курт пошёл за ним. Возле люка выпрямился и потянулся, как после сна. Странное существо Мышь растворилась в своём зверином небесном царстве и как будто простила его. А Лёшка перебьётся без его покаяния. Да – вот он перебьётся точно!
Простого неосуждения со стороны Болеслава оказалось достаточно, чтобы пережатые токи жизни опять потекли свободно. Да, он совершил преступление. Но это не последнее действие в его жизни. Почему бы теперь ему не совершить подвиг?
Прощаясь на лестнице, Болеслав озадачил Курта неожиданным поручением. Он должен был передать друзьям, что завтра к ним заедет волонтёр из муниципального приюта. Повестка дня – как перекантоваться, пока не найдено и не оформлено по всем правилам новое место, куда на законных основаниях можно будет перевезти собак. «Кстати, один вариант у меня уже есть, – как ни в чём не бывало прибавил Болек. – Там от вас недалеко, за “железкой”».
42
После штормовой ночи, когда сгорел приют, весна повернула к лету. Настали сырые, тёплые дни, без сомнения, придуманные для того, чтобы в дымящейся влаге дождей поднялось и расцвело всё, чему суждено жить.
Всей душой Саня рвался в приют – повидаться с Пашкой и погорельцами. Рвался он и к Николаю Артёмовичу, грохнувшемуся вчера со своей коляски, – и дело не в том, что нужна была помощь, а в том, что по голосу Саня слышал – грозный старик притих. Необходимо было забежать и к сёстрам. Но вместо этого вот уже двое суток он сидел неотлучно возле Маруси. От жаропонижающих температура сползала нехотя и поднималась вновь.
Проведя возле жены небывало много времени, Саня понял, в чём был корень болезни, и от этого ему стало неловко, как если бы он ненароком подслушал чужой секрет. Температура никогда на его памяти не болевшей Маруси, конечно же, была следствием летучего вируса, но поддалась она ему по причине душевного свойства. Маруся ревновала мужа, и не только к воображаемой противнице, а всеохватно, к людям и животным, к улице и лесу, к самому факту, что кто-то за пределами семьи получал Санину заботу и помощь. Всё это, и прежде висевшее тучей, вдруг собралось и вспыхнуло алым жаром.
Два дня болезни жены оказались для Сани полны открытий. Готовя ужин, моя посуду, убирая в шкаф высохшие полотенца, Саня словно впервые прикоснулся к своей семейной жизни и не узнал – неужели моя? Он понял, что начисто исключил из сердца такое простое понятие, как интересы семьи. Хуже того, при всякой возможности старался выкрасть из семейного бюджета собственное время и силы и отдать другим.
В тот вечер, закончив мыть посуду, в неясной тревоге он зашёл в комнату – Маруся спала. Приткнувшись к матери, заснула и кое-как накормленная им Леночка. Нагнувшись, он тронул губами Марусин лоб – прохладный! – и зажмурился, отгоняя наваждение. Ему захотелось собрать портфель и уйти совсем, как врач уходит из дома больного, которому стало лучше.
Ругая себя и коря и всё же мечтая хоть куда-нибудь вырваться, Саня вышел в самую вольную и воздушную точку квартиры – на балкон. Расцветающий лес, отделённый от дома полосой бульварчика, зашевелился и зашептал, увидев своего знакомца. «Подожди, пусть уснут покрепче! – лепетали берёзы, клёны и ясени. – А уж как уснут, мчись – все тебя ждут!»
«Может, и правда забежать?» – подумал он. – Тем более что сегодня звонил Илья Георгиевич и плакал в трубку: Пашка болен и не ночует дома. Стережет погорельцев!
Вопрос Пашки был самым тревожным из всех Саниных вопросов. Служа врачом, он знал, что даже в пустячных случаях борется с врагом, которого, по большому счёту, нельзя одолеть, можно только отбить на время, и это дарило ему ощущение разделённой ответственности. Он словно бы действовал не один, а под прикрытием старшего – и побеждали, и отступали с Богом. В каком-то смысле это позволяло ему работать спокойно – он не был крайним. Тогда как ответственность за зло, которое происходило не от природы вещей, а по воле людей, целиком лежало на человеке. Саня чувствовал, что именно он, и никто иной должен, во-первых, устроить собак и, во-вторых, бережно поговорить с Пашкой. Смягчить его упрямый идеализм, примирить с реальностью – но не дать впасть в разочарование.
Пока он думал обо всём этом, оглядывая с балкона весенний лес, в комнате запиликал телефон. Звонила Ася. Её голос был холоден.
– Болек нашёл какого-то опытного волонтёра. Пристраивает животных из муниципального приюта, – сообщила она. – Приедет к нам завтра вечером, в семь, расскажет, что делать. Так что если тебя интересует судьба собак и Пашки – завтра вечером мы все собираемся.
– Ася, да я сегодня уже хотел… – заволновался Саня.
– Можешь не дёргаться! Сегодня там Курт. Всё, иди к Марусе, – отрезала Ася и повесила трубку.
Тон сестры сокрушил его – она говорила с ним как с предателем. Первым порывом было перезвонить и объясниться, но одновременно он понимал: разговаривать с Асей сейчас бессмысленно. Она как будто снова стала подростком, вроде Пашки. А подростки – как ветки во льду. Если потянешь – сломаются. Нужно ждать, когда потеплеет.
Раздумывая, он ещё раз заглянул проверить, как спит Маруся, а когда возвращался в комнату, в прихожей на зеркале запиликал попсовой мелодией телефон жены. Саня глянул на незнакомый номер и ответил.
– А Марию мне дайте! – произнёс голос, немыслимый в кругу Саниных знакомых. Он был гнусав и мерзок – но не по своей физической природе, а по изливаемому посредством тембра состоянию души.
– Кто её спрашивает? – спросил Саня, не умея скрыть ошеломления, и услышал в ответ смазанную брань, затем гудки.
Помедлив немного в растерянности, Саня добыл из стенного шкафа шезлонг и отнёс на балкон. Он решил продремать майскую ночь на воздухе, чем немало удивил Марусиного кота, привыкшего считать территорию балкона своей собственностью. А когда улёгся – одетым, да ещё под одеялом – чудесно! – в голову к нему, как в распахнутые ворота, повалили непрошеные гости.
Первым явился Болек и, глядя с тёплой насмешкой, сказал: что ж ты, Саня, так легко сдаёшь позиции? Поборолся бы за вечные ценности! А то махал ими, как флагом, а сам отпускаешь сестру во все тяжкие, отпускаешь Пашку, отпускаешь Марусю!
Кузен был изгнан из головы поворотом на «левое полушарие», но и там Саню подстерегали охотники. В уме закрутился короткий звонок Николая Артёмовича. «Александр Сергеич, а трещина после моей-то аварии, похоже, снова пошла! – сообщил тот. – Полпачки анальгину уж выпил!»
Это было уже слишком. Саня вскочил и, схватив телефон, посмотрел в ежедневнике разворот завтрашнего дня – куда поместить Николая Артёмовича и сколько отписать времени?
Обычно визит к старику выглядел так: Николай Артёмович манил его на кухню. Деревянная, некогда весёлая её мебель потемнела и запеклась, закоптился белённый тридцать лет назад потолок. Но стол и плита всегда были чистые. В этой избушке, под абажуром, Николай Артёмович доставал извечные стопочки, буро-зеленоватые, пропитанные настоем боярышника и солевыми отложениями корвалола. Вынимал затем из дверцы холодильника бутылку «бальзама» – собственноручно намешанную баланду из водки и настойки таёжных трав, присылаемой братом из самого Красноярска. Далее следовала закуска, и тут Сане приходилось пожалеть, что его сосед не обладал кулинарными склонностями Ильи Георгиевича. Вот вам картошка в мундире, вчерашняя, вот хлеб-соль, колбаски порежем, и будет. А между прочим, Николай Артёмович, кто вам с вашим холестерином разрешил колбасу?
Пока хозяин лихо крутился в кресле, собирая на стол, Саня, обыкновенно усталый до смерти, ждал на пороге кухни, сгрузив тяжесть с плеч на дверной косяк. Говорили о политике и о здоровье. Между делом Саня выяснял, как поживает дряхлеющий организм старика. При удачном раскладе удавалось на минуту остановить Николая Артёмовича – послушать сердце, быстро глянуть, как там ноги без работы, и прочее, в зависимости от жалоб.
Наконец Николай Артёмович удовлетворённо вздыхал и, оглядев стол, говорил строго:
– Александр, сядь, отдохни!
Это был тот самый случай, когда Саня жертвовал своим правилом. Всевозможным юбилярам и молодожёнам хорошо и без Саниной рюмки, а старик расстроится. Саня подсаживался к столу и поднимал тост за здравие хозяина.
Обычно и рюмочки бывало довольно, чтобы прежде могучая, а ныне проржавленная старостью воля хозяина давала слабину. Сломленный «таёжным бальзамом» Николай Артёмович задрёмывал. Саня тихонько прибирал на кухне, оставлял на столе подробную записку о лечении на ближайший месяц (лекарства купят соседи) и мчался по следующему делу.
Права была Софья, известная поборница реализма в жизни и творчестве. Живёт он, как романтический подросток, в жанре «эскейп», только убегает не в Средиземье и не в компьютерную игру, а в жизнь других людей – чтобы на свою не осталось времени.
«И это бегство, а не поход! – клеймила его сестра. – Если бы ты был смелым – ты бы не разменивался на беготню, а сделал бы что-нибудь стоящее!»
Включив Николая Артёмовича в список дел, Саня снова устроился на правом боку, но вспомнил, что там его примется упрекать Болек, и лёг на спину. Тишина, никого – вот подарок! И тут же сны потекли один за другим, с короткими пробуждениями, благодаря которым Саня имел возможность запомнить их все. В последнем прозрачном сне, на рассвете, он увидел Марусиного кота Тимофея. Тот сидел у него на груди и говорил человеческим голосом:
– Что, Саня, пустил меня в дом, а потом надоело? Ну так и отдай в приют!
Саня вскочил, чуть не сломав шезлонг, и с минуту таращился на розоватый свет утра, не в силах успокоить бешеный пульс. Затем толкнул дверь и понял: кто-то запер его из комнаты.
– Эй, откройте! Маруся! Выпусти меня! – забил он в стекло двери. И, внезапно умолкнув, перевёл взгляд на приоткрытую форточку. Что ж ты, дурак, шум поднимаешь! Вот же!
Минуту спустя выглянувшая из спальни Маруся могла лицезреть, как из форточки ловко, даже не сбив вазу с искусственными тюльпанами, вылез и спрыгнул на пол её дорогой муж. Вид он имел сконфуженный и, конечно, вовсе не собирался обвинять жену в том, что она заперла его. И всё-таки Маруся поторопилась с объяснениями.
– Сашенька, ночью дуло! – виновато начала она. – Я пошла на сквозняк – и оказалось, балкон не заперт. Я закрыла тихонько, в темноте. Ты меня извини, мне и в голову не пришло… Я думала, тебя дома нет, ушёл опять куда-нибудь.
– Да не спалось вот, а на балконе хорошо… – отозвался Саня и вдруг, пронзённый памятью о «кошачьем сне», сделал шаг и обнял Марусю крепко. Крепко, долго держал, не выпуская, как будто объятие могло оправдать его перед говорящим котом.
«Не сдам тебя в приют, не сдам, не сдам… – думал он, перебарывая внутри себя ураган протеста. – Нужна, нужна, нужна, даже не думай…» И мысленно озирался на притихшего за балконной дверью Тимошку – доволен ли тот?
– Ты иди, поспи ещё! – сказал он жене. – Болезнь надо отоспать. Ты не горячая. Это хорошо.
– Да я уже совсем выздоровела! – весело проговорила Маруся. Её голубые глаза были как подсохшие морские голыши.
– Правда? Получше себя чувствуешь? – обрадовался Саня. – Ну, тогда я после работы на полчаса в приют забегу, можно? Там Пашка, похоже, разболелся. Может, тот же вирус, что и у тебя? А домой не идёт, негодяй, ночует там на холоде!
Маруся не ответила. Она по-прежнему смотрела на мужа голубыми глазами. Окаменевшее в них выражение любви было страшно.
– Маруся, ты потерпи! – сказал он. – Это уже очень скоро закончится. Всё ведь сожгли. Вопрос только – куда их девать, всю эту хвостатую кучу! Может, все же возьмём себе кого-нибудь? Вот Фильку, например. Он совершенно тихий! А с Тимошей – ну сдружим их как-нибудь? Ну, не съедят же они друг друга?
«Голыши» потемнели, покрываясь влагой. Саня вздохнул и, даже не помыслив о завтраке, торопливо собрался.
43
Как и все последние дни, Илья Георгиевич проснулся утром в сильнейшей душевной смуте. Кряхтя сел, непослушной рукой обшарил тумбочку в поисках очков. Очки не нашлись, зато брякнулся на пол старенький мобильник, что уже второй год «донашивал» за внуком… Э-эх! Ну конечно, очки-то на столе – вечером отложил вместе с телепрограммой.
Причина утренней тревоги выяснилась сразу после краткого осмотра квартиры – Пашка так и не возвращался! Засыпая, Илья Георгиевич понадеялся было, что внук одумается, прокрадётся ночью и утром будет радость старику – хоть найдётся кому пожарить яичницу! Но нет – никаких следов. На кухне порядок, никто не шарил по холодильнику, не налипло в прихожей грязи с ботинок. От этой нетронутой чистоты Илью Георгиевича взяла тоска. Со скрипом нагнувшись, он поднял телефон и сосредоточенно выбрал в меню строчку «Паша».
– А, дед! Как себя чувствуешь? – прохрипел внук не своим голосом.
– Паша! Не болтай мне тут! Сколько это будет продолжаться! А школа! Не аттестуют за прогулы – и что тогда! – отчаянно воззвал Илья Георгиевич.
– Мне Александр Сергеич… – взялся объяснять внук и оборвал, сбитый мощным валом кашля. – Короче, Саня справку напишет, – продышавшись, сказал он. – Ладно, дед, покеда, некогда! К нам человек сегодня придёт, важная встреча! – И бросил трубку.
Илья Георгиевич опустился на стульчик и, вздохнув, притих. Крепкая грусть сковала его. Вот он, старый человек, ответственный, знает, что Пашу надо срочно загнать домой. Ребёнок простужен. Ребёнок бросил учиться. И при этом он, его дед, не может ровным счётом никак повлиять на внука. Почему, прожив жизнь, оказываешься перед молодыми – глупым и маленьким? Не воспринимают всерьёз, отмахиваются! Эх, кабы всех молодых можно было свозить на экскурсию в их же собственную старость! Хоть на пару дней. Может, тогда и прибавилось бы у них милосердия.
Смесь разрозненных эмоций – волнение за Пашку, жалость к собственному одиночеству, радость весеннему дню растравили Илью Георгиевича. Думая, какое бы дело найти для борьбы с тревогой, он заглянул в холодильник и убедился, что отправляться сегодня в магазин решительно незачем. Всё было – даже кетчуп, который внук уничтожал литрами, нейтрализуя глупой приправой вкус любого блюда. Даже хлеб был – Сонечка вечером занесла гостинец, багет, гигантский и дорогущий наверно.
Наличие продуктов означало, что до ужина старику не предстоит никакого захватывающего занятия, а это плохо. На нивах скуки расцветает ипохондрия!
Поглядев ещё раз на термометр за окном, Илья Георгиевич поразмыслил и решился на дальнюю вылазку. Тем более что и повод всё-таки был! Очень даже хороший был повод – навестить потерявшего совесть Саню. Это подумать только! Два дня звонит ему, умоляет забежать в приют, вразумить Пашку – и никакой реакции! То у него работа, то Маруся, то какие-то посторонние инвалиды. Нет бы своим стариком занимался! Совсем отбился от рук.
Денёк начала мая был хорош с самого утра. Илье Георгиевичу захотелось хлебнуть его сполна, как когда-то. Пройтись не торопясь до остановки, прокатиться затем на трамвае среди людей, таких же, как он, пенсионеров, ещё сохранившихся на улицах московского центра.
Сообразив, что сегодня из-за праздничных переносов Саня работает по субботе, а значит, у него короткий день, Илья Георгиевич решил выехать в обед. Прослушав парочку передач по радио и заранее начистив картошки, чтобы по возвращении сразу, без мороки, поставить вариться, он стал готовиться в путешествие.
Сборы прошли со стрессом. Оба пиджачка – и синий, официальный, и летний – щеголеватый, бежевый, который очень любила на нём жена, не сходились на животике. Нечего и пытаться – пуговица отлетит «с мясом». Франтовство не удалось. Пришлось облачиться в обычную форму, рубашечку и поношенную ветровку.
Проверив по карманам наличие нитроглицерина и карты москвича – на проезд, бодрый духом Илья Георгиевич отправился в путь и через час дороги (спутал трамвай) был у Саниной поликлиники.
От срыва всего мероприятия Илью Георгиевича отделили секунды. Пока он раздумывал, заходить ли в здание или поймать Саню на улице, доктор Спасёнов сам вылетел из дверей и, увидев старика, стремительно подошёл.
– Илья Георгиевич! Что случилось?
– Я ведь звонил тебе, Санечка, – скорбно сказал визитёр. – Что же мне было делать, раз ты не слышишь меня? У меня крайний случай – Паша дома не ночует! Кто за нас заступится?
Саня выдохнул и, чувствуя наплыв счастья оттого, что ничего критического не стряслось, решил немедленно чем-нибудь порадовать старика. Он знал: будь такая возможность, романтическая натура Ильи Георгиевича с удовольствием сиживала бы в симпатичных кафе, отправлялась в круизы и летала бы пару раз в год в Париж.
– Илья Георгиевич! А давайте зайдём куда-нибудь? – предложил Саня. – По кофейку! Или лучше чаю! Не против?
Илья Георгиевич возликовал и, сильно жалея, что пренебрёг бежевым пиджачком, согласился.
В ближайшей кофейне, тщательно выбрав кофе с десертом, Илья Георгиевич отложил меню и, подавшись через стол, поближе к Сане, таинственным полушёпотом начал:
– Я ведь что подозреваю: зачем Паша всё ходит в этот лес? Может, собаки – это прикрытие? А на самом деле у него там серьёзная драма? Любовный треугольник?
– Почему вы так думаете? – оторопел Саня.
Илья Георгиевич нахохлил плечи и увёл взгляд.
– Ты бы знал, Санечка, что я сделал! В жизни такого не делал – а тут прямо разобрало. У Паши есть тетрадка, типа дневничка. Он как-то её забыл под подушкой, я глянул – но не читал, конечно. А вчера взял у него с полки – он не прячет, знает, что я не возьму. А я вот взял… – И Илья Георгиевич оглянулся через плечо, словно проверяя, не подслушивает ли внук или иной лазутчик. – Мелко так пишет, путано – точно как врачи в картах. Но через лупу разобрал. Записи у него там все в таком духе: о собаках – история болезни, или что произошло, и дальше что-то вроде схемы лечения, названия некоторые даже по латыни. Затем пишет, как это подействовало. Я уже подумал было – ну, так это рабочая тетрадь! И тут вдруг читаю сверху страницы: «Наташка меня любит. Что мне делать?» Потом опять про собак, про мышь какую-то, и названия – то ли корм, то ли лекарства. Но я уже внимательно смотрю, чтобы про Наташку не пропустить. И снова листов через пять строка: «Наверно, я люблю Асю. Что мне делать?» И опять собачье, ветеринарное. И наконец последняя запись: «Меня достал дед!»
На этих словах Илья Георгиевич взглянул Сане в лицо и увидел, что тот не смеётся, напротив, слушает с отчаянным вниманием.
– Я сначала как ком проглотил, – продолжал старик. – А потом, Санечка, не поверишь, на меня напал такой гомерический хохот! Даже сердце заболело, так я смеялся! Я, извини за выражение, просто ржал! И при этом так мне стыдно было: ограбил внука, бедные детские его секретики старый дед спёр! И сейчас стыдно! Ну, что ты скажешь?
– А что сказать? Секретики – такая вещь, их уже не вернёшь обратно. Муки совести – плата за бдительность! – улыбнувшись наконец, ответил Саня.
И сразу Илья Георгиевич почувствовал, как полегчало на сердце. Тут как раз ему принесли кусок шоколадного торта.
Глядя на довольного, с утешенной душой, старика, Саня подумал, что, как ни жалко, всё-таки нужно объяснить Илье Георгиевичу некоторые печальные подробности из жизни внука. Так, по крайней мере, между ними будет больше понимания.
– Илья Георгиевич, я к Пашке сейчас иду, – мы там все собираемся, будем решать, куда девать собак. В парке им места нет. К вам нельзя, у вас астма, понятно. Ко мне Маруся не пускает, да и кот у неё. У Наташки в хозяйстве своих четыре штуки. У Татьяны – свои. А найти хозяина со стороны? Так они все почти калеки, кто без лапы, кто с эпилепсией. Кому такое добро сосватаешь! Значит, остаётся передержка – чужой временный дом.
Илья Георгиевич оставил торт, снял очки и принялся взволнованно вытирать линзы салфеткой.
– Что же, выходит, я внуку своему враг! – сказал он, приостановив вдруг работу пальцев и взглянув слепыми глазами в светлый туман Саниного лица. – Ну а куда же мне деться! Если я умру – он ведь тоже без меня куда? Пропадёт!
– Илья Георгиевич, не говорите ерунду, я не к тому! – мотнул головой Саня. – Я к тому, чтобы вы его не пилили. Не может он их бросить! Сейчас – не может. И Джерик ещё не поправился – нужен уход за ним. А у меня у Маруси два дня, как назло, температура была под сорок!
Илья Георгиевич, надев наконец очки, глядел на Саню прояснившимся взором и моргал всё чаще.
– Потерпите, всё это закончится вот-вот. Но эти последние дни, прощание – он должен там с ними отбыть, отслужить. Понимаете? – с чувством проговорил Саня и вдруг осёкся.
Илья Георгиевич плакал. Дрожащим пальцем выковыривал из-под очков новые и новые слёзы и начал уже протяжно всхлипывать.
– Илья Георгиевич, ну что вы! – испугался Саня. – Вы послушайте! Я вам обещаю, я сейчас найду кого-нибудь, кто его заменит! Пригоню вам Пашку, сегодня же! Успокойтесь только ради Бога!
Илья Георгиевич высморкался и, вторично протерев платком запотевшие от слёз очки, сказал:
– Санечка, а ты бы написал по компьютеру письмо моему Николаю! Рассказал бы ему о сыне – вот всё то же, что ты мне рассказал.
Саня покачал головой. Было время – он и сам хотел связаться с Пашкиным отцом, но, прислушавшись к внутреннему голосу, отказался от намерения.
– Мне кажется, ваш Николай уже очень далеко, – проговорил он. – Я имею в виду, душой. Совсем на другой планете.
– А ты напиши, – потупившись, настаивал Илья Георгиевич. – Напиши, мол, у тебя сын. А у отца твоего уже руки не слушаются, и ноги не ходят, и голова дырявая – никакой памяти нет. Напиши, что все мы созданы на смерть и все должны поэтому иметь милосердие к другому! Пусть бросает ерунду свою да приезжает!
Саня вздохнул и пересел к старику на диванчик.
– Илья Георгиевич, мы не созданы на смерть – только на жизнь. Я в это верю, – убеждённо проговорил он. – И хотя, да, нам приходится смерть принимать смиренно – смир, смер, корень тут похож, правда? Я всё же думаю, надо надеяться. И просить! Да, люди просят не одно тысячелетие – и нет ответа. Но ведь однажды пришёл Христос! Точно так же однажды может исполниться и наша просьба.
– О чём просить, Санечка? – робко уточнил Илья Георгиевич. Он слышал Санину заветную мысль неоднократно, однако всякий раз в новой разработке, и всегда не то чтобы пугался, но замирал сердцем.
– Об изменении ключевого условия человеческой жизни, – проговорил Саня. – Хотя бы для тех, кто страдает сверх меры. Я врач, предмет моей профессии – бренность, и, несмотря на это, я не позволяю себе безверия, хотя иногда очень хочется! И вы не позволяйте! Давайте просить, чтобы завеса стала хоть немного прозрачной! Чтобы простой человек, не мудрец, не философ, мог увидеть смысл. Может быть, ваш Николай в своём уединении что-то такое как раз пытается… – И сокрушённо умолк.
– Санечка, ты просто бредишь! – вздохнул Илья Георгиевич. – Философия, искусство, вера – всё это бред человека, которому не по силам реальность. Нет никакого смысла – вот чего я боюсь! – И приник седеньким виском к Саниному плечу.
– Ну, это мы ещё посмотрим, кто прав! Хотите, даже поспорим! – улыбнулся Саня и с любовью потрепал плечо нахохлившегося старика. – Пойдёмте! Поймаем вам такси – и побегу!
Илья Георгиевич не возражал. Одолеть обратный путь общественным транспортом при его летах и болезнях было бы тяжеловато.
– Саня, почему ты поселился так далеко! – выходя из кафе, упрекнул он своего молодого друга. – Мне бы так с тобой было хорошо. Ты подумай, скоро девятый десяток – и при этом на мне подросток! Разве я могу на него повлиять? А вот ты можешь.
– Да влияю я, влияю! Сейчас отправлю вас – побегу влиять! – заверил его Саня, и, усадив старика в мгновенно подвернувшуюся «ладу», помчался в лес.
44
Пронёсшись по аллее под солнцем, бьющим через не покрытую ещё обрешётку лесного купола, Саня уловил запах мокрой золы и свернул к пожарищу. Там, возле хлипкого домика, в тенях и свете, общались на двух языках знакомые ему люди и собаки. Оттого, что лица людей были молоды и одежда проста – джинсы и ветровки, – компания напомнила ему отцовские чёрно-белые фотографии туристических шестидесятых. Единственным, кто не вписался в ретрокартинку, оказался Болек. Присутствие щеголеватого волшебника в эпицентре беды не удивило Саню, напротив, показалось закономерным и важным. Оно словно бы придавало их частной проблеме всемирный масштаб. Соединённые силы Вселенной ввели Болека в лес, как войска ООН, – и вот он уже руководил переговорами с мятежной республикой.
Обсуждение было в разгаре. Саня, неслышно подойдя, пожал руку брату, с остальными поздоровался кивком. Судя по выражению лица, его кузен был весьма доволен подмогой, которую смог раздобыть для Пашки. Виолетта – бойкая блондинка с глазами цвета табака, волонтёр из муниципального приюта – являла собой сгусток чистой энергии, прилагаемой к любому делу, какое встаёт на пути. Уверенно гладя левой рукой голову Дружка, единственного более или менее молодого и здорового приютского пса, она озвучивала собравшимся план спасения. Когда Саня подошёл, речь шла о ярмарке собак.
– Так тем более! Раз у вас знакомые в администрации парка – добейтесь! Проведём мероприятие в ближайшие выходные, прямо в парке. Пусть выделят место! С программой и пиаром в Сети поможем. Если ярмарка не сыграет – найдём передержку, – чётко разложила она план действий. – А вообще, ребята, зря вы сторонитесь общества. Давайте-ка организовывайтесь, общайтесь с единомышленниками! Нас много – вместе легче.
Слушая трезвую речь Виолетты, Саня поглядывал на собравшихся. Он видел, что Ася, полуотвернувшись к стене шахматного павильона, сковыривает с доски облупившуюся краску, а Курт и вовсе не участвует в происходящем, уйдя в созерцание крошек, падающих из-под Асиных пальцев. Татьяна, напротив, – вся внимание. На её лице суровое согласие с тезисами спикера. Наташка слушает с тревогой, сдвинув белёсые брови, и крепким плечом амазонки – наездницы и фехтовальщицы – подпирает сидящего тут же, на ступеньке домика, Пашку. Взгляд государя пугающе пуст. С отросшими волосами, в куртке и шарфе посредине майского дня он выглядит беспризорником.
– Паш! А теперь слушай меня внимательно! – сказала Виолетта и строго, с нажимом взглянула на закутанного в шарф государя. – Если действительно жалеешь хвостиков – оставь романтику. Хватит дуться на чёрствые сердца. Пристраивать безнадзорных животных – это, брат, реализм! Ясно? Эй! А чего это ты отворачиваешься? – удивилась она.
– Отворачивается, потому что это семья. И из-за чьей-то злобы её надо разрушить! – бросив отколупывать краску, сказала Ася.
– Здесь у них шамбала, – склоняясь к Виолетте, пояснил Болек. – Очень священное место.
– Ну, шамбала! Здрасьте! – развела руками Виолетта. – Если вы хотите, чтоб вашу святыню отсюда люди в спецодежде отгрузили, – тогда конечно! Скажи-ка мне, милый, ты собакам счастья желаешь или это твой потешный полк?
– Ага, потешный! В больничку играем! – огрызнулся Пашка.
– Паш, ты что думаешь, я обижусь и уйду? – сказала Виолетта, подойдя к ступенькам и уставившись на Пашку упрямым взглядом. – Я твои чувства понимаю, но лафа закончилась. Предлагаю начать с конкретного дела! У нас двух собак хотят взять, в загородный дом. Хозяева приезжают на выходные, а они там будут при стороже. Я готова попробовать пристроить вашего вот этого, Дружка! Для почину просто – чтоб ты понял, как это бывает. Дружок, ко мне! – скомандовала она.
Дружок радостно подскочил на зов и боднул Виолетту в ногу.
– Ох ты, молодец какой! – похвалила она и сунула ему лакомство. – Давайте попробуем. Может, приглянется хозяевам. Не обещаю – но вдруг?
Саня перехватил отчаянный Пашкин взгляд и знаком – бегло коснувшись ладонью губ – попросил его не спорить. Он помнил истории всех его питомцев и знал, что каждой своей собакой Пашка гордится, почитая увечья и хвори за ордена. У Тимки не было лапы, но осталась весёлая щенячья прыть. У Фильки лапы были все – но колесом, кроме того, его отличала грустная седая морда. Василиса-падучая славилась сарафаном свисающей до земли шерсти. Мышь с покалеченным позвоночником умела петь. Агнеска была самой напуганной собакой в мире, к тому же на шее у неё после месяцев, проведённых в железной обмотке, так и не выросла шерсть, при этом, по уверениям Пашки, она обладала особой собачьей мудростью.
А Дружок был просто Дружком, крупным, со скуластой мордой и историей литературной Кусаки. Слезливая пенсионерка привечала юного пса, пока было тепло. Он радостно бегал за ней в лес по грибы и провожал машину до поворота. В октябре «хозяйка» уехала. Дружок не знал других собак и не успел до морозов прибиться к стае. А потому, отчаявшись отыскать мышку в мёрзлой земле или хоть какой-нибудь съедобный мусор вдоль обочин, возвращался к заметённому снегом забору. Там и нашёл его Пашка. Они с Татьяной приехали в посёлок по чистой случайности – Танина знакомая предложила забрать ненужный ей диванчик, украшавший теперь шахматный павильон.
Всю дорогу в машине, обнимая истощённую собаку, Пашка доказывал вопящей Татьяне, что пёс прекрасный. Когда сойдёт иней – она сможет оценить редкий окрас. К тому же он молодой. Пашка пристроит его в неделю!
Окрас оказался обыкновенным, уличным. Пристроить Дружка не удалось, или, может, Пашка плохо старался. Зато теперь, на фоне стариков и калек, пёс выглядел самым перспективным.
– Собирайте дорогушу со всеми бумагами, прививками. Привезёте к сотруднице нашей, Ире, я скажу куда. Лучше прямо сегодня. Их надо ещё успеть с Бармой сдружить – в паре ведь работать! – заключила Виолетта. – Ещё и не факт, что сдружатся.
– Барма – это в честь строителя собора Василия Блаженного? – спросил Курт. – Или это от бармена?
– От Бармалея! – с укором сказала Виолетта.
Её энергичные глаза, вдруг погрустнев, обежали собравшихся и остановились на Болеке. Прославленный коуч, на методиках которого Виолетта вершила свой карьерный рост, не мешавший, однако, волонтёрской работе, ответил ей понимающим взглядом. «Да! Они дурачки! – подтверждал этот взгляд. – Сами видите, если не помочь – пропадут».
Необходимые контакты Виолетта переслала Наташке. Ей же были даны устные инструкции, что требуется подготовить и куда отправить, чтобы информация о ярмарке разлетелась в Сети.
На прощание Виолетта ещё раз подошла к Пашке.
– Дружка собирай смело! Люди проверенные – у них давно собаки.
Пашка поднял шарф до глаз и отвернулся.
Тогда с решительной непосредственностью Виолетта взяла в ладони Пашкину голову и развернула к себе.
– Паш, ну ты что! Ты же мужчина геройский! – И вдруг, расширив и без того большие глаза, воскликнула изменившимся голосом: – Ребят, да он у вас горит! Ребёнок у вас горячий! Градусник есть? – И с лицом, утратившим напор и твёрдость, по-матерински напуганно, прижала губы к Пашкиному лбу.
Так закончилось совещание по вопросам ликвидации приюта. Татьяна побежала к Людмиле в администрацию спрашивать насчёт ярмарки. Болек пошёл проводить Виолетту к шоссе. А Саня загнал Пашку в дом и, игнорируя протест пациента, учинил осмотр. В бронхах гудел баян. «Не будешь лечиться, допрыгаешься до пневмонии – и это в канун экзаменов!» – вынес он свой вердикт. Тогда пациент вырвал у доктора фонендоскоп и послушал себя сам, после чего заявил: хватит бы врать! Всё чисто!
Препирательство немного разогнало тоску. Больному дали жаропонижающее из Татьяниных ветеринарных запасов. Было решено, что ребята, когда повезут Дружка, закинут Пашку домой, к деду.
– Паш, не печалься! – говорил Саня, пока государь складывал в рюкзачок свою математику. – Вы же с Таней изначально мыслили это место как передержку. Ты подлечил их, выходил – но ты не можешь положить на это жизнь. Сейчас главное – экзамены и поступление, а там получишь образование и сможешь очень многое. Но пока, я тебя прошу, скрепись, будь разумным!
Саня понимал, что говорит как занудный взрослый, и внутренне морщился от собственных слов, но всё равно говорил, потому что чувствовал – нельзя останавливаться. Надо уболтать Пашку, бессовестно запудрить ему мозги.
– Бывало, и храмы сгорали, Паш. Человек строил церковь долгие годы, а потом её уносил пожар, но это не значит, что ему надо было во всём разувериться!
– Церковь – это здание, а они живые, – огрызнулся Пашка. – Дружок ещё ладно, он здоровый, приживётся на новом месте. А этих как отдавать? Только на мучения… Я уеду с ними! К отцу! – внезапно решил он и сосредоточенно посмотрел вперёд – словно увидел на месте стены свою дорогу.
– Паш, ну что ты ерунду говоришь!
– Я не могу их отдать! – рявкнул Пашка и, швырнув рюкзак, плюхнулся на диванчик, обхватил руками голову. Помолчал и повторил тихо: – Я не могу их отдать. Умереть им дайте спокойно!
Сев к Пашке на диван и положив ладонь ему на плечо – оттянуть тоску, Саня внимательно слушал бред болеющего ребёнка.
– Они же невинные! Они не хотят казаться лучше, чем есть. Вот они старые, хромые, зубы у них плохие – а пляшут вокруг нас и улыбаются, как будто они прекрасные и молодые! – городил Пашка в дурмане расцветшей болезни. – И они все прекрасные и молодые, я их вижу там внутри, через шкуры… Ладно. Пойду к Джерику, а то он там один, – проговорил он, очнувшись. – Да и вообще их всех в дом уже пора. – И стал застёгивать куртку.
Пока Пашка, отказавшись от помощи, занимался собаками, Саня сел на корточки и, поломав на жестянку сухие веточки, «закурил» у крыльца костерок. Крохотное пламя, поддерживаемое лесным сором вроде кусочков коры и берёзовых крестиков, горело ровно, и дым был сладким.
– Александр Сергеич, почему он ничего не хочет делать? – подсев, шепнула Наташка и, сморщив нос, ткнулась Сане в плечо.
– Потому что он хотел сберечь приют целым, Наташ, чтобы все были вместе, все, кто к кому привык. И потому что он верил в защиту и не может смириться.
– А что же они не защитили? – сдвинув белёсые брови, спросила Наташка. – Потому что никого нет? Нет никакого Бога, ангелов, да?
– Есть, Наташ. Я думаю, они всё время защищали приют. Просто мы плохо им помогали.
– Ну вот. Я же говорила, к Трифону надо съездить! – воскликнула Наташка и, помолчав, спросила: – Александр Сергеич, а вы молитесь?
– Молюсь, но плохо.
Наташка поглядела с укором.
– Разгребу немножко дела – и помолюсь хорошо. Изо всех сил… – проговорил он, чувствуя, как накатывает, словно фары ночной машины, сознание невыполненных долгов.
– Александр Сергеич, а если очень хороший человек очень хорошо будет молиться – может вырасти, допустим, у Тимки новая лапа? Ну, то есть я понимаю, что она вырасти не может, но всё-таки? – спросила Наташка.
Саня, уплывая в дым костерка, с тихим изумлением взглянул на девочку.
– Я тоже понимаю, что не может, – проговорил он, вытирая защипавшие от дыма глаза рукавом. – Но всё-таки может. Просто на памяти современного человечества ещё не было такого случая. Но это не значит, что его никогда не будет.
Наташка молчала, глядя на дым, насупив белёсые брови. И Саня тоже смотрел на дым и думал о том, что ещё сбросить, какой балласт, чтобы плот не затонул так быстро? Перебрал «личное имущество» – скромные остатки себя. Час перед сном с книжками… Да, это роскошь, отдых. Что ещё у него из роскоши? Завтракает на лету, ужинает стремительно, в обед если перекусывает вдруг, то не по своей воле – заботами женского медперсонала… Эх, совсем нет «балласта». Всё скинул давно, а последний груз – утешение сигаретой – превратилось в дымок из щепок.
От берёзовых семян пахло печным дымом. «Накурился» Саня до слёз. Прикрыл костерок куском сырой фанеры и придержал – потухло.
– Пойдём, Наташ. Надо собираться.
Тут и Пашка закончил возню с животными.
– Наташ, собирай Дружка! – велел он, загоняя собак в шахматный домик. – Там в кабинете у Тани карта его, с прививками, и, обернувшись к Сане, прибавил: – Александр Сергеич, а я вот люблю, когда на них заводят медицинские карты! Там пишут: имя такое-то, вид – собака. И даже иногда вызывают на приём по имени и фамилии. Например: собачка Василиса Трифонова, проходите! И вроде получается, собака тоже имеет право на жизнь, а не только человек. Вот когда их так вызывают – нравится мне…
Он помолчал, вытер набегающий пот – щедрая доза жаропонижающего подействовала – и, оглядевшись, спросил:
– А где все?
– Курт за машиной пошёл. Татьяна у Людмилы, – напомнил Саня. – Ушёл бы ты с ветра, Паш!
Развезти команду по адресам – Пашку домой, а Дружка с Наташкой к Виолеттиной подруге – вызвался Курт, чем немало удивил Саню. Он думал, что после аварии Курт уже не сядет за руль.
Через полчаса по Татьяниной карточке открылся шлагбаум на боковой аллее и Курт проехал в глубь парка. В машину сели Пашка, Дружок, Наташка и, за компанию, Ася. Асю с Пашкой следовало доставить домой, прочих – на Войковскую.
Дружок, изумлённый своим неожиданным положением, вывалил язык и, часто дыша, смотрел в опущенную форточку. До сих пор он ездил в машине только один раз в жизни – в день своего спасения.
Ася села на переднее сиденье рядом с Куртом и, плотно сжав губы, уставилась вперёд. Выражение, которое Саня увидел на лице своей младшей сестры, ранило его нелепой воинственностью. Как будто Ася схватила ржавую жестянку и, наспех проделав дырки для глаз, вдавила эту маску в своё нежное лицо – отпугивать обидчиков. Вряд ли кого-нибудь устрашит это жалкое лицедейство, зато от боли и напряжения из-под маски вот-вот потекут слёзы.
Заметил Саня и несвоевременное, растерянно-радостное выражение лица Курта. С любящей тревогой, как жених, тот поглядывал на сидевшую рядом Асю, иногда оборачивался назад, на детей, и никак не решался тронуться. Саня успел протянуть Пашке в форточку ладонь. Отметил с удовлетворением – тёплая и влажная. И велел на прощание:
– Не тирань деда!
Когда машина отъехала, Саня вернулся на пустой двор. Собаки были заперты. Склонив шею, на него грустно глядела кривая сосна, а рядом на высоких струнах, закреплённых под самые небеса, болталась доска качелей. Её покачивал ветер. Ветер присел на доску и, смеясь, оттолкнулся.
45
На качелях, в крепкой задумчивости, нападавшей на него временами, и застал Саню Болек. Он проводил Виолетту до выхода из леса и вернулся, собираясь ещё раз «промыть мозги» местному сборищу сумасшедших. По дороге ему встретилась Татьяна, катившая домой коляску с Джериком. Одним союзником меньше! Когда же он обнаружил, что в приюте остался лишь Саня, то вздохнул со смесью разочарования и облегчения. Ну что ж, тогда Саня пусть и берёт на себя ответственность!
– Вернулся? – встрепенувшись, приветствовал его брат и спрыгнул с качелей.
– Ну, как вахта? Всё мирно? – спросил Болек.
– Наврал я Пашке, что не уйду! – проговорил Саня. – К Марусе мне надо, совсем я уже подлец. А не наврал бы – он бы здесь остался ночевать!
– Вот именно! – кивнул Болек. – Жизнь хорошего человека неизбежно полна вранья. Абсолютную честность может позволить себе только безжалостный! Слушай, а может, чего-нибудь тёпленького? – спросил он, зябко передёрнув плечами. – Ну, там, чайку?
Саня решил не тревожить угомонившихся собак. Кипятить чайник пошли в Танин ветпункт. В кабинете пахло практической медициной и Джериком. Окно выходило на окружённый лесом вольер для тренировки щенков, посещавших Татьянину школу. Открыв окно, чтобы выветрить ветеринарию и впустить лес, Саня расположил на подоконнике чашки, банку кофе, сухари с маком и пригласил гостя «к столу».
– Честно сказать, я под странным впечатлением от всего этого, – признался Болек, глядя в окно, на тёмный парк. – Странным, но сильным… На первый взгляд – какой-то мелкий хмурый пацан, не шибко умный. И при этом – такая упрямая цельность. В самом деле – собачий царь! Слушай, а почему Полцарства? – живо обернулся он к брату. – Полцарства добра – полцарства зла?
– Да нет. Просто полцарства, – проговорил Саня. – Здесь вот, по эту сторону спортбазы – это Татьянина территория. А там приют. Я уже не помню, кто это придумал. А… Да вот у Тани раньше школа для щенков называлась «Собачье царство». Ну, типа как «собачье счастье» или «собачья радость»…
– Ну, вывеску вашу придётся забрать с собой! – загадочно проговорил Болек и, поставив чашку на подоконник, открыл перед братом планшет. – На вот, смотри. Устраивает?
Саня взглянул на экран и увидел карту с пунктиром железной дороги и обведённым красной линией прямоугольником территории.
– Что это?
– Земля, которую можно получить под приют. Недалеко. Там ангары за железной дорогой, их не используют, а дальше есть неплохой кусочек – прямо по границе с лесополосой, можно гулять с животными. На участке старая «ракушка» – переоборудуем под сарай. Паша несовершеннолетний, поэтому договор придётся оформить на кого-то из вас. По процедуре регистрации у Виолетты есть человек. Скинуться только надо на оказание услуги.
Саня отложил планшет и в тихом изумлении, не веря творящемуся, взглянул на брата.
– Вообще-то план Виолетты правильный. Трезво, без иллюзий, найти передержку и продолжать организованные действия. Я бы так и поступил, если бы не Пашка. И не Ася.
– Почему Ася? – быстро спросил Саня.
Болек вздохнул, раздумывая, делиться ли с братом своими сомнениями. Он всерьёз опасался, что исчезновение приюта, подобно утрате любимого, утащит в свою воронку лучшую часть души тех, для кого он был важен.
– Пойдём, что ли, на воздух? – сказал он вместо ответа и, подхватив свою чашку, первым вышел во двор. – Честно, Саня, я не понимаю, как ты это всё допустил. Ведь ясно было, что вас погонят.
– Это был «прыжок веры», – проговорил Саня, следуя за братом. – У меня были такие случаи в практике. Когда при большой вере судьба поворачивалась лицом… – Тут он покачал головой и прибавил: – Да нет, нечего оправдываться. Конечно, я виноват!
– А знаешь, я, пожалуй, соглашусь насчёт «прыжка веры», – сказал Болек. – И, кстати, он вам удался. По крайней мере, Пашка меня убедил, что приют должен остаться целым. Переместим вас, не дробя! Святые мощи и то переносят, ничего им не делается, авось и ваш скит выживет.
Выйдя к шахматному павильону, Болек взглянул на замершие качели – воплощение тишины – сел и оттолкнулся.
– В общем, так! – глядя снизу вверх на Саню, подытожил он. – Наша с тобой задача – мягко переключить юных максималистов на созидание. Пусть обустраивают новое место. Так что задвинь на время беготню по старикам. Общайся с Пашкой, с Асей, и поплотнее. А я займусь участком.
– Болек, зачем тебе всё это? – прислоняясь плечом к берёзе, спросил Саня.
– Удивляет мой альтруизм? Не волнуйся, это вовсе и не он! Я просто хочу, чтобы моё добро было цело! То есть в данном случае меня прежде всего интересуют родственники, а именно Ася.
Саня кивнул:
– Ясно.
– Кстати, о «добре»! – сменил тему Болек. – До меня дошла любопытная информация по поводу Сонькиной аварии. Не знаю, известна она тебе или нет. Надеюсь, что да. Одним словом: не пора ли нам исправить бредовую ситуацию? Я имею в виду, пусть саночки возит тот, кто любит кататься!
Саня протянул руку и, взявшись за трос, остановил движение качелей.
– Откуда ты знаешь? Софья тебе сказала?
– Нет, конечно! Сонька у нас человек героической высоты духа, она товарища не выдаст! – со всей серьёзностью возразил Болек. – Я узнал непосредственно от автора события. Вообще, автор этот не перестаёт меня изумлять… Короче, предлагаю призвать к ответственности подлечившегося гражданина Никольского! Софья сделала всё, что смогла. На момент катастрофы для него это действительно было бы критично, но теперь он вполне себе в форме. Распробовал вкус жизни! Может, пусть попашет?
Саня слушал взволнованно, ещё не поняв, на пользу ли, что Болек решил ввязаться и в это дело.
– Ты говорил с её адвокатом? – продолжал Болек. – Если мы представим следствию истинного виновного – это поможет Софье? Или уже поздно? Я, к сожалению, не в курсе этих вопросов. Никогда, тьфу-тьфу, никого не переезжал.
– Погоди! Так тебе это Курт рассказал? Сам? – перебил Саня. – Послушай, но тогда ты связан врачебной тайной!
– Я ничем не связан! Я его предупреждал – никакого лечения. Мы просто разговариваем! – придерживая досаду, возразил Болек.
Саня опустил взгляд.
– Нет! Нельзя сначала помиловать, а потом передумать! – потирая наморщенный лоб, сказал он. – Сонька, даже если согласится, потом себя не простит.
– Вот поэтому я и предлагаю решить за неё! Просто поставить перед фактом!
– Мы не имеем права решать за Софью, – возразил Саня. – Мы не можем за неё знать, как правильно. Нам это не видно… Только она сама.
– Ты совсем, что ли, Саня? – возмутился Болек, поднимаясь с качелей. – Твоя родная сестра будет отдуваться за полного сил разгильдяя, а ты решение боишься принять?
Саня, желая почувствовать сердцем правду и не чувствуя, не различая её среди многих тревог, в растерянности смотрел на брата.
– Ладно, – вздохнул Болек. – Давай пока повременим. Прости.
Трудный разговор миновал. Болек собрался домой, но как-то фразы зацепились одна за другую, и во дворе шахматного павильона возник призрак волжского городка. Братья вспомнили сеансы гипноза от Болека – когда пятнадцатилетний маг враз усыплял девчонок, покачав перед ними ключом на веревочке – кажется, от сарая. Вспомнили потом, как вздумали переночевать в затопленной колокольне, но поссорились в лодке. После битвы на воде домой возвращались вплавь, и дальше было как всегда: утром наказанный Саня полол огород, а Болек в постели, под нежным присмотром бабушки, пил какао.
Ещё несколько минут они болтали о случайных, не относящихся к делу вещах, и оба чувствовали обретение, смысл которого пока не могли сформулировать точно.
На одном из пассажей Саня безо всякого повода выпал из разговора и, переменившись в лице, проверил сообщения на телефоне.
– Марусе не позвонил? – догадался Болек.
– Главное, что и она не звонит! Вот сейчас приду – а там никого! И не было…
– Ну и что? Хочешь сказать, ты расстроишься?
Саня, не понимая вопроса, взглянул на брата.
– Саня-Саня, – покачал головой Болек. – Как же ты живешь? Ладно, беги! Я тут пока побуду.
– Вот спасибо! – воскликнул Саня. – Я Курта попрошу – он, может, придёт!
Когда Саня умчался, Болек, накинув чью-то «местную» куртку, расположился на крыльце и подытожил свои успехи: за короткий срок с вершины карьеры он съехал, как по гигантской ледяной горке, в лесную глушь, на лавчонку – сторожить бесхозных дворняг. И, надо признаться, метаморфоза нравилась ему! Вот, пожалуйста, и отношения с братом налаживались. Раздумывая о родственниках, он так хорошо, глубоко ушёл в свои мысли, что вздрогнул, когда из тьмы орешника вынырнула беловолосая девочка.
– Ну что, отвезли Дружка?
– Ага. Неизвестно ещё, понравится он или нет. Может, не возьмут! – сказала Наташка и, подойдя, посмотрела на Болека строгими льдинками глаз, молчаливо спрашивая, что он здесь делает и где, собственно, Александр Сергеевич.
– Саня пока домой побежал – своих проведать. А ты чего вернулась? – спросил Болек.
Оказалось, Наташка в суете забыла рюкзак с учебниками. Если родители заметят – прибьют, и так изворчались за тройки.
Пришлось отпирать павильон и будить собак. Ну что же, пусть, если кто хочет, заодно и попасётся во дворике!
Пока собаки гуляли, Болек исподволь наблюдал за сменой чувств на личике девочки. Ему хотелось понять причину её заметной, граничащей с тоской печали. В отсутствие друзей Наташка не считала нужным скрывать её, а может, к ночи уже не осталось сил «держать лицо». Жалко ли ей разлуки с питомцами? Или жалко Пашку, которого она любит самой грустной первой любовью? Или жалко себя и этой своей трудной любви к собакам и Пашке?
Должно быть, всего понемногу. Да и какая разница! Любопытство набежало и сошло. В этом странном месте Болек наконец почувствовал свободу от профессии. Здесь в его обязанности вовсе не входило «проявлять эмпатию». Можно было просто сидеть на лавке зябким нахохлившимся подростком, озирая вечерний парк.
Болек поленился проводить Наташку до «железки», однако почувствовал нечто вроде угрызений совести, когда она уходила. По обычаю Спасёновых ему захотелось крикнуть вслед: «Позвони, как доберёшься!» – но пока что он был чужой и не имел права на подобное проявление заботы.
Уже за полночь его сменил Курт. Виновник всех передряг был тайно рад, но сдержан и не лез с разговорами.
По освещённой аллее Болек дошёл до шоссе и поехал домой на такси.
Глава девятая
46
Худо было Лёшке в первые майские деньки – так худо, что он не заметил ни ранней зелени, ни оживления улиц, обрадовавшихся теплу. Жизнь выпала из рук, а может, ушла из-под ног.
Уже не первый день после тренировок, помимо хлеба насущного, он приносил в свою тоскливую комнату немалое количество пива, придвигал к диванчику служивший столом табурет и, не открыв ни одного из имевшихся в наличии гаджетов, ужинал, тупо глядя в окно – на маковки близкого храма. Дядя Миша рассказывал юному Лёшке раз пять весёлую байку о том, как в Климентовском острожке во времена Минина и Пожарского засели поляки с припасами и как были выбиты бравым казачеством, охочим до вражьих харчей.
«Да! Вот здесь оно и было, прямо напротив!» – как-то раз, отхлебнув пивка, сообразил Лёшка и отпрянул. Вдруг померещилось, будто сам дядя Миша, притаившись за шторой, беззлобно и горестно завидует его трапезе.
Явление «призрака», пусть и весьма смутное, впечатлило Лёшку. Он вскочил, прошёл по тёмному коридору и вылил остаток бутылки в раковину. Умылся и, обдумав сложившиеся обстоятельства, ясно понял: если не хочешь стать дядей Мишей, с жалостью к себе придётся завязывать!
Первым делом Лёшка вытряхнул из сумки вывезенные от Спасёновых институтские учебники и распечатки, разложил на столе и, окинув взглядом их удручающий пасьянс, забил в телефон напоминание. Утречком, с семи и до первой малышовой группы, будешь зубрить как миленький. И восстановишься!
Разобравшись с учёбой, Лёшка оглядел комнату. Жалко было отчий дом, но пришла пора проститься. Может, и не случилось бы всей беды, реши он жилищный вопрос вовремя. Жили бы сейчас с Асей в своей квартирке. Значит, так: обои подклеить, окна вымыть, сантехнику вычистить. А документы все у него в порядке. Завтра можно звонить риелторам.
Ещё немного поразмыслив, он вырвал лист из институтской тетради и написал записку дяди-Мишиному наследнику:
«Уважаемый сосед! Я собираюсь в ближайшее время продать свою комнату. Если после вступления в наследство вы тоже будете продавать, давайте согласуем наши действия с целью взаимной выгоды. Прошу вас позвонить мне по нижеследующему телефону или оставить свои контакты (можно на зеркале)».
Гордый получившимся текстом, Лёшка сунул записку под дверь соседа и вернулся к себе. Открыл окно и выглянул. Плотно гудело вечернее Замоскворечье, пахло сыростью и едой – в окрестных кафе гостям подавали ужин. Но родной двор был пуст и спокоен. Зазеленевший тополь – живой мамин посланник – ласковым шёпотом благословил Лёшку на все его начинания. И откуда-то вдруг прибыли силы! В жизни, заваленной буреломом, расчищалась понемногу тропа.
Лешка собрался с духом и сформулировал последнее и главное: настало время защитить своё имя от клеветы!
Как известно, сначала нужно было искать мотив: кому и с какой целью могло прийти в голову покрывать свои тёмные дела его честным именем? Логично было предположить, что это тайный Асин поклонник вздумал оклеветать его в глазах жены. Поклонник-живодёр! Но откуда у неё взяться такому? Вряд ли.
Лёшка открыл планшет и, преодолев брезгливость, разыскал в Интернете площадки, где тусуются звероненавистники. Хмуро прочёл безграмотные и сладострастные исповеди серийных убийц и задумался. Больше всего его поразило, что все эти граждане талдычили о патриотической любви к столице и борьбе за её чистоту, о спасении жителей от угрозы клыкастых тварей.
Никогда Лёшка не питал страсти к животным. Не то чтобы «не любил», скорее просто не выделял им места в сознании. И теперь чем глубже он погружался в тему, тем дурнее ему становилось на сердце – как будто он, такой славный, добрый и справедливый, своей безучастностью принял сторону нелюдей.
Наиболее типичные высказывания с форума Лёшка, скалясь и выпучивая глаза, как будто это могло помочь ему избежать отравления адскими испарениями, скопировал в отдельный файл – для грядущего разговора с Асей. Получилась подборка беспрецедентной силы воздействия. Первый лист с цитатами выглядел так:
«Бродячие собаки живут, паразитируя на человеческом обществе. Поэтому, когда вижу собачку на дороге, дёргаю машину в её сторону – чтоб одной меньше. Конечно, вмятины бывают, и кишки потом противно до мойки везти. Но того стоит. Кстати, появилась мысль: заразить собачку чемнить вирусным, чтоб с гарантией косило. Братья, если среди нас есть медики-химики, поддержите идею!»
«Сегодня убил шмоньку. Шёл на работу, кинулась паскуда, без лая. Как увернулся, х. з., но попал удачно. Шмонька начала кружиться на месте, добил паскуду ногами, обутыми в штурмовые берцы».
«Чем меньше кошек – тем спокойнее на душе. Вчера вот убил одну кошачью тварь палкой (оглушил, потом добил как следует) – и так спокойно стало, хорошо. Сегодня по плану ещё одну надо бы прибить. Пневматику можно использовать, но есть шанс промазать. Буду ещё ядом подкармливать этих мяукающих мразей».
Глядя на этот живой, колышущийся яд, Лёшка впервые подумал, что очевидное безумство «хантеров», как называл себя и товарищей главарь живодёров, обладает негласной поддержкой масс. Сонмы любителей травли и расправы, в разгар сталинизма строчивших доносы, никуда не исчезли. Они по-прежнему растворены в обществе. Но до поры, пока им вновь не укажут «великую цель», функционируют в дремлющем режиме, утоляя жажду мучительства бытовой агрессией против слабейших, включая собственных детей и стариков.
Никогда ещё Лёшку так не накрывало «историческим контекстом». Он читал записи форума и сознавал: питательный слой, на котором во все эпохи взрастало большое зло, был в целости и ждал своего часа.
Вспотев от непривычной работы мысли, Лёшка бросил планшет и прошёлся по комнате. Он понял Асю! Она спасала тех, кто был намечен в жертвы, а он, тупой идиот, мешал ей.
В смятении чувств Лёшка убрёл на кухню. Поставил чайник и, не дождавшись, пока закипит, вернулся к себе. Схватил планшет и снова зашёл на форум. Записи шли бесконечной лентой, но ни в одной из них не было намёка на недавний поджог приюта. Тогда, стиснув зубы, он прошёл процедуру регистрации и написал вдохновенный текст, родившийся сам собой:
«Всем привет! Твари достали настолько, что хочу присоединиться к ополчению. Как мне это сделать? – Пальцы скрючило. Лёшка набрал воздуху и, чувствуя прилив куража, продолжил: – Ходил любоваться разбомблённой базой блохастых в лесопарке. Много тварей уцелело. Если кто курирует это местечко, готов помочь. Сам живу рядом, хочу вернуть родной парк людям».
«Хантер… – усмехнулся Лёшка, закрывая планшет после выполненной работы, грязной, но благородной. – Щас тебе, “хантер”! Чмошник ты – и всё!»
Теперь оставалось держать кулаки, чтобы гад заглотнул наживку.
Следующим утром, прочитав на сайте института правила восстановления, Лёшка почувствовал накат бодрости и отправился на Пятницкую – поймать Асю и доложить ей о ратных планах. С собой прихватил планшет с подборкой «цитат».
* * *
В то утро Ася проснулась с колотящимся сердцем. В глазах было зелено от ярчайшего сна, но она не помнила содержания. В доме пахло свежесваренным какао, как в далёкое зимнее воскресенье, когда все они были детьми.
Ася полежала ещё немного с закрытыми глазами. Вчерашний день, потихоньку выпрастываясь из-под сна, являл ей то один, то другой эпизод. Она вспомнила речи Виолетты, и как сдавала Илье Георгиевичу Пашку, не проронившего за всю дорогу в машине ни слова, даже не попрощавшегося с Дружком. Вспомнила потом, как сперва неуверенно, а затем весело, резко вёл машину Курт, при этом то и дело поглядывая на неё с ободряющей улыбкой. Он совсем не обиделся на неё за побег с разделительной полосы. Ася теперь и сама не понимала – зачем сбежала? В самый тяжёлый, разрушительный момент человек принёс ей свою любовь. «Он мой брат! – подумала она вдруг. – Да, он сейчас больше мне брат, чем Саня!»
Придя на кухню, Ася поняла, что одна в квартире. Софья отвела Серафиму в сад и поехала в офис. От их поспешного завтрака осталась невымытая посуда и немного какао в турке. «Вот и чем ей помешала Марфуша? – раздражённо переставляя посуду в раковину, подумала Ася. – Всё равно её дома не бывает!»
День вступал в силу, возвращая Асе прежнюю душевную ломоту. Даже не подумав о завтраке, только глотнув воды, она собралась в единственное место на планете, где для неё оставалась жизнь. Но сначала – проведать Пашку!
Выйдя на лестничную площадку, Ася увидела, что коричневый дерматин на двери Трифоновых снизу порвался, из-под него голо торчал угол доски; подошла и позвонила. Дверь открыл Илья Георгиевич – не улыбнулся, только сказал со вздохом:
– Проходи, Настюша!
Его чубчик был спутан, во все стороны торчали седые волоски – старик с утра не заглядывал в зеркало.
Ася вошла в прихожую и прислонилась к стенке. В квартире у Трифоновых пахло кореньями, сушёной петрушкой. Илья Георгиевич затеял суп.
– Как Паша? – спросила Ася. – Разболелся?
– Мало, что разболелся. Уехал, – тихо, без привычных восклицаний сказал Илья Георгиевич.
– Скоро всё закончится, не волнуйтесь. К экзаменам будет свободен.
– Я уже не об экзаменах и не о здоровье, – произнёс старик серьёзно и сдержанно, так что Ася с удивлением вгляделась в его изменившееся лицо. В нём не было обыкновенного выражения жалобы. Он говорил так, как будто закончилась вдруг игра.
– Вы с целым миром вступаете в конфликт. А мир – он намного больше, чем вы. Он вас сотрёт, как стёр моего Колю. Изгнал из реальности в воображаемый мир. Там денег нет, ничего нет, зимы по тридцать градусов, сырость. Что он там делает? А вдруг пьёт? Я даже и не знаю. Мучает и себя и нас. Но это ведь уже не человек, а так…
Ася, нахмурившись, слушала небывалые речи соседа. Куда-то делся вдруг смешной состарившийся Пьеро, и она не могла понять – кто зашёл на его место?
– Илья Георгиевич, что с вами? – тихо спросила она.
– Я уже старый, деточка, сердце изношенное, побаливает, – спокойно объяснил он. – Что бы Саня ни говорил… И вот я подумал – некогда мне уже трусить. Надо хотя бы честно смотреть на творящееся. Паша бежит от учёбы, от деда своего – в какие-то собачьи царства, выдумывает себе несуществующие препятствия. И ты тоже, Настенька. Мне Соня рассказала про твой конфликт на курсах. Ты послушай меня: во всех нас нет смирения! Все мы недовольны, требуем, бастуем – и я первый. А надо просто исполнять свою жизнь, пусть это трудно и нудно. В этом нудном труде – наше человеческое достоинство. Настюша, надо себя собрать и жить, ходить на работу!
Раньше Ася смутилась бы и согласилась, хотя бы для виду, но теперь ей показалось стыдно врать, скрывать от старика своё крушение.
– Илья Георгиевич, на какую мне работу? Я всех ненавижу. Всех обычных нормальных людей – не могу видеть.
– И меня? – серьёзно спросил старик.
– Вас нет, потому что вы – Пашин дедушка. И ещё вы хрупкий. Я здоровых ненавижу. Здоровых, жестоких и тупых! Они, когда видят бездомное животное, думают, что это обломок асфальта. Может, у них галлюцинация такая – от здоровья? Подумаешь – обломок асфальта скулит! Они ещё и службу могут вызвать, чтобы его с дороги убрали. Они не люди, Илья Георгиевич. Не люди в том смысле, в каком задумал Бог! – говорила Ася всё горячее и громче. – А если честно, я не думаю, что человек и вообще Божий! Я думаю – мы плод какого-то вынужденного соглашения! Человеческую душу разделили, как Германию после войны! Стал бы разве Бог нарочно в нас зло допускать? Что он, маньяк? Любитель кровопролития? Нет. Просто территорию поделили. Поэтому среди нас есть представители чистейшего зла, чистейшего! И всегда были. И всегда будет бой.
Илья Георгиевич слушал Асю с нарастающей грустью. Он ещё не привык, что младшенькая Настя Спасёнова с пушистыми волосами и нежными веснушками, улыбчивая и восторженная ко всякой мелочи, переродилась.
– Ладно, Настенька, поступай как знаешь, – заключил он со вздохом и даже не стал просить, чтобы Ася в приюте приглядела за Пашкой. Теперь за ней самой нужен был глаз да глаз.
Ася вышла на улицу и на перекрёстке, где обычно переходила дорогу к трамваю, была поймана самым страшным человеком на свете – собственным мужем. На этот раз он не церемонился с ней. Налетел, стиснул плечи и, прижав к стене дома, ткнул в руки планшет.
– Читай! – велел он. – Вот тут читай! Видишь?
Ася незрячими глазами посмотрела в экран.
– Ну! Ты поняла, кто это сделал? И я их выцеплю! Выкурю их – и так придавлю, что мозги наружу полезут! – вполголоса, чтобы не привлекать внимание прохожих, грозился Лёшка. – Поймаю и приволоку тебе – полюбуешься!
Через силу Ася выпила несколько строчек невыносимого текста и подняла глаза на Лёшку. Наконец ей сделалось ясно его намерение. Он собрался свалить вину на шайку живодёров.
– А вот это я! Вот – аватарка с бумерангом – это я! Я к ним внедряюсь! Видишь? – объяснял он, тыча пальцем в картинку.
Лёшкины слова долетали до Аси сквозь гул. Её мучил унизительный плен, из которого она не могла вырваться. Но, если она решила сражаться, ей придётся быть крепкой, и физически тоже! Изо всех сил толкнув Лёшку, она нырнула под его рукой, упёртой в стену, и оказалась на свободе. Планшет упал на асфальт, светофор переключился на красный, но Ася, как тогда, с Куртом, уже была на другом берегу.
Она бежала, не оглядываясь, задевая локтями прохожих. Голос за её спиной, продолжавший требовать какой-то дикой, перевёрнутой справедливости, угас в гуле машин.
Ася не стала обдумывать встречу с Лёшкой – ей хотелось поскорее отдалиться от него и в пространстве и в мыслях. Она жадно смотрела вокруг, стараясь отвлечься на что-нибудь доброе, но не находила ничего, кроме трещин, разбегающихся по некогда милому миру. Огненная и летучая ненависть сопровождала её, вспыхивая то на одном, то на другом предмете. За короткий путь до трамвая она успела проклясть несколько пышущих ритмичными басами машин, неуёмно мигающую вывеску парикмахерской и девицу, на ходу ругавшую свою маленькую дочь словами, каких у Аси дома не произносили никогда.
Возле зоомагазина, где продавался корм и «вкусняшки» для обучения собак, Ася почувствовала тревогу. Отойдя в сторонку, достала кошелёк и пересчитала, что в нём осталось. Совсем немного! Конечно, Софья не даст ей умереть с голоду, но покупать гостинцы собакам будет не на что. Надо было как можно скорее найти работу. Может, Курт научит её, как, не встречаясь с людьми, одинокой «халтурой» заработать денег на аскетичную жизнь?
Ася думала об этом, рассеянно качаясь в трамвае. В этой тихой качке мысли, заваливаясь, касались то Болека, не перестающего её удивлять, то родного растерянного Сани, а то вдруг являлся Курт и одним взглядом, заранее, прощал ей всё, что она ещё натворит.
Ненависть уснула в доброй люльке трамвая. Ася вышла на лесной остановке и, предвкушая крепкие шерстяные головы под ладонями, влажные носы, радостный скулёж и поцелуи, побежала знакомой тропой. Сегодня в приюте у неё было много дел.
Ярмарку запланировали на субботу. Людмила из администрации, с усмешкой напомнив о так и не состоявшихся уроках рисования, всё же дала добро и позволила повесить у входа афишку – точно на место прежней. Её опять пришлось придумывать Асе. На рисунке несколько собак с любопытством выглядывали из калитки огороженного сеткой загончика. «Полцарства – в добрые руки», – гласила надпись, и ниже скромно: «Ярмарка собак».
– Только добавь ещё Мышь, и домики чтобы виднелись – как было до пожара, – сказал Пашка, взглянув на планшет с эскизом.
Ася поняла и кивнула. Государю хотелось, чтобы люди увидели приют, каким он был в пору расцвета.
Пока Ася поправляла рисунок, Пашка, захлёбываясь разошедшимся кашлем, играл со своим лохматым народцем во всевозможные собачьи игры и был особенно щедр на лакомства.
В обед Асе позвонил Саня и счастливым, летним каким-то голосом доложил:
– Я вчера некоторым своим написал – ну, из пациентов, с кем поддерживаем контакт. Сказал, что расформировывается приют и собаки в основном больные и старые. Может, кто захочет дать такому животному любовь, дом? Представляешь, одна отозвалась – Наталья. У самой трудная ситуация, еле начала выбираться. Но готова. В общем, она к вам должна подойти. Полная такая. Я ей телефон твой дал. С Пашкой поговоришь? Или мне?
В условленное время Ася вышла на аллею и на скамье возле мостика увидела женщину. Не полную даже – огромную, словно одетую в надувной скафандр. Ни её возраст, ни подлинные черты лица распознать было невозможно. Она приветливо улыбнулась Асе и грудным, застенчивым голосом поздоровалась.
– Ася, а вы сестра Александра Сергеевича? Похожа! А я Наталья! – сказала она и, с трудом поднявшись с лавочки, громадой нависла над Асей. – Это ведь не я. Я там, внутри! – ободряюще улыбнулась она, заметив скользящий Асин взгляд, и протянула ей пухлую руку. – Мы сейчас гормоны снимаем потихоньку. Я у другого специалиста наблюдаюсь, по профилю, а к Александру Сергеевичу так захожу, за моральной поддержкой. Он говорит: всё получится, к следующему Новому году буду в форме!
По дороге в приют Ася узнала подробности принятого Натальей решения. Получив вчера послание, та первым делом подумала, что всякая информация из уст доктора Спасёнова может оказаться судьбоносной. У неё никогда не было животных, только в детстве кот Барсик. Но теперь хотелось попробовать. Тем более что ей надо побольше гулять. Так что выгуливать с собакой друг друга для неё занятие самое подходящее.
– Я ведь тоже о чуде мечтаю. Об исцелении, – проговорила она с грустью. – Чтобы чудо было, может, и мне надо сделать для кого-то чудо? Вот я как подумала!
Наталья выбрала собаку быстро. Смеясь и смущаясь, замерла в окружении приветливой шерстяной толпы и вдруг указала на Фильку:
– А вот этот мальчик чёрненький – его тоже можно?
Будущих компаньонов познакомили, но пока что Наталья не решалась погладить пса. Филька, подслеповатый и понурый, сидел возле Пашки.
– Он на нашего Барсика похож. Такой же чёрненький, усатый. У меня фото с ним где-то есть. Прямо вылитый! А я взяла отгулы между праздниками, так что как раз есть время привыкнуть друг к другу… – говорила она, робко протягивая руку к Фильке и сразу отдёргивая.
– Как же вы его брать к себе собираетесь, когда вы его боитесь? – с упрёком сказал Пашка.
Наталья задержала дыхание и, напрягшись, как новичок за рулём, решительно погладила Филькину голову. Пёс не возразил. Будущая хозяйка засмеялась и уже вольно, смело почесала его за ушами.
Филька ткнулся носом в торчавший из-под ветровки манжет Натальиной кофты и принюхался.
– А? Рыбкой пахнет? Я рыбку сегодня тушила – будем кушать! Паша, а рыбу ему можно или только корм?
– Вы не берите его сегодня. Походите хотя бы пару дней, пообщайтесь, чтобы он привык, – отвернувшись, сказал Пашка.
– А вот я бы лучше прямо сейчас взяла! – возразила Наталья. – А то вдруг испугаюсь и не приду? Но если уж возьму – вы не переживайте, я ответственный человек, не брошу никогда! – И покраснела.
– Хорошо, берите сейчас, – безразлично отозвался Пашка и направился к ветпункту. – Наташ, расскажи, какие он знает команды, чего любит. Я пойду у Танюльки распечатаю – корм, лечение. Если что по здоровью – сразу сюда! – сказал он, обернувшись и строго взглянув на новую хозяйку. – И вообще приводите его на осмотр раз в месяц. Это обязательно, он старый уже!
– Мы там написали в карте, что ему восемь, – сказала Наташка. – Но на самом деле ему уже десять! – И острыми горестными глазками вонзилась в огромное лицо своей тёзки.
– Ну что ж поделать! – сказала Наталья. – А у меня бабушке вообще восемьдесят семь! Что ж её, выбросить?
Не менее получаса Ася с Наташкой объясняли хозяйке, как следует обращаться с собакой. Продемонстрировали Филькину учёность, расписали меню, собрали поводки и игрушки, дали на первое время корм, вспомнили и положили в отдельный пакет Филькину подстилку. Всё легче будет псу привыкать.
По команде «рядом», проявляя чудеса послушания и лишь иногда оборачиваясь на тающие во мраке старческой катаракты Полцарства, колченогий пёс ушёл с Натальей.
– Счастливо тебе, Филька! – тихо сказал Пашка, когда они скрылись из виду.
Это были последние слова государя на много часов вперёд. Во всяком случае, с людьми он больше не разговаривал. Если обращался – только к собакам. На особо настойчивые вопросы соратников мотал головой – «да» или «нет». Зато кашлял взахлёб, от души. Наташка то и дело таскала ему из домика тёплый чай.
47
Больше в тот день Ася не могла рисовать. Жалость к старому Фильке, попавшему в чужой дом, и к Пашке, переживающему разлуку, заняла её всю, не оставив места для дела. Иногда она поглядывала на тропинку в орешнике, желая, чтобы пришёл Курт. Ася знала: если сам он сегодня в порядке, то неизбежно возьмёт на себя часть её боли. Но Курта не было. Он много работал – навёрстывал, что «проспал». Наконец Ася отправила ему эсэмэску: «У нас забрали Фильку. В добрые руки. Ты придёшь?» Курт ответил сразу. «Бегу!» Ася вздохнула и, почувствовав лёгкость, пошла ему навстречу.
Радуясь вечернему безлюдью парка, она летела по душистой аллее, усыпанной сбитыми ветром ветками. Впервые за день ей захотелось улыбнуться. Она так и сделала и дальше шла, приветливо оглядывая сплетённые с фонарями деревья, пока её слух не уловил шум.
Ася замедлила шаги и поглядела в направлении растущего звука. С боковой аллеи свернул и вылетел ей навстречу юнец на велосипеде. За ним на поводке, хрипя и спотыкаясь, пыталась поспеть старая чёрная собака. Недовольно обернувшись, парень поддёрнул поводок. Собака напружинилась, словно пробитая электрическим зарядом, и ещё несколько мгновений из последних силёнок старалась не отставать, пока не заплелись ноги.
Почувствовав за спиной скулящий буксир, парень затормозил и выругался.
– Встала! Пошла! – процедил он, дёргая поводок.
«Лошадёнка!» – вспомнила Ася кусочек из книги, который однажды вслух прочитал им Пашка. И сразу в груди загорелось тяжёлое и жгучее солнце ненависти.
– Молодой человек, у вас выпало что-то! – окликнула она.
Парень, крепко сложенный, с розовыми мальчишескими щеками, чем-то напомнивший Асе Лёшку, огляделся и, оттопырив губу, принялся охлопывать карманы – всё ли на месте?
Пока он возился, Ася склонилась к распластанной на асфальте чёрной собачке и, не встретив возражений со стороны обессиленного животного, отстегнула поводок. Взмахнула и дёрнула – так что надетая на руль велосипеда петля упала наземь.
Парень бросил копаться в карманах и выдвинул челюсть, соображая, какое ругательство выбрать для милой девушки.
– Сколько лет собаке? Десять? Одиннадцать? – сложив вчетверо поводок и двигаясь на врага, отчеканила Ася. – Ты профессиональный живодёр или любитель? Где ты взял собаку?
Парень наклонил взмокший лоб и ответил бранью, такой ползучей, непривычной для Асиных ушей, что ненависть в груди дала вспышку. Ася стиснула зубы и, взмахнув поводком, хлестнула врага по шее.
И сразу всё переменилось в мире. Тот, кто секунду назад был на коне, запутавшись в стременах, рухнул наземь. Ася опустила руку – лежачего бить нельзя, особенно когда у него в глазах такая упоительная оторопь.
– Больше она не твоя, – подойдя совсем близко, сказала Ася и, оставив поверженного, направилась к собачке. Чернушка – так сразу назвала её Ася – лежала на боку, неподвижно и плоско, как выпотрошенная шкура. Ася села рядом на корточки и положила ладонь на рёбра – есть ли дыхание. Рука слушала неясный гул сердца, а уши в это же самое время улавливали, как позади копошится и бряцает железом человеческое животное, напуганное явлением Асиного безумия. Ну вот – справился наконец с педалями и, тонко стрекоча, истаял.
Когда хозяин умчал, собака вяло заволновалась, приподнялась и, шатаясь, отошла на пару метров – её рвало. «Сейчас умрёт!» – подумала Ася. Ей показалось вдруг, что в этом виновен не только парень, но и она, положившая собаке на бок свою прокалённую ненавистью ладонь. Да – надо было обождать, пока остынет.
Через минуту Чернушка вернулась, как-то глухо, замедленно поглядела на то место, где недавно был велосипед, и легла на бок у Асиных ног.
– Мы тебя запишем в Санин список, где все страдальцы. И пойдём с этим списком к Божьему престолу, – гладя Чернушкину морду, пообещала Ася. – И Он нас примет, как Саня своих пациентов. И всё это закончится. Больше не нужны будут заповеди блаженства – не станет ни плачущих, ни гонимых за правду. Все утешатся.
«Ася, ты обманешь!» – изнутри мутно-карих глаз отозвалась собака, и Ася почувствовала, что теперь – вот только теперь! – действительно сходит с ума. «Сумасшедшая!» – зашуршала вокруг головы сотня невидимых бабочек.
Ася поднялась и, сморщившись от подступающих слёз, позвала: «Мама!» Безлюдная аллея молчала.
– Мама! – громче, сорвавшимся голосом крикнула Ася и в ту же секунду увидела Курта. Он быстро шагал по аллее, невероятный, как всё, что творилось с ней, похожий на встревоженного ангела.
– Он её мучил! – бросилась к нему Ася. – Тянул на велике! Она бежала, старалась! – И, уткнувшись в его плечо, расплакалась навзрыд.
Курт не знал, что произошло, но по косвенным признакам прочёл примерный сюжет случившегося.
– Ты отомстила? – догадался он, гладя Асю по голове. Волосы у неё надо лбом намокли – скорее всего, это был трудовой пот. Может, она гналась за преступником и потом била его кулаками? – Ты чем его била? – спросил он тихо.
– Поводком! – прорыдала Ася.
– Ну и нормально, не переживай.
Ася взглянула на Курта – нет, кроме волшебных волос, ничего ангельского. Сквозь черты лица явственно проступал «ультразвуковой снимок» его истрёпанной во внутренних боях души – светоносные артерии, мутные раны, чёрные отмершие очаги. Этот снимок был предельно понятен и близок Асе, она узнала в нём нынешнюю себя.
– Смотри, Чернушка никак не отойдёт! – кивнула она на собачку, лежавшую на боку и не обратившую ни малейшего внимания на нового человека.
– Ну что, я за Пашкой? – сказал Курт. – Продержитесь?
Прошло несколько минут. Сопровождаемый Куртом бледноватый и хмурый Пашка вынырнул с боковой тропинки и, подойдя, склонился над собакой.
– Это Чернушка! – сказала Ася.
– Хочешь идти сама или отнести тебя? – спросил он собаку.
Поспешно встав на лапы, собака задрала морду и посмотрела на маленького, вовсе не крепкого с виду человека. Пашка присел на корточки и дал ей обнюхать руки, пахнущие неземными лакомствами.
Это был тот великий и священный праздник, ради которого, как теперь казалось Асе, только и стоило жить на земле. Миг, когда обездоленное существо чудом обретало утешение и новую жизнь, из гонимого становилось любимым.
Чернушка решила идти сама. Они двигались к приюту бесконечно долго – так долго, что, казалось, должна была успеть зацвести и осыпаться лесная черёмуха и за ней липы, а там и листва – пожелтеть и осыпаться тоже.
– Паш, а ты ненавидишь людей? – тихо, чтобы не потревожить дурными мыслями лес, спросила Ася.
Пашка мотнул головой.
– А вот я ненавижу, правда! – сказала Ася.
– Будешь ненавидеть – всё вокруг выгорит, – бросил Пашка.
– Да ведь выгорело уже! – воскликнула Ася и рассмеялась чужим смехом.
– «Всё» – это не один приют! Всё – это значит всё! – останавливаясь и свирепо взглядывая на Асю, прошипел Пашка. – Ненавидеть надо зло, а не людей. Вон, спроси у Александра Сергеича! И нечего ржать!
– Достоевскому скажи! Зачем он тогда написал про лошадёнку! – крикнула Ася, но Пашка больше не слушал её. Он нагнулся к собачке и, подбодрив её, свернул на тропу, в юное оперение орешника.
И тут же Ася увидела, что Курт, молчавший во время их перепалки, замедляет шаги.
– Я сейчас! – сказал он. – Только за «маком» сбегаю! А то если мне сегодня дежурить – так хоть поработаю! – И, развернувшись, но ещё продолжая оглядываться на Асю, помчался к аллее.
«Больше не придёт… – подумала Ася. – Наверно, Болек ему запретил разговаривать с сумасшедшими».
В приюте Чернушке дали воды. От корма она отказалась.
– И куда ты её предлагаешь деть? – спросил Пашка.
– Возьму домой, – сказала Ася.
– Вот и бери! А пока держи крепко. Думаешь, её стая прямо так запросто примет?
– А вдруг примет? Видишь, она чёрненькая и морда седая. Может, она вместо Фильки?
– Вместо Фильки? – переспросил Пашка и мутно взглянул на Асю. У него снова росла температура.
– Ну вы дураки! – сказала Наташка. – Какая им разница, какого цвета! Это ж девочка, а Филька мальчик!
Ася посадила Чернушку рядом с собой и подумала, что «дураки» – очень мягкое слово. Пашка, может, и дурак, но она уже давно миновала это безобидное состояние. Теперь имя ей – агрессивная сумасшедшая. И это так страшно, что подкашиваются ноги. Так же страшно, как остаться навеки в том переходе, у «бомжей», где нашла Марфушу.
48
Вовсе ни за каким не за компьютером сорвался Курт, хотя и его прихватил тоже. Он помчался домой за бирюзовыми бабочками – как если бы эта вещица в самом деле была магической и могла спасти Асю.
Чувство, охватившее его после случая с Чернушкой, было примерно следующее: мечта сбывалась, но как-то криво! Вроде бы Ася мчалась к нему в руки – но с таким гибельным ускорением, что могла просвистеть насквозь, как пуля. Теперь его задачей было любыми путями предотвратить катастрофу. Поймать, успокоить и, смирившись, отпустить – вернуть её самой себе.
Занятый благородными мыслями, он прибежал домой, спрятал браслет в карман, схватил сумку с макбуком и помчался в обратный путь. По его расчётам, он должен был уложиться в двадцать минут с копейками, и уложился бы, если бы на повороте с аллеи не увидел женщину, показавшуюся ему знакомой. В первый миг он испугался, затем испытал прилив сочувствия и наконец решительно зашагал навстречу.
По тропинке, косо поглядывая по сторонам, спешила Санина жена Маруся. Невысокие каблучки вязли во влажной земле, тёмные волосы, собранные на затылке, разлохматились на ветру тонкими прядями. Заметив Курта, она пригладила их ладонью.
– Добрый вечер! – сказал Курт, останавливаясь у неё на пути, там, где тропинка подходила к асфальту аллеи.
– Добрый вечер! – пусто улыбнулась Маруся и взяла чуть влево, желая обойти препятствие.
– Ходили посмотреть пепелище?
– Да так… Саша рассказывал, – отводя взгляд и нехотя приостанавливаясь, отозвалась Маруся. – Извините, мне ещё за дочерью в сад! – И попыталась возобновить движение.
– Я думаю, не планировалось, что собаки выживут? Верно? – шагнув поперёк пути, проговорил Курт. – Но какая-то сволочь открыла калитку!
Маруся подняла голову и голубыми камнями глаз уткнулась в лицо врага.
– А вообще зря вы грех на душу взяли! – сказал Курт уже без усмешки, как будто даже сочувственно. – Приют бы так и так отсюда выгнали. Вопрос нескольких недель. Не обязательно было поджигать животных.
Маруся не перебивала его и не возражала, только, упёршись, отталкивалась глазами от его глаз.
– А главное – это было совершенно бесполезно и даже вредно – в плане ваших целей, – продолжал Курт. – Саня только крепче здесь осел. А когда он узнает…
Со внезапной энергией Маруся сделала шаг навстречу и, оказавшись на расстоянии ладони, почти вжавшись в противника, вскинула голову и шепнула:
– Ему неоткуда узнать!
– Думаю, вы ошибаетесь, – возразил Курт. – Конечно, если вы не планируете поджечь и меня.
– Процитировать вам вашу предсмертную записку? Я вытащила её у Сани! – улыбнулась Маруся и вдруг скривила губы. – Так что ты ничего не расскажешь! Трус, убийца, клеветник! – И, грубо оттолкнув Курта с дороги, вышла на аллею.
Курт присвистнул. «Она права. Ты страшный человек, Женька! – сказал ему голос души. – И убийца, и клеветник, и трус. Из-за твоих подлостей Ася сходит с ума. У тебя никого нет, кроме меня, но и я от тебя уйду».
Он знал, что душа только пугает – пока он жив, ей никуда не деться из заточения, и всё-таки ему стало не по себе. Не сходя с места, Курт смотрел вслед бегущей по аллее Марусе – пока не почувствовал, что подошвы начинают утопать в жиже весенней земли. Выбрался из слякоти и по сухим кочкам пошёл к приюту.
Его разрывала смесь чувств. Досада на Саню, что тот проворонил его записку. Ненависть к бесовским сетям, в которые угодил. Презрение к собственному безволию, загнавшему его в эти сети. Удивительно, но никакой злости в отношении Саниной жены он не мог в себе нащупать. Маруся была его сестрой по несчастью. Жалкой преступницей-неумёхой, погибающей от собственных козней.
За время, что Курт отсутствовал, во дворик пришли сумерки. Наташка уехала, Пашка, кашляя и кутаясь в шарф, ждал смены, – нынешней Асе он, видимо, не доверял.
– Ну давай, покеда, утром буду, – буркнул он, заметив Курта, и ушёл, на ходу стягивая резинкой волосы в хвост.
Ася в домике укладывала собак, напевая им тихонько одну из Пашкиных колыбельных – ту, которую однажды они исполнили дуэтом с Мышью. Вокруг лампы со скромным плафоном, освещавшей шахматный павильон, кружились две бабочки. Собаки, устроившиеся под партами на полу, на чистых подстилках, как раненые в переполненном госпитале, услышав Курта, подняли головы. Замелькали хвосты и угольки глаз, выдавая желание пообщаться. Тимка вскочил и, подковыляв, несколько раз ткнулся мокрым носом в руку своего друга.
Из всех собак один лишь Гурзуф не отозвался на появление человека. Бравый на городских улицах и неопрятный, громоздкий в этой маленькой комнате, он дремал в углу, сбив подстилку в комок.
– Как Чернушка? – садясь на лавку рядом с Асей, спросил Курт. – Приняли в коллектив?
– Не съели – уже хорошо. Видишь, со мной.
Чернушка лежала под лавкой, возле Асиных ног и тревожно подняла морду, догадавшись, что о ней говорят.
– А ты-то сама как?
Ася неопределённо повела плечами.
– Приходила Маруся, – сказала она. – Постояла в кустах, как привидение, и ушла. Даже не поздоровалась. А утром меня на улице Лёшка поймал… Я сбежала. Планшет его, наверно, разбила. – Ася вздохнула не полной грудью, с препятствием, и жалобно взглянула на Курта. – Я всё думаю: почему я сошла с ума? Наверно, потому, что это сделал Лёшка. Если бы другой человек, я бы знала – это просто маньяк. Но ведь Лёшку я сама выбрала. И Саня всё радовался – вот простой, хороший человек. Значит, в любом простом и хорошем это может гнездиться?
Ася встала, подошла к окну и, вытащив пластмасску, которой взамен разбитого стекла заложили квадратик рамы, приникла лицом к шёлковому лесному ветру.
– Во всём этом деле нет виноватых, кроме меня, – сказал Курт и сразу понял: этих слов мало для покаяния. Ася даже не прислушалась к ним.
– И не осталось ни одного человека в мире, – проговорила она. – Был Пашка – да оказался маленький. Был Саня – а его Маруся съела с маслом.
– Ладно! Бери Чернушку, и пойдём! – сказал Курт. – Я вас провожу и вернусь, поработаю тут. Софья тебя за Чернушку убьёт, как думаешь?
– За беленькую не убила и за чёрненькую не убьёт, – усмехнулась Ася. – А Марфуша без Гурзуфа тоскует, их нельзя разлучать. Зачем я тогда её забрала, дура бесчувственная? Ещё и у чужого оставила на ночь… – И горестно сдвинула брови.
Взяв Чернушку на злосчастный поводок и заперев шахматный домик, Ася и Курт вышли на аллею.
– На трамвае поедем. Чернушка маленькая – возьму на руки, – решила Ася и дальше всю дорогу молчала. Только на лесной остановке, совсем пустой, сказала: – Ты прости меня, что я тогда сбежала. Конечно, мы с тобой родные души. Два чувствительных нуля понимают друг друга. Раньше меня понимал Саня, но я рухнула намного ниже его понимания. Он разве только пожалеть меня теперь может, как собачку. – И вдруг быстрым движением взяла Курта за руку, спрятала по-детски, ладонь в ладонь и отвернулась.
Безысходность, с какой Ася приняла его дружбу, выбила у Курта из головы все давно придуманные слова. Было страшно держать в руке этого птенца – Асину ладонь. Он думал только о том, как неловким движением не сломать ему лапку или не повредить крыло. И вдруг почувствовал облегчение: о чём ты, брат! Всё, что было можно, ты уже своротил, теперь уж не стесняйся.
– А у Соньки, представляешь, бывший муж всё узнал про аварию, – отняв и спрятав руку в карман пальто, сказала Ася. – И хочет использовать это, чтобы отсудить Серафиму. Я и его ненавижу тоже. Но только это долго не продлится. Мне кажется, то, что из меня с ненавистью вытекает, оно уже не восполняется. Так что скоро я растаю, как Снегурочка. Ну и хорошо – меньше зла натворю, правда? Ты ведь тоже об этом думал, когда… ну, в тот день – чтобы меньше зла натворить? – И подняла взгляд.
Сердце частыми солнечными вспышками зажигалось и гасло в груди у Курта. Почему-то он не слышал ударов, а ощущал их как дробный сигнал семафора, означавший, что настал тот самый миг. Что особенного было в этом мгновении? Весенняя остановка трамвая. Ручеёк рельсов, и по оба берега – лес в светло-зелёной вьюге. Не успеешь моргнуть, как промчатся и прозрачная вьюга, и густое зелёное море – останутся голые кроны. Но ещё пульсирует свет – миг не упущен.
Курт сунул руку в карман. Бирюзовый браслет ожил и потёк между пальцами прозрачными речными камушками.
– Давай меняться. Я возьму твою ненависть. Это такой очень известный приём, ты знаешь, конечно. Вот, пуговицу оторви от пальто и дай – я её раздроблю на мелкие кусочки и потеряю. А тебе в обмен от меня – просто на удачу… – Курт взял Асину руку и плеснул в ладонь небесные камушки. – Я эти часы увидел в Барселоне, в лавочке со всякими штуками, и сразу понял – тебе. Вернее, нет. Я их купил в подарок… ну, не смейся только! – моей душе. Они, правда, не работают. Но это и хорошо. Если нет практического применения – значит, это талисман. Или просто чётки.
Ася перебрала звенья. Наивные бабочки в мареве бирюзы, с песком в прожилках трещин оказались теплее пальцев. Серебряная оправа потемнела. Стрелки на диске цвета старой фотографии показывали Новый год – без двух двенадцать.
Ася присела на корточки:
– Чернушка, тебе нравится?
Собака обнюхала браслет и тихонько фыркнула.
– У нашей бабушки была такая брошка, со стрекозой. Она потом куда-то делась, – сказала Ася, не отрывая взгляд от подарка. И, вдруг улыбнувшись с задором, накинула часы на запястье. Щёлкнула замочком и с удивлением поглядела на дарителя – как вышло, что браслет ей впору? Обычно всё всегда велико.
– Я отвинтил пару звеньев, – скромно признался Курт. – Но это не наручники. Совсем не обязательно надевать. Это как чётки или даже просто…
– Да! – кивнула Ася. – Надо теперь оторвать пуговицу.
Задача оказалась не из лёгких. Ася справилась с ней, уже когда подъехал трамвай. Крепкие нитки не поддавались, пришлось дёрнуть с «мясом». Клок ткани на пуговице мог означать только одно – ненависть вышла из сердца с корнем.
– Ну вот, я стал Болеславом! Класс! – улыбнулся Курт, сжав в кулаке полученную от Аси серую пуговицу.
В трамвае Ася села на одинокое сиденье в конце вагона, пристроив на коленях Чернушку.
Курт видел в окне Асино беленькое детское личико, такое чистое и дорогое. Она смотрела на него без улыбки и без надежды – но как будто с удивлением. Потом вдруг встрепенулась и помахала рукой.
Сердце больше не мигало вспышками, и, кажется, листва потемнела – салатовая дымка ушла, уступая место лету. Но он успел. Он успел, не правда ли? Курт вспомнил, как два года назад свернул с центральной улицы, где вечный шум, и нашёл в тихой лавочке бирюзовый ручеёк. Два года безверия и опущенных плеч – и вот она с ним. Ожесточившаяся, почти безумная – но зато с ним. Утратившая родовую спасёновскую благодать – но с ним, с ним. И теперь, чтобы спасти свою жертву, ему предстояло совершить шаг. Тот, что ещё вчера был немыслим, но сегодня – по силам.
Перейдя дорогу, Курт прошёл по опушке леса и свернул на аллею. Он переживал вдохновенное и собранное состояние, похожее на полёт, когда все реки и тропинки видны, как на карте.
Деревья приветствовали его, Курт чувствовал теплоту их прибывающей жизни. Ему нравилась тускло проглядывающая луна, золотая и стёртая, как фрагмент фрески, и редкий посвист птицы – соловей прочищает горло перед майской своей вечеринкой.
Он шёл, обнимая весеннюю ночь, как в самый счастливый час обнимают возлюбленную, рукою обвив плечо, шагая в ногу, дыша согласно. Естественный наркотик влюблённости вытеснил тяжесть вины. Заметив под фонарём начавшую оперяться берёзу, он подпрыгнул и, ободрав с плакучей ветки несколько почек, разжевал. Вопреки ожидаемой горечи, с умилением почувствовал сладость и свежесть. Берёза не обожгла его – наоборот, приласкала. «О, какая ты хорошая, жизнь!» – мысленно поблагодарил он и вдруг ощутил, как благосклонно на него смотрят глаза учителя – удивительные, тёмные с оттенком зелени и мелькающим в глубине солнцем. Всё-таки у простых смертных таких не встретишь! «Я всё исправлю! – ясно подумал Курт. – Верь мне – я всё исправлю!»
Приняв решение, он вернулся к запертым в шахматном павильоне собакам и, устроившись на ступеньках под звёздным небом, поработал на славу. Код летел, как финал романа.
К утру над лесом распустилось солнце. Навстречу ему из кружева крон зазвенели птицы. Пение и солнечный свет встретились и укрыли сияющим куполом пепелище Полцарства.
* * *
За ночь мысль созрела и предстала перед Куртом в виде взвешенного решения. Расклад выглядел так. Первое: Ася не вынесла разочарования в муже и обрушилась в ненависть. Второе: из-за аварии Софье грозит тяжба за дочку. Курт хотел заплатить по обоим счетам, и как можно скорее. Теперь это казалось ему посильным, более того, желанным, как желанно для альпиниста терпеть лишения, чтобы покорить свою вершину. Главное же – он не мог дальше обманывать Асю.
Внезапная и окончательная честность – бомба, способная накрыть взрывной волной немало судеб, это Курт понимал. Маруся и, следовательно, Саня – вот были ближайшие жертвы запланированной исповеди. Кто, кроме них? Родители. Ещё бы – сын в тюрьме! А хотя, может, и обойдётся.
Оценив список, Курт решил, что должен предупредить Марусю. Это будет по-человечески. В конце концов, не ему бросать в неё камень. Интересно, что она предпримет? Нанять убийцу ей, пожалуй, не хватит времени. Может, попробует отравить?
Утром Курт сдал смену Пашке и, не чувствуя за спиной бессонной ночи, напротив, свежий, как никогда, свернул в противоположную от дома сторону – к бульварчику, где жил Саня.
Рассудив, что Саня уже на работе, а девочка, скорее всего, в саду, он решил явиться к Марусе домой. Однако у соседней девятиэтажки с недорогим супермаркетом в первом этаже Курт замедлил шаги и внимательно посмотрел на двери: почему бы женщине, только что проводившей дочку в садик, не зайти в магазин?
Он вошёл в пустоватый зал и улыбнулся, оценив работу собственной интуиции: в ближайшем к нему ряду Маруся выбирала овсянку. Застопорилась, отошла к стеллажу с вареньями, рассеянно покрутила баночки и снова вернулась к полке с крупой. Наконец взяла гречку и ушла в молочный отдел.
– Можно вас отвлечь на минутку? – окликнул он её, подойдя.
Маруся вздрогнула так, что дёрнулись плечи, и обернулась.
– Ну, в общем, да. Реакция правильная! – кивнул Курт. – Мы тут с вами дел натворили и даже в какой-то мере сообщники. Поэтому решил вас предупредить.
– Предупредить? – быстро переспросила Маруся.
– Да. Вы знаете, я решил покаяться. И, к сожалению, среди прочего мне придётся рассказать и о поджоге. Дело в том, что я всё видел и не воспрепятствовал. Даже не попробовал потушить, из соображений личной выгоды. И поджигателей видел, и вас потом – как вы расплачивались.
– Вы что, не поняли меня вчера? – чуть прищурив каменные глаза, сказала Маруся. – У меня – ваша – записка.
– Почему не понял? Понял! – с готовностью подтвердил Курт. – И очень просил бы вас прийти с ней в суд. Так будет проще растолковать им, что Софья не виновата.
Маруся сглотнула и крепче вцепилась в ручку тележки.
– Записка уже не предмет шантажа, – без капли злорадства сказал Курт. – Вы хоть объясните, зачем вам понадобилось нанимать этих дебилов? Пришли бы лучше, устроили нам скандал. Ну, Сане бы ультиматум какой-нибудь… У вас же кот – вы не можете ненавидеть животных! – И, качнув головой, спросил участливо: – Это было помутнение? Помутнения случаются, я очень могу понять. Но теперь уже, к сожалению…
Он не успел закончить фразу. Маруся, вцепившись в проволочную корзину тележки, упала на колени и, подняв голову, с молчаливой мольбой уставилась на врага. «Ради Саши!» – шепнула она и в тот же миг была подхвачена сотрудником магазина.
– Нет, спасибо, всё в порядке, я споткнулась… – Маруся поправила волосы и, взяв тележку, повернула на другой ряд.
Курт пошёл за ней.
– Пожалуйста! – повторила она, оборачиваясь на преследователя.
– Мне придётся сказать, – твёрдо возразил он.
– Нет! Ради Саши вы не скажете! – Маруся остановилась и схватила руку Курта повыше запястья.
– Ради Саши! – вырвав руку, возмутился Курт. – Повисли на нём, ни черта в нём не поняв, а теперь ещё «ради Саши»! Вы как кухарка из позапрошлого века – на полотне Ван Гога хотите селёдку разделывать!
– За кухарку благодарю. А хотя – мне всё равно… – холодно, уже вполне победив панику, сказала Маруся. – Рассказывайте, и я тоже расскажу. Вы сядете в тюрьму, а Саша меня простит!
– Ну, простит – значит, простит! Кто же против! Это вы тут со мной торгуетесь, а я просто предупредил! – сказал Курт и быстро пошёл к выходу, но возле касс обернулся и, не стесняясь заинтригованных кассирш, прибавил: – И всё-таки! Если вы сумеете тактично исчезнуть из его жизни – я вас не выдам!
Маруся твёрдо катила тележку на врага. На её миловидном лице каменела улыбка.
– С дороги уйдите, молодой человек! Не покупаете – так не стойте!
– Без проблем! Расплачивайтесь! – сказал Курт и, опять не найдя в себе никакой серьёзной злости, только досаду на глупую тётку, вышел из магазина.
«А ведь правда, теперь и меня “закажет”. Эх, Саня, ну ты и дал маху!» – со смехом подумал он.
В приподнятом настроении – как-никак, он приступил к исполнению задуманного! – Курт шагал к лесу, и с каждым шагом сил прибывало. Чувство согласия с собой, осознанного движения духа через любые преграды не шло ни в какое сравнение с той дохленькой физической свободой, за которую ещё недавно он держался так судорожно, что был готов даже на смерть.
Огромная энергия, уходившая на непрестанную внутреннюю борьбу, вдруг высвободилась и оказалась в полном распоряжении Курта. Впервые за много лет в душе не было войны, сжиравшей весь запас жизненных сил. Он договорился сам с собой, наступил выстраданный и осознанный мир.
Теперь ему оставалось прикинуть дату великого покаяния. Сегодня? Завтра? Пожалуй, всё же лучше после ярмарки. Резкая смена правд тяжела для незрелых душ.
49
За последние два десятка лет наступившая весна была первой, проведённой Болеком в России. Возможно, именно этим обстоятельством и объяснялись творящиеся с ним чудеса безалаберности. Забытые пейзажи и традиции, голоса родственников – всё сошлось и взрезало слои памяти. Он оказался в том времени, когда перед ним ещё не было никаких целей – только привольное, не обременённое жаждой успеха узнавание жизни. Это вот уже несколько недель длившееся дежавю по остроте чувств напоминало ему влюблённость.
Вчера на семинаре, объясняя младшим по званию коллегам методы превращения робкого увальня в эффектного оратора, Болек осёкся, не закончив фразу, и долго молча смотрел в зал. Он потерял мысль и даже не озаботился её поиском. Чувство совершенного спокойствия и комфорта перед сотней чужих людей позволило ему вдруг задуматься о реке, которая в этом году – опять без него – вскрылась ото льда, и о первом теплоходе, который уже отчалил из Северного речного порта столицы в направлении Угличского водохранилища. Наконец он наткнулся взглядом на Софью за администраторским столиком, в ужасе смотревшую на него, и вернул себе самообладание. «Извините! – улыбнулся он публике. – Внезапное озарение! Подождёте секундочку, пока я запишу?» И действительно, под одобрительные аплодисменты что-то черкнул на листе бумаги.
– Похоже, эксцентрика становится твоим фирменным стилем, – заметила Софья после семинара.
– Я просто вспомнил, Соня, ведь с чего всё началось? Хотел на майские поехать с вами на Волгу. И вот они уже – майские – почти прошли!
– Это не профессионально! – сказала Софья.
– Абсолютно! – признал он. – Значит, пора заняться чем-нибудь ещё.
В тот же день, как простой смертный, Болек ознакомился с предложениями на сайтах поиска работы. Ему хотелось найти что-то близкое к невыдуманным нуждам – реабилитационный центр, службу экстренной психологической помощи, да мало ли!
Погружение в мир ищущих работу россиян, пусть пока шутки ради, принесло ему странное удовлетворение, должно быть, схожее с тем, что испытывали аристократы, решившие спасаться крестьянским трудом и простой пищей.
Одновременно его мысли были заняты Пашкиным приютом. Прежде чем оформлять в аренду клочок земли, найденный для него одним из благодарных клиентов, нужно было получить одобрение Пашки. Чувствуя необъяснимую робость перед «государем», Болек решил перевесить решение вопроса на брата и вечером, за два дня до ярмарки собак, позвонил Сане.
Тот уже вернулся с работы и, судя по голосу, находился в эпицентре семейных проблем. На предложение Болека посмотреть участок ответил вздохом и паузой.
– Давай. Только совсем пораньше. До работы. После уже не смогу, – шепнул он, прикрыв телефон ладонью.
– Ну, в семь тогда? – сказал Болек. – Я за тобой заеду. На такси от тебя – пять минут!
* * *
Следующим утром такси привезло их в безлюдный проезд между железнодорожной насыпью и длинной чередой заброшенных ангаров. Ветер, пролетая сквозь щели в пустых коробках, свистел с морской лихостью. За ангарами его завывания подхватывал и раздувал на все лады зазеленевший лес.
– Так ты это всерьёз? – проговорил Саня, зачарованно шагая рядом с Болеком вдоль ангаров. Оттого что было утро и воздух ещё хранил золотисто-розовый отсвет, территория показалась ему похожей на гавань южного городка. Они шли против ветра, вздымавшего пыль и обломки веток, один на один со странным пейзажем.
– Значит, смотри, – сказал Болек. – Приют будет зарегистрирован как автономная некоммерческая организация с уставной целью «лечение, временное содержание и поиск новых хозяев» – ну, как-то так. Договор на аренду подписываем от имени организации. Чтобы на проверках всё было в порядке, надо соблюсти ряд пунктов. Зоны для животных. Обязательно карантинная – если новые поступят. Подсобное помещение. Потом, по вывозу мусора нужен договор. Всё это, естественно, займёт время. Так что ваших собак всё равно надо пристраивать, хотя бы на какой-то срок! На данный момент у нас задача – оборудовать площадку. Электричество подведено, водопровод по границе. В «ракушке» можно устроить склад инвентаря и кормов, – говорил он без остановки, словно боясь, что в паузу Саня каким-нибудь трезвым словом разобьёт его хрустальный проект. – Не пренебрегайте, кстати, пиаром! Допустим, на корм вы скинетесь, аренда копеечная, ветеринар у вас свой. Но кто будет оплачивать, скажем, сторожа?
– Сторожа? – оглушённо переспросил Саня.
– Ты, пожалуйста, сам всё это Паше передай, ладно? Пусть он съездит, посмотрит, нравится ли ему. А вот мы, кстати, и пришли! Ну что – согласись, великолепно!
Участок, перед которым они остановились, представлял собой несколько соток земли, с одной стороны ограниченных стеной ангара, и с другой – проездом и железной дорогой. Зато две оставшихся стороны выходили на поросший травой и кустами пустырь, перетекающий в лесополосу, – великолепный «выгул»! Деревья в юной зелени гнулись под страшным ветром, едва ли не заглушая шум проехавшей электрички.
В углу участка стоял гараж-«ракушка» с отломанными воротами. Другим «предметом интерьера» оказалось огромное бревно, бывшее некогда старым тополем. Спил от него виднелся тут же, так что нетрудно было представить, каким тенистым и шумным куполом был укрыт пару лет назад этот кусок земли.
– Болек! Как это возможно? – проговорил Саня.
– Вообще-то я предпочел бы сейчас на Волге глазеть на теплоходы. Так я планировал. Я планировал что угодно, кроме того, что пойду выручать стойких оловянных солдатиков! – Болек вздохнул и, присев на бревно, с прищуром взглянул на Саню: – Ну так что?
– Пашка разочаруется, – честно ответил Саня, присаживаясь рядом. – В лесу как в раю у нас было. А тут вон – поезда.
– Разочарование – это привычка сдаваться, когда игра не закончена. И незачем эту привычку поощрять! – решительно возразил Болек. – Или, может, вы надеялись, свору псов пустят в Александровский сад? Саня, твои сантименты всех их ослабляют! Если любишь, будь пожёстче!
Саня вздохнул:
– Пожёстче можно, конечно. Но это уже не то. Всё-таки сама-то любовь – это пух лебяжий. А то, что ты говоришь, – это просто к любви примешиваются другие элементы – рациональность, ответственность, и получается такой сплав…
– Чудесно! Пусть все умрут, главное, чтоб на перине! А как же ты Пашку заставляешь математику учить? Лечишь ты как? Пухом?
Порывами ветра по участку носило лист картона. Он взмывал и падал, отлежавшись, начинал волочиться по земле, перекувыркивался и снова взмывал. Саня молча и как будто с виной наблюдал за нелепым танцем.
– Короче! Не нравится ему – пусть работает и добивается лучшего! – заключил Болек. – А пока и здесь хорошо. Можно врезать в забор калитку – и будет прямой выход к лесу. А если железная дорога смущает, то зря! Это практически море с кораблями!
Он встал и, поймав танцующий лист, отнес за «ракушку». Теперь, без свидетелей, можно было поговорить о личном.
– Ты, Саня, не сердись на мой тон! У меня тоска! – сказал он. – Мне кажется, я проживаю историю мытаря. Брошу деньги на дорогу и пойду в социальную службу, в какой-нибудь реабилитационный центр. Как думаешь, возьмут меня с моим резюме? Сонька будет рвать и метать.
Саня удивлённо взглянул на брата.
– Да ладно, не бери в голову. Это я уж так… Лучше скажи, что про Софью думаешь?
– Про Софью? – переспросил Саня. Мысль о сестре была больной. Как сломавшийся светофор, она мигала в уме, не давая покоя. – Знаешь, я, пожалуй, поговорю с Куртом! – сказал он и вопросительно взглянул на Болека, одобряет ли тот. – Даже если признаваться бесполезно, ну, пусть хотя бы относится по-человечески… И ещё! Ещё одно есть срочное дело! – прервал он сам себя, сбитый накатом новой тревоги. – Ты понимаешь, Илья Георгиевич хрупкий! Я не могу тебе объяснить, но чувствую. Сейчас стал очень хрупким! Мне бы его запихнуть как-нибудь в двадцать третью, пролечить! – сказал он и, поднявшись с бревна, сделал несколько взволнованных шагов.
– О! Да ты брат, оказывается, тоже профнепригоден! – поставил диагноз Болек. – Вот что, Саня! Я тебе как врач прописываю с сегодняшнего дня две бесценные вещи. Они тебя вытащат! – сказал он и, приобняв взбудораженного Саню за плечо, повёл прочь с площадки. – Во-первых, тебе надо спать. Хотя бы часов по семь. Прости, сегодня я сам тебя дёрнул. Больше не повторится! А во-вторых, отныне при любом раскладе ты уделяешь пятнадцать минут ресурсному занятию. Думаю, в твоем случае это музыка. Просто садись и вспоминай, что знал. То-то Илья Георгиевич будет рад! У тебя дома есть пианино?
– У сестёр, – отозвался Саня.
– Ну, значит, у сестёр. И всё, забудь о приюте. Я сам займусь. Будет у вас здесь бесподобное Нью-Полцарства! Ну что, вызываю такси или пешочком?
В трамвае, прислонившись плечом к штанге, Саня испытал внезапную благодарность к брату. Музыка! Никто в последние непростые годы не пытался помочь ему и тем более не прорубал перед ним такой широкий, веющий волей выход! Он чувствовал, что Болек прав – ему нужно остановиться и что-то понять. И одновременно видел, что сейчас никак нельзя останавливаться. Какие там семь часов сна! Какое ещё пианино! Делай, что должен, и не раскисай!
Выйдя из трамвая, он глянул на телефоне время и бегом помчался к зданию поликлиники. Уже на ступенях его поймал звонок Николая Артёмовича. «Александр, слушай информацию! – строго сказал его подопечный. – К нам идёт циклон. Метеозависимым велели принимать меры. Скажи там своим!» Саня поблагодарил, и старый воин, соблюдая гордую лаконичность, простился.
50
Проводив Саню до трамвайной остановки, Болек сел в такси и вернулся в утреннее Замоскворечье. После разговора с братом на душе было неспокойно. Вроде бы он делал что в его силах – помог найти территорию, надавал уйму мудрых советов, но его поддержка скользила по поверхности. Проникнуть в суть беды, в её глубинный эпицентр не удавалось. Подспудно Болек чувствовал: тут нужна помощь не делом, а чем-то большим, чем дело. Тем невидимым усилием, на которое уходила без остатка вся жизнь его брата.
Поставив задачу вернуть себе бодрость духа, Болек прошёл по Новокузнецкой, перебежал трамвайные рельсы прямо перед гремящей «Аннушкой» и, оказавшись на Пятницкой, завернул в недавно открывшуюся кондитерскую французской сети. Определённо, столица Франции решила передать привет своему поклоннику – в последний раз Болек останавливался в Париже в доме напротив точно такой же булочной.
Внутри оказалось людно и душновато. Он взял еду и кофе с собой. С бумажным пакетом, хрустящим под ударами ветра, вышел к Большой Ордынке и расположился на скамейке в сквере.
Сегодня утром Москва сияла. Зрелый май лез изо всех городских швов, вспарывал асфальт, кирпичи и штукатурку, валился с неба. Оживлённые, едва ли не праздничные москвичи и гости столицы спешили своими маршрутами. «Надо срочно завести знакомых, чтобы сталкиваться с ними на улицах!» – решил Болек и, прямо на скамейке приступив к завтраку, позвонил Софье.
– Можешь прийти в сквер у Лаврушинского? Надо поговорить. Нет-нет, в офисе исключено, там тоска! Давай скорее, у меня на твою долю сэндвич с сёмгой и миндальный круассан.
Когда Софья пришла, Болек уже покончил с трапезой и, привольно откинувшись на спинку скамьи, полистывал планшет.
– Ну, наконец! – приветствовал он сестру. – Я тут обдумываю, как развязаться со всем, что наворотил. Нужна твоя помощь! Присаживайся! – И сунул ей в руки пакет из булочной.
Софья опустилась на скамейку и положила пакет на колени. Есть ей не хотелось.
После того как вчера вечером она различила на запястье сестры вереницу блёкло-голубых бабочек – знаменитую «душу Курта», последние силы оставили её. Ей почудилось, будто она потеряла что-то дорогое, из детства. В подавленном сознании вперемежку плыли голоса близких. Все они сожалели о её напрасных надеждах и о горестном будущем.
Так прошёл вечер, а утром, столкнувшись в прихожей с чёрненькой собачкой, которую привела Ася, и покорно приняв таблетку против аллергии, Софья отвела Серафиму в сад, вернулась и, зайдя на кухню с немытой посудой, ощутила толчок в сердце. Нет, нельзя сдаваться! Бывший муж обратился в суд по вопросу опеки над дочерью. Предстоит война. Отринуть все глупости и собрать себя к бою!
Пренебрегши кофеваркой, Софья сварила себе крепчайший кофе в турке. Сосредоточенно и сурово, как заправская колдунья, присыпала корицей, бросила ломтик лимона. Глотнула, обжигая губы, и приняла решение: забыть обо всём и работать. Много, с напором, как раньше. Придумать новый проект!
Чародейство дало результат моментально: она ещё не успела допить кофе, а экран звенящего телефона уже высветил номер Болека. Неужели будут хорошие новости?
И вот теперь, выслушав его речь о грядущем закрытии филиалов Студии коучинга, Софья почувствовала, что больше не может бороться.
– Болек, объясни, почему? – спросила она с тоской. – Допустим, ты всё это перерос. Но почему ты лишаешь других возможности развиваться тем путём, каким они сами хотят?
– Это не развитие. Это погружение тщеславного и глупого клиента в ещё большее тщеславие и глупость, – возразил Болек. – Мне тошно, Соня, за свои деяния. Тошно упрощать мир, лишь бы денежки текли. Если бы ещё это стоило труда, а то ведь никакой работы ума! Главное – помнить, что фанат саморазвития умеет считать до десяти. Статейка о десяти пунктах – как победить прокрастинацию. Ещё статейка о десяти пунктах – как развить креативность. Десять минут на чтение пунктов, десять – на написание пунктов, на йогу, на визуализацию, и всё – ты укомплектован! Ты – супердуховный ёжик! И при этом ни малейшего подозрения о подмене. Зачем тратить годы на постижение поэзии, музыки, философии? Есть же статейки с пунктами!
– Но ты же не пишешь никаких «пунктов»! Ты открываешь в человеке ресурсы! – отчаянно возразила Софья.
– Я ничего не открываю. Я удовлетворяю страсть к имитации, – возразил Болек. – Имитация духовного развития, иллюзия движения к цели – и великая пустота в конце.
– Хорошо! Займись преобразованиями! – не сдавалась Софья. – Открой философскую школу, раз уж тебя так переклинило! Главное – не теряй свою публику, сохрани хотя бы базу! Как так можно, я не понимаю? Пятнадцать лет коту под хвост!
– Соня, мне не о чем говорить с людьми. Пара воплей, которые ты сейчас выслушала, – это всё, что есть на данный момент. Я ноль, снабжённый массой полезных приспособлений. Такая же обезьяна, ну, чуть половчее – считаю уже до ста, – улыбнулся он с грустью.
– Найми специалистов! Сделаем новый проект!
– Время пока не созрело, – сказал Болек, окидывая взглядом людный сквер. – Так что спрыгиваем с поезда и айда в детство!
Софья, поняв, что спор проигран, покачала головой.
– Для меня, кроме прочего, это был заработок. Конечно, есть ещё проекты, не пропаду… Нет, вы все сговорились, что ли? Нашли время сходить с ума!
– Соня, мне очень жаль, но я уже посадил самолёт, – сказал Болек и, взяв так и не тронутый ею сэндвич, возобновил завтрак. – Не отрицаю, это была аварийная посадка! – продолжал он, в паузах с аппетитом уплетая бутерброд. – Возможно, я садился в лесу и снёс пару сосен. Зато жив и собираюсь насладиться этим обстоятельством! Прости меня. Я выплачу тебе трёхмесячную зарплату! И давай о чём-нибудь другом. Ты ведь хотела поговорить? Что случилось? – Он сунул недоеденный хлеб в пакет, отряхнул с ладоней крошки и внимательно посмотрел на сестру.
– С чего ты взял?
– У тебя дёргается бровь. Ты хотела поговорить о вероломном Жене Никольском? – спросил он, следя за мимикой сестры. На имени Курта она сглотнула.
– Болек! Оставь свои штучки!
– А чем я виноват? По тебе это видно! Так что случилось?
Софья отвернулась. Ветер сгрёб её волосы и кучей мотал по плечам, не заботясь о красоте.
– Ася пришла с браслетом из бабочек. Я видела их, давно. Он говорил, что купил их в Барселоне, в подарок своей собственной душе. И вот теперь, как видишь, душа нашлась – это наша Ася! А я за него иду под суд. Скажи, ну зачем, зачем я ввязалась? – с горечью спросила она.
– Соня! Ну ведь не за браслет же! – напомнил Болек. – Ты ввязалась просто так, безо всякой корысти. И, кроме того, разве бабочки – это твой стиль? Я вот видел на Тверской авторское кольцо со скорпионом. Изумруды и белое золото. И ещё подумал – надо будет потерять его где-нибудь в районе нашей «банки с детством». Ты бы его нашла во время раскопок, а я бы наврал, что откопал его двадцать лет назад в прибрежном иле. А не подарил, потому что струсил. А? Как тебе легенда? Скорпиончик, кстати, живой – там камни так закреплены, дрожат. – Болек внимательно поглядел на Софью – она совсем растерялась – и сказал задушевно: – Ладно, бог с ним. Может, пойдём побродим?
Ни о чём серьёзном больше не говоря, зато совпав ритмом шагов, охваченные общим тревожно-лирическим духом, они дошли до набережной. Дальше Софье предстояло направиться в офис – исполнять прихоть босса по уничтожению созданного с таким трудом. Болек же собрался посвятить день вопросам аренды территории под приют.
– Не жалей, что выручила Курта! – сказал он на прощание. – А то будешь потом себя винить. Имей в виду: человек с комплексом вины непригоден для счастья. И ещё… – прибавил он тихо, как особо секретную информацию. – У меня появилось предчувствие: в вашей ситуации с аварией назревает вариант «выиграл-выиграл».
Вечером, закончив рабочие дела, Софья не пошла домой, а отправилась на Тверскую, в надежде встретить в одном из ювелирных упомянутое Болеком колечко. В третьем по счёту магазине на вопрос, не у них ли она видела подобное кольцо, продавщица вынула бархатную дощечку: «Это?» Перед Софьей блеснула шкура сказочного земноводного, вечный миг соскальзывания в илистую глушь. Вздрагивал изумруд, в его лесной глубине отражалась млечная россыпь бриллиантовой крошки. Софья примерила – кольцо было в пору – и в смятении ушла.
51
После чуда с Дружком и Филькой ничего волшебного с гражданами погоревшего приюта больше не происходило. Никто не откликнулся на красочные объявления в соцсетях и не забрёл в Полцарства по совету друзей, чтобы взять на попечение какого-нибудь старого пса. Утром Ася говорила с Виолеттой по поводу завтрашней ярмарки, и та расценила случай с Филькой как большое везение. «И не отступайте, раз вам так фартит! Вкалывайте!» – сказала она и простилась с Асей до завтра.
С матерчатой сумкой через плечо, набитой кипой листовок, фотографий собак и прочих «раздаточных материалов», Ася вышла на улицу и направилась по первому адресу в списке. Перед ней стояла задача – обойти как можно большее число зоомагазинов. Субботний день, когда люди, выспавшись и неспешно позавтракав, отправляются за кормом для питомцев, как раз подходил для подобного рейда.
Спросив разрешение у сотрудников, Ася вешала афишку ярмарки, но не уходила сразу, а задерживалась у входа – твёрдо решив в каждом месте отдать не менее десятка рекламок в «правильные» руки.
Ася отслеживала быстрым взглядом входивших и определяла по стуку сердца, перед кем имеет смысл завести проникновенную речь.
«Я ничего не продаю и не собираю никаких средств! – первым делом заверяла она приглянувшуюся персону. – Просто хочу рассказать про наш приют!»
Видимо, в ситуации цейтнота и стресса Асина интуиция обострилась – все, к кому она обращалась, оказались милыми людьми, ни один не «послал» её грубо. Однако и толку не было. И вот в пятом или шестом магазинчике, недалеко от лесопарка – сверкнуло.
Когда в магазин вошла молодая пара, Ася почувствовала вспышку сразу. Никогда ещё ей не доводилось видеть такой красивой четы, двоих людей, совсем не похожих внешне, но слитых в один огонь. Она – веер лёгких золотых искр. Он – пламя тёмное, ало-синее, пограничное с цветом ночи.
Молодая рыжеволосая женщина, с лицом писанным тонкой кистью, как у царевен на шкатулках «федоскино» («барышня» – про себя назвала её Ася), с любопытством взяла листовку, вгляделась в коллаж из грустных собачьих морд и ахнула:
– Смотри, как похож! Вылитый! – сказала она мужу, темноволосому парню с несвоевременной сединой у лба, и ткнула пальчиком в портрет Дружка. – Прямо душа переселилась! Правда? – Спохватилась и обернулась к Асе. – У меня был пёс, такой любимый! Совершенная дворняга!
– Это Дружок, Дружка мы уже отдали. Но тут много ещё… – торопливо заговорила Ася. – Вот посмотрите, пожалуйста! Есть фотографии, а есть вот даже портреты… – объясняла она поспешно и вздрагивающими от волнения пальцами искала в папке нужные картинки. – Это наш приют, Полцарства, – его устроил подросток. Просто нас разгоняют, а так бы он никогда их не отдал, они хорошо жили, получали всё необходимое лечение… – Ася оборвала и испуганно взглянула на барышню. Как сказала ей Виолетта, не нужно раньше времени уж слишком расписывать «минусы» собак. – Вот, смотрите, это наша Василиса! – переведя дух, продолжила она и нашла в папке фотографии и акварельный портрет самой красивой собаки приюта – похожей на колли, с тонкой мордой и восхитительно длинной шерстью.
– Василиса! – как-то странно, словно это имя что-то значило для неё, повторила за Асей барышня и, сведя тонкие брови, поглядела на мужа. – Ну что? Что ты думаешь? Мне кажется, это прямо знак! Давай? Мы же всё равно собирались!
– Две Василисы в одном доме, не многовато? – усмехнулся супруг и уверенной рукой взял у Аси всю папку. На пальце блеснуло обручальное кольцо, свежее, как майская листва. Взглянул на лежавший сверху портрет и обмерил художницу насмешливым, а впрочем, благоволящим взглядом: – Ваш рисунок?
Ася кивнула.
– А лет-то сколько этой красоте?
– Всего шесть! – соврала Ася. – Мы так думаем, что шесть… Точно-то не поймёшь! Очень весёлая, активная! – И, напугавшись, что не вышибет жалости, прибавила: – С очень тяжёлой судьбой. Её хотели усыплять. Она просто болела, но сейчас уже выздоровела… почти… И она танцует! У нас ещё была собака, Мышь, она пела. Но она погибла, когда сожгли приют. А Василиса танцует, когда встречает, – у неё такая шерсть чудесная, чёрная с белой «тесьмой»!
Расплакаться раньше времени было нельзя. Сначала – запудрить мозги, заставить поступить не по разуму, а по сердцу! Видно же: нормальные люди, если уж возьмут – будут любить, заботиться!
По внимательному, одновременно насмешливому и сочувственному выражению на лице молодого человека Ася догадалась: он видит насквозь её старания, но не уличает, а слушает терпеливо.
Что касается барышни, та верила всему и по-детски сопереживала рассказу.
– Ну что? Давай возьмём? – просяще потеребила она руку мужа.
– Ничего не обещаю. Псину надо увидеть лично! – решил глава семьи, и Ася, ещё не веря удаче, взялась царапать на обороте рекламки, как разыскать в хитросплетениях лесных дорожек приют Полцарства. Как в страшном сне, ручка проскальзывала, оставляя вместо синего следа бесцветные вмятины.
– Да не переживайте вы так! Разыщем, – понаблюдав за её стараниями, сказал молодой человек. – Телефон диктуйте!
– В крайнем случае мы на ярмарку вашу придём. Может, так и лучше? Прямо с утра и придём, – сказала барышня, пока муж забивал в айфон Асин номер. – Мы тут неподалёку живём! – прибавила она и ободряюще улыбнулась Асе.
Ася улыбнулась в ответ. Сквозь линзу слёз, наплывом, смазанной картинкой в старой, ещё маминой книжке – она увидела себя Гердой во дворце у принца с принцессой. Вот сейчас они успокоят её, осыплют дарами, дадут карету, и всё будет хорошо.
– Ой, а у нас кошка старая. А собака её не съест? – вдруг заволновалась барышня, и в тот же миг маятник Асиных чувств, достигнув предела любви, развернулся в обратный путь.
Сжав губы, она кое-как сложила распотрошённую папку с рисунками и афишками и, не сказав больше ни слова, лишь мельком кивнув на прощание, вышла прочь. Отчеканила двадцать шагов по ветреной улице и, не выдержав, обернулась.
Супруги тихо переговаривались на пороге магазинчика. Глаза в глаза, сердце к сердцу – шептались о судьбе Василисы-падучей. Ася глядела через плечо и презирала их красоту и нежность друг к другу, всё их влюблённое счастье – за то, что они не придут. А как бы хорошо вышагивала Василиса рядом с ними, горделиво мела бы царственными одеждами…
Нет, не было больше у Аси доверия к себе подобным, и непонятно, где его искать! Прежде с похожими нуждами она бегала в розовую церковь на Ордынке, а если из простых смертных – то к Сане. Но теперь оба адреса казались ей глухими. Прав Курт! В мире больше нет музыки – только шум.
Ася вдела наушники и, включив на телефоне дорожку со звуками леса, принялась печатать Курту сообщение. Почему-то на этот раз слова подбирались с трудом. Она набивала текст и стирала. Наконец написала как есть: «Встретила в зоомагазине двух ангелов. Спустились за мной в ад, как я тогда в переход за Марфушей. Обещали прийти на ярмарку. Не знаю, что со мной будет, если обманут!»
52
В канун ярмарки собак Саня работал. Это был последний трудовой день перед роскошными трёхдневными выходными по случаю Девятого мая. За семейным завтраком, не зная, что ещё придумать, чтобы разбить улыбчивое, ясноглазое и сплошное молчание Маруси, Саня предложил после ярмарки поехать в Калугу. Там жила Марусина мама. Он ожидал, что Маруся отрицательно качнёт головой или, в лучшем случае, ответит кратко: «В другой раз!» – как вдруг она заговорила.
– Да, я как раз собиралась! – свежим голосом произнесла она и, выпроводив Леночку, вернулась за стол и села напротив мужа. – Саша, а ты помнишь, как я пришла к тебе в первый раз? – спросила она, кротко улыбнувшись. – Ну, с дедушкой, которого ещё потом другие родственники забрали?
– Конечно, помню! – подтвердил Саня, с тревогой взглядывая на жену.
– Так вот он был фальшивый.
– Как это – фальшивый?
– Ну, это был подставной дедушка. Незнакомый вообще. Я ему заплатила.
– Зачем? – тупо спросил Саня.
– Я тебя увидела где-то за месяц до того дня, – продолжала Маруся. – Ходила к ортопеду, ну, ты помнишь, моя связка под коленкой. А ты у ступеней трепался с какой-то старушенцией. Плёл ей свои утешения, ну, как ты умеешь. Я сразу влюбилась. Правда! С первой минуты. И начала за тобой шпионить. Я подслушивала, что о тебе говорят люди в поликлинике, на что тебя вообще можно купить. Говорила с вашими администраторшами, в Интернете отзывы изучала… Сашенька, ты пойми, если бы я пришла к тебе на приём со своими мнимыми болезнями, ты бы мной не заинтересовался. Ведь я здоровая как кобыла, меня и пожалеть не за что. Поэтому мне пришлось придумать дедушку. Всё равно ведь моего отца ты не мог увидеть, и никого из родственников с той стороны. А мама меня не выдала бы.
– Маруся, ну что ты придумываешь! Зачем? – воскликнул Саня с упрёком. – Я же помню, как ты переживала, плакала!
– Я плакала от волнения, что провалюсь. И потому, что так было нужно. Ты должен был видеть мою огромную жалость к этому деду, потому что у тебя самого ко всем огромная жалость. Из-за моего горя ты ко мне и расположился. Верно? А дед вдруг сразу переехал к тётке в Ростов – и ты его больше не видел. Ни разу. Я тебе от него передавала поклоны. А на свадьбу он нам прислал рюмочки, помнишь? Я их сама покупала в «Доме хрусталя»! – Маруся рассмеялась и потрепала мужа по руке.
Саня во все глаза, словно стремясь увидеть больше, чем возможно, смотрел на жену. Жалко, не было времени разобраться, он и так уже опаздывал.
– Ладно, Марусь, ерунду ты какую-то говоришь! Давай вечером. И ты всё-таки про поездку подумай, хорошо? – сказал он и, жалея о своей малодушной реплике, но так и не найдя, чем исправить, убежал на работу.
Дикое признание Маруси само по себе не удивило его. Он с первых дней знакомства увидел в общих чертах и добровольно принял изъяны и ранения Марусиной личности. Прояснившиеся теперь подробности не имели решающего значения.
Зная, что всякого рода «копания» не доводят до добра, Саня запретил себе на сегодня охи и ахи и старался думать по существу. В этом смысле несколько часов работы с пациентами оказали ему большую поддержку. Необходимость брать на себя ответственность и принимать решения привела ум и сердце в порядок.
Он вернулся домой не то чтобы успокоенный, но без утреннего смятения, зная, что именно предстоит делать. Его ждал разговор с чужим, непознанным существом, к которому надо было отнестись с уважением и бережностью, не напугать и не обидеть.
У распахнутой двери подъезда его окликнула пожилая консьержка – верная поклонница доктора Спасёнова. В новогодние праздники, на дежурстве, с ней случился лихой гипертонический криз. Позвали Саню – он возился с ней, пока не приехала «скорая».
– Александр Сергеич, а куда ваши-то отправились? Прибежали – смотрю, а через полчаса уж выбегают с вещами. На дачу?
Саня остановился и, должно быть, кивнул, потому что консьержка продолжила:
– Ну правильно, пора уж, погода смотрите какая! Я вот тоже, думаю, отпрошусь на недельку, мне бы надо в Серпухов, к сестре.
Вот и всё. Можно было развернуться и пойти куда глаза глядят. И всё-таки Саня собрался с духом и направился к лифту. Через минуту, созерцая застывший по всей квартире развал – следы спешного поиска вещей, без которых нельзя уехать, он почувствовал вдруг, что его давняя тропа снова под ногами. Снова он сможет жить и действовать прямо, с чистой совестью, без вранья и утайки.
Опустился на диван и, зажмурившись, сжал голову в ладонях – заглушить гремучую смесь облегчения и ужаса. Битва закончилась. Битва была проиграна начисто. Победило зло! А ведь Маруся каждый день говорила ему о любви – и он верил ей, и сам поначалу старался поддерживать в себе это простое, единственно важное чувство. Но нет – их союз не пропустили в вечность. Что за металл зазвенел предательски во время попытки пройти через Врата?
Вспомнив вдруг о коте, Саня поспешно выглянул на балкон – не забыт ли тот впопыхах? Нет – забрали вместе с домиком-перевозкой и мисками. Вернулся и, ещё раз окинув взглядом разгром, понял, что Марусин отъезд не скрывал в себе ни шантажа, ни надежды. Она уехала насовсем.
Звонить было без толку. Он знал свойство жены – заносить в «чёрный список» номера тех, с кем порваны отношения. Периодически в нём оказывались телефоны каких-то дальних родственников, старых калужских подруг. И всё-таки он позвонил. Раз, другой, пятый…
Наслушавшись досыта монотонных гудков, Саня впервые понял масштаб своей вины. Вроде бы ничего он не сделал плохого и всё-таки погубил Марусину душу. А почему «погубил»? – не мог объяснить. Просто легла на сердце нехорошая тяжесть.
* * *
Саня не знал толком, для чего поехал к сёстрам. Скорее всего, ему был нужен «глоток» отчего дома. Взлетев через ступеньку на лестничную площадку и протянув руку к звонку, он почувствовал густой, утешительный запах еды – поджаренного лука и фарша. Дома готовили вкусное.
Дверь открыла Софья, одетая явно не по-домашнему. На ней был чёрный костюм под белую блузку, каблуки, шейный платок. Элегантна, как чёрт, и в глазах слёзы-непроливайки.
– Ты куда? – удивился Саня.
– Никуда. Примеряю, в чём пойду ребёнка отвоёвывать. Надо будет походить в образе, привыкнуть, – сказала Софья.
– Да лучше бы, мне кажется, платье, чтобы по-матерински, помягче… – заметил Саня, растерянно оглядывая сестру.
– Лучше добудь мне справку, что я болею! Что я вообще умерла! – отрезала Софья. – Давай проходи, полюбуйся, как мы теперь живём! – И распахнула перед братом дверь гостиной.
На ковре в обнимку с вымытой, шёлковой и душистой Чернушкой сидела Серафима. Собака передними лапами обхватила руку девочки и держала хотя и неловко, но крепко.
– Саня, смотри! Чернушка не хочет меня отпускать! Хочет, чтобы я её гладила! – крикнула Серафима.
– Я вся на лекарствах из-за этого сумасшествия! – сказала Софья. – Глаза вон, видишь, текут! Ресницы накрасить не могу! Но я уже не спорю. Нет больше сил спорить. Добили уже до конца – всё!
Саня хотел сказать что-нибудь ободряющее – найти для Софьи по пустым карманам этот последний кусок сахара или хоть завалящие крошки, но не успел, захваченный в плен младшей сестрой.
Ася налетела из кухни вместе с душным запахом котлет и обняла брата долгим неподвижным объятием. «Саня! Ну как хорошо! Как хорошо! Люблю! Помоги мне!» – шептала она бессвязно и наконец, забрав, сколько ей было надо, Саниных сил, отпустила.
– Пойдём, посмотришь, что я готовлю для собак! – уже в полный голос сказала она и за руку потянула брата на кухню. – Это им прощальное угощение! – перекладывая в миску первую порцию запечённых котлеток, объясняла она. – Чтобы им на ярмарке не было грустно. Конечно, Пашка меня убьёт, скажет – вредно. Но я как раз хотела такое приготовить, чтобы у людей слюнки текли. Чтобы они завидовали! Понимаешь? И потом, я ведь не жарю на сковородке, а пеку!
Саня молча опустился на стул и подождал, пока его младшая сестра закончит работу.
Сознание, что эту вкуснятину она готовит специально для приютских собак, наполняло Асю восторгом. С остервенелой нежностью она лепила кругляши и укладывала на противень, благословляя каждый. Когда второй лист был задвинут в печь, Ася вымыла руки, настежь открыла окошко и увела брата в комнату – поговорить.
В спальне, так быстро после исчезновения Лёшки ставшей прежней, девичьей, Ася достала из уголка с иконами иерусалимские свечи – давний подарок родителей – и, держа перед собой их связку, спросила брата:
– Давай зажжём? Мне уже очень надо!
– Да, – кивнул Саня. – Я не против! – И с тревожным вниманием поглядел на сестру. После кулинарных трудов цвет её лица был обманчив. Холод и страх оказались прикрыты румянцем.
– Видел мою Чернушку? – заговорила Ася. – Я ударила велосипедиста. Поводком. За то, что он загнал её. И отняла. А ведь, может, это и не его собака, а, например, его бабушки. Может, бабушка плохо себя чувствует и попросила погулять. А внук – просто мелкий придурок. Наврал ей, наверное, что сбежала, и бабушка теперь её ищет, плачет. А я готовлю котлетки и радуюсь, что они не для людей… Ну, ведь пора же, правда? Папа сказал – мы поймём, когда уже нужно зажечь!
Сидя на Асиной кровати, прислонившись друг к другу плечами и держа как-то разом, в четыре руки, так и не зажжённую связку свечей, брат и сестра тихо разговаривали.
– Помнишь, папа сказал, что камень, на который клали эти свечи, – это как раз та самая точка. Она нас связывает с небесным миром. И ещё про Галилейское море… Саня, а Галилейское море – оно ведь не море, а озеро. И наш лес – не настоящий лес, а лесопарк. Но в то же время наш лес – это и Галилейское море, правда? Я очень нетрезво вижу жизнь, да? Я во всём происходящем вижу ещё один слой – или ад, или Божие царство. А надо жить в одной плоскости, как по клеткам на шахматной доске. Вот работа – она не для смысла, а для заработка. Вот бездомная собака – надо её либо пристроить, либо усыпить. Вот муж, который поджёг приют, так плюнь и забудь. Или плюнь и прости. А я выпала из клеточек и попала на изнанку. Да, Саня? Поэтому я так вывернута и так мне темно?
Саня слушал бестолковые слова сестры. Несхваченная мысль бродила по горизонту, как патрульный корабль, то скрываясь в дымке, то снова возникая в поле зрения.
– Ася! Ну что ты всё в себе копаешься! Только сама себя сбиваешь! – проговорил он с досадой на то, что не знает, как разрешить её путаницу. – Завтра ярмарка – вот о ней и думай. Разберём оставшихся по домам и займёмся новой территорией. Кстати, съезди посмотри! А Пашку я у вас конфискую. Пока не напишет ЕГЭ, никаких собак! Всё. Это наш план действий!
Ася отстранилась.
– Ты не понимаешь, – глухо проговорила она. – За мою душу борются. Я чувствую, как внутри, внутри, борются за мою душу! – И вдруг совсем понизила голос. – Саня, меня забрало зло. Оно победило – и я к нему отошла, в качестве контрибуции.
Саня обхватил руками голову, взъерошил волосы и внимательно посмотрел на сестру.
– Ты знаешь хоть одного нормального человека, который был бы доволен собой? Да, это правда, мы рушимся! Из детской святости – в цинизм, в уныние, да! Или ещё во что похуже. Что бы кто ни говорил, жизнь – это сильно наклонная плоскость. Только если человек изо всех сил старается уменьшить скорость сползания, если он жизнь на это кладёт! – Ася, понимаешь, жизнь! – вот тогда, может, и удаётся притормозить. Хотя бывают ведь святые старики, я встречал… – задумываясь, возразил он сам себе. – Из них прямо доброта и прощение… прямо мироточат. Значит, можно всё-таки подняться! – заключил он как будто с удивлением. – В общем, бери ответственность за всё, что с тобой происходит, и трудись!
– Саня, я хочу, чтобы у всех были чистые помыслы, – приткнувшись к плечу брата, сказала Ася. – Помнишь, ты говорил о Противотуманке? Чтобы видеть через завесу смерти? Вот бы чего я хотела. Тогда бы мир стал прозрачный, как сосулька, безо всякой лжи, мути…
– А от меня сегодня Маруся сбежала, – помолчав, поговорил Саня.
– Как сбежала? – рассмеялась Ася от неожиданности.
– Сбежала? Ну наконец-то! – На пороге комнаты, переодетая в домашнее платье, стояла Софья. – Ася, шла бы ты к своим котлетам! Там дым уже коромыслом! – сказала она сестре и, оглянувшись на мгновенно вспорхнувшую Асю, подсела к брату. – Я так и знала! Раз приехал – значит, что-то там у вас. Кто бы тебя отпустил без повода! Так что случилось?
– Я сам не понимаю! – отозвался он, морща брови и потирая лоб, словно разболелась голова. – Не ссорились, ничего вообще. Была в неважном настроении после болезни, молчала. А сегодня прихожу – испарилась вместе с Леночкой, и кота забрали. Консьержка видела, как они уезжали с вещами.
– Но ведь это счастье! – от души сказала Софья.
Саня покачал головой.
– Она, правда, мне утром странную вещь сказала… – припомнил он.
– Да какая там вещь! У неё же пустой котелок! – перебила Софья. – Помолись и перекрестись, что тебя избавили от этого кошмара! И не вздумай за ней ехать! Господи, как я рада! – заключила она и, обхватив голову брата, несколько раз поцеловала в лоб и висок. – Я в гостиной тебе постелю!
– Нет, Сонь, мне сейчас в Калугу. Они там, конечно. Где им ещё быть?
Софья упёрла ладони в бока.
– Ну вот ещё, здрасьте, в Калугу!
Через пять минут Саня уже сидел за кухонным столом, окружённый хлопотами сестёр, и, глядя в Асин планшет, смотрел железнодорожное расписание.
– Позвони Курту, он тебя отвезёт! – сказала Софья, накладывая брату Асины котлетки. – Не электричкой ведь на ночь глядя. Тем более он теперь всех нас до скончания века возить обязан!
– Почему это? – удивилась Ася. – Соня, почему он обязан нас возить?
– Слушайте, хватит, я вас прошу! Ну куда мне столько, я лопну! – постарался замять опасную реплику Саня, но Софья уже решилась. Поставив перед братом тарелку, она взглянула с насмешкой на ручеёк браслета вокруг Асиного запястья и понеслась с горы.
– Потому что, моя наивная, это твой дорогой рыцарь сбил дядю Мишу! Пообедав накануне с бутылочкой. Если ты не в курсе, месяца три назад это была его нормальная практика – ни шагу на трезвую голову! Я была поблизости и, естественно, села за руль, а его выгнала в шею. Правда, ребят, вы меня простите, что порчу настроение. Но я тоже уже устала одна отдуваться. Так что да – вот такой он весёлый парень! И нечего, Саня, мне делать страшные глаза. Пусть она хотя бы понимает, с кем связывается! А то нацепила бабочки и рада!
Ася, посерев, как талый лёд, неподвижно смотрела на сестру.
– Ну что ты смотришь! Ещё в обморок давай упади! – сердито сказала Софья. – Выдавать я его не буду. Хотела Елене рассказать – но нет, не могу! – И, с отчаянием махнув рукой, вышла из кухни.
– Саня! Что же это! – тихо сказала Ася, но брат уже выскочил из-за стола и помчался утешать Софью.
– Ну, сказала – и молодец! Ну что ты плачешь-то! Соня! Ты же у нас ангел могучий!.. – летел из комнаты его встревоженный голос.
Четверть часа спустя Саня умчался на вокзал – успеть на экспресс до Калуги. Котлетки остыли. Ася накормила Чернушку и вышла с ней на тёмный двор. Между домами у бойлерной сохранился небольшой угол земли, где выгуливали собак.
Кружа по пятачку, Ася старалась думать только о Чернушке, о том, хорошо ли ей и что ещё можно устроить для её спокойствия и уюта, но мысли сами сворачивали с дороги. «Вот тебе и Софья! Вот тебе и Курт!» – крутилось в голове. Она думала о Курте безо всякого негодования, только с жалостью к брату по слабой, погрязшей в болоте душе. Ася решила ничего не говорить ему и, главное, не позволять себе презрения, потому что разве сама она лучше? Просто до сих пор ей больше везло, берёг Ангел-хранитель, который теперь, уж конечно, не может пробиться к ней через кольцо зла.
Дома, вспомнив о брошенных на столике иерусалимских свечах, она взяла их и потрогала фитили – тридцать три ниточки. Папа говорил – не развязывать, поджигать целиком. Опустилась на колени перед иконой, углом стоящей на полках с книгами. Взлетающий к Богородице взгляд по дороге зацепил свадебную фотографию (Лёшка с гордостью приобнимает невесту) и ещё мельком – снятую с запястья горстку серебра с бирюзой. Всё это единым кружевом взлетело к иконе. О чём просить? Какой принести обет?
Пока фитильки тлели и разгорались, Ася выключила лампу и осталась в темноте один на один с набирающим силу огнём. Язык пламени высотой с выпрямленную ладонь закачался в руке, и таким же пламенем Асю охватил страх. Пылающий сноп напрямую связал её с той силой, перед которой не врут. Умирают, но держат слово.
Ася ничего не пообещала и даже ни о чём не попросила – просто онемела перед огнём. Может, продлись ещё немного вечность, факел сгорел бы до основания, но что-то вторглось и разрушило сон – в дверь заскреблась Чернушка. Ася сжала фитили пальцами. Пламя поддалось не сразу, а поддавшись, обратилось в густой витиеватый дым.
Без сил она опустилась на кровать и с удивлением – как воздушный десантник, которого ветром сдуло на чужой берег, – поглядела сквозь рассеивающийся туман. Всё стало ясно: вот Пашка, который на днях завалит экзамены и пойдёт в армию. Вот жалкий Курт, которого спасла героическая Софья. Вот Саня, который вечно ничего не успевает, но сам факт его жизни – утешение для всех. А вот и она, Ася, увидела зло и бросила на войну сердце. Тогда как надо было сражаться холодной головой, а сердце сохранить для любви. Но теперь что говорить! От сердца осталась рубленая котлетка с осколками.
Ася помотала головой – вытряхнуть дикий образ и поспешно заняла ум списком дел. Собраться на завтра – всё, что нужно для ярмарки. К Соне подойти и обнять, пусть даже и оттолкнёт. А главное – поставить будильник, чтобы ночью позвонить узнать – добрался ли Саня в Калугу и как там его встретили.
Ничего этого Ася не сделала. Тяжко вздохнув, пошла на кухню, мазнула на сухарик малинового варенья из маминой банки и, вкушая, забылась.
Когда затем она возвратилась в спальню, Чернушка, скромно расположившись на подстилке, догрызала украденные со стола иерусалимские свечи.
Глава десятая
53
Следующим утром Саня вернулся в Москву. Подремать в электричке не удалось. Мешала раздражённая память, без конца крутившая сцену ночного свидания. Он подошёл к дому Марусиной матери около трёх ночи. Это был обычный деревянный сельский дом, палисадник с вишнями, калитка отперта. В светлом окне Саня увидел ещё не улёгшееся застолье. За разворошённым столом с остатками еды и опустевшей бутылкой сидели трое: Маруся, её полная мать с выбившимися из пучка волосами и крепкий сельскохозяйственного вида мужчина. Саня не помнил, чтобы видел его на свадьбе. Отчего-то ему подумалось, что это мог быть Леночкин отец. Маруся говорила, тот жил по соседству, вместе учились в школе. Если бы всё вдруг вернулось на круги своя – как будто и не бывало этих двух лет – вот было бы счастье! – подумал он порывом и, взойдя на крыльцо, решительно постучал.
Открыли сразу.
– Вам чего? – выглянув, спросила Маруся. Несмотря на поздний, граничащий с утром час, её лицо было по-праздничному распаренно и оживлённо.
Саня не помнил своей реплики – сохранились только слова жены.
– Да я знать не знаю, кто вы! – усмехнулась она в ответ и, нагло глядя на Саню, подождала, скажет ли он что-нибудь.
Саня вдруг понял: ей хотелось драки, самого грубого и простого отмщения. Разговор по душам, ради которого он ехал, был невозможен.
Выйдя из электрички на утренний вокзал, он вспомнил, что сегодня выходной и у Пашки – ярмарка собак. Обрадовавшись, что не нужно выбирать, куда направиться, он поехал в лес.
Если бы Страстную неделю невероятным образом совместили с Пасхальной, смешали бы скорбь разлуки с ликованием вечной любви – получилось бы чувство, похожее на то, что колыхалось в груди не спавшего ночь Сани. На восточной стороне аллеи, сквозь нежную зелень было видно, как встаёт небо и выносит на себе солнце. Оно выносило его из пучины, которая нам не видна, но, если установить экран и транслировать небо над Америкой, мы увидели бы обычный вечерний пейзаж какого-нибудь американского городка или фермы. И тогда расколотый надвое день наконец смог бы стать целым.
На пустой аллее – словно караулил нарочно – Саню окликнул Курт.
– Александр Сергеич, это откуда вы такой зелёный? – спросил он, подстраиваясь под ритм его шагов.
– Из Калуги, – бессознательно отозвался Саня.
– Из Калуги? Рано выехали?
– В пять двенадцать.
– Если ты встал в пять, нетрудно весь день быть талантливым! – сказал Курт. Он был в прекрасном настроении, слегка взбудоражен. – Знаете, а я помню, я в институте часто рано вставал! Идёшь по улице – и в голову валятся песенки. Ты в них как в метели. Но это такая сказка про дудочку и кувшинчик – только достанешь, куда записать, а их и след простыл. Хорошо если хотя бы строчку поймаешь – считай, повезло! А что вы забыли в Калуге?
– Ездил к жене, – проговорил Саня. – Что-то у неё… с головой. После ярмарки поеду снова.
– И напрасно. Эта история закрыта! – уверенно возразил Курт. – Живите спокойно. К сожалению, не могу рассказать вам всего, что знаю. Заключил соглашение чести – не имею права разглашать. Но когда пройдёт срок давности, расскажу обязательно.
Саня остановился и удивлённо поглядел на своего спутника. Что-то в нём поразило его – скорее всего, выражение небывалой радости и свободы, как будто всё творящееся находилось у Жени Никольского под контролем.
Безо всякой логики, одним сердцем, он спросил:
– Женя, что ты задумал?
– Александр Сергеич, вы прямо как в кино спрашиваете! А в общем да, угадали – задумал! Но пока не скажу, чтоб не сглазить. И по поводу вашей Маруси, вот правда, не сердитесь, не могу пока сказать. Даже не настаивайте. Скажу в своё время.
Саня и не собирался настаивать. Ему хотелось оказаться максимально далеко от интриг, ничего не знать ни о чьих «соглашениях чести».
– Я, кстати, возьму к себе всех, кого не разберут! – сменил тему Курт. – Пока новую территорию не подготовим. Конечно, родители меня будут бить и душить – это же их квартира! Ну, что тут сделаешь! Надо было выбирать – и я выбрал.
– Женя, не надо этого… – перебарывая вдруг навалившуюся тяжёлую печаль, проговорил Саня. – Теперь собак можно и ко мне. Кота ведь увезли. Поживут у меня, сколько нужно, а там посмотрим! – И, поняв, что больше не может продолжать разговор с возрождённым из пепла Женей Никольским, ускорил шаг.
Они молча прошли по аллее, затопленной невесомым золотом мая, а когда вышли к шахматному павильону, оказалось, что ни во дворе, ни в домике, ни в Танином ветпункте никого нет – если не считать одиноко забурчавшего Джерика. Видно, на время ярмарки его заперли в кабинете.
Саня поднялся в домик по хлипким ступенькам и заглянул: в комнате пахло шампунем, влажной собачьей шерстью. Пол усеяли разномастные волоски, а на столе, брошенный наспех и даже не выдернутый из розетки, валялся фен. Саня нагнулся и вынул вилку.
– Они у пруда, там, где будет ярмарка, – сказал Курт.
* * *
С самого утра на небольшой площади перед прудом обустраивалась Ярмарка. Было поставлено несколько складных столов с сувенирами. Продукцию – холщовые сумки, календари и магниты на холодильник собачье-кошачьей тематики привезла Виолетта. Тут же были и Асины акварельки. Дома, порывшись в коробках и папках с рисунками, Ася нашла кучу умильных котят и щенков, роз, ромашек и бабочек. Всё это, ненужное ей теперь, пригодилось на ярмарке.
На отдельном столе были собраны ветеринарные карты и шаблоны договоров. Ими заведовала Татьяна в форме врача – зелёных брючках и робе.
Обычно на подобных мероприятиях выставляли самых перспективных собак – молодых и красивых. Пашкина гвардия была сплошь из доживающих. По мнению Виолетты, примчавшейся с утра вместе с девочкой-аниматором Аней, налегать тут следовало на «биографию и личные качества». История каждой собаки была распечатана и закреплена под соответствующим портретом.
Пока готовились, Ася то и дело строго поглядывала на небо, вразумляя двигающуюся с востока тучу проползти над парком, поджав живот. Пусть роскошь майской грозы с её грохочущей свежестью достанется иным районам столицы, а нам оставьте ясное небо, хотя бы до вечера!
Когда показались Саня и Курт, Ася подбежала к брату, расспросить о ночной поездке, но, приблизившись, раздумала. Результаты были написаны у него на лице.
Курт, напротив, был весел и сразу включился в дело. Из колонок напористо и по-щенячьи звонко понеслись детские песенки полувековой давности. «Пропала собака» и прочие шедевры времён, когда ни Пашки, ни Аси с Куртом ещё в помине не было на земле. Новое время не предоставило шлягерам замены – они по-прежнему были вне конкуренции.
На музыку потянулся народ. Аниматор Аня, девушка с неутомимой улыбкой, цветущей на детском лице, принялась разыгрывать с ребятишками всех возрастов немудрёные конкурсы.
Когда зазвучала песня про «маму для мамонтёнка», государь подошёл и велел Наташке:
– Выключи музыку!
– Паш, ты чего! Такой сборник классный! – возмутилась она.
– Выключи, я сказал! – метнул он ледяной взгляд.
Наташка моментально нажала «стоп».
– Паш, почему? – спросила Ася.
Пашка сел на корточки возле дрожащего от волнения Чуда – пса, доставлявшего ему совсем мало хлопот, поскольку, в отличие от прочих, он был не слишком-то болен, просто немолод. Отчего-то сегодня этот крупный и тощий пёс разволновался сильнее прочих. Обеими руками, крепко, успокоительно, Пашка принялся гладить его бурую шею и бока.
– Не хочу, чтобы кто-то взял собаку на эмоции и выбросил потом, – сказал он и глянул снизу вверх на свою «медсестру». – Наташ, помнишь Гаврика?
– Какого Гаврика? – опустившись рядом с Пашкой на корточки, спросила Ася.
– Гаврюша у нас один из первых, – сказала Наташка. – Классный такой сеттер, шоколадный… Бегал по магазину, суетился, всех обнюхивал. Явный потеряшка! Мы с Пашкой его приволокли к Танюше. Осмотрели – и оказалось, всё, уже без перспектив. Надо было раньше. Мы обклеили, конечно, весь район, на всех остановках, магазинах – мол, вот, нашёлся. Но никто не отозвался. А просто хозяин не захотел возиться с больным Гаврюшей – и всё. А мы его возили по специалистам – но уже без толку, только мучить…
– Зато хоть доживал в тепле, обезболивающие, всё, что нужно, у него было, – с достоинством проговорил Пашка и севшим голосом прибавил: – Очень скучал по дому. – Помолчал ещё и, мельком глянув на присутствующих, жёстко заключил: – Так что никаких соплей! Никаких этих ваших «пропала собака»! Не дам, чтобы кто-то взял на порыве, а потом выкинул.
– Значит, будем тоску разводить? – сказала Виолетта, подоспевшая узнать, почему убрали музыку. – Так ты, братец, слона не продашь! – И, не церемонясь с волей государя, включила песенки на полную громкость.
Тем временем с разных концов парка всё прибывал народ – воскресные пары с детьми, пенсионеры, подростки на роликах.
Собаки волновались. Они были счастливы в Полцарстве и, конечно, не могли понять, для чего их вымыли, надушили и привели сюда и зачем все эти незнакомо пахнущие люди стремятся погладить их спину и почесать за ушами. Особенной популярностью пользовался трёхлапый Тимка, взволнованно спотыкавшийся возле Курта.
Пашка на свободном пятачке демонстрировал посетителям умения своих питомцев. Наташка расторговывала Асины копеечные рисунки. Санина пациентка Наталья с Филькой, очумевшим от радости при виде старых друзей, рассказывала кружку любопытствующих о благодати утренних прогулок с новым другом. Татьяна же, сняв робу ветврача и повязав «хохломской» фартук, разливала желающим суздальский сбитень.
Асе выпало опекать Гурзуфа с Марфушей. Придерживая их на поводках, она с пристрастием вглядывалась в лица подходивших людей, а когда никого не было рядом, оборачивалась на аллею, зелёной рекой впадавшую в серое озеро площади. Она ждала симпатичную пару, обещавшую прийти на ярмарку. Нет, не могло быть, чтобы «принц и принцесса», в которых она чуть не влюбилась тогда, оказались пустомелями!
И всё-таки через несколько часов сделалось ясно: они не придут. От этого последняя щёлка сомкнулась в Асином сердце, безверие стало сплошным. Никому нельзя доверять! Только Сане – да и Сане нельзя. Забегается и забудет о ней, как забывал о Марусе, пусть она и глупая, и не достойна…
Иногда Ася принималась следить за Пашкиным взглядом и угадывала его мысли. Он смотрел на поджатый чуть ли не до середины живота хвост старого Чуда, на испуганно полёгшие уши Норы-эрделихи и ненавидел себя за то, что не смог ничего сделать. Когда кто-нибудь посторонний неуклюже гладил голову или требовал лапу, государь отворачивался, зная тоскливый страх собаки, которую поведут в чужой дом.
– Да чего ты, братец! Плохой человек твоих инвалидов не возьмёт, даже не переживай! – сказала Виолетта, и Ася с удивлением поняла, что не только она умеет читать Пашкины мысли.
За всё время их маленькой ярмарки только двое заговорили о возможности усыновления. Первой была немолодая женщина повышенной интеллигентности, с губами бантиком и умилённым взглядом. Ей приглянулась Василиса.
– Да, я давно решила – собаку надо брать с улицы, – рассуждала она как будто сама с собой. – Но тут надо всё-таки подумать. Получается, возрастная собака – значит, только привыкнешь – и снова разлука? Я посоветуюсь с мужем, но он, конечно, поддержит. Милосердие необходимо, пусть даже оно требует жертв, – вздохнула она, оглядев присутствующих – согласны ли они с ней?
– Да какое милосердие! – вдруг сказал Пашка. – Это собака вам милость оказывает, а не вы ей! Потому что собака уж всяко лучше человека. Мы вам друга отдаём, а не обузу!
Женщина ушла со слезами, за ней побежала Татьяна.
Остальные молчали. Никто из своих не смел упрекнуть Пашку.
– Ну и зачем ты тётку хорошую отшил? – сказала Виолетта.
– Это всё дед со своей астмой, – буркнул Пашка. – Если б не дед, я бы ни одной не отдал, все бы у меня жили!
Следующим претендентом на опекунство был немолодой бородатый мужчина с быстрой речью и косящим глазом. Он захотел взять старого тихого Чуда. Трепал его по простой, обвислой шкуре, пожимал лапу, насильно отрывая её от земли. Чуд отворачивался и опускал морду. «Я собак люблю, – посмеивался мужчина. – Собаки, они друзья». Но когда Виолетта предложила ему ознакомиться с договором и спросила, при себе ли паспорт, сунул руки в карманы и, не объясняясь, косым торопливым шагом двинулся через площадь в лес.
– Вот для этого и нужен договор! Ясно вам теперь? – сказала Виолетта и упёрла вздрагивающие от возмущения руки в край стола. В тот же миг договор, схваченный крепким порывом ветра, вспорхнул и приземлился в кучке детей, вызвав смех и возгласы. Все обернулись к ветру лицом и увидели: в ближайшую рощу уже входил дождевой мрак, отчего особенно светлой, контрастной стала юная зелень.
Люди, озираясь, прихватывая за руки расшалившихся детей, заторопились к шоссе – прочь из гудящего непогодой леса.
А затем полил дождь, и площадь опустела совсем. Это был радостный майский ливень. Он шёл дружным строем и сбивал с тополей, лип и лесной черёмухи всё, что держалось непрочно. Густой запах дождя спутал время и место действия. Нежная зелень, смешанная с тёмными клочковатыми тучами, казалась былинной.
Пока люди в замешательстве озирались: пройдёт ли туча? – собаки вымокли. Зря Наташка сушила их феном для пышности. Вымокли наскоро собранные в стопки Асины картинки, пряники и холщовые сумки.
Кинулись загонять под навес животных и убирать вещи. Не суетился один Пашка. Сев на корточки возле образовавшейся по краю лужайки «запруды», он наблюдал за пузыристыми ударами капель. Кутерьма противоречивых течений кружила воду, с «головой» накрыв траву и бутоны одуванчиков. Пашка заметил, что один из пузырей держится дольше других. Как маленький танк, он пробивал себе дорогу между травинками, искал свободные протоки и лопнул, только когда наткнулся на ветку.
Тем временем всё новые и новые пузыри-«шаттлы» десантировались на поверхность воды и вступали в неведомое сражение. С увлечением наблюдая за действиями дождевой армии, Пашка иногда протягивал руку и осторожно убирал то или иное препятствие на пути «шаттла», за который болел. Порой задетый пузырь взрывался.
– Ну что, невесты! По домам? – сложив в сумку непроданные сувениры, сказала Виолетта и подошла к Пашке проститься. – Павел, это только начало. Твой первый опыт. Закаляйся! – сказала она замершему над лужей мальчику. Тот не обернулся.
Татьяна, Саня, Наташка и Курт поблагодарили бескорыстных помощниц от своего имени и от имени государя. Курт вызвался проводить их с вещами до машины, но Виолетта отказалась:
– Нет, братцы. Сами допрём. Лучше бегите, сушите хвостиков!
Наперегонки вбежали под крышу, и сразу пол шахматного павильона обрёл камуфляжный рисунок. Запахло по-дачному – мокрым деревом терраски. Ася открыла контейнер с котлетками и угостила собак, а люди согрелись оставшимся в термосах сбитнем. По железному конусу крыши бил дождь. Под его расстроенный марш все вёсны, осени и лета Полцарства, которые уже не могли свершиться, прошли по двору, приветливо постукивая в окна.
– А из моих никто не пришёл. Надо же! – озадаченно качнул головой Саня.
Он рассказал о ярмарке некоторым пациентам, из тех, что не стеснялись звонить ему за советом днём и ночью. Саня считал, что точно придут Никитины – Оксана с мамой. Они живут вдвоём, Оксана водит машину, у них дача. Рассчитывал на Снегиринских – молодых пенсионеров, у которых недавно умер пудель. Надеялся на чувствительного диабетика Серёжу, собиравшегося завести пса, чтобы вынудить себя наконец к оздоровительным прогулкам. Он был уверен в приглашённых. Не в том, что они непременно возьмут собаку, но в том, что, как обещали, придут «поболеть».
– Ну что, Александр Сергеич, уволитесь теперь из поликлиники своей? – сказал Курт.
На этом сокрушения были оставлены. Предстояло обговорить план дальнейших действий.
В своём посёлке недалеко от Москвы Наташка нашла соседей, бравшихся за некоторую сумму подержать у себя собак. Это потому было хорошо, что Наташка могла проведывать их каждый день. Ася договорилась с Алмазом, тем самым, что в конце февраля перевозил к Пашке замоскворецких собак. Он обещал прибыть по звонку на «Газели». На этот раз ему предстояло отвести за город четырёх псов, включая и Гурзуфа с Марфушей.
Тимку-безлапого, Нору-эрделиху и Василису-падучую, нуждавшихся в серьёзной медицинской поддержке, на время – по крайней мере до тех пор, как об этом проведают родители, – вызвался приютить Курт. Джерика забирала Татьяна. Оставался открытым вопрос с Агнеской, которую по причине страшной пугливости не взяли на ярмарку, а оставили в ветпункте с Джериком.
Когда дождь кончился, собак заперли в шахматном домике, а сами пошли возвращать Людмиле на склад, что одалживали. Занесли потом в кафе отмытые термосы и на обратном пути обнаружили, что Пашки нет.
Никто не заметил, когда он исчез. Предположительно, это произошло на отрезке между складом и кафе, потому что на складе – это запомнили все – государь гордо пообещал Людмиле вернуть ключи от домика завтра утром.
Бросились искать врассыпную, и уже через минуту Наташка сбросила остальным эсэмэску – «На аллее у кормушки!».
Маленький, с мокрыми слипшимися волосами, он шёл вдоль скамеек, останавливаясь возле деревьев и извлекая из-под коры и из прорех в стволах следы человеческого присутствия – блистер из-под таблеток, смятую упаковку сигарет, разорванную перчатку, розовое сердечко от заколки. А в стволе липы, росшей возле самой скамьи, в невысоком дупле была устроена пепельница. Её содержимое размокло под ливнем. Пашка бесстрастно собрал окурки в ладонь, пересыпал в стоявшую тут же урну и, не вытирая рук, двинулся к следующему дереву.
– Не трогайте его, пусть бродит, – сказал Саня.
Постояли и, не окликнув, ушли.
Государь вернулся, когда начало темнеть. Долго отмывал руки под уличным краном, где вот уже несколько дней как дали воду. Фыркало и шипело в трубах, отвыкших за зиму от работы.
Встряхивая мокрыми руками, Пашка вернулся во дворик к своим товарищам и сказал, что пока побудет с Джериком. Может, вынесет его погулять. Никто не посмел навязывать ему своё общество.
Около семи ветер пригнал отцепившийся от грозового фронта вагон – небольшую, но крепкую тучку, и сразу почернело в лесу. Светлый вечер превратился в ночь. Ускакала на электричку Наташка, обещав приехать завтра ни свет ни заря.
– Ну что, может, и я пойду? – сказала Татьяна. – Зверьё-то моё дома ждёт. Ну, Джерика тогда не потащу, раз вы дежурите. К Пашке мне зайти или уж не надо?
Саня взглянул на Таню и впервые заметил, как она похожа на племянника суровой угловатостью лица и характера.
– Не нужно, иди, – качнул он головой. – Не беспокойся.
– Ну тогда пока, Александр Сергеич! Продержитесь уж последнюю ночку! – сказала она и, положив крепкую, в жилках, ладонь ему на руку, пониже плеча, виновато прибавила: – Ты уж прости, люблю я тебя. Что делать.
– И я тебя люблю, Танюша, – кивнул Саня, и они расцеловались сердечно, как, встретившись во время большой беды или радости, целуются родственники.
Вслед за Татьяной и Ася принялась собираться. Вымыла и убрала в пакет контейнер из-под котлеток, прихватила мокрую кофту и подошла к брату. Почти весь день она молчала, и теперь её голос зазвучал незнакомо, как будто даже с хрипотцой.
– Не пришли мои ребята симпатичные, которые Василису хотели взять, – проговорила она и оглянулась порывом, словно вдруг мелькнула надежда. – А я думала, придут… Ну, теперь уж не буду лишнего думать о людях!
– Ну и мои не пришли! И что? Ася, ты послушай меня! – взяв сестру за плечи и легонько встряхнув, сказал Саня. – Тут нельзя никого винить. Нет виноватых!
– Нет виноватых? – тихо, с расцветающей в глазах злостью сказала Ася. – Ты так думаешь? А может быть, есть? Может быть, есть один такой простой, голубоглазый, ревнитель здоровой семьи?
– Да забудь ты уже о нём! Хватит! – крикнул Саня. Бессонная ночь, неразрешённый вопрос с Марусей, жалость к Пашке и старым псам – всё сошлось и забурлило. – Ты посмотри, что с тобой творится! Посмотри, из глаз у тебя что сверкает! Я твой брат, я тебе запрещаю ненавидеть!
– А где ты был, когда я связалась с нелюдем? – усмехнулась Ася. – Когда я его в приют привела? Ты у нас прославленный диагност – как же не разглядел? Как мог допустить эту мерзость ко мне в жизнь? Если и тебе нельзя доверять – то кому? Кому? А раз некому – то я буду защищать свой мир своими зубами!
– Зубами! С ума ты сошла! Ты зверь разве? – крикнул Саня.
– Александр Сергеич, оставьте человека в покое! – вступился наблюдавший за сценой Курт. – Тут просто во всей этой ситуации надо поправить один винтик, и я знаю какой. Я завтра поправлю – и всё пройдёт. И вернётся наша прежняя Ася.
Брат и сестра с недоумением взглянули на говорившего.
– Ты? – переспросила Ася. – Ты поправишь? Господи, ну надо же такое придумать! – И вдруг расхохоталась взахлёб.
– А почему бы нет? – вовсе не смутившись Асиного смеха, сказал Курт. – Ребят, я тоже за это время кое-что понял!
– Да ты ведь ноль! Такой же ноль, как я! Только ломать умеешь! – закручиваясь в истерику, хохотала Ася. Ещё несколько секунд смех бил и гнул её, как недавний шквалистый ветер – деревья, и наконец смешался с рыданием, таким, что ей с трудом хватало мгновения между спазмами – вдохнуть воздух.
– Ася! Прекрати! Прекрати, ты слышишь меня! – встряхивал её Саня. – А ну посмотри на меня! Что мне, по щекам тебя бить? Женька, быстро воды!
Через пять минут Ася, розовая от слёз и досады на свою слабость, взяла пакет, кофту и, ни с кем не простившись, нырнула на орешниковую тропу.
– Александр Сергеич, останетесь с Пашкой? – спросил Курт, цепко глядя ей вслед. – Побудьте, он вас хоть уважает. А я Асю провожу. Доведу до самой квартиры, Софье в руки передам, даже не волнуйтесь!
Саня потёр лоб. Конечно, это он должен был побежать за сестрой. Но Курт прав – бросать Пашку нельзя. Один Бог ведает, что у него сейчас на уме и в сердце.
Вздохнул тяжело, без облегчения, и кивнул:
– Ну, беги.
Саня обнаружил Пашку в Танином кабинете, сидящим на низенькой табуретке возле Джерика. Одной рукой он чесал старого пса за ушами, а другой придерживал лежащую на коленях тетрадь по биологии.
Факт добровольного обращения государя к учёбе поразил Саню.
– Ты что это, Паш? – спросил он, с тревогой глядя на его ссутулившуюся фигурку.
– Ничего, – буркнул Пашка. Помолчал и прибавил: – Всё равно уже не успею выучить… Без толку! – И, захлопнув тетрадь, отвернулся.
Саня быстро подвинул табурет и, сев напротив, взял у Пашки тетрадь. Это был справочник по подготовке к ЕГЭ с вариантами заданий и разбором материала.
– Ты всё это знаешь, – возразил он, пролистав. Помолчал и, погладив морду перебинтованного пса, исхитрявшегося приветно вилять хвостом, тихонько сказал: – Паш, давай поговорим!
Тот обернулся и глянул исподлобья. Прозрачно-серые, «драгоценные», как однажды сказала Ася, глаза выразили слабенькую надежду – вдруг Александр Сергеич придумает что-нибудь толковое?
– Вот ты молодец, Достоевского прочёл, это хорошо. Но ты ещё когда-нибудь прочитай «Войну и мир», обязательно, – начал Саня серьёзно, словно рекомендовал важный учебник. – Там есть эпизод, когда врач – ну, просто полевой врач без имени, никак особо не представленный, – после операции целует князя Андрея. Князь Андрей перенёс страдание, он умирает. И вот врач целует его. Вот нам этого жеста не понять, да? Но, мне кажется, ты понимаешь. Таких врачей очень мало. Не важно, кого именно они лечат, людей, животных… Ты должен стать таким врачом, Паша! Должен взвалить на себя этот труд. Понимаешь? Он – твой.
Пашка слушал молча, с жадностью. Он обеими руками стиснул учебник и смотрел на Саню, не отводя глаз.
– Ты должен справиться – ради всех, кого бросили, кого обидели… – говорил Саня, краснея от нехватки подлинных слов. – Прости, я пафосно выражаюсь. Ну а как ещё сказать? Надо справиться, Паша!
Пашка отвернулся, потрогал нос Джерика, нет ли температуры, и снова взглянул на Саню.
– Ну а что я могу? Я вот учу, – сказал он.
– Учи, – кивнул Саня, коротко сжав ладонью Пашкино плечо. – Деду только потом позвони, не забудь! – И со стеснённым сердцем вышел.
Во дворе разжёг костерок – очень хотелось курить. Но огня толком не получилось – один дым. Весь лесной сор был пропитан сегодняшним ливнем. Подумав, что от Пашки вряд ли дождёшься звонка, Саня достал телефон и вызвал номер Ильи Георгиевича.
Старик выслушал вести о занятом биологией внуке рассеянно, без должной радости, на которую рассчитывал звонивший.
– Хорошо, хорошо, слава богу, – сказал он поспешно. Помолчал и прибавил: – А знаешь, Санечка, как-то всё же печёт грудь! Выпил даже нитроглицерину. Если не пройдёт, может, заедешь завтра со своим аппаратиком, снимешь кардиограмму?
– Илья Георгиевич, если печёт, надо вызвать «скорую», – сломленно проговорил Саня.
Старик примолк и, собравшись с духом, переменил тему:
– А я тут разобрал свои наброски, о педагогическом воздействии музыки. Ну, ты помнишь. Перечитал то, что на машинке набрано. И, знаешь, может быть, все вы правы: надо сесть да всерьёз заняться делом? И Паше будет пример! А то кто я для него? Домработница!
– Илья Георгиевич, конечно! Это совершенно правильно! – из последних сил отозвался Саня. – Вы простите меня, я так, на минутку звонил. Не могу сейчас говорить, мне тут ещё нужно…
Они пожелали друг другу спокойной ночи. Саня нажал «отбой», но разговор не закончился. Вместе с дымом игрушечного костра струились и проникали в сознание горькие стариковские мысли. Саня видел душой, будто сквозь стену, как Илья Георгиевич бесцельно обшаркивает свою кухню и комнату, как садится затем в пустоте и осознаёт: последний его берег – семейство Спасёновых – ушёл из-под ног. Внук не звонит. А больше никого и нет. Такая длинная была жизнь. Неужели не к кому прислониться? И, вдруг смирившись, вскакивает, поправляет на диванчике сползшее покрывало и суетливо оглядывается – где бы ещё раздобыть посильных дел унять тоску?
«Докурив» и накрыв костер жестянкой, Саня позвонил сестре – узнать, дома ли она.
– Всё в порядке, – ответила Ася. – Курт меня проводил, а теперь я гуляю с Чернушкой.
– Ася! Иди домой ради бога! Ночь на дворе! Завтра трудный день! – взмолился Саня.
– Нет, мы ещё заглянем к Болеку. У него, по крайней мере, нет аллергии на собак! – строптиво сказала Ася.
Саня не стал возражать. Пусть заглядывают куда хотят. У него больше не было сил на споры.
О ночлеге они договорились так. Пашка расположился на кушетке в Татьянином кабинете, возле Джерика, а Саня отправился ночевать в шахматный павильон.
В отсутствие хозяина Гурзуф бессовестно занял диванчик. Остальные спали на своих подстилках, по углам и под партами. Сломленный весом бессонных суток, Саня не нашёл духу спорить с вожаком. Он сел к столу, прилёг головой на руки и сразу выключился.
Бог знает, как это вышло, в какой момент сна он подчинился притяжению земли? Проснувшись в середине ночи, Саня обнаружил себя на полу, среди пахнущих дождём и шампунем шкур. Тимка, подобрав одинокую переднюю лапу, поделился с ним своей подстилкой, а Нора-эрделиха, почуяв, что Саня не спит, принялась вылизывать ему руку. В этом мареве тёплой шерсти, как пастух, заблудившийся в холодных горах вместе с отарой, он согрелся. Это было столь вопиющим юродством, никоим образом не возможным для «нормального» человека, что Саня ощутил совершенное успокоение и блаженство. Меньше, чем сейчас, уже нельзя было оказаться. Звёзд не было видно над их биваком – мешала крыша и жасминовый куст за окнами. И всё-таки Саня лежал под звёздами. Он понял, что не знает, за кого ему тревожиться в первую очередь, и перестал тревожиться, отдав всё на попечение этих невидимых звёзд.
А утром, толком ещё не разлепив веки, почувствовал особенный лад в пространстве. Гармоничный строй внутри и снаружи, на который мозг человека отзывается формулой «всё хорошо». Для Сани это состояние означало: он сделал, что мог, а дальше отпущенный на волю кораблик уже не в его власти. Приют Полцарства отплыл за прошедшую ночь на солидное расстояние от земли и прислал телеграмму – на непонятном ангельском языке, но счастливую.
Умываясь под рукомойником крепко остывшей за ночь водой, Саня задумался, надо ли пересказать своё чувство Пашке или лучше не бередить? Решил действовать по ситуации. Подходя к дверям ветпункта, он увидел, что Пашка уже сидит на ступеньке, смотав волосы в хвост, и сосредоточенно смотрит всё в тот же справочник по биологии. Услышав шаги, он поднял взгляд и ошеломил Саню улыбкой.
Похоже, и государь тоже «получил телеграмму». Труд и страдание были позади. От сознания завершённости как-то непривычно расслабилось и стало нежным его мальчишеское лицо. Стёрлись углы, он смотрел без угрюмости, «карельскими» глазами, принявшими в свою озёрную воду весну.
– Александр Сергеич, ну что? Дела закончим, и сегодня с вас геометрия! – объявил он бодро.
Саня подошёл и, сказав «Э-эх!», крепко шатнул Пашку за плечо. Он хотел ещё много чего сказать, но вместо этого только улыбался непривычно широкой улыбкой, так что даже заболели щёки. Ещё бы! Несколько месяцев он не видел Пашку таким! Вдвоём они вернулись в домик и выпустили собак погулять.
Солнце встало, и дворик Полцарства очутился под куполом первой листвы. Изумрудная краска, размешанная в голубой чашке неба, лилась зелёными струями наземь и не могла пролиться. В эту благодать один за другим стали собираться свои. Пришла Татьяна. Прибежала Наташка, на ходу хихикая и подпрыгивая.
– А вот смотрите, что от Виолетты! – крикнула она, маша телефончиком. И все присутствующие по очереди смогли насладиться присланными Виолеттой фотографиями Дружка на крыльце частного дома, в компании двоих смеющихся детей – мальчика и девочки. Судя по «выражению» хвоста и морды, Дружок был доволен происходящим.
– Вот же для чего всё! – воскликнула Наташка, толкая Пашку, выглянувшего из домика с чашкой чая и сухарём. – А ты всё со своим пессимизмом!
Пашка поглядел на фотографии и кивнул одобрительно.
Пришли наконец Ася и Курт. Ася – бледная и жалкая, закутанная всё в то же серое, в зацепках пальтишко, в котором ходила с марта. Левой рукой она прихватывала у шеи воротник, словно не чувствовала, что утренняя свежесть ушла и почти летнее тепло льётся через мелкое кружево ещё не загустевших крон. А в правой как-то косо держала перевязанную ленточкой кондитерскую коробку – если в ней был торт, его бок уже наверняка примялся.
В отличие от Аси Курт был одет с опережением сезона. Голые руки под короткими рукавами футболки покрылись мурашками, но он не замечал холода. В его лице было волнение и скрытое торжество, как перед церемонией вручения большой награды. И на губах, Саня заметил, уже подрагивали слова – трепетал мотылёк, но пока не решался слететь, дожидаясь нужного момента.
На завтрак собаки съели положенный корм, а людям достался чай с чудесным ассортиментом пирожных, оказавшихся в Асиной коробке. Ася поставила её на стол и открыла со словами: «От Болека!»
Собравшиеся удивлённо поглядели на сладкую роскошь, нелепую в час прощания. Но тут Пашка потёр ладони и, прицелившись, выцепил из серединки эклер. Вслед за его почином в мгновение ока коробка оказалась пуста.
За чаем ещё раз обговорили план действий. Затем вымыли чашки и упаковали вместе с чайником к другим вещам. Ася позвонила Алмазу насчёт машины, Наташка с Татьяной сложили собачьи вещи – игрушки, корм, документы. Главное тут было – не сорваться в причитания, не заразить волнением и грустью собранных в дорогу собак.
54
Если с пешеходного перехода на Пятницкой взглянуть на Климентовский переулок, справа увидишь рядок цветных домов и поймёшь, что ты вовсе не местный житель, а турист на отдыхе в лучшем городе мира. Здесь давно уже нет твоего скромного детства. Его следы ещё можно встретить на Новокузнецкой улице с маленькими дворами-скверами и глубже, на Большой Татарской. А впрочем, и там нет правды! Европейского вида дамы выгуливают в сквериках крупных породистых псов и, отперев ключом калитку, скрываются в закрытом дворе элитного дома.
Бродя по утренним улицам, Лёшка не обдумывал предстоящую встречу с врагом, а вместо этого прислушивался к сладостному запаху весеннего города. В те дни дворы, из тех, что подальше от метро, пахли свежей краской, но более всего – горечью распустившихся тополей. Свежесть перешибала бензин и беспрепятственно заходила в сердце.
Встреча же, о которой не хотел раньше времени думать Лёшка, имела свою предысторию. За прошедшие после поджога часы и дни он оставил на форуме живодёров пару хвалебных гимнов «защитникам города». Но мёртвые души догхантеров не обратили внимания на подобострастного новичка.
Тогда с Лёшкиной лёгкой руки на самых смрадных болотах Сети закурилось сообщение. «Привет вам, братья! – писал он. – Слава защитникам города, спалившим гадское логово в лесопарке! Наконец-то твари линяют из наших зелёных лёгких! Из достоверного источника стало известно, что завтра утром блошатник прикроют. Оставшихся тварей развезут по лагерям, где они сдохнут в клетках. Всех доблестных воинов, а также группу поддержки приглашаю отпраздновать нашу очередную победу. С меня – поляна! Встречаемся в десять на центральной аллее, где мостик».
Лёшка, хотя и гордился «стилизацией» текста, не очень-то рассчитывал, что главарь отзовётся. Но какая-нибудь мелкая живодёрская шестёрка могла и клюнуть. А там уж он шестёрку эту тряхнёт как надо. Не сомневайтесь, расскажет всё!
Отгуляв по родному Замоскворечью оставшийся час «мирной жизни», Лёшка спустился в метро и через полагающееся время был на краю лесопарка. Прохладное утро мая хорошело на глазах. После быстрой ходьбы захотелось скинуть ветровку. На аллею свернул в одной футболке, блистая бицепсами – даром, что ли, тягал железо! Когда же различил прислонённый к мостику велосипед и рядом с ним – хлипкую фигурку владельца, с чёлочкой и птичьим каким-то лицом, понял: этого недолго и спугнуть. Подходил, предусмотрительно ссутулившись. Остановился не напротив, а рядом и, осторожно скашивая взгляд, спросил:
– Наш будешь?
– Так я Романчик! – сказал парень и замахал длиннейшими ресницами, так что на востренький нос набежала переменная тень.
– Романчик? – переспросил Лёшка, припомнив аватарку с пучеглазым хамелеоном.
Выяснять, имя это, фамилия или же кличка, он решил излишним.
– Ну, здорово, а я Алексей! – сказал он и, повернувшись к нему теперь уже всем корпусом, ткнул велосипедиста кулаком во впалую грудь. – Ну чего, ты герой-то у нас? Тебе благодарность граждан?
– Да не, я так, – отшатываясь, хмыкнул Романчик. – Канистры только допереть помог. А так это всё парни…
– А сам-то чего? Так стоял, любовался?
– Да уж, и так уж… – промямлил он. – Злобные шмоньки! – И, скривив губы, тронул штанину. – Достала вот одна!
Лёшка взглянул. На узких джинсах пониже колена был виден шов.
– Я её час выслеживал, догнал и из баллончика, а она меня… Злобная шмонька… Злобная… – Губы Романчика дрогнули, и он, сморщившись, выдавил из себя несколько некрасивых слов.
– Ромашкин, так это твоё было видео, про конфетку? – припомнил Лёшка. – Ну, классно снял! Как она там корчилась, а?
Романчик улыбнулся и, отводя моргающий взгляд, обронил:
– Спасибо…
– А чего лезешь-то к ним, раз они тебя не любят? Обходил бы стороной!
– А чего мне, город им сдать? – с неожиданным пафосом наехал Романчик и отчеканил назубок: – Когда мы достанем последнюю тварь, мир станет светлым!
– Зигхайль, – кивнул Лёшка и, ловко отцепив парня от его двухколёсного транспорта, за который тот было схватился, поставил перед собой. Рябое и востроносое личико сморщилось, ожидая удара. – Кто вас нанял? – спросил он спокойно, но как-то так, что паренёк зажмурился. – Просто скажи, что за персона. Чудной такой, с лохмами? С ящиком на ремне? Кто нанял вас сжечь приют и на меня это дело повесить?
Десять минут спустя, сидя на скамейке и придерживая сзади за шею сидящего тут же Романчика, Лёшка выслушал историю о женщине в синем плаще, живущей, по смешному совпадению, в подъезде шурина Сани и пожелавшей уничтожить «притон блохастых». Что это за женщина и каковы мотивы её поступка, Романчик не знал, и этому вполне можно было верить. Рассчиталась она сразу по завершении дела, как и договаривались, хотя некоторые парни осудили вождя – всё-таки рыцари города должны проводить зачистки бескорыстно!
От выслушанных признаний в голове у Лёшки стало мутно. Он понял, что ничего не понимает. Его рука на шее пленника ослабла, чем тот сразу попытался воспользоваться, однако был пойман и придавлен к лавке.
Дальнейшие расспросы новых сведений не принесли.
– Ну а жене-то моей кто наплёл, что я виноват? – совсем уже риторически полюбопытствовал Лёшка.
Романчик захныкал.
– Короче, щас пойдёшь со мной! – решил Лёшка и, подняв за шкирку упёршегося было свидетеля, выволок на аллею. – Придём, и всё расскажешь, как мне сейчас рассказал. Всё до копейки. Усёк? – наставлял он его дорогой. Романчик ныл, просился на волю, но Лёшка крепко сжимал железной лапой его худую руку. И как-то тошно было, противно, что зло, на которое охотился, оказалось таким дохлым, просто соплёй!
* * *
Когда, протащив Романчика через заросли зазеленевшего орешника, Лёшка вышел к шахматному павильону, волонтёры приюта, а также их звери были тут как тут. Наташка, Пашка и Татьяна сидели на ступеньке домика. Курт, Ася и Саня – на лавочке. Лёшка со своей добычей умудрился застать миг прощания накануне старта в новую жизнь – граждане Полцарства присели «на дорожку».
Твёрдым шагом войдя во дворик, он бросил победный взгляд на взметнувшуюся с лавки Асю и, взяв Романчика за шкирку, как тряпичную куклу, выставил вперёд перед собравшимися:
– Щас он всю правду скажет! Романчик, давай! – и, развернув свою жертву лицом к Асе, прибавил обиженно и нежно: – Вот, раздобыл тебе, любуйся! Щас поймёшь, чего ты наделала! – Помолчал и, встряхнув хнычущего человечка, приказал: – Ну, валяй! И про бабу ту, которая приют заказала! В твоём подъезде, кстати, шурин, живёт! – уточнил он, глянув на Саню.
Рассказать историю самостоятельно Романчик не смог, однако на Лёшкины вопросы отвечал хотя и сопливо, но внятно, так что вскоре картина заказного поджога, совершённого шайкой «идейных» живодёров, стала ясна. Тайной оставался мотив заказчицы и сама её личность. Впрочем, если бы Лёшка в тот миг внимательно посмотрел на Саню, стоявшего с опущенными руками, словно на расстреле, и этот вопрос разрешился бы.
– А теперь колись, чего вы им подбросили, чтоб на меня навести! – грозно спросил он.
– Ничего мы не подбрасывали! Сжечь надо было – и всё. Мы и вообще знать вас не знаем! – хныкнул Романчик, подёргиваясь под железной Лёшкиной лапой.
– Ладно, поговорим ещё. Да стой ты спокойно! – пнул он своего пленника и, обернувшись к Асе, сказал со вздохом: – Ну что? Теперь хоть ясно тебе, дурище? Чуть ведь, блин, не разошлись!
– Можешь хоть армию орков пригнать в свидетели. Я слышала сама, – тихо, с большим усилием выговорила Ася.
– Не понял! – застопорился Лёшка. – Вот же он, кто поджёг! Он сам признался! – И для наглядности тряхнул Романчика. – Александр Сергеич! Вы хоть ей скажите!
– Хватит передо мной им трясти! Уходи! – превозмогая отвращение, сказала Ася. Она мутно смотрела на крепкого белобрысого парня с нелепой нежностью в незабудковых глазах, и его присутствие мучило её. В какой-то миг оно сделалось настолько нестерпимо, что Асино воображение выключило картинку и пустило взамен иное кино. Замелькали весёлые шкуры цвета песка и снега, цвета земли, цвета морских ракушек и шоколадных камней-голышей. Завертелись пластинки – пение Мыши, хриплый голос Джерика, Пашкины команды, хруст «вкусняшек». Всё счастливое и быстроногое, откуда кровавыми человеческими когтями была вырвана жизнь, хороводом неслось перед ней.
– Так чего, этого вот свидетеля мало? – спросил Лёшка. – Всю компанию надо? Ладненько. Надо – будет! – И, одним махом развернув к себе Романчика, встряхнул его, как запылившийся пиджачок. – Логово ваше где? Где тусите? Живо отвечать! Не хныкать, а отвечать, понял? – рявкнул он и припёк слюнявую, заикающуюся от плача жертву к берёзе, затылком в шершавый ствол.
– Лёш! Отпусти его! – крикнул Саня, но тот уже не владел собой.
– Кто меня подставил? Кто! Меня! Подставил! – орал он прямо в скорченное лицо Романчика и вдруг, стиснув зубы, снёс кулаком часть кожи с нежной скулы живодёра.
Ася смотрела, как брат пытается оттащить Лёшку от повизгивающей жертвы, и её трясло крупной, ледяной дрожью. Запредельное изумление – как мог её избранник оказаться преступником, вруном, клеветником, садистом, избивающим случайную жертву, – переполнило её.
Теперь для Аси было бы хорошо выпасть, как барышне позапрошлого века, в спасительный обморок. Но нет, она надёжно держалась на своих ногах. «Я не могла с ним жить. Это была не я», – навязчиво крутилось в уме.
Вдруг совсем рядом, над самым её ухом, голос Курта ясно произнёс:
– Лёш, отпусти его! Я скажу тебе, кто виноват!
Лёшка выпустил жертву мгновенно – словно только и ждал этих слов – и, слегка наклонив лоб, как молодой бычок, поглядел на заговорившее вдруг «кудрявое дерево». Романчик осел по стволу берёзы на землю и ползком ретировался, никем не удерживаемый.
– Это я! – сказал Курт, без улыбки, но с радостью, и, подойдя, гостеприимным жестом распахнул руки. – Ты не волнуйся, сейчас всё будет в порядке. Всё будет хорошо. Погоди, не налетай только! – притормозил он Лёшкин порыв ладонью и обернулся к своим друзьям. – Ребята! – сказал он, взглядывая поочерёдно на Асю, Саню и Пашку. – Ребят, послушайте меня! Алексей не виноват, и я очень рад за него! Прикольно быть не виноватым!
– Жень, ты уверен, что это нужно? – проговорил Саня.
– Уверен ли я? Александр Сергеич, а вы знаете много уверенных? Как думаете, был ли уверен Болеслав, когда взялся меня вытаскивать? Или, может, вы были уверены, когда позволили мне воспользоваться милостью Соньки? Ну, вот и я не уверен, но поступлю как решил. Какой-то их психологический гуру сказал: в каждый момент времени человек совершает наилучший выбор из возможных. Я совершил свой выбор тогда и совершаю сейчас. Жалеть не стану.
Саня стремительно подошёл и, взяв Курта за плечо, глядя в глаза, сказал тихо, одними губами:
– Женя, не смей! О Пашке подумай! Ты же кости ему все переломаешь покаянием своим!
Курт обернулся на государя. Тот сидел на корточках возле крыльца и с безучастным видом ковырялся в траве, отделяя мёртвую осеннюю паклю от свежей зелени.
– Простите, Александр Сергеич. Я не могу думать сразу обо всех. Сейчас мне нужно думать об Асе, – сказал он и, отстранив Саню, продолжил: – Так вот, рассказываю по порядку. В день поджога я забыл из-за Джерика фонограф – вот здесь, на рябинке, он болтался. А в ту ночь как раз шёл циклон, помните? Я подумал, зальёт ведь аппаратуру к чёрту, и пришёл забрать. Было около полуночи. Они подкатили – трое на великах, с канистрами. Один как раз вот этот, Лёш, твой. И уехали довольно быстро. Можно было спокойно потушить это дело, из окна подсобки шланг протянуть. Но я не стал. Я подумал – это тот самый случай, который раз в жизни. И просто отпер калитку – чтобы собаки выбежали. Так что, Паш, да, Мышь погибла из-за меня. Я не проверил, все ли спаслись, – другим был занят.
Пашка встал, опустив испачканные руки, широко открыв прозрачно-серые, неуместно прекрасные на нескладном лице подростка глаза. Он смотрел прямо и окончательно, как будто увидел в двух шагах от себя воронку смерча, но уже через пару секунд во взгляде проступило иное – безразличная муть. Он снова опустился на корточки и принялся высвобождать зелёные травинки.
Курт бодро кивнул:
– Ну вот! Начало положено – едем дальше. Я прошерстил запись и нашёл там, Лёш, твоё бормотание – благо ты много всего успел натрепать. Ты Асю пришёл искать, да? Ну и проклял всех по полной. Было такое? Как раз вот здесь, под рябиной, и по фонографу ещё потом двинул кулаком. А? Было?
Лёшка молчал, часто сглатывая слюну. Непроизнесённые ругательства вытапливались на лбу каплями пота, и щёки, начавшие было остывать после разбирательства с Романчиком, снова пошли красными пятнами.
– Ну вот, я вырезал кое-что из твоих проклятий и влепил куда надо, – вольно присев на лавочку, продолжал докладывать Курт. – Заткнул там в корпусе дырку пакетиком, чтоб дождём не залило. А утром дал послушать Асе. То есть мы вместе вполне натурально догадались, что надо бы послушать. Вдруг остались голоса преступников? И да – остались. Это как раз был ты! Ну, мы послушали и стёрли. Не в полицию же тебя сдавать!
– Женя, зачем? – не сдержавшись, крикнул Саня. – Зачем? Можешь хоть объяснить?
– Затем, что иначе Ася бы так и промаялась с ним всю жизнь. А если бы ушла без весомого повода – чувствовала бы себя потом сто лет предательницей. У неё же совесть, а я знаю, что такое совесть. Совесть может сжечь человека, сглодать его до косточек! Я Асю люблю и не хотел ей костров инквизиции, – сказал Курт. – И вот выпал случай всё устроить так, чтобы она стала свободной безо всякой вины.
На этих словах он вздохнул и, среди всеобщего молчания подойдя к Асе, проговорил совсем тихо, бережно:
– Ася, я просто не знал, что ты сломаешься. Я не хотел. Поэтому – вот. Ты должна знать – ты вышла замуж за того, за кого и выходила. Нормальный он человек, вполне порядочный. В нём ты не ошиблась. Так что можешь снова доверять себе и людям.
Ася, хотя и побелела, выслушала Курта с оживлённым лицом и ободряюще кивнула ему. Затем взглянула на Лёшку и слабо улыбнулась. Тот стоял, прислонившись к берёзе, покусывая обломанную веточку, очевидно, решив выслушать всё до конца и уж только потом вдарить.
– Паш, и ты тоже не ломайся, пожалуйста! – от души проговорил Курт. – Не теряй доверия! Не все такие, как я. Есть и нормальные люди.
Пашка встал, исподлобья, тяжко глянул на оратора и, повернувшись, зашагал прочь. За ним побежала Наташка.
Переждав «технический перерыв», Курт продолжил:
– Ну вот, а потом, у вашего дома, Александр Сергеич, в синем плаще… «Я вижу ночь, мне снится плащ твой синий…» – улыбнувшись, процитировал он, но взял себя в руки и закончил спокойно: – Мы договорились, что я не выдам её, если она уедет. Ей не хотелось, чтобы вы знали. И я бы не выдал – но вы ведь уже и сами всё поняли?
Саня стоял, опустив руки, глядя в землю и, вероятно, желая раствориться в её черноте.
– Александр Сергеич, даже не смейте себя винить! – сказал Курт. Помолчал и подытожил: – Ну вот… К сожалению, собаками не смогу сейчас заняться. У меня ещё одно дело. Вот, возьмите ключи! Можете их сами ко мне отвести. – И протянул ключи Сане. Тот взял машинально. – Ладно, ребят, увидимся! – кивнул он и хотел уже покинуть собрание.
– Эй! Куда почапал? – перерезал ему дорогу Лёшка и, помяв ладонь, словно готовясь предложить её в знак товарищества, всадил уже поработавший сегодня кулак в открытое лицо врага.
Курт отлетел на шаг. Отдышался и, смеясь, вытер проступившую кровь. Его лицо вовсе не выразило страха, гнева или обиды, скорее и правда веселье.
– Чего ты ржёшь? Ещё хочешь? – спросил Лёшка. – Хватит с тебя! – Сплюнул остаток презрения под ноги врагу и, на глазах наливаясь свежим счастьем, олимпийской своей победой, подошёл к Асе.
Да нет, ну что там, олимпийской! Это была победа в большой войне. Майская листва грохотала праздничной канонадой.
– Ну что, домой? Будешь теперь мужу верить? – сказал он и улыбнулся прежней доброй улыбкой – зная, что всё доказал. В его голубоглазом мальчишеском лице была нежность и торжество, готовность к слезам примирения.
Ася внимательно и как будто удивлённо смотрела на этого простого солдатика. Он страдал, он воевал. Наконец сегодня всё вышло по справедливости, и Ася должна была преподнести ему награду. Герой уже выставил грудь для орденов и улыбку для поцелуя. «Жалко, – про себя подумала Ася. – Вот как жалко, нехорошо…»
– Лёш, я не хочу, – совсем тихо, чтобы никто не услышал, сказала она. – Просто не хочу! – И, нырнув мимо Лёшкиных рук, как ушедший из-под удара боксёр, полетела в сторону аллеи. Через несколько метров, замедлив ход, она обернулась и махнула Курту: – Пошли!
Тот сорвался с места и через мгновение догнал её.
55
Никто не бежал за ними, не сыпал вдогонку проклятий. Дружно, летящим шагом они пересекли поперечную дорожку и двинулись по сырым лужайкам в южную часть парка. Под их шагами просыпалась потихоньку вся будущая благодать земли – редкие ландыши, которые никто не найдёт, потаённая земляника июля, августовские опята.
Свернув на заглохшую асфальтовую дорожку, они остановились перевести дыхание. Нестриженые кусты в мелких светлых листочках столпились вокруг и смотрели наивно и любопытно, словно никогда не видели людей. Солнце пекло через кружево леса. Ася сняла пальто и повязала рукавами вокруг пояса. Вот и ещё одно бегство в её жизни удалось!
Курт сел на отмытый весенними водами, с паром отутюженный солнцем асфальт дорожки. Сквозь трещины в сером монолите проклёвывалась трава.
– Как у старых берёз. У них тоже такие разломы в коре, – проговорила Ася.
– В трещинах самая красота! – погладив разлом, сказал Курт. – Но даже если и примнут катком, всё равно одуванчик потом распорет.
– Почему ты всё рассказал? – спросила Ася, усаживаясь рядом.
Курт видел: Ася прекрасно знает ответ и спрашивает только затем, чтобы он ещё раз мог сказать ей о любви.
– Из чистой меркантильности! – отозвался он. – Как бы ты смогла доверять мне, если бы вообще перестала доверять людям? Теперь осталось добиться, чтобы Соньку оправдали.
Ася жалобно посмотрела в его уже немного припухшее лицо.
– А ты?
– За меня не бойся! – сказал он очень серьёзно. – В любом случае мне проще, чем Соньке. У меня хотя бы нет маленького ребёнка. Соня очень меня выручила, – прибавил он. – Тогда я не смог бы, а теперь – всё ерунда!
Ася, обняв его, прислушалась. Да, он был совершенно неуязвим!
– Я за тебя не боюсь, – кивнула она.
Через несколько минут, размешанные в солнечном воздухе леса, прозрачные и тёплые, они вышли к руинам старинной постройки и присели на согретом крыльце. Осыпавшиеся ступени вели в залу без стен и потолка, зато с колоннами. Разрушенную крышу заменил нежный купол клёнов.
– Давай танцевать! – сказала Ася и напела мелодию, из тех, что играл на скрипке Илья Георгиевич. Смеясь, они пошатались по заросшим клёнами руинам, между вспышками граффити на старинных колоннах и вернулись на крыльцо. Ася сняла туфли и потёрла ушибленную об обломок кирпича ногу.
А через пару минут, беспечно перепрыгнув через ближайшее, они уже вовсю говорили о будущем, отдалённом достаточно, чтобы можно было чувствовать себя в безопасности. Решено было обязательно поездить по России – скажем, на Алтай. Да, на Алтай непременно, избродить его летний медовый праздник в группе с опытным проводником. Или – долететь до Якутска и проплыть по Лене. Ещё Ася мечтала хотя бы однажды нормально пообщаться с дельфинами, но не в неволе, и… – съездить в весенний лес за сморчками! Никогда в жизни Ася не собирала сморчки, а почему-то хотелось. Весенний гриб, разве не чудо? Что касается Курта, он мечтал бы послушать «вживую» Исландию и Заполярный круг. А впрочем, эти желания были так ничтожны по сравнению с тем, что сбылось сегодня!
Тогда же между ними было условлено, что они постараются так обустроить жизнь и работу, чтобы свободно содержать немалое число нуждающихся животных. Конечно, городская квартира для этого не подойдёт.
Почувствовав в какой-то момент, что будущее достаточно укреплено, они вынырнули из мечтаний на свет. В это время по узкой дорожке мимо бывшей залы с колоннами прошла женщина с коляской и бросила на парочку недоверчивый взгляд. День набирал силу, наливался солнцем и шелестом и был очевиден настолько, что отрицать его реальность стало невозможно. Решено было, что Ася вернётся и поможет развезти собак, а Курт отправится к Софье и скажет ей и её адвокату всё, что должен.
Когда Ася ушла, Курт присел на ступеньки, в тенёк юного клёна и сделал несколько необходимых звонков. Первый был самый близкий, на расстояние в какие-нибудь триста метров – Сане.
Тот не дал ему сказать и слова.
– Женя! Только не предпринимай ничего, я тебя прошу! – взмолился он, едва услышав его голос. – Подожди, слышишь! Дай разберёмся с собаками, а потом всё обсудим! Давай, хочешь, у меня? Не руби с плеча, очень тебя прошу, и Соне не поможешь, и себя погубишь вдобавок!
Курт улыбнулся. В этом возгласе было страдание о нём и желание избавить его от наказания. Совершенный парадокс, если учесть, что он принёс зло обеим Саниным сёстрам.
– Александр Сергеич, я вам благодарен, спасибо. Я ничего не собираюсь рубить, – сказал Курт. – Если мне сегодня куда-нибудь придётся ехать, вы пока сможете собак взять? Ну, которых я должен был к себе? Или можете с ними ко мне пойти. Там дома у меня, на кухне, прямо у двери, пакеты с кормом.
Получив сокрушённое Санино согласие, он перевёл дух и пролистал в телефоне «контакты». Следующий звонок был потруднее.
– Елена Викторовна, здравствуйте, это Никольский! Ну, который владелец автотранспорта, – приветствовал он Софьиного адвоката. – Мне нужно сделать важное признание! Я бы даже сказал, решающее для вашей клиентки, для всей её дальнейшей судьбы… Да. И поэтому я очень прошу встретиться не у вас в офисе, а у неё дома. На это есть веские причины… Вы не могли бы подъехать к ней на Пятницкую? Лучше сейчас.
И наконец, точно как в сказке, третий зверь, страшнее двух прежних, выскочил перед ним – очередь звонить Софье. Пока он собирался духом, недоумевающая Елена опередила его и дозвонилась клиентке первой – Курт нарвался на «занято». Через пару минут Софья перезвонила ему сама.
– Что ты несёшь? Что ещё за признание? Ты хотя бы сначала спросил, какие у меня планы, прежде чем гостей ко мне собирать! – с лёту возмутилась она.
– Соня, я хочу взять свою вину… – начал он.
Софья на миг умолкла и сразу же завелась снова:
– Взять вину? Проснулся! Ты хотя бы о наших законах имеешь понятие? Вот и сиди! И молчи! Только ещё хуже напорешь! – набросилась она, но по изменившемуся тембру голоса Курт догадался – его намерение произвело на неё впечатление.
Он шёл к метро с рассеянной улыбкой, воображая, как Софья выслушает его план, плеснёт чёрными волосами с плеча на плечо и взволнованно зашагает по комнате. «Нет, ты этого не сможешь! Ты не выдержишь!» – скажет она своим резким решительным тоном. А он пожмёт плечами: о чём теперь говорить? Решение принято, прыжок совершён, и не их дело заботиться, долетит ли он до того края пропасти.
Затем, простодушно забыв, кто вообще-то здесь виноват, Софья, конечно же, примется благодарить, плакать. Он примет дары, не отнекиваясь. Бог знает, когда ещё удастся побыть героем!
56
Когда Ася с Куртом ушли, Саня с жалостью посмотрел на Лёшку, примёрзшего лбом к берёзе, и, ничего ему не сказав, направился в Танин ветпункт. Куда больше, чем Асин супруг, в данный момент его волновал Пашка. Из-за угла спортбазы навстречу ему уже выглядывала встревоженная Наташкина мордочка.
– Александр Сергеич, скажите ему! Чего он! – зашептала она и жалко сморщила нос. Узенькие глаза-льдинки в величайшей тревоге смотрели на единственного человека, которому ещё можно было верить.
– Да, Наташ. Щас разберёмся, – кивнул Саня, хотя вовсе не представлял, с чем тут можно разобраться, тем более ему. Сказать по правде, он удивлялся, что ещё стоит на ногах. Должно быть, он сохранял дееспособность лишь благодаря тому, что тяжесть облепила его равномерно – Маруся, Пашка, Ася и Курт, неустроенные собаки. Если бы собрать этот вес в единый камень на шее, Саня, наверно, уже валялся бы.
Пашка сидел на корточках возле лавки перед ветпунктом, сложив руки на доске и свесив голову, так что за волосами было не видно лица. Неизвестно, о чём он думал и думал ли – или, может, уже был в островной деревушке Заонежья, со своим беспутным отцом. Все оказались не правы, только беглый этнограф Николай Трифонов прав. Земля являлась зоной безвыходных положений, её простёртые в бездну плато были разнообразны по облику, но одинаково гибельны. Лишь юродивое, выдуманное, сновидческое остаётся областью человеческой свободы – так он говорил когда-то своему сыну, но сын был мал и не понимал мудрёных слов. И вот теперь, когда на месте верного товарища в одночасье возникла змеящаяся чернота, – понял.
– Паша, послушай меня! Мы знаешь как поступим? – садясь на корточки возле Пашки и кладя ладонь ему на плечо, заговорил Саня. – Мы сейчас Таню с Наташкой проводим, а сами берём собак и идём смотреть участок. Ты же не видел ещё! Конечно, работы будет завались, но, если вместе возьмёмся, справимся. Болек тоже поможет, не руками, конечно… Давай поднимайся! Службу твою никто не отменял. Ну? – И, склонив голову, заглянул в его занавешенное волосами лицо.
– Я не хочу, – сказал Пашка, стряхивая с плеча Санину руку.
– Так нельзя, Паш. Взялся – тащи.
Пашка откинул волосы и как-то глухо, нехорошо поглядел Сане в глаза:
– Александр Сергеич, я больше не хочу, понимаете? Не хочу привязываться к уязвимым! Не хочу рыдать всю жизнь, что ничего не могу сделать. Никаких животных, никаких стариков больных – не хочу! Мой отец бросил деда и меня – и правильно сделал. Зато он свободный!
– Ты, что ли, из-за этого придурка с ящиком так скис? – раздалось чуть поодаль.
Саня и Пашка обернулись. В десятке шагов, упёршись ладонью в осыпающуюся мозаику спортбазы, стоял Лёшка. Саня выпрямился и порывисто подошёл, собрался что-то сказать, но Лёшка сделал жест: погоди! – и обратился к Пашке:
– Паш, я вот чего хотел спросить. Может, мне взять Гурзуфа с Марфушей, не возражаешь? Ты не волнуйся – будут при мне, домашними псами. Ну, погулять-то, конечно, выпущу с утра, они ж привыкли. Чип им впаяем, чтоб не терялись.
Пашка поднялся и дико поглядел на недавнего врага.
– Это ведь мне он Гурзуфа завещал, дядя Миша. Последняя воля была такая, – объяснил Лёшка. – Может, если б я её выполнил, а не стал искать, на кого перевалить, и не было бы этого всего. Жили бы дальше… – прибавил он потухшим голосом и умолк, глядя в пустоту. Но уже через пару секунд встряхнулся. – В общем, давай, Паш, я готов. Серьёзно тебе говорю, не сомневайся. Щас Алмазику позвоню…
– Алмазик сегодня наших за город повезёт, к Наташке, – проговорил Саня, глядя на Лёшку с удивлением и надеждой, словно внезапное смирение Асиного мужа могло оказаться тем самым лекарством, которое спасёт всех.
Тем временем Пашка, не говоря ни слова, никаких не выказывая эмоций, взял у Татьяны поводки, подозвал собак и, даже не потрепав на прощание лохматые морды, только бегло раздвинув на лапе Гурзуфа шерсть – зажила ли недавняя царапина, подвел обеих к новому хозяину.
Лёшка слегка отпрянул, словно не ожидал, что его просьба будет исполнена так быстро и буквально. И сразу Гурзуф, навалившись лапами на грудь, умыл дяди-Мишиного соседа языком, так что у того загорелись щёки.
– Наташ, пакет с вещами Марфушиными дай ему. А карты у нас пока оставим, – распорядился Пашка и, снова опустившись на лавку, принялся что-то листать в телефоне.
– Слушай… Ну я буду обращаться, если что? Ну, мало ли, там… – сказал, слегка заробев, Лёшка.
Пашка не ответил. Только тряхнул головой, словно отогнал комара.
Собаки, решившие, что их взяли на прогулку, бодро потрусили рядом с новым хозяином – всё же не чужой он им был человек, дяди-Мишин знакомец.
– Ну ничего себе! – выглянув из окна ветпункта, сказала Татьяна. – Наташ, так нам только Щёна с Чудом теперь везти? Вот те раз! Александр Сергеич, а он хоть благонадёжный?
Саня не услышал вопроса. Глубоко и печально, отстранившись от всего мира, он смотрел вслед своему бывшему родственнику и видел всё, что творилось с ним. Он вовсе не желал влезать в Лёшкино сердце, но многолетний опыт сострадания сделал процесс проникновения в чужую шкуру мгновенным и неминуемым. Он чувствовал: несмотря на всю горечь, произошло что-то правильное. И Лёшку, и обеих собак ожидала родина – то счастливое место, где они снова станут ближе к своей основе. Лёшке больше не потребуется выжимать из себя «культурный уровень» и бороться за Асину ускользающую любовь. Все пытки разом прекратились. Вот сейчас он очнётся от боли, окинет взглядом родные улицы и дворы, где промышлял Гурзуф и гулял дядя Миша – праздничный скоморох его детства. И, может, ему даже хватит духу отметить своё возвращение. Он купит пива, хлеба и колбасы. Колбасу нарежет ломтями потолще. (Ох и надоели же ему прозрачные кружочки, украшенные сверху петрушкой!) Сервирует на подоконнике трапезу, угостит собак и станет думать думу о том, что погибнет, конечно, его судьба, но ещё не теперь. Ещё успеет он набродиться по Москве, наподмигиваться всласть детям и женщинам и оставить по себе легендарную память – был-де такой Лёшка, пропащий, но свой, сердце чистое, голубые глаза…
А затем его сморит, он уснёт под колокольный звон – прямо, как есть, щекой на подоконнике. День пробежал. Вечереет. Гурзуф, опёршись передними лапами о плечо посапывающего хозяина, зорко глядит во двор. Его занимают два воробья, расчирикавшиеся на тополиной ветке. Их упитанные подвижные комочки дразнят охотничий взгляд. Одного так бы и хрумкнул сразу, а другого – сюда вот, хозяину на тарелку. Ну да ведь у хозяина колбаса, и у него, у Гурзуфа, колбаса тоже. Может, ну их, воробьёв, пусть живут? Снова хорошей стала жизнь! Знакомый дом, от пивных бутылок уютно и ласково пахнет дядей Мишей.
Облетев мгновенной фантазией будущее собак и Лёшки, Саня обернулся и увидел Пашку. Бледный, с отливом в серое, его подопечный неподвижно сидел на лавке и смотрел в землю. Рядом присела встревоженная Наташка.
– Александр Сергеич, меня тошнит, – вдруг ясно проговорил он.
– Паш, это стресс просто. Ты подыши. Просто спокойно подыши. Замечай, как грудь поднимается, опускается, воздух холодный, тёплый… Давай вместе подышим, на счёт…
– Александр Сергеич, может, нашатыря ему? – спросила из окошка Татьяна.
– Да всё нормально уже! – зло буркнул Пашка, поднялся и пошёл мимо сгоревшего загона, мимо мозаичной стены спорт-базы – во дворик шахматного павильона.
* * *
Тем временем Ася спешила к своим, срезая путь по лесным зарослям. Из темноты земли уже поднялись стебли медуницы с бутонами, и крохотная резная крапива, и даже какие-то несъедобные грибки. Под Асиным торопливым шагом всё это брызгало весенними духами, беззвучно охало и вновь расправлялось навстречу солнцу, тёкшему через дуршлаг «зелёного шума».
Если бы Асю спросили в ту минуту, любит ли она Курта, она бы немедленно ответила – да! Любит, любит! И его! И всех! Родственников, Пашку, собак! Курт же выделялся из списка лишь тем, что был слишком похож на неё саму. Ей казалось даже, что он был не самостоятельным явлением, а как бы восполненной частью её самой. Неким ущербом, который вдруг устранился. Засмолённой течью, залатанной обшивкой космического корабля или даже оторванной головой, пусть дурной, но своей, которая была утрачена и теперь невиданным Божьим чудом вдруг приросла.
Как человек, внезапно одарённый богатством, но не успевший привыкнуть к нему, Ася чувствовала потребность отдать «десятину», а лучше больше, лучше – всё, тем более что её сокровище было не мёртвым капиталом, а процветающей фабрикой, ежесекундно производящей силу и счастье, которые надо куда-то сбывать.
«Главное, – одновременно строго и лихорадочно думала Ася, – от всех этих даров не стать бесчувственной! Не позволить себе тупого счастья!»
Выскочив к приюту, Ася увидела, что угол шахматного павильона весь объят зазеленевшим кустом жасмина. Маленькие пучки листвы только распускались, похожие на крохотные бутоны зелёных роз. Между ними ещё были видны суховатые ветки, и вовсю просвечивали серые доски павильона. Эта нежная зелень на сером, сухом и старом подействовала на Асю смиряюще. Ей пришло в голову, что её нынешняя радость и свет могли оказаться неуместными в день, когда окончательно исчезал с земли приют Полцарства.
Унимая разгон, она вошла во дворик и увидела, что всё готово к прощанию. Собаки, которых предполагалось на время оставить у Курта, были заперты в домике, а те, что отбывали в Наташкин посёлок, доверчиво топтались во дворе, возле хозяев.
Ася подбежала к брату и, прижавшись, шепнула куда-то в плечо:
– Саня, не ругай меня!
Тот погладил её русую голову, тёплую от солнца.
– Что там Женька? – спросил он.
– Поехал к Софье. Всё хорошо! – сказала Ася и, отстранившись, пошла к Наташке с Татьяной. Они что-то дружно искали на лавке, в сумках с приданым Чуда и Щёна. – Ребят, ну что, едем? Звоню Алмазику, что выходим? – спросила она.
Никто не отозвался. Ася обернулась на Пашку – тот перестёгивал посвободнее ошейник Чуда – и вдруг поняла, что их занятость была выдуманной. Они нарочно возились, чтобы не смотреть на неё, как если бы она совершила что-то постыдное.
– Почему вы на меня не смотрите? – крикнула Ася. – Что не так? Что я побежала за Куртом? За преступником, да? Но он не мог тогда по-другому! И он покаялся!
– Ася, да ты совсем, что ли! – оставив сумки, сказала Татьяна. – Чего он не мог-то? Ладно бы огня испугался. Так он ведь стоял и смотрел! Хоть бы собак собрал, пересчитал! Мышь бы не погибла. А теперь он герой у тебя?
– Но ведь он признался! – возмутилась Ася. – Разве, когда грешник раскаялся, это не важнее, чем всегда быть хорошим? Саня!
Брат покачал головой, указывая взглядом на Пашку. Ася поняла его жест и, помолчав, проговорила совсем тихо:
– Ребята, простите нас!
– Кого вас-то? Вас кого? Ты, что ли, виновата? Дурочка ты! – сказала Татьяна.
– Ладно, пошли уже, – скомандовал Пашка и, приоткрыв дверь, заглянул в домик.
– Агнеска! – сказал он притаившейся под диваном собаке. – Я сейчас вернусь. Слышишь? Провожу – и за тобой!
– А где Марфуша с Гурзуфом? – спохватилась Ася.
– Их Лёшка взял, – отозвался Саня.
– Как это – взял?
– Взял к себе жить. Сказал, дядя Миша ему завещал.
Ася в изумлении посмотрела на брата и вдруг улыбнулась.
– Ох, как это хорошо! Как хорошо, правда? – любовно оглядывая друзей, воскликнула она. – Ну, Гурзуф ему жару задаст! Но это и хорошо – меньше тоски останется! Правда ведь? А потом я с ним поговорю, попрошу, чтоб не держал зла. Сейчас нельзя – вдруг он не так поймёт, обнадёжится. Может быть, через месяц? Или даже лучше осенью?
За вычетом Гурзуфа с Марфушей, в Наташкин посёлок предстояло отвезти только двух собак – Щёна и Чуда. Агнеску Пашка собирался забрать к себе – в расчёте, что собачья шерсть никак не повредит деду. Ну а если вдруг повредит – придётся везти Агнеску к трём оставшимся инвалидам – Василисе-падучей, Норе-эрделихе и Тимке-безлапому. Пока не вернётся Курт, Саня уводил их к себе.
Подхватили сумки и остановились посередине двора. Никто не решался двинуться первым, поскольку не знал наверняка, каков статус покидаемой ими земли. Полцарства – что это было? Дворик возле шахматного павильона, или община верующих, или, может, родина?
– Ну, с Богом! – наконец проговорил Саня, но не успел сделать и пары шагов, как раздался небесный гром. Это зазвенел обычным старомодным звонком Асин телефон в сумке.
Цифры, высветившиеся на экране, были чужие, но Ася чутьём узнала звонившего.
– Стойте! – крикнула она, мигом порозовев. – Подождите! Это они! – И, отбежав в сторону, ответила на звонок.
Это была та самая милая пара, из-за которой Ася грозилась перестать верить людям. Оказалось, что барышня прособиралась, когда же наконец приехали на ярмарку, у самого входа в парк их застиг дождь.
– Ну что, сейчас можно подъехать? – спросил парень строго, словно это по Асиной вине грянул вчерашний ливень.
– Распрягай, ребята! За Василисой едут! – крикнула Ася и, весело подскочив, отстегнула поводки у Щёна и Чуда. Почуяв волю, они радостно засуетились, ткнулись носами в руки освободительницы. Ох эти мокрые собачьи носы! В них талая весна и намёк, что когда-нибудь и мы тоже снова станем невинными! Ася потрепала обе морды – глаза, уши и крепкие лбы жёлтого Щёна и бурого Чуда.
Пока Ася с Татьяной и Наташкой гладили и причёсывали предназначенную к удочерению Василису, Пашка, сидя на качелях, спиной ко двору, ковырял ножом кусок древесины – сучок засохшей яблони.
– Паш, ты же рад был сегодня, когда проснулся! – твердил ему Саня. – Ничего не изменилось. У Курта своя судьба. А ты действуй, как решил. Не поддавайся! – И чувствовал, что ни одно его слово не попадает в цель.
Асины герои явились полчаса спустя, с неожиданно взрослым печальным мальчиком лет десяти. При виде собак его глаза загорелись. Он улыбнулся и стал похож на мать.
Погружая изящные каблуки во влажную землю, рыжеволосая барышня подошла к Василисе и склонилась. Собака обнюхала её руки и колени, а затем потянулась носом к глазам, принюхалась к трепещущим ресницам.
– Ой! – рассмеялась барышня.
Ася нахмурилась было в ответ на этот беспечный возглас, но вдруг заметила слёзы, зацепившиеся за ресницы, как дождь за ветки орешника. Раньше у барышни уже были питомцы, она о них тосковала.
– Пойдёшь к нам жить, Василиса? – сморгнув слезинки, пропела она и тонкими пальцами погладила длинную, охотничью морду собаки.
– Не гони, дай подумать! – сказал её муж, строго и пристально глядя на Василису, словно желая разглядеть предстоящую им совместную жизнь.
– Нет, ну а что тут думать? – заволновалась барышня. – Иди вот сюда, присядь!
Парень сел на корточки перед собакой и протянул ей раскрытую ладонь. И у него она тоже обнюхала руки и лицо. Ему было щекотно от собачьих усов – он фыркал, но терпел. Тут подбежал мальчик, прежде робевший, и процедура знакомства повторилась.
– Нет, ну ты посмотри! Разрез глаз, носик тоненький какой! Прямо на меня похожа! – продолжала уговаривать барышня.
Парень опустил голову, выключившись на миг, глубоко уйдя в себя. Несколько секунд он не слышал жену, а затем улыбнулся широко, щедро:
– Ну, раз похожа, придётся брать! Всё, Василиса, поедешь с нами.
Ася и Саня, с тревогой наблюдавшие за сценой знакомства, обменялись взглядами. Они оба почувствовали великолепное несоответствие: черноволосый, с горячими пытливыми глазами, глава семьи был красавец, насмешник и вместе с тем человек, прошедший через выгоревшую землю Полцарства. Конечно, это была совсем другая земля, но не всё ли равно, где получен опыт сострадания? Что-то, куда более важное, чем снисходительное потакание женской прихоти, было в его согласии.
Подскочила Наташка и, чтобы окончательно развеять сомнения, продемонстрировала гостям Василисину учёность. Собака отлично знала команды. Она выполняла их с женской грациозностью и оглядкой, проверяя, так ли уложены «юбки».
Татьяна уже протягивала гостям договор, когда Пашка, всё это время проболтавшийся на качелях, спрыгнул с доски и, подойдя, с упрёком оглядел товарищей.
– И зачем цирк весь этот? Вы бы сначала её карту людям показали, с диагнозом, а потом плясали! – сказал он и, развернувшись, ушёл прочь, за кубик спортбазы.
– Всё верно, – сокрушённо кивнул Саня и, взяв на себя неприятную миссию, обратился к усыновителям. – Ребят, тут вот какой вопрос… Вы пока ещё ни на что не подписывались, так что чувствуйте себя совершенно свободно. Я не знаю, говорила вам Ася или нет. Этот приют – тут нет молодых, здоровых…
Будущий хозяин Василисы, пристально и как будто с удивлением глядевший на Саню, перебил его:
– Что больные и старые, это я понял. Давайте конкретно по нашему зверю!
– Ну а что конкретно… – падая духом, проговорил Саня. – Конкретно – у неё эпилепсия.
– Как эпилепсия? – ахнула барышня и приложила ладонь к щеке.
Ася сжалась в точку, готовясь исчезнуть с лица земли, как разбомблённый город.
– Эпилепсия? И что? – задержав руку на Василисиной голове, с вызовом спросил парень.
Он смотрел на Саню так, будто предположение, что он может напугаться какой-то там «эпилепсии», заслуживало дуэли.
– Ну, она иногда падает, – объяснил Саня. – Но если давать высокую дозу лекарства…
– Падает – и что? Я вот тоже недавно хорошо летел – приложился об тот край галактики! С вами такого нет, не случалось?
Молодой человек явно мыслил метафорами. Саня мог бы ему напомнить, что эпилепсия – явление не метафорическое, а вполне себе бытовое, медицинское и очень тяжёлое, но тот, конечно, и сам понимал это.
Пока его прелестная жена под руководством Татьяны изучала пункты договора, он снова сел на корточки перед скромно опустившей морду Василисой и пытливым взглядом всмотрелся в будущую питомицу.
– Да это же у вас аист! Только наоборот! – вдруг воскликнул он, и все, обернувшись на возглас, посмотрели будто впервые на знаменитую Василисину шкуру – чёрную с белой оторочкой, дивную плясовую юбку.
– …Так вот, – объяснял Саня новому хозяину, пока девочки собирали Василисины вещи. – Если давать высокую дозу лекарства, можно практически избежать приступов. Только тогда собака будет вялая. Поэтому мы выбрали компромиссный вариант. У вас там в карте всё записано, почитаете.
– Всё почитаем, всё сделаем, – серьёзно сказал парень. – Телефоны у нас ваши есть. Если что, будем звонить.
Саня хотел прибавить что-то ещё, но почувствовал, что все слова растворились. Немо он созерцал чудо. Порой на него сваливалось необъяснимое знание того, что знать нельзя. Так и теперь он понимал, что эти люди, взяв Василису, не исчезнут. Спустя какое-то время они станут его друзьями. Он узнает, так ли просто, из ниоткуда взялась ранняя седина в волосах нового хозяина Василисы, и в чём исток такой очевидной крепкой любви этой пары, и почему всё-таки напряжён, печален их мальчик. Всё это откроется ему в свой срок, и тогда мир станет более цельным. Ещё один осколочек творения вернётся на место.
Оттого ли, что последние ночи Саня почти не спал, ему показалось вдруг, что этот красивый энергичный человек где-то на глубине кроток и тих. Только снаружи, чтобы не шокировать окружающих, он делает вид, что решает трезвым рассудком, тогда как на деле – безотказен перед слезами, как безотказна Асина любимая Иверская икона.
Новый хозяин Василисы тоже сделал о Сане кое-какие выводы.
– Вы мне моего друга напоминаете, – сказал он ему. – Он художник. Нет, не такой, другой. – И с невольной усмешкой глянул в сторону Аси. – Он бы всех ваших забрал и ходил бы с ними по Руси, как собачий царь. Только сейчас он…
– У нас был свой собачий царь, но его убили! – прямо посмотрев в лицо Василисиного хозяина, сказала Ася.
– Ася! Чего ты гонишь! – вмиг покраснев, крикнула Наташка. – Кто убил его? Он просто к ЕГЭ готовится!
– Эй! Да что тут у вас происходит? – нахмурился парень и чутким взглядом пробежал по лицам волонтёров.
– У нас тут были Полцарства! – крикнула Наташка и, не сдержав закипевших слёз, ткнулась носом Татьяне в плечо.
До машины Василису провожали все вместе. Пашка шагал приотстав, суровым видом давая понять, что его обособленность нарушать не стоит.
Прощаясь, усыновители Василисы, смущённые историей приюта, предложили раза два в неделю выгуливать старых друзей вместе – здесь, в парке. Из всех «друзей», правда, оставались только Тимка и Нора-эрделиха, отошедшие к Сане, да ещё Джерик, если поправится. Время совместной прогулки определили на восемь вечера. Саня как раз успевал добежать из поликлиники и, подхватив собак, прийти в парк. Так незаметно начало сбываться его предвидение.
Было решено, что Ася поможет обустроить Василису на новом месте и на первые часы утешит хоть немного собачью тоску.
Все по очереди расцеловали собаку. Ася села на заднее сиденье, рядом с мальчиком, и, достав из кармана пакет с шариками лакомства, уговорила Василису запрыгнуть в машину.
Махал рукой Саня, Татьяна хмурила брови, Наташка хлюпала, а Пашкино лицо было совсем пустое. Дождавшись, когда хлопнут дверцы, он развернулся и пошёл обратно.
Тем временем позвонил водитель Алмаз. Бранился, грозил взять за простой двойную плату. Вернувшись во дворик, Наташка с Татьяной подхватили Щёна и Чуда, рюкзаки с пожитками и помчались к шоссе, уже без провожатых.
Когда никого не осталось во дворе, Пашка поднялся в дом – ему предстояло выманить из-под дивана Агнеску, запертую вместе с двумя другими собаками, а Саня сел на ступеньку и огляделся. Ничего не изменилось, и всё-таки изменилось многое. Заросший парк, из которого был изгнан приют, шелестел и блестел, смеялся, как впавший в детство старик. Человеческий дух покинул его вместе с надеждой на рост и чудо.
Незаметно Санины мысли слетели к делам земным. Он подумал: если Пашка не пройдёт на бюджетное отделение, нельзя давать ему болтаться впустую год или, ещё хуже, в армию. У него другая служба! Значит, придётся изыскивать запасной вариант…
– Александр Сергеич, дверь заприте! – раздалось над ухом.
Саня мигом обернулся: Пашка с деревянно замершей бронзовошкурой Агнеской на руках вышел из шахматного павильона во дворик.
Минуту назад, отчаявшись уговорить собаку по-хорошему, государь залез под кровать: там, в чистоте отмытого пола притаилась Агнеска. Она была мастерицей прятаться. Ей ничего не стоило притвориться случайно брошенной тряпкой или, скажем, плинтусом, немного широковатым, неровным, но абсолютно бесчувственным, например, к швабре.
Потянувшись и схватив собаку за переднюю лапу, Пашка выволок Агнеску из-под дивана и, подхватив, вынес во двор. Опустил на землю и, склонившись, погладил по голове, почесал за ушами. Агнеска хотела припасть к земле и ускользнуть, но не посмела, чуя властную ладонь.
– Агнеска, нам пора! – внушительно сказал Пашка. – Если не пойдёшь – останешься одна в лесу. Рядом! – И сделал пару шагов.
Агнеска, стоя на мелко дрожащих лапах, смотрела мимо хозяина. Было ясно: остаться одной – вовсе не худшее из того, что ей довелось пережить.
Пашка надел на собаку шлейку. Ошейник не годился Агнеске – нехорошо было трогать шею, которую когда-то стягивал трос. Пристегнул поводок и, держа в опущенной руке лакомство, чтобы собака чуяла запах, потянул за собой. Агнеска проехала чуть-чуть, тормозя о землю когтями, а затем упала и притворилась мёртвой. Худое бронзовое изваяние с розоватым шрамом вокруг шеи замерло посередине двора.
Пашка сел рядом на корточки, отстегнул поводок и, нарушив все правила дрессировки, позвал тихо и нежно, чуть не плача:
– Агнеска, ну пойдём же! Прошу тебя! Ты погибнешь иначе. Давай! – и, оставив её, сделал несколько шагов прочь из двора. Обернулся. Агнеска подняла голову. – Агнеска, ко мне! – добавив голосу твёрдости, повторил Пашка и пошёл вперёд, уже не оборачиваясь. Через гулкий бой сердца он слышал, как собака, звякнув оснасткой шлейки, встала на лапы и двинулась следом.
Наблюдавший за происходящим Саня поднялся с лавки и застыл, не шевелясь, боясь случайным движением спугнуть хрупкую отвагу собаки.
Агнеска трусила за хозяином, шатаясь, как после тяжёлой контузии. Пашка замедлил шаг, дав ей догнать себя, и шёл, чуть нагнувшись, опустив руку с комочками лакомства и на ходу подкармливая собаку.
– Рядом! – севшим голосом повторял он. – Агнеска хорошая! Молодец! Рядом!
Агнеска на заплетающихся лапах, на тонких лапах, которыми два года почти не пользовалась, изо всех сил торопилась поспеть за хозяином и при этом еле шла, но Саня, наблюдавший за ней, не испытывал жалости. Напротив, ему казалось, это был полёт птицы, наконец залечившей крыло. В крайнем случае – бег лани! Стремительно неслась Агнеска в летнюю даль, оставляла позади горе и страх.
– Александр Сергеич, ключи тогда сами отнесёте Людмиле, – произнёс Пашка, не оглядываясь.
Саня не отозвался – не нужно сейчас лишних звуков. Главное – не спугнуть. «Конечно, Паш, – сказал он мысленно. – Езжайте спокойно, всё будет хорошо».
Взяв Нору-эрделиху и Тимку, он запер дверь шахматного павильона и направился к зданию дирекции исполнить простую миссию – отдать ключи. В неспокойном уме, солёными горьковатыми волнами набегая одна на другую, плескались картины: Маруся в ночном проёме двери, Лёшка в компании Гурзуфа с Марфушей, красное от слёз лицо Наташки и особенно настойчиво – жалобный Илья Георгиевич в жилетке ромбами: «Саня, ну где же носит тебя! – сокрушался тот. – Приходи! Приди сейчас же!»
Неся в себе этот несмолкающий плеск, Саня вошёл в нарядный дворик перед зданием администрации и позвонил в домофон. Он надеялся, что у Людмилы выходной и ключи без лишних разговоров удастся оставить дежурному, однако ошибся.
Людмила вышла к нему сама, нарядная, напористая и крепкая, точно как распускающиеся тюльпаны на клумбах. Остановилась на крыльце и с выражением удивления оглядела гостя.
– Вот. Спасибо большое! – сказал он, отдавая ключи.
Людмила помедлила, заставив его побыть с протянутой рукой. Наконец взяла, надела на палец и сказала с усмешкой:
– Эх, Александр Сергеич, маетесь вы ерундой!
– Да, это верно, – искренне согласился Саня.
57
В то утро Болек встал поздно и поздно, долго, со вкусом завтракал во французской кондитерской напротив, забавно пытавшейся скопировать парижский первоисточник. Русские официантки приветствовали его согласно уставу: «Бонжур, мсье», стараясь даже грассировать. Он ответил им дружелюбной репликой на французском, чем вызвал растерянное хлопанье ресниц, и, смилостившись, по-русски сделал заказ.
В настроении, как и во все последние недели, зыбком, без почвы под ногами, однако не плохом, Болек закончил завтрак и обнаружил, что направляется домой странным путём – то есть вовсе и не домой, а мимо, в глубину тенистых дворов. Бесцельно петляя по тёплому дню, обдаваемый тополиным ветром, он впервые испытал особенное чувство: ему показалось, что он не один и уже не будет один.
Раньше всегда и повсюду он был одиночкой. Даже женатый, даже в окружении почитателей. И вот теперь кто-то был с ним вместе. Кто-то подлинный и несомненный оказался с ним заодно. Может быть, это вернулся Ангел-хранитель, которого он отпугнул самоуверенным движением к цели? Должно быть, так! – привольно мечтал экс-коуч, нарезая круги по Новокузнецкой, Пятницкой и обеим Ордынкам.
Конечно, он понимал, что у его родившегося вдруг неодиночества была и вполне рациональная причина. Вчера поздним вечером к нему забрела Ася, на этот раз с чёрненькой собакой. Пройти отказалась, зато просидела в прихожей с четверть часа. Сказала, что больше не выйдет замуж, потому что после страшной ошибки с Лёшкой уже никому не может верить. Сказала ещё, что за Пашку у неё ноет сердце. Съела за разговором несколько трюфелей из коробочки, которую Болек сунул ей в руки – раз уж она отказалась выпить чаю по-человечески, и пошла выгуливать дальше свою Чернушку.
Он вышел с ней, по дороге заглянул на секунду в кондитерскую и вручил Асе коробку пирожных, велев умять понравившиеся с чаем – углеводы лечат тоску! Он чувствовал, что больше пока ничем не может помочь.
Этот бесцельный Асин визит Болек воспринял как знак, что перемена свершилась. Он стал своим. Он вернулся.
Теперь, после того как возвращение состоялось, Болек чуял повсюду благодатное вещество детства. Оно проступало из трещин домов и древесной коры, а главное – из самого майского воздуха. Всё пространство между Пятницкой и Большой Ордынкой мироточило детством. Он мог бы собрать его мёд, вытапливающийся из прошлого подобно каплям масла на чудотворных иконах. В нём сохранились наяву поездки к Спасёновым – на каждый праздник, с первым снегом и с первым солнцем, и в летнюю пыль, на все шесть дней рождения и один день памяти дедушки.
Вдруг с удивлением он понял, что основная мысль или «замысел» его человеческого существа не содержит в себе ничего серьёзного. Это был самый простой луговой букет нежности к жизни. Давняя музыка, дворовая липа, старомодная расположенность к родне. Вот он – ангел неодиночества! Всё, приобретённое позже, – образование, круг общения, статус – было «рукотворно» и не могло рассматриваться как истинная ценность.
Ошибочно было бы сказать, что этой весной в его жизни началось новое. В ней возобновилось бывшее изначально, но прерванное. Всё это напомнило ему реку, измельчавшую на какой-то срок и вновь набравшую глубину.
Дул южный ветер, перемещая сорванные листья, пыль и облака на север. Определённо, он дул в направлении крохотного городка с торчащей из воды колокольней! Шатаясь по тёплым дворам, Болек чуял близкий конец истории, а это значило: пришла пора возобновить разговор о поездке.
Время перевалило за полдень, вряд ли сёстры были дома, и всё же он направился в бабушкин двор, но не дошёл, задержанный случайной, а впрочем, закономерной встречей: от метро быстрым шагом летел Курт с неизменным ящиком на плече. Трепетала футболка, на запястье болтались фенечки. Он был похож на студента, только что сдавшего необыкновенно сложный и волнительный экзамен.
– Ох, как хорошо, что я вас встретил! – воскликнул он, подбегая и радостно тормоша руку Болека. – Я им только что всё объявил, ребятам! И про поджог. А сейчас вот бегу к Софье, будем вместе с её адвокатом решать, как лучше это всё подать в суде!
– Поздравляю! – сказал Болек. – Но всё же подумай как следует.
– Спасибо! Само собой! – заверил его Курт, ни на мгновение не беря совет в голову. – Болеслав, вы, может, заехали бы к нашим в лес? – вдруг сказал он. – Они там собак развозят, ключи должны сегодня сдать. Должны были трёх ко мне, а теперь выходит, что к Сане! К Александру Сергеичу, – поправился он. – Они там все как сироты. Пашка особенно. А вы бы их обнадёжили! Ну всё, я побежал! – заключил он и, взволнованно передёрнув ремешки и бусины на запястье, помчался на Пятницкую, во дворик с аркой.
«Вот и знакомые на улицах! Обживаюсь!» – отметил Болек, проводив его взглядом, и, развернувшись, огляделся в поисках такси.
* * *
Как тепло на припёке! Ветер в головах клёнов далёк и счастлив, как детство. Смеётся, лопочет, веткой швырнул в плечо. Позвонил Болек, и Саня, обрадовавшись звонку, решил дождаться его в парке. Одному вести двух больших разволновавшихся собак по городу, учитывая, что Тимка без передней лапы неуёмно рвется в галоп, затруднительно. Пусть поможет!
Дожидаясь брата, Саня вспомнил, что в прошлый раз тот велел ему высыпаться как следует и возобновить занятия музыкой. Это вдруг показалось ему так забавно, что он улыбнулся, но сразу снова стал серьёзен. Заканчивались праздничные выходные, завтра на работу. Значит, за сегодня надо уладить все вопросы, главный из которых – Пашка.
Когда Болек появился на узкой асфальтовой дорожке, благодушный, с подвёрнутыми до локтя рукавами рубашки и закинутым за плечо пиджаком, Саня почувствовал благодарное облегчение. Вот спасибо! Всё же две головы да четыре руки лучше! У него и в мыслях не было, что Болек мог искать встречи с ним по какому-то своему делу. Какие ещё «свои дела»?
– Ведь как он всё это воспринял? Что это предательство! Что соратник, товарищ, которому он верил, взял и предал! – по дороге рассказывал Саня внимательно слушавшему кузену. – Ну и, естественно, его переклинило! Стал ну просто как замороженный! Как будто он вообще ни при чём и не его это звери! Я чего боюсь! Что «заморозка» отойдёт и он что-нибудь отчебучит. Мне бы с ним до этого момента поговорить! Он домой с Агнеской поехал.
– И о чём ты с ним хочешь говорить? – спросил Болек очень серьёзно.
– О чём! О том, что некоторые вещи приходится принять! Просто принять! Сделал, что мог, значит… – Тут Саня осёкся и не закончил фразу.
– Принять? – сказал Болек с лёгкой усмешкой. – Кто-то, помнится, на завесу смерти собирался покуситься, чтоб прозрачной стала! А теперь говоришь – принять!
Саня поморщился и мотнул головой. Он и сам знал, что Пашкина бескомпромиссность и наивная вера в чудо – его грех.
Когда они подходили к подъезду, им навстречу, держа за руки двоих малолетних сыновей, вышла Санина соседка по этажу. Надя, робкая женщина неопределённого возраста, была лёгкой, словно бы выветренной до сплошного света. Сыновья раскачивали её за обе руки, и она клонилась покорно то к одному, то к другому, сияя и рассыпаясь.
Сане не раз доводилось сбивать её мальчишкам температуру и прочее, поскольку куда же бежать в случае чего, как не к доктору напротив!
– Надя, может, возьмёте собаку? – спросил Саня, когда они поравнялись. – Вашим ребятам пойдёт на пользу. Вырастут смелыми, щедрыми. Собаки – прекрасное средство от страха жизни вообще. И прилив сил! Вы просто свою жизнь не узнаете – столько прибудет энергии!
Надя отступила, заводя руки с детьми за спину.
– Да нет, мы как-то от всего этого далеки… – сказала она, нервно рассмеявшись.
– Мы много от чего далеки! И я далёк. Но, если не делать шагов, если разрешить себе не меняться… – принялся убеждать её Саня и умолк под внушительным взглядом Болека.
– Ну не знаю… – выдавила Надя с остатком смешка, всё ещё пряча сыновей за спину. Её напряжённые руки вздрагивали.
Саня больше не стал её мучить.
– Ты видел? Ну что ты с этим сделаешь! Человек боится живых существ. Боится жить открыто! – сокрушённо говорил брату Саня, заводя собак в лифт. – А однажды из этой вот глубинной трусости, из этих рук за спиной, родится догхантер – вывернутая попытка освободиться…
– Саня, а может, у тебя просто нет своих детей? – заметил Болек. – Может, и ты бы их за спину прятал при виде этих вот дивных творений, – кивнул он на безлапого Тимку. – Не требуй многого!
В квартире отстегнули поводки, и Тимка с Норой устремились обнюхивать плинтусы.
– Тут ведь кот у нас был, – проговорил Саня и устало опустился на стул, торчавший посередине развороченной сборами комнаты.
– Грустный у тебя дом, Саня! – заметил Болек. – Зачем он тебе? Переехал бы к сёстрам.
– Да это и не дом никакой, и не был им никогда, – вздохнул Саня и, поднявшись, занялся делами.
Пока он разыскивал миски для собак, наливал воду и сокрушался, что не купили по дороге собачьей еды, Болек смотрел из кухонного окошка на юный лес. Чувство цейтнота, возникшее сегодня утром, тревожило его всё сильнее. История катилась к финалу. Он не был уверен, что ещё представится возможность по душам поговорить с братом.
Сев к столу, он бросил взгляд на верхнюю книгу в лежавшей на подоконнике стопке.
– Флоренский? Теологию изучаешь? Зачем?
Саня отмахнулся, но Болека не убедил этот жест.
– Послушай, расскажи мне о Противотуманке! Илья Георгиевич говорил, дивная вещь! И хватит махать – я серьёзно! – потребовал он, как если бы это обронённое всего пару раз «автомобильное» слово было едва ли не самым значимым в их возобновившемся этой весной родстве.
– А нет никакой Противотуманки, – отозвался Саня, присаживаясь напротив. – У меня был в студенчестве друг. Однокурсник. Ему в отрочестве было видение. И он просветлился, ну или крыша поехала, это уж кто как считает.
– А ты?
– А я не знаю. Может, одно без другого не бывает? И вот, смысл был такой, что есть в мироздании такое явление, духовное, но отчасти и физическое – Противотуманка. Это такой свет, в котором видно, что смерть – это только декорация, перегородка поперёк бесконечной жизни. Если бы Противотуманка была задействована на нашей планете – люди бы не могли не веровать. То есть это как бы средство от духовной слепоты. По «физическим» свойствам, если так можно выразиться, она сродни сиянию, какое бывает вокруг святых. Ну, например, те, кто встречался с Серафимом Саровским, об этом рассказывали. Такой тёплый благоуханный свет.
– Видимо, это то, что принято называть «третья ипостась» и изображать в виде голубя. Проще говоря, Святой Дух, – заметил Болек, сдерживая улыбку.
– Не знаю, – мотнул головой Саня, тяготясь всуе рассуждать об «ипостасях». – А ещё он говорил, что у человечества есть шанс вымолить для себя это явление.
– Вариация на тему второго пришествия? Саня, это шизофрения!
Саня не возразил, только с сомнением качнул головой.
– Он дурачок, конечно. Считал, раз большинство людей не могут вырасти над собой, значит, хотя бы те, кто осознаёт, должны сделать всё за всех. Даже не просто жизнь свою отдать, а вечную жизнь… Быть готовыми добровольно превратиться в пену морскую.
– О! Да тут ещё и мания супергероя, – прибавил Болек печально.
– Зря ты! Димка, он без кожи просто жил, у него рана от любого чужого горя. За него все переживали, никто даже особо не смеялся. Ну и все поражались, зачем ему медицинский? Хотя всё тут понятно… – прибавил Саня помолчав.
– Саня, ну он же не Сын Божий, чтобы на его жизнь, пусть даже и вечную, если таковая имеется, можно было что-то там у мироздания выторговать! – сказал Болек.
– Ты прав, – кивнул Саня с грустью и, нагнувшись, погладил угнездившуюся под столом Нору-эрделиху. – Я всегда этого и боялся – что это огромная гордыня, даже размышлять на подобные темы. Надо просто работать, и всё. Мы с ним спорили. Он не соглашался. Он говорил – работа дело десятое. Главное, смириться до конца, до самого предела, и тогда, из этого состояния, ты обо всём сможешь просить – и исполнится! И всё-таки, Болек, вот сколько я думал – нет! Это не гордыня, а дерзновение! – сказал он и, поднявшись, сделал несколько шагов по кухне. – Это предельное сострадание к живым существам! Сколько боли! Сколько скорби! Надо ведь что-то делать! И сам этот мальчик, Димка, он не просто говорил, он так жил! Понимаешь, не уворачивался, принимал на себя!
– Конечно, из семьи воинствующих атеистов?
– Не знаю… Он всё сокрушался: если бы только было за что зацепиться! Хоть маленькая сцепка между мирами! Если бы по слезе мироточащей иконы можно было туда проплыть! Я запомнил почему-то эти слова – по слезе иконы…
– Пьянствовал?
– Ну что ты! Вообще не притрагивался! Он только всё рвался, искал, где бы напороться на чудо. Возможность искал! Выход в сплошной стене!
– Как погиб?
Саня взглянул изумлённо:
– Исчез!
– Но тело не нашли, ведь так? Ну что ты смотришь? Тут всё просто – иначе это не произвело бы на тебя такого впечатления, – сказал Болек. – Значит, мы вполне можем ждать вестей о Противотуманке! – заключил он и уже без шуток прибавил: – Саня, я всё понимаю: Пашка, сёстры, Маруся, эти все твои старички. Трудное время. Но всё же оставайся в пределах логики! Бери-ка, мой милый, отпуск – и давайте рванём на Волгу! И лучше бы не посуху, а по реке! Нам всем нужна перезагрузка.
Саня вздохнул и снова открыл холодильник в поисках чего-нибудь лакомого для собак. Он жалел, что опрометчиво и небрежно пересказал атеисту заветную мысль погибшего товарища и что теряет время на болтовню, когда столько вопросов не решено. Не выдержав, он обернулся и воскликнул:
– Нет! Как раз нет, нет! Как раз нельзя оставаться в пределах логики! Надо выйти за её пределы, понимаешь? Отсечь её! Эх! – И махнул рукой.
– Ну, прости! – сказал Болек примирительно. – Возможно, я чего-то недопонимаю. Это не твой там телефон? – спросил он, прислушавшись.
За закрытой дверью и правда набирала громкость скрипичная мелодия.
– Илья Георгиевич! – сказал Саня и метнулся в прихожую.
Он вернулся на кухню через минуту, с лицом переменившимся – вдумчивым и строгим, как если бы он принимал больного.
– Болек, мне нужно к нему забежать, – сказал он. – Побудешь с собаками? Нехорошо их на новом месте одних… Я постараюсь побыстрее. Или пришлю тебе кого-нибудь на смену.
Он договаривал реплику уже в коридоре, залезая в ботинки.
– Что хоть случилось? – спросил Болек, поняв, что отмазаться от поручения не удастся.
– Пока не знаю! – мотнул головой Саня и был таков.
Оставшись в одиночестве, Болек, хотя и посмеялся над ролью собачьей няньки, все же отметил, что не удивлён тем, как складываются обстоятельства. Похоже, он начал обвыкаться с новым статусом. Сдвинув в один угол дивана разбросанные Марусей вещи и уютно расположившись в другом, с Тимкой и Норой у ног, Болек раскрыл планшет и, зайдя на сайт погоды, посмотрел прогноз по Тверской области. Щёлкнул по рекламке волжских круизов. «Нет, лучше наймём яхточку! – подумал он. – Илья Георгиевич, и вас, так и быть, прихватим! Ну-с, поглядим маршрут!»
С ощутимым сердцебиением Болек открыл карту и углубился в течение реки. Вот он, родной городок, – в расширении Угличского водохранилища. А дальше – сбрызнутый исторической кровью Углич, предприимчивый Мышкин и скромный Кириллов под крылом Обители. На Онежское они не поплывут – там штормит. А обойдут кругом Белое озеро и вернутся той же дорогой. Разморённые тихой качкой, сойдут на берег вблизи затопленной колокольни и проведут остаток лета на территории детства.
Болек оторвался от карты и с удивлением, словно только что вернулся с Луны, взглянул на прилёгших у его ног собак. Да, мысль оформилась! Пожалуй, можно было рассказать о ней Софье.
Пусть она забудет обо всех неприятностях и сегодня, в крайнем случае завтра купит себе платье, длинное, светлое, к нему босоножки на шпильках и легкомысленный аромат. Долой джинсы и плоские туфли! В каком-то смысле отпуск – это всегда Париж, даже если ты решил отдохнуть в русской провинции.
А осенью, как всегда, настанет новый учебный год, и придётся учиться – новой работе, новому быту и новому, ещё неразличимому в деталях смыслу собственной жизни.
Он отложил планшет и, стараясь не потревожить задремавших собак, вышел на балкон. Зелёный лес не привлёк его взгляда, как привлекал обычно Санин. Болек смотрел вправо и вдаль – туда, где в ясном небе реял новый квартал высоток. Между домами во множестве были протянуты корабельные снасти, косые лучи проводов, прозрачные под солнцем струны, тетивы, бельевые верёвки. Не город, а множество кораблей и яхт, данных в осколках. Раскрошенный взглядом безумного живописца и брошенный на холст океанский порт!
«Когда пентхаус в Замоскворечье станет не по карману, можно будет переехать на какую-нибудь такую вот верфь…» – подумал Болек и от ударившего в сердце юного чувства неизвестности и новизны стиснул ладонями бортик балкона.
Глава одиннадцатая
58
В прошлом году в одном из старых цветочных горшков, хранившихся у Спасёновых на балконе, голубиная пара свила гнездо и вывела двух голубят. Те выросли и перепорхнули в «отдельную квартиру» по соседству – к Трифоновым. Теперь воркование, писк и шорохи будили Илью Георгиевича по утрам, а также в послеобеденный сон, возбуждая в стариковской душе противоречивые чувства – с одной стороны, радость побыть свидетелем безгрешной жизни, но с другой – очевидную ущемлённость в собственных человеческих правах. Во-первых, приходилось чистить балкон едва ли не каждый день. Во-вторых, было горячо жаль сушку для белья. Раньше в летнюю погоду на ней быстро высыхали простыни, теперь же на рейках трепетало под ветром несколько белых пёрышек, крохотных, похожих на одуванчиковый пух. А ты, человек, потерпи, не всё тебе хозяйничать! – увещевал сам себя притеснённый голубями старик.
В тот спокойный послеполуденный час отдохнувший от приготовления обеда Илья Георгиевич надел рубашку в полосочку, подтяжки с изображением шахматных фигур и, захватив влажную тряпку – протереть перила, вышел на балкон. Подтяжки были сознательным пижонством. Украсить милой старомодностью бездушие двадцать первого века, вписать в мир высоких технологий завиток наивности – чем не мужество перед «ликом смерти»? Илья Георгиевич любил обставить свою старость творчески.
Вынудив голубей перепорхнуть на балкон Спасёновых, он склонился и поглядел – есть ли зрители? Двор был пуст. Ветер, пролетая над низкими домами, плеснул в лицо цветением – и тут же Илья Георгиевич почувствовал спазм в груди.
Вот уже несколько лет он опасался медового черёмухового духа, слившегося в его сознании с приближением последней черты (цвела черёмуха, когда не стало Ниночки!). А сегодня ночью, как нарочно, сердце колыхалось нервно, словно мотылёк в банке. Билось крылом о чью-то тяжёлую ладонь, всё крепче прижимавшую трепещущее существо.
Тревожно принюхиваясь, Илья Георгиевич вспомнил огромное черёмуховое дерево, что росло на окраине Москвы, у забора дома, где они жили после свадьбы, и вспомнил почему-то два летних платья жены, голубое и белое, оба с пояском. Затем память раскрылась глубже, и он увидел стародавнюю черёмуху детства, точнее, её ягоды, которые рвали мальчишками. Последнее воспоминание оказалось ярким до горечи во рту, но Илья Георгиевич не удивился ему – детство давно уже было с ним. Он носил его в кармане, как чётки, тайно перебирая, и в каждую минуту мог вынуть и рассмотреть любую его бусину.
Ветер усадил на седенький чуб старика прошлогоднее берёзовое семечко. Солнце пекло щёки и лоб. Замечтавшийся Илья Георгиевич мог бы успеть приобрести недурной загар, если бы его не пробудил стук дверцы.
Вздрогнув, он поглядел на двор и увидел под окнами затрапезную машину, из которой выскочил его внук Пашка. С ним была небольшая тощая собака цвета тусклой бронзы. Идти самостоятельно она отказалась, упав на землю боком. Пашка взял её на руки и внёс в подъезд.
Илья Георгиевич, автоматически расстегнув пуговицу рубашки, примял ладонью сердце и кинулся открывать дверь.
– Дед, это Агнеска! – сказал Пашка, занося собаку в квартиру. – Я её вымою. Не переживай, ванну почищу потом! – И бережно опустил собаку на пол. Та мгновенно упала на бок и замерла.
– Паша! Что же ты делаешь! – проговорил Илья Георгиевич, оседая на табурет в прихожей.
Пашка глянул хмуро и ничего не сказал.
– Я задохнусь! У меня астма! – взмолился старик, чувствуя, как сжимаются и сипнут связки. – Убери её, я тебя прошу! Будешь меня хоронить в самый канун экзаменов!
– Дед! У тебя не астма, а паника, – холодно сказал Пашка. – Ты – паникёр! Спроси у Александра Сергеича, он тебе скажет! – И, подхватив собаку на руки, отнёс к себе в комнату.
Илья Георгиевич охнул. Подкатил страх: он был один на стремительно тающей льдине жизни. Его уносило в безбрежное, и никто не желал замечать беду. Бурные молодые беды выглядят куда серьёзнее, чем тихо спрятанные в квартирке беды старых. И всё-таки, пусть ты стар и слаб, нельзя быть тряпкой! Илья Георгиевич понял: настало время прибегнуть к шантажу.
Правой рукой успокаивая неуют в груди, он сдёрнул левой ветровку, влез в уличные туфли и, прихватив очки и газету, чтобы было чем заняться во дворе, пока внук не явится с повинной, вышел на лестничную площадку. По привычке подумал: не зайти ли к девочкам Спасёновым? Но нет, им теперь самим до себя.
В тот миг, когда старик собрался погромче хлопнуть дверью – пусть внук слышит! – в квартире напротив щёлкнул замок и на площадку вышел приятель Аси и Софьи, Пашин товарищ по приюту Женя Никольский. Дверь за его спиной сразу закрыли на замок – как если бы гость утомил хозяев.
– А! Женечка! Как вы поживаете? – сказал Илья Георгиевич. – Паша собаку привёл, а у меня астма! Я могу просто сразу погибнуть. Вот – ухожу из дома! – И в доказательство предъявил Курту зажатые в руке очки с газетой.
– А Паша разве дома? – быстро спросил Курт, и его потерянное секунду назад лицо оживилось. – Можно мне к нему на минутку?
Обойдя растерявшегося Илью Георгиевича, он устремился в открытую дверь, но был вынужден отступить. На пороге квартиры возник Пашка. Бледный и бешеный, он загородил дверной проём и с вызывающим презрением поглядел в лицо Курта. Тот, однако, не смутился и живо заговорил:
– Паш! Подожди ты злиться! Я должен тебе сказать одну вещь! Понимаешь, я думал, они сейчас меня отправят куда-нибудь в СИЗО, ну, за бегство с места аварии. И этим в твоих глазах всё искупится. Вызвал даже Сонькиного адвоката. А оказалось всё не так. Оказалось, что Соньке моя повинная уже вряд ли поможет. Её дело так и так будет рассматриваться… Паш, а ты вообще в курсе этой истории?
Он хотел перейти к подробностям, но оборвал, увидев, что Пашка переменился. В глазах горел прозрачный серый огонь. Огонь-вода. Кулаки сжались, голова наклонилась, лбом выцеливая жертву.
– Паш, ты всё же дослушай меня до конца! – попросил Курт, с радостью чувствуя приближение развязки. – Мне стыдно, что Болеслав меня вылечил, что я теперь хочу жить! Потому что, конечно, такому человеку не надо бы коптить небо! Но раз уж я живу…
Рванув с порога, Пашка яростным броском сбил противника с ног. Падая, Курт приложился головой о стену и, возможно, вылетел бы в нокаут, но увязанные на затылке волосы смягчили удар.
Вопли Ильи Георгиевича, визг выскочившей на шум Серафимы, кутерьма и усилия Софьи с Еленой Викторовной, оттаскивающих тигра от жертвы, – всё вспыхнуло и улеглось.
Через пять минут небольшая компания – Пашка, Софья и Серафима – собралась у Трифоновых возле обмякшего на диване Ильи Георгиевича. Совершенно целый Курт стоял в дверях, созерцая плоды своих деяний.
– Чего ты, дед? Дед! – тормошил старика внук, пока Софья капала корвалол.
Илья Георгиевич поблагодарил и одним глотком выпил пахучую мутную воду.
– Зачем ты это пьёшь? – спросила Серафима, морщась от невольного сострадания к человеку, выпившему столь горькую гадость.
– Затем, что я очень старый, – слабо отозвался Илья Георгиевич.
– А когда ты перестанешь быть старым?
– Ох, Серафимочка! Хорошая постановка вопроса! – промямлил он, поглаживая область сердца. – Я бы тоже хотел спросить у Господа Бога – когда? Может, лучше бы уж и не переставать подольше…
Корвалол подействовал. Чутко прислушавшись к работе сердца, Илья Георгиевич объявил, что ему лучше, и Софья, взяв за руку дочь, ушла. Исчезла из дверного проёма тень Курта. Дед и внук Трифоновы остались одни.
– Дед, я еду к отцу! – сообщил Пашка, достал из шкафа спортивную сумку-баул и, швырнув её на диван, принялся набивать вещами. Запихнул комком свитер, джинсы, пару футболок, сунул тетрадку из-под подушки и какой-то справочник.
Илья Георгиевич потёр лицо ладонью, словно желал пробудиться от сна.
– Как это, Паша? – наконец спросил он, становясь на пороге комнаты. – Что это значит? А школа? А эту твою собаку куда?
– Агнеска поедет со мной. Документы в порядке, не беспризорная.
– Паша, а я?
Пашка задёрнул молнию сумки. Его лица не было видно за размётанными волосами.
– Ну хорошо, – взял себя в руки Илья Георгиевич. – А денег ты где возьмёшь? На билет и прочее?
– Мать даст.
Последняя надежда ускользнула.
– Не был ты жестоким… – проговорил Илья Георгиевич, опускаясь на диван.
– Не был, – холодно подтвердил Пашка и, откинув волосы, прямо взглянул на деда. – А теперь буду. Каким захочу, таким и буду, всё. Агнеска, ко мне!
Выудив собаку из-под дивана, он взял её на руки и, зайдя в ванную, заперся.
– Ну что ж, поезжай! – приникнув к двери, сипло крикнул Илья Георгиевич. – Сын бросил, а теперь и внук! Ну, ничего, соседи у меня добрые, похоронят!
В ответ загремела вода.
Пашка вышел из ванной минут через двадцать. Илья Георгиевич метнулся на звук отпертого замка и, увидев внука, почувствовал, как пол выскальзывает из-под ног. Прислонившись к стенке, он проводил взглядом Пашку, прошлёпавшего босиком, с Агнеской на руках, к себе в комнату. Зашёл затем в ванную и, поглядев на раковину, полную русых волос, протяжно охнул. Ножницы и машинка, позволившая после грубой стрижки подравнять сантиметровый ёжик, валялись поверх. И где только взял он её, машинку эту? Не было у них! Или, может, собачья?
После короткой перепалки с внуком Илья Георгиевич вышел на балкон – там легче дышалось – и позвонил в свою последнюю и единственную «инстанцию» – Сане.
– Паша совсем сдурел! – шёпотом пожаловался он в трубку. – Ты понимаешь, набросился на этого вашего Женю. А потом взял да и волосы состриг! Да нет, не Жене, себе! Я говорю: служить, что ли, собрался? Нет, говорит – к отцу! К отцу! А куда к отцу? На островок? Саня! Ну что он себе думает? Содрал всё со стен, вещи раскидал, сумку набил. А теперь закрылся у себя и вопит что-то страшное, под гитару – вот, послушай! – И Илья Георгиевич, отняв трубку от уха, направил её в сторону Пашкиной комнаты.
59
Когда Саня, оставив собак под присмотром Болека, примчался на Пятницкую и зашёл в заботливо приоткрытую стариком дверь, пение всё ещё длилось.
– Ну, слышишь, что творится? – воскликнул Илья Георгиевич, бросаясь навстречу избавителю, и, не выдержав, приник к его плечу.
Волна звука, лишь немного приглушённая дверью, вмиг пропитала Саню. Дурным голосом Пашка орал очень старую, очень горькую и больную песню, знакомую Сане по его собственному далёкому отрочеству. Это был один из шедевров бытовавшей в ту пору группы «Гражданская оборона». Вместо тихой колыбельной из Пашкиного горла вырывались окровавленные, застеленные огнём и дымом вопли. Он с хрипом швырял слова, бешеным притопом крушил соседей снизу и уже, конечно, сбил пальцы в кровь.
– Илья Георгиевич, вы-то как? – спросил Саня, внимательно посмотрев на старика и отметив с тревогой «неправильный» цвет его лица.
– Да бог со мной! Ты с ним, с ним поговори! – воскликнул тот и кивнул на Пашкину комнату. – Только осторожно! У него там собака под кроватью.
Саня, призванный встать на пути стихии, помедлил у двери. Что он мог сказать Пашке? Что разочарование в одном друге ещё не повод разочаровываться в человечестве? Что скоро они обустроят новый приют?
Поняв, что всё равно не придумает ничего путного, он решительно постучал. Пение стихло. Раздался звон брошенной на диван гитары. Через пару секунд Пашка открыл. Саня глянул и с трудом удержался, чтобы не зажмуриться. Вместо сальных локонов на голове у младшего Трифонова пушился сиротский ёжик – сантиметра полтора. Исчез хотя и неказистый, но безусловно волшебный лесной эльф. Перед Саней был парнишка с улицы, носатый, прыщавый, а если б Саня его не знал, по зрачкам можно бы предположить, что и «обкуренный».
– Молодец, что хотя бы не наголо. Есть ещё куда отступать, – сказал Саня, заходя в комнату.
– Пофиг.
– Чего «пофиг» то, Паша? – возмутился Илья Георгиевич.
– Абсолютно всё, – хриплым голосом отозвался внук и, плюхнувшись на диван, тупо уставился перед собой.
Мельком оглядевшись, Саня заметил: комната Пашки переменилась необычайно. Он содрал со стен постеры, вышвырнул с полок на пол стопки учебников и журналов. Разгром напомнил ему спешный отъезд Маруси.
– Илья Георгиевич, может, вскипятите нам чайку? А то совсем я забегался! – попросил Саня, имея в виду, что хочет поговорить с Пашей наедине.
Когда Илья Георгиевич, поджав губы, удалился, Пашка вскочил с дивана и, бешено сжав кулак, стукнул безвинную полку.
– Это он! Из-за него погибла Мышь! Из-за этого труса! – прошипел он в припадке злобы и шумно, яростно задышал.
– Да, – согласился Саня. – Но всё равно надо его простить. Это единственный выход, Паш. Все остальные варианты не годятся.
– Видел и дал сгореть! Дал Мыши задохнуться! А потом ещё подставил соперника, как последний… – прохрипел Пашка и вдруг свалился на пол, руками накрыл голову. Сане почудилось, он слышит, как его сердце бьётся в старый паркет.
Он сел рядом и, положив ладонь Пашке на плечо, сказал:
– Хорошо. Пускай ты разочаровался в людях. Но животные – это не люди. Это совсем другое царство. И ты этому царству присягу давал. Давал, Паш, не отпирайся! Соберись и держи слово.
– Я взял Агнеску, – отозвался Пашка глухо.
– Ох-ох, я умру, Пашечка, не сегодня, так уж завтра. Вот и приведёшь всех, кого нужно тебе! – подал голос Илья Георгиевич, стоявший у двери с чашками на подносе.
Пашка вскочил, бледный от ненависти, и, схватив игрушку – сувенирный футбольный мячик, стал раздирать его пальцами с такой яростью, что Саня понадеялся: сейчас заплачет, и помрачение пройдёт. Но нет, никаких слёз. Пальцы, как корни баобаба, взрезали маленькую планету.
Он отшвырнул разорванный мяч.
– Я не буду никаким ветеринаром! Мне не жалко никого! Ясно? Всё! – И, оглядевшись, не забыл ли чего, унёсся в прихожую.
– Что ты собираешься делать, Паш? – спросил Саня, следуя за ним.
– Сказал уже, к отцу поеду, – бросил Пашка. – Он хотя бы не врёт. Живёт, и чихать ему – и на деда, и на меня. Он сказал, приезжай со всеми собаками, кашей прокормим.
– Да сдуру он сказал! – крикнул Илья Георгиевич.
– Ну сдуру, значит, в армию пойду!
– Ты экзамены сдай сначала! А потом иди куда хочешь! Месяц один подожди! Месяц! – чуть не плача, воззвал Илья Георгиевич.
Саня молча слушал их препирательство и чувствовал, как расползается трещина. Вроде бы всё – сгорел приют, рухнула семья Аси и Лёшки. Но взрывная волна шла дальше, продолжая сносить живое.
Сжатые губы, сухие глаза и взрослые руки Пашки, ещё раз проверившие содержимое сумки, ясно говорили ему, что возражения не помогут. Не поможет ни дружеское тепло, ни тем более сочувствие. Оставалось переждать и спустя время попробовать снова.
– Как поедешь? Поездом? – спросил Саня спокойно, как если бы вполне смирился с его отъездом.
– Поездом, – буркнул Пашка.
Уже в полной экипировке – кроссовках, куртке и с сумкой на плече – он вернулся широким шагом в гостиную. Открыл дверцу книжного шкафа и извлёк конвертик. Отсчитал купюры, сунул в карман.
– Дед, прости. Мне по новым правилам всё купе выкупать, чтоб Агнеску везти. Я матери скажу, она тебе компенсирует.
Зашёл к себе и, нырнув под диван, добыл собаку. Надел шлейку, поводок и, подняв обмершую Агнеску на руки, вышел прочь.
Секунду стояли молча. Вдруг Илья Георгиевич охнул и, страшно покраснев, бросился к двери.
– Паша! Вернись! Что я тебе сказал! Вернись сейчас же! – кричал он с лестницы, хрипя и закашливаясь. – Ты деда своего будешь слушаться или нет! – Хотел было ринуться за внуком вниз, но раскашлялся и, схватив Саню за рукава, слабо и отчаянно тряхнул: – Ну, что ты встал! Беги за ним!
– Бесполезно сейчас бежать. Никуда он не денется! – твёрдо возразил Саня и, бросив внимательный взгляд на старика, приобнял его за плечо. – Пойдёмте. Поговорим дома.
Он отвёл его в комнату и, усадив на диван, спросил уже не по-дружески, а как врач:
– Как вы себя чувствуете? Боль есть?
– Ох, Саня! Я когда ещё тебе жаловался! И ночью пекло. И, видишь, кашель! – часто дыша, сказал Илья Георгиевич. – Но это, может, астма? – неуверенно предположил он. – Или, знаешь, ещё похоже на изжогу, неприятно как-то… – поморщился он и спохватился. – Да бог со мной! Пашу, Пашу упустим! Санечка, ты, если здесь его не догонишь, ты посмотри, где сейчас на Петрозаводск поезд, он с разных, бывает, идёт… И дуй на вокзал. Там поймаешь его! В кассе спросишь, в какой вагон на собаку купе взяли!
– Илья Георгиевич, послушайте меня! – серьёзно, почти строго проговорил Саня. – Дайте ему совершить побег, он иначе не успокоится. А потом я за ним съезжу, если сам не вернётся. Но он и сам позвонит, вот поверьте! А теперь всё, прекратите думать! Это моя забота. Фонендоскоп где у вас, в шкафчике?
Саня слушал сердце старика, склонив голову, с тем необычайным выражением лица, с каким мать слушает ранний лепет ребёнка.
Затем поднял взгляд и ободряюще кивнул Илье Георгиевичу:
– Нужна кардиограмма! Сейчас, покопаюсь у вас там в лекарствах.
Вышел на кухню и позвонил в «скорую».
– Я врач. У мужчины течёт инфаркт, – прикрыв телефон ладонью, проговорил он. Назвал адрес и прочее. Затем попробовал дозвониться Пашке – абонент был недоступен. Помедлил и, выдохнув, поискал в шкафчике у старика необходимые лекарства. Склянка со спиртом, выскользнув откуда-то сверху, разбилась, и сразу по дому растёкся жёсткий тоскливый запах больницы. Саня выругался шёпотом, не стал затирать. Прихватил нитроглицерин, таблетку аспирина и вернулся. – Илья Георгиевич, я Пашке дозвонился. Он уже с отцом переговорил. Тот его встретит в Петрозаводске. Больше никакой пока информации. Трубку бросил, как всегда, – с небывалым хладнокровием солгал он.
– Ох, ну хоть так! – воскликнул Илья Георгиевич и вздохнул глубоко – словно прорвалась наконец плотина, загородившая ход дыханию.
Включили телевизор – старик попросил новости. Надо было собрать Илье Георгиевичу вещи в больницу, но Саня не стал, побоялся разводить суету. А вместо этого сел рядом, плечом к плечу. Головой приник к седой голове. Износилась ветхая одежда, высокий мир духа, в котором они с Ильёй Георгиевичем так хорошо обменивались мечтами и спорили, иссяк – они стремительно падали в материю. Оставалось «держать дверь», столько, сколько получится.
Илья Георгиевич дышал тяжеловато, но после нитроглицерина боль стала легче. Уютно было дремать, прислонив голову другу на плечо. Как-то сладко, беспомощно он поверил, что Саня всё устроит как нужно – и с сердцем его, и с Пашкой, и с вечной жизнью.
* * *
И вновь оправдал себя Санин дар просьбы. Его пустили сопровождать Илью Георгиевича в больнице. Он не помнил, что именно говорил, но, должно быть, получилось проникновенно. Скоро он с удивлением обнаружил: весь персонал знает, что Илья Георгиевич один растит внука, а внук – будущий ветеринар, и историю с приютом, и прочее.
Через некоторое время, длину которого Саня не взялся бы определить, из реанимации вышла врач средних лет с жёсткой вертикальной складкой между бровями, чем-то напомнившая ему Татьяну. «Состояние удовлетворительное», – бросила она и, велев идти за ней, отвела Саню в ординаторскую. Там он получил от неё чашку чая, приправленного коньяком. «Отдохните, – строго сказала она. – Печенье вон погрызите. А то ещё вас откачивать». И вкратце изложила ситуацию.
Несколько часов спустя, сидя в палате интенсивной терапии, куда перевезли «стабилизировавшегося» и задремавшего Илью Георгиевича, Саня почувствовал, что и собственная его жизнь переходит на иной уровень. Замирает бег суеты. Ещё мгновение – и перед ним осенней солнечной рощей откроется вечный отпуск. Может быть, думал он, где-то в невидимом мире в этот миг совершается победа, которая освободит всех. Гремит и светлеет. Бренность, покрывавшая мир, отступает, как туча. Ещё немного, и каждый сможет заняться любимым делом, тем, что всегда откладывал.
Что касается Сани с Ильёй Георгиевичем, они, конечно, вернутся к музыке. Правда, надо учесть одно обстоятельство: получив свободу, она уже не будет заключена в ноты, скрипки и флейты. Её мудрый и светлый дух разольётся вольно…
«Что ты мелешь!» – время от времени встряхивал он себя, отгоняя прочь бред усталого мозга.
Когда перевалило за полночь, Саня вышел в коридор и ещё раз безрезультатно позвонил Пашке. Позвонил затем Татьяне – они с Пашкиной матерью изыскивали способ выйти на связь с Николаем. Стрельнул у медсестры сигарету и в туалете у распахнутого окна покурил. После нескольких месяцев без никотина голову унесло. На облаке минутного блаженства он подумал о себе как о постороннем: ну и врун! Обещал пацану, что дед будет жить сто лет, что правнуков ещё будет учить уму-разуму. Подписываться за Господа Бога – славно!
Смял окурок и побежал в палату.
Во время его отсутствия Илья Георгиевич проснулся и лежал теперь с открытыми глазами. Его разбудил шум – гулкий долбёж, долетающий из приоткрытой форточки.
– Санечка, как я рад, что ты со мной! – слабо проговорил он. – А я неплохо себя чувствую, только дышать тяжеловато.
Саня присел на стул возле койки и с тревогой поглядел в смешное, одновременно детское и старческое лицо своего подопечного.
– Знаешь, Саня, вот проснулся и… то ли запахло чем-то… Дымом, что ли. Чувствую: соскучился по осени! Я маленький ещё – сад при школе, сгребаем листья. И так землёй пахнет, и дымком так тянет. Холодно, руки стынут. А сердцу так просторно! Дышишь этой свежестью – и как будто летишь… – объяснял он слегка заплетающимся языком. Саня склонился и слушал. – И вот, хочу тебе, Санечка, пожаловаться. Так мне горько, что никогда уже не будет у меня осени. Нет, я не о том! Календарная, может, и будет, Бог даст. А настоящая – уже нет. Глаза не те, нюх не тот. Разве унюхаешь теперь лес грибной? Или как дождём пахнет, и зонтиком мокрым, мы тогда с Ниночкой бежали по улице Горького…
Он говорил тихо, с передышками, но было видно – разговор приносит ему облегчение.
– Саня, я вот о чём хотел тебя спросить, – сказал Илья Георгиевич и, задумавшись, помолчал несколько секунд. – Ты будешь со мной на связи, если что? Если я умру?
– Буду, Илья Георгиевич, не волнуйтесь! – без раздумий ответил Саня. – Но вы же понимаете, у Пашки ЕГЭ. Так что давайте отложим этот вопрос. Надо жить. Выспаться как следует и жить дальше! Организм ремонтирует себя во сне.
– Очень шумно, – проговорил старик. – Прямо сердце перестраивается под этот ритм.
Саня подошёл к окну и выглянул – грохотало в припаркованной за оградой машине. Набор звуков, больше похожий не на музыку, а на работу конвейера, неумолимого и бессмысленного, сотрясал воздух.
– Я сейчас, – сказал он и, промчавшись долгим коридором, через охрану, прямо в халате вышел.
– Ребят, вы тут ждёте кого-то? Пожалуйста, выключите вот это ваше… музыку, – сказал он, заглядывая в опущенное окно машины. – Тут больница, если вы не в курсе. Человек с инфарктом уснуть не может.
– А мы за территорией! – раздался с заднего сиденья визгливый девчачий голос.
– Вы хоть знаете, сколько времени? Я полицию вызову.
– Да я сам милиционер! – благодушно процитировал парень под взрыв смеха в салоне.
Саня дёрнул дверцу и, схватив водителя за грудки, принялся объяснять всё заново.
Когда он вернулся в палату, басы по-прежнему колотились в окно, но были не столь навязчивы – громкость убавили.
– Ничего тут не поделаешь, Санечка, – сказал Илья Георгиевич. – Всё меньше музыки остаётся в мире. Всё больше шума. – И, взглянув в окно, удовлетворённо отметил: с востока, поглощая огни и грохот человеческой жизни, двигалась поющая стена дождя. – Саня, ты поезжай за Пашей! Поезжай сейчас. Просто чтобы я знал, что ты с ним, – помолчав, сказал он и отвернулся к стенке.
60
Когда Саня выбежал из больницы, по зазеленевшим тополям уже вовсю бил дождь. Пахло землёй, клейким и сладким истоком лета. И душа, пусть не полностью, но хотя бы отчасти, была обезболена запахом тополей и дождя.
На Пятницкой, где он очутился через двадцать минут, дождь ещё не начался – над асфальтом и плиткой клубилась сухая пыль. Кроны деревьев, сгибаемые страшным ветром, ложились почти параллельно земле и мели пустынные улицы города. Саня словно бы находился внутри иной реальности, где местность менялась согласно движениям души. То был дождь, то не было, то умирал Илья Георгиевич, а то шёл на поправку. И во всей этой неразберихе ещё и предстояло ехать на поезде и неведомо где ловить Пашку.
«Паша, надо простить!» – мысленно повторял он, репетируя будущую речь, и чувствовал, что несёт это слово – «простить» – как снежинку на варежке. Как бы не сдуло её, как бы она не растаяла от слишком горячего, торопящегося куда-то дыхания.
Недалеко от дома на его почти севший телефон позвонила Наташка.
– Александр Сергеич! Слушайте! Он, оказывается, письмо мне скинул, а я, дура, почту не смотрела! – сказала она взволнованно. – Он с Агнеской едет к отцу. У его отца мастерская по древним инструментам. И, знаете, что ещё тут пишет? Что песни, музыка – они не болеют и есть не просят! Представляете? Что музыку нельзя пнуть ногой! Нельзя замучить, убить! Переслать вам?
Саня остановился и, прислонившись к фасаду какого-то дома, слушал. Ветер подныривал за спину, желая оторвать его от стены, как если бы Сане не полагалось делить усталость с кирпичной кладкой.
– Танюлька сейчас у его матери. У отца мобильный не работает. Они через посёлок пытаются с ним связаться. Мы, как будем что-нибудь знать, позвоним!
Саня кивнул, затем сообразил, что Наташка не слышит его кивок, и сказал:
– Хорошо! Я посмотрел, в полпятого есть поезд на Петрозаводск. Если не выяснится ничего, поеду.
Простившись с Наташкой и позволив ветру оторвать себя от опоры, Саня пошёл к дому. В голове было тяжело. «Полчаса подремать? – раздумывал он. – Или уж потерпеть до поезда?»
Свернул в арку двора и, словно опять попав в другую реальность, на этот раз в чужой сон, застопорился. На маленькой лавочке, под фонарём, золотившим ветки липы, сидели Курт и Ася. Саня, проморгав усталую муть, вгляделся и подошёл. В свете фонаря герои были видны ему, как на сцене. Лицо Курта, ссаженное и припухшее, так противоречило лирическому выражению глаз, что Саня, забыв на миг о бедах, воскликнул:
– Женя! Ну ты как? Сильно отекло? Дай посмотрю!
– Да нормально. Александр Сергеич, присаживайтесь! Только подрясник снимите! – улыбнулся Курт.
Саня оглядел себя: ветровка была надета поверх халата, который ему выдали в больнице. Он снял её и положил на колени. Снял потом и халат, сунул в рукав ветровки. Опомнился, вытащил и остался с белым комком на коленях. Так, в прострации, пробыл секунд пятнадцать – двадцать и вдруг огляделся тревожно:
– Ребят, а где Нора с Тимкой?
– Не волнуйся, у Болека! – успокоила его Ася и, продев руку брату под локоть, прижалась к плечу. – Саня, ты прости меня, ладно? – тихо-тихо сказала она и, спохватившись, торопливо спросила: – Как там Илья Георгиевич? Мы волнуемся!
Это «мы» как-то странно задело Саню. Как будто вместо его сестры на свет появилось новое существо, неспособное самостоятельно, под свою ответственность, принять беду и переложившее груз на какое-то беспечное и счастливое «мы».
– Инфаркт, – отозвался он. – Но ничего, Бог даст, поднимется. А я за Пашкой. В полпятого поезд на Петрозаводск… – И, отгоняя утомление, крепко потёр лицо ладонями. – Ну всё, пора! Мне ещё Илье Георгиевичу вещи кое-какие надо собрать и в больницу закинуть. Оставлю там на охране. – Вздохнул и, сунув под мышку комок халата, зашагал к подъезду.
– Давай мы с Женькой отвезём! Ты собери, что нужно, и брось у нас там в прихожей сумку, ладно? – крикнула Ася, но не побежала за братом, а осталась на лавочке с Куртом. И это обстоятельство тоже звякнуло грустным колокольчиком в Санином уме.
Дома Саню встретила Чернушка. Крепко облаяла, а затем, признав, по-пластунски подползла извиняться. Саня сел на корточки и обеими руками погладил собачью голову. Тем временем, завязывая на ходу пояс халата, из спальни вышла Софья.
– Ох, господи! – воскликнула она. Что-то в облике брата поразило её. – Ну пойдём! Пойдём, поешь хоть. И спать!
Софья зашла на кухню и, распахнув холодильник, побродила по полкам озабоченным взглядом.
– Слушай, а ведь мы и не готовили сегодня – день был дикий. Только вчерашняя гречка. Яичницу тебе сделаю, ладно? Вкуснющую! Хлеб поджарю, и с помидорчиком.
– Сонь, я совсем не хочу, правда. Только чаю, – проговорил Саня и, сев к столу, увидел прямо перед собой широкоформатную книгу со вкладками – их старый семейный атлас, развёрнутый на бледно-голубой, с зелёными и бежевыми островами странице. Вгляделся и различил Угличское водохранилище.
– Болек вечером заходил. Планируем маршрут. Ты с нами – это уже решено! – сказала Софья, подсаживаясь к брату. – Наймём катерок, нас четверо и Серафима… Саня, ты прости! Понимаю, что не вовремя. Но когда ещё? Я очень хочу в этот отпуск! Просто всем существом. Может, я уже осенью буду в местах не столь отдалённых. Куда мне ещё откладывать? – Софья вздохнула и поглядела на брата. – Нет, всё-таки тебе надо поесть! – решила она и принялась хлопотать у плиты, а Саня, упёршись локтями в стол, потёр лоб и глаза. По черноте замигали пучки света. Вот притих на больничной койке старый человек, около ходит смерть, а те, на кого он надеялся, планируют увеселительную поездку. Вот подросток в попытке сбежать от сильной душевной боли один качается в поезде, а его друзья воркуют под фонарём о любви.
Но почему-то без досады, наоборот, с нежностью Саня смотрел на просторную зелёно-голубую карту, на обнадёженную скорой поездкой Софью и – мысленным взглядом – на Асю с Куртом под фонарём. Что-то ожило и расцветало после отбушевавшей бури. Утро, сад с мокрыми флоксами…
Софья унесла атлас и принялась накрывать на стол.
– Соня, а где у нас Ильи Георгиевича ключи? – спросил Саня. – Надо ему вещи собрать в больницу. А ребята утром отвезут. Инфаркт, но вроде бы ничего… – зачем-то прибавил он.
– Как инфаркт! Что ты! – ахнула Софья и, поставив тарелку, стёрла мгновенно набежавшие слёзы. – Господи! Ну что же за напасть!
Саня кивнул и помолчал, прислушиваясь к чему-то. Как будто надеялся расслышать, как там, на расстоянии нескольких километров, постукивает сердце, о котором он волновался.
– А можно мне лучше не чай, а кофе покрепче? – сказал он, подняв взгляд на сестру. – А то мне сейчас на вокзал. За Пашкой надо ехать, он к отцу рванул. Вот так вот, всё одно к одному…
– За Пашкой? – проговорила Софья и, оставив хлопоты, подсела к столу. – Это куда же, в Петрозаводск? Сейчас?
– Ну да. Не можем дозвониться никак. Да и что по телефону… Я боюсь, он вообще сорвётся, а Илья Георгиевич…
– Нет-нет, подожди! – схватив брата за руку, перебила Софья. – Подожди! Саня! Ты хоть понимаешь, что ты в угаре?
– Да нет, почему в угаре! Просто, может, устал, это да. Видишь, так всё совпало. Надо ехать. Кофе вот дай мне…
– Саня, послушай меня! – Софья пересела ближе и, легонько встряхнув брата за плечо, заставила смотреть в глаза. – Ты не только сейчас, ты и вообще в угаре! Понимаешь? Ты живёшь как во сне! Как на войне какой-нибудь! А мы с Асей две кукушки, смотрим и молчим. Я твоя сестра. Остановись на секунду, послушай меня!
– Я слушаю, – кивнул Саня. Он видел, что Софья любит его и говорит по велению любви. Эта изливаемая на него любящая забота вдруг показалась ему такой редкостью и такой хорошей, целебной, как долгий сон после болезни.
– Вот эта твоя беготня на износ – пустое! Ты замазываешь симптомы, – продолжала наставлять его Софья. – Тебя никогда не хватит на всё! Даже если ты перестанешь спать. А ведь у тебя есть твоя жизнь. Тебе Бог её дал. Где она? Куда ты загнал её? – вопрошала она с горячностью. – Ты не на войне и не в Африке с миссией! Ты в нормальной мирной жизни – но не живёшь! Ты цельность свою, душу свою разменял на суету! Носишься, как сумасшедший, от одной царапины к другой.
– Соня, я просто лбом упёрся во что-то необозримое, – попробовал он объяснить. – И чтобы это необозримое пробить, нужно сделать что-то совсем иное. То, что ещё никогда не делал.
– Влюбись! – подсказала Софья. – Вот от всей души тебе желаю! Только не в дуру.
Саня отмахнулся.
– Ей-богу, ты хуже Пашки! – сказала Софья. – Тот упёрся, но он хоть маленький. А тебе сколько лет? Саня, ты земной человек и не можешь отменить смерть! И не можешь утешить всех, кто нуждается. Между прочим, в этом гордыня – брать больше, чем по силам.
– Я не беру, я просто не успеваю даже самого основного, – качнул головой Саня.
– А и не надо успевать! – подхватила Софья. – Просто остановись! Рассуди, как взрослый человек, а не как юнец из фэнтези! Нет никаких противотуманок. Надо просто принять жизнь! Прими её как есть и начинай в ней жить!
С благодарностью Саня смотрел в разгорячённое лицо сестры. Он знал, что она говорит не то, но не пытался протестовать.
– Соня, всё так. Но всё-таки нельзя принимать, – возразил он мягко, не желая её обидеть. – Если бы все люди приняли жизнь как есть – не было бы прививок и большинства лекарств, да и вообще медицины в современном смысле. Не было бы доноров и Пашкиного приюта тоже. Не было бы даже надежды. Надежда всегда подразумевает, что кто-то на свете не принял твоё страдание и пытается что-нибудь сделать… Ты не суди по мне, у меня просто нет мозгов. Единственное, на что хватает, – да, бегать и замазывать симптомы… – Он наморщил лоб и потёр. – Надо ехать, Соня.
– Нет! Ну что же мне делать-то с тобой, дураком! – воскликнула Софья в отчаянии и, стерев слёзы, обняла брата, крепко погладила по голове.
Саня ушёл, подкреплённый слезами сестры, как подкрепляет любое участие. Курта и Аси во дворе не было. На лавке под фонарём лежала тряпочкой подвядшая ветка черёмухи.
На вокзале, сжатый внезапным одиночеством, какого и не бывало с ним никогда, Саня купил чай в пластиковом стаканчике – просто чтобы чем-то себя занять. Из хриплого динамика под козырьком неслись хиты итальянской эстрады времён его детства. Старая песня мимолётно задела душу, как, бывает, заденет дым чужого пикника.
Над платформами нависло красноватое небо. В это небо, сгустившееся на горизонте отошедшей грозовой тучей, через полчаса должен был стартовать поезд. Скорее бы! Саня так привык к непрестанному транзиту через сердце разнообразных человеческих нужд, что остаться без дела, в пустом ожидании было почти мучительно. Он начал тревожиться: вдруг Илье Георгиевичу не помогут зарядить телефон и старик будет без связи? Позвонить Асе! Пусть зарядку отдадут медсестре, и попросят как следует! Да и вообще, не безрассудство ли это – бросать его в таком положении? Много бывает ошибок, недоглядов, не хватает медперсонала на всех… Эх, лучше бы ему сейчас поехать в больницу! А Пашку обратно пришлёт Николай…
Так подумал Саня, но за его разумным рассуждением не было правды, и он это знал. Станет ли Пашка слушаться непутёвого родителя? Куда ещё его понесёт, если вдруг не найдётся общий язык с отцом? Что вообще у него в голове? Нет, надо ехать!
Глотнув чаю, Саня поставил стаканчик на стол возле киоска, поглядел, как бабочкой бьётся под ветром чайная этикетка на ниточке, и пошёл на платформу.
Никогда ему не было одиноко среди людей, но теперь поток пассажиров, спешащих разойтись по вагонам, казался ему валом камней. Не желая раньше времени заходить в вагон, он отошёл к фонарному столбу и услышал в кармане вибрацию телефона. Звонила Татьяна.
– Александр Сергеич, миленький! Нашёлся Пашка! Из поезда матери позвонил! – срывающимся голосом кричала она. – А знаешь, зачем звонил? Деньги, подлец, деду велел отдать, за купе! В общем, едет в Петрозаводск. А там Коля его встретит.
– Дозвонились всё-таки? – обрадовался Саня.
– Анька через посёлок дозванивалась, умоляла там кого-то, мол, ради сына. Домой к нему побежали. Как в войну прямо! Он же без гаджетов там у них медитирует. Ну, обещал подъехать на вокзал. Вроде успевает.
– А про Илью Георгиевича сказали? Что инфаркт у него?
– У кого инфаркт? У деда? – ахнула Татьяна. – Да ты что такое говоришь! Помочь чем-нибудь могу?
Саня взял паузу и, с трудом собрав мысли, произнёс:
– Таня! Если будет возможность, передай им, Пашке и Николаю, что он в больнице. Пашке скажи, что угрозы жизни нет. Ладно? Не напугай! И скажи, чтоб к телефону подходил!
Татьяна обещала всё сделать.
– Ты-то сам как? – помолчав, спросила она. – Это что у тебя за объявления? Ты на вокзале, что ли? Ну, хоть не уехал, слава богу! Давай-ка приезжай к нам! Джерик вон хвостом виляет, слушает! И Наташка у меня ночевать осталась.
Она говорила что-то ещё, убеждала, что для всеобщего спасения ему непременно надо приехать к ней, быть вместе. Наконец её голос дрогнул.
– Танюш… – проговорил Саня, желая как-нибудь благодарно, тепло закруглить разговор. – Танюш…
А потом что-то случилось с его сознанием. Без сил он приник виском к столбу и вдруг вместо гладкого прохладного бетона различил шершавость. Да – шершавым был столб! И какой, погодите, столб? Разве же это столб? Он закрыл глаза и почувствовал лбом родную липу, что растёт во дворе на Пятницкой. Тёплый, неуклюже и нежно корябающий кожу ствол. И тут же – ухнувшим в животе броском перенёсся в летний городок детства. Да разве там, в переулках, не такая же согретая солнцем кора щекотала щёку, когда вжимался в неё, прячась от «казаков»? А затем, как-то вдруг оказавшись на пристани, он увидел лодку, плывущую от колокольни к берегу, и в ней прежнего нестриженого Пашку.
Ах, как хорошо он отдохнул, прислонившись к столбу, какие утешительные видел сны!
* * *
Огромный день между двумя поездами, утренним, на котором собирался ехать сам, и ночным, привёзшим Пашку, промелькнул у Сани мигом. Он поспал часа полтора у сестёр, проснувшись, был одарен чистой рубашкой и завтраком, затем, не отследив дороги, очутился на работе, а в полдень ему позвонил Пашка. Изменяя всем правилам, Саня прервал приём и вышел поговорить.
Известие о том, что беглец сел в обратный поезд, мигом восполнило недосып. Саня почувствовал крылья и радостно, теперь уже не отвлекаясь на посторонние мысли, погрузился в работу – пока администратор не сообщила ему, что последний записанный на сегодня пациент отменил визит. Вот подарок так подарок!
По правилам нужно было дождаться конца рабочего дня, но сегодня Саня не мог ждать. Он сорвался и через полчаса был в палате у Ильи Георгиевича.
Старик, осознавший за прошедший день, что за неприятность случилась с его здоровьем, был тих и подавлен. Внук уже успел позвонить ему, но разговор не задался. Кроме сурового «Дед, прости» Пашка не нашёл слов утешения.
Ощутив наплыв стародавней, унаследованной от бабушки нежности к родным и друзьям, Саня обнял старика и наобещал ему с три короба – здоровья, жизни земной и вечной, Пашкину успешную сдачу экзаменов и даже поездку на речные просторы, навеянную вчерашним Софьиным атласом. Он врал щедро и с удовольствием. Временами ему казалось, что это даже и не враньё, а хитроумная отмычка, доступ к тайным резервам больного, способным повернуть старение вспять.
Около двух ночи на вокзал прибыл Пашкин поезд. По лунному бетону платформы потянулись люди с чемоданами. Они двигались неслышно, как тени, – гул их голосов и шорох колёсиков был смят громом сильного, молодого ветра. Он принёс из ночных дворов медвяный дух черёмухи и смешал с запахом шпал.
Стоя к ветру лицом, Саня до слёз напрягал зрение, но никак не мог различить в толпе своего ребёнка. Только когда перрон совсем опустел, из дальнего вагона в свет фонарей вышел стриженый Пашка со спортивной сумкой в одной руке и Агнеской на поводке в другой. Увидев Саню, он на секунду застопорился, а в следующий миг с перекосившимся от плача лицом побежал ему навстречу.
За короткую дорогу в такси Саня понял, что Пашкина беда, покачавшись в поезде, обрела иной масштаб. Частности вроде предательства друга или разогнанного приюта уже не волновали его. Уткнувшись мокрым лицом Сане в плечо, он с космической высоты созерцал планету людей и жаловался почти что белым стихом:
– Александр Сергеич, не в этом же дело! Даже если не будет войны и все станут добрыми, полюбят животных. Какой смысл? Всё равно всё живое, весёлое пропадает навеки! – говорил он, не смущаясь шофёра, как если бы пилот звездолёта, нёсшего их через галактику, не знал земных языков. – Не будет больше этих морд, этих глазок, хвостиков весёлых! И я от этого, блин, схожу с ума! Что дед умрёт, и все, и даже Наташка! Её волосы, такие клёвые, зароют в землю или сожгут! Зачем мне тогда бороться за мир и здоровье, если всё так заканчивается?
– Паша, ты послушай меня! Мы со всем этим разберёмся. Мы что-нибудь придумаем, я тебе обещаю! – в ответ городил Саня. А с чем разберёмся? С новым ли приютом? Или с тем, чтобы «живое не пропадало»? – этими вопросами он не задавался, сосредоточившись на ближайшей цели – успокоить ребёнка.
Когда переезжали через реку, Саня немного опустил форточку. Тот самый ветер, что смешал на платформе мёд весны и дым вокзала, охладил вспотевший Пашкин лоб. Агнеска, вытянув морду, языком ловила поток прохлады. «Ну вот… – вздохнул Саня, заметив, что Пашка на его плече закрыл глаза. – Пусть отдохнёт, а дальше будем думать».
61
Разбежалась весна и запрыгнула в зелёное лето. Майские дни вывернули Москву с её бледной межсезонной изнанки на лицо. По всем дворам, где росло хотя бы одно дерево, пошёл густой зелёный шелест, зацвели клумбы, и сирень уже была на подходе. Всё это, словно впервые, увидел Саня, отправившись утром другого дня на работу. В небольшой перерыв между сменами ему предстоял визит к начальству. Сане была нужна неделя за свой счёт – заняться Ильёй Георгиевичем и попутно настроить Пашку на экзамены. Да и сам он, сказать по правде, в нынешнем состоянии не чувствовал себя вправе принимать пациентов.
Объясняя причины, он рассказал всё как есть: про собачий приют, про поджог и Пашкино разочарование в человечестве, и про деда с инфарктом. В ответ старший коллега посоветовал Александру Сергеевичу Спасёнову не взваливать на закорки планету, так уж сразу всю целиком, а ставить задачи по силам. Но отпуск всё-таки дал.
Выйдя из поликлиники, Саня по привычке пошёл через парк, свернул на орешниковую тропу и опомнился только у шахматного павильона.
За прошедшие сутки территория Полцарства изменилась неузнаваемо. Обгорелую сетку сняли, выкорчевали баскетбольный щит, а саму площадку, где жили в мире Пашкины питомцы, засыпали свежим песком. Исчезла лавочка, вместо качелей на берёзах болтались обрезки тросов. Зато у северной стены павильона расцвела черёмуха и укрыла пенистым кружевом осиротевший дом. Она белела в зелени леса торжественным воплощением всех праздников – Рождества и Воскресения, венчания и Дня Победы.
Поглядев на неё с волнением, как в ту невероятную ночь Пасхи, когда жизнь берёт верх над смертью, Саня собрался уже идти, как вдруг увидел слева от крыльца прислонённый к стене «мусор» – доску от качелей и старую смешную табличку «Приют “Полцарства”» с Пашкиным телефоном.
Саня поднял табличку. В последние месяцы она висела на двери бывшей спортбазы, где ночевал Джерик, потому и уцелела во время пожара, тогда как роскошная Асина вывеска, украшавшая загончик, сгорела.
Подхватив заодно и доску качелей, Саня решил, что поедет к Илье Георгиевичу чуть позже, а пока отнесёт реликвии на новую территорию. Да! Так будет правильно. После больницы они с Пашкой купят на строительном рынке трос и повесят качели за забором, в деревьях. А табличку прибьют, когда в новом приюте появится первая дверь. Он понимал, что всё это вряд ли вылечит Пашку. Но вдруг? Теперь годились все средства.
Саня не очень-то помнил, как добраться до участка, куда возил его Болек. Он решил, что пойдёт в сторону железной дороги, а там сообразит как-нибудь. Если же заплутает – позвонит брату.
С досками под мышкой, не имея привычки к использованию мобильных карт, он пошёл по наитию и через полчаса пути очутился в старом окраинном квартале. Он шагал мимо кирпичных пятиэтажек и послевоенных «немецких» домов с башенками и балкончиками. В тенистых дворах было тихо, только время от времени погрохатывала по-дачному электричка да гудели ветром зелёные волны деревьев. Высокие ясеневые и тополиные гребни ударялись о землю пеной зацветающей сирени. Кое-где резко, свежо пахло калиной. Лето грянуло, как духовой оркестр, и многое было в программе этого только начавшегося праздника. Никогда ещё, может, только в ранней юности, Саня не любовался так жизнью, как в тот день. И, странное дело, творящееся в ней зло не разрушало его любви к ней. Наоборот, любовь усиливалась, как это бывает, если дорогое существо попало в беду.
Раздумывая, что могло бы помочь Илье Георгиевичу прожить, скажем, ещё лет семь, и даже представив себе с хирургическим натурализмом его слабое, из последних сил рвущееся служить сердце, Саня свернул на параллельную улицу. Прошёл немного и почувствовал, как ноги сами собой замедляют ход. Шаг, ещё шаг – стоп.
Посреди тротуара на перекрещённых тенях деревьев Саня встал, как сломанные часы. Перехватил чуть не выпавшую из-под мышки доску качелей и огляделся. Незнакомый район, через полосу зелени – пятиэтажки. В окне первого этажа старик в тёплой кофте, похожий чем-то на Николая Артёмовича, смотрит на застопорившегося пешехода. Возле урны у магазина суетятся в извечном соседстве голуби и воробьи. На углу, под клейкой зеленью тополя – киоск мороженого.
Перед Саней был лучший день из возможных – мирный, счастливый, летний. И всё-таки полный неразрешимых задач, делавших продвижение вперёд бессмысленным.
Он сошёл с тротуара на землю под окнами и, положив доску качелей на пенёк, присел подумать. Если бы Илья Георгиевич и Пашка, и все, кто остался в его тетрадке под заголовком «Список», могли наподобие святых видеть сердцем бессмертную жизнь, у Сани не осталось бы никаких претензий к этому дню. Тогда дорога стала бы осмысленной, разлуки – конечными, страдания – выносимыми. А так, – что им в этой зелени и тепле? Напрасное обольщение!
«Может, всё-таки попросить? – пришло ему в голову. Он взглянул на небо между деревьями и взволнованно потёр ладонями лицо. – Да, попросить! Крепко, до слёз помолиться! Не о частном выздоровлении, а о Противотуманке для всех, как мечтал его “блаженный” однокурсник Димка! Конечно, без толку. Слишком мало любви на земле. Столько не хватит, чтобы сдвинулось с мертвой точки…»
Положив на колени Пашкину табличку «Полцарства», Саня вгляделся, потрогал корявые циферки телефонного номера. «Значит, если всё же просить, то о чём? Допустим, можно начать с такого довода. Просто сказать: Господи, Ты же видишь, мы совершенно необучаемые! Ну зачем продолжать нас мучить, раз результата нет! Свет, явленный в мудрых книгах, не внятен людям. Пусть бы лучше этот свет зашёл прямо в сердце каждого бедствующего! Да, и вот ещё что надо не забыть… Господи, если нужно для пользы дела, истрать меня хоть на винтики, хоть на кирпич! Направь в любую дорогу! Делай со мной что хочешь, лишь бы сдвинулось! – мысленно городил Саня и вдруг опомнился. – Ну что же такое я несу!»
Перебарывая накат сокрушения, он прижал к лицу Пашкину табличку. Нос уткнулся в «Полцарства». Нет, такая молитва никуда не годилась!
– Эй! Ну куда вы влезли! – крикнула женщина из того самого окна, где только что был старик в кофте. – Молодой человек, я вам говорю или не вам? Не видите, тут цветы! Идите отсюда! Нашли место водку пить!
Саня живо обернулся на окно, затем поглядел под ноги и понял, что угодил в чей-то садик. Вокруг него поднимались из земли крепкие листья тюльпанов и вовсю цвели крохотные синие гиацинты, «мышиные», как называла их бабушка.
Пока он озирался, женщина в окне, не обнаружив признаков винопития, смягчилась.
– Вы уж извините! – сказала она. – Просто жалко ведь живое! – И, всё более приглядываясь к случайному человеку и изумляясь чему-то в нём, виновато продолжила: – Конечно, у нас тут тень, всё хилое – и не заметишь! А если заборчики ставить – с ними некрасиво. И не видно цветов-то будет, одни колья…
Саня кивнул.
– Да. Простите. Кажется, слава богу, всё цело, – проговорил он и поскорее вышел на тротуар. Пашкина табличка была у него в руках, а доску от качелей он забыл.
«Стыдно, – думал Саня, идя по улице. – Ни с чем не справился, бродишь, как поросёнок, по чужим цветам, – и смеешь ещё Господу Богу высказывать пожелания. Направьте его с пользой! Да куда тебя направишь, такого? Другое дело, если бы просил человек чистый, благодатный…» И, оборвав бесполезные сожаления, прикинул план на день.
Первым делом – в больницу к Илье Георгиевичу, серьёзно поговорить с врачом. Затем – Пашка. Интересно, его хотя бы аттестуют? Надо озадачить Наташку, вот что! Пусть за шкирку тащит его в школу и скажет потом, если какие проблемы. Осталась-то неделя!.. Ночевать – у Пашки, нечего ему одному. А ещё лучше – всем вместе у сестёр! Правда, вот это как было бы хорошо! Дома!.. С приютом – спросить у Болека, как там движется оформление, и после экзаменов настропалить Пашку, пусть втягивается. И хватит впадать в мечты! Работай, пока живой, – вот всё, что ты можешь. А если сил нет, правильно Болек советовал, вспоминай музыку!
За этими мыслями Саня дошёл до киоска мороженого. Одновременно с ним в тень летнего тополя влетел мальчик на самокате, купил «рожок» и умчался. Ласково шумел тополь, хотелось прислониться к нему лбом, как к тому столбу на вокзале, но нет, теперь уже некогда.
А тем временем на «принимающей стороне», там, где были выдуманы Сане на радость и тополь, и музыка, и детство со всеми забавами, его просьбу приняли к рассмотрению. Он ещё не успел отойти от киоска мороженого, а для него уже было выбрано дело, расчерчен маршрут и даже найдены товарищи в долгий путь. Оставалось только решить: достаточно ли Саня крепок, чтобы взвалить на себя то, о чём просил.
Эпилог
Тугой тяжёлый плеск остался за спиной, но качка увязалась с ними. Тропинка под ногами пошатывалась, изображая реку. Пока они шли мимо вытянувшихся вдоль воды тополей, Серафима рванула за мелькнувшим в траве котёнком и угодила в крапиву.
– О! Я тоже хочу такие! – позавидовал Болек, любуясь волдырями, которые девочка продемонстрировала ему, гордо удерживаясь от слёз. – Ну что, Соня! Началось детство? – подмигнул он Софье и первым вышел на улицу Маркса.
Насчёт детства Болек лукавил. Ещё с воды, глядя на колокольню и дальше, на распахнувшуюся за пристанью центральную улицу, он понял, что не будет ни откровений, ни особого трепета сердца. Разве только жалость к бедному маленькому городку, случайно вписавшемуся в его биографию. Чтобы попасть в тайник детства, требовалось нечто большее, чем просто вернуться в географическую точку.
У причала Болек задержался, оглядывая лодки. Нет ли той, на которой усилиями его отчаянных рук было вырезано и залито краской имя «Соня»? Река, переливаясь чешуёй, синей, серебряной, замшело-зелёной, ворочалась у берега, толкала моторки в бока.
К вечеру в городе было пусто и ветрено. Ушли теплоходы, осиротел торговый ряд. Несколько густых июльских лип шумело над головой, из окон пахло оладьями. Смесь пыли и речной влаги обняла прибывших. Когда впереди завиднелся родной переулок, Болек остановился.
– Я обойду вокруг, там, где дом с выбитыми окнами, – сказал он и, ускоряя шаги, свернул во дворы.
Софья, нахмурившись, взяла Серафиму за руку.
– Ну и пожалуйста! Мы первые банку найдём! – сказала она обиженно и потянула дочь в горку мощёной улицы.
Болек шёл по тенистому переулку, дыша встревоженно, вспоминая чутьём свой детский велосипедный маршрут. Этот нелепый крюк был нужен ему, чтобы совершить первое погружение одному, без попутчиков, пусть даже милых сердцу.
Дома с пустыми оконницами, из которых выглядывала крапива и берёзовый молодняк, поразили его. Городок жил в миге от исчезновения, сонно, без воли к сопротивлению, возвращая себя природе. Болек вдыхал едкий запах трав и не узнавал мир, казавшийся ему в детстве таким весёлым.
Возле какой-то сараюшки, в тени и влаге растительного царства, тропа затянулась совсем. Болек остановился и огляделся. Ну что ж, он зашёл в тупик. Здесь больше нет его детства. От царских раздолий осталось нищее захолустье.
Шагнув по влажной траве, он дёрнул дверцу сарая – она со стоном распахнулась, запахло сыростью. Внутри был склад металлолома – рыжий от ржавчины чайник, ведро без днища и ещё кое-какие бесформенные железяки.
«Не получится перезагрузки, – вдруг ясно понял он. – Просто конец истории. А о чём же в ней была речь?» И вгляделся в гущу тенистой зелени. Мелькнул потусторонней громадой Париж и сказочный Лиссабон, горкой нависший над краем света. Проплыли образы простой милой Германии и солнечные открытки Италии. Всё это было пустое. Прекрасное, достойное восхищения и любви – но не открывавшее доступ на глубину. И вот теперь клад его детства – городишко на Волге – тоже оказался запечатан.
Болек сморщил брови и кашлянул. Нет, слёз не было. Было то, что принято называть «ком в горле». Прорвёт, но попозже.
Пробравшись через крапиву, он оказался на более или менее твёрдой тропинке, ведущей к прибрежным домам. Ему захотелось спуститься к воде. Он успел сделать шагов пятнадцать, когда из переулка ему навстречу вышла женщина в белом с мелкими голубыми цветами платье. В пластмассовой сумке-корзинке, которую она несла в правой руке, постукивали друг о дружку две трёхлитровые банки, доверху налитые великолепным, со сливочной желтизной у горлышка молоком. В левой руке звякал крышкой бидон, и жилы над обоими запястьями были натянуты.
Болек посторонился, давая дорогу. Наконец-то! Детство, бесценное, вечное, вот и ты! Твои зелёные улицы никогда не поблекнут, и каждый день будет греметь бидоном молочница Валя в белой, как английский воротничок, косынке, завязанной на затылке двойным узлом. Благодаря снежному хрусту этой косынки Валя завоевала совершенное доверие жителей к молоку своей Бурёнки и с тех пор не имела недостатка в клиентах. У Спасёновых молоко всегда кипятили. Только купленное у Вали – нет.
Пропустив Валину преемницу вперёд, Болек пошёл по молочному следу и вскоре оказался на широкой грунтовой улице.
Нет, не зря он доверился призраку! Новая Валя вывела его в обитаемый мир – перед ним распахнулся каникулярный городок, показавшийся было утраченным. Разновозрастная кучка ребят от пяти до пятнадцати играла в вышибалы, простреливая улицу меткими ядрами. «Валя», едва не получив мячом по кошёлке с банками, выругала детей и вошла в калитку. Навстречу ей уже спешила дачница – обменять две пустые банки на полные.
Они задержались поболтать, а Болек отправился дальше, но теперь это была уже совсем иная прогулка. Переход совершился. Сталкер в летнем платье провёл его через полосу отчуждения в мир, полный жизни.
Бестревожно поглядывая на обитателей волжского эдема, Болек пошел в направлении бабушкиного дома. Дорогой порадовался прыти двух немолодых дачниц, в переулке играющих в бадминтон, и удаче кошки, лакавшей выставленную у калитки сметану.
Через пару минут он вошёл во дворик вросшего в траву двухэтажного особнячка. Софья и Серафима сидели на лавочке, обиженные, но верные. Багаж стоял тут же. В дом пока что не заходили, решив дождаться возвращения беглеца.
Пока Софья выкапывала из сумки ключи, Болек успел оглядеться: сохранилось ли что-нибудь? Тень липы, пересёкшая двор, – да! Окно с тюлевыми занавесками – да! Песочница и синяя лавочка – тоже да! Только теперь лавочка стала почему-то зелёной.
– Они сюда и не заходят! Сидят у родителей, – сказала Софья, кивнув на половик, густо засыпанный сором отцветшей липы.
Подниматься в квартирку не стали. Взяли в чуланчике за дверью лопату и пошли откапывать банку.
Ступеньку решено было не снимать. Проще подрыть сбоку. Копнув несколько раз, Болек наткнулся на кладку из крошащегося кирпича. В шесть рук принялись разбирать и под визг Серафимы вытащили на свет совершенно ржавую, в порошке разъеденного железа банку из-под кофейного напитка «Летний». Ну вот и всё. Клад найден – и так легко, что берёт досада. Не могли запрятать получше?
Болек взял в ладони хрупкую жестянку и, выбрав из связки ключей самый тоненький, аккуратно подковырнул присохшую крышку. Обдул ржавчину и, проигнорировав требования Серафимы, отдал сокровище Софье:
– Ну, Сонь, давай! Ты первая.
Софья поспешно сняла с руки кольца и бросила в карман сумки, потёрла готовые к проведению операции руки, вздохнула и, затаив дыхание, приподняла крышку. Память вбросила в сознание запах бабушкиного кофейно-ячменного порошка.
– Ох! Есть! – прошептала Софья и, вытащив нечто, завёрнутое в фольгу, сунула Болеку банку. – Серафим, смотри, тут мамин кулон! – воскликнула она, отдирая прилипшие к украшению серебринки. – Вот он! – И, положив на ладонь, вгляделась.
Это и правда был небольшой кулончик, мутный кусок янтаря в почерневшей оправе из некоего дешёвого сплава, на такой же чёрной цепочке.
Софья сжала в кулаке свою драгоценность и с вопросом поглядела на Болека.
– А ты думала, будет фейерверк? – невозмутимо сказал он. – Надо дать талисману возможность разогреться, чтобы он вошёл в силу.
– Дай мне! Мама! Мне, мне можно? – кричала Серафима.
Софья отдала дочери кулончик и зачарованно поглядела, как Болек, подцепив спёкшуюся фольгу, распаковывает свой «сильмарилл».
– Ну вот! – улыбнулся он и поцеловал мутно-белый сахарный камень. Клочочки прилипшей фольги блестели на нём, как след железной руды.
– Это просто кусок слюды, – сказала Софья.
– Очень верный кусок слюды. Он меня дождался, – заметил Болек. – Верность, Соня, дорогого стоит! – И убрал драгоценность во внутренний карман летнего пиджака, так что ткань снаружи стала немного топорщиться. – Слушай, а Саня разве ничего не прятал? – спросил он с сомнением.
– Должна быть бумажка. Он не хотел, а потом письмо написал. Вроде бы…
Софья взяла банку и ногтем сковырнула со дна проржавленную бумажонку.
Болек, сожалея, качнул головой.
– Ну… Тут, видимо, что-то просочилось через швы…
– Это потому, что Саня не умеет копить земных сокровищ. У него все сокровища на небесах, – сказала Софья и, закусив губу, постаралась расправить ветошь.
– «Счастья для всех»… – прочитала она, вглядываясь в размыв. – А дальше тут не разобрать.
– И пусть никто не уйдёт обиженный, – подсказал Болек и устало присел на лавку. – Это Стругацкие, мы как раз тогда зачитывались… Нет, всё-таки люди не меняются! Знаешь, Соня, я что-то не готов сейчас заходить в дом. На сегодня мне, пожалуй, хватит сильмарилла. Далеко до вашего участка?
Софья покачала головой:
– Пять минут на машине.
Оба вздохнули и поглядели на Серафиму. Девочка, нацепив свисающий до пупа кулон, сосредоточенно выкапывала из песочницы выцветшие почти до белизны формочки.
На площади взяли единственное дремлющее под липой такси и, сперва по городку, затем по асфальтовой дороге и, наконец, по тенистой и пыльной грунтовке, между деревянными заборами, сохранившимися, кажется, только в глуши, добрались до места.
В глубине заросшего травой переулка, на уровне третьего или четвёртого участка, глаза выхватили пятно солнечной зелени. Так светла бывает поляна в лесу, проглядывающая сквозь деревья. Ну вот – шиповник в цвету и дачный дом с открытой верандой. Приехали!
Худая бронзовошкурая собака, первой увидев чужих, нырнула под дом и затаилась. За ней рванул Пашка и, заглянув под крыльцо, велел вылезать.
«И здесь всё то же. Ничего не меняется!» – подумал Болек и понял, что, в общем, рад – Пашке, собаке и особенно Илье Георгиевичу, сидевшему в раскладном кресле возле подозрительно творческого развала на садовом столе.
На старике была новенькая рубашка оттенка «яблоневый цвет» – подарок Софьи. Модная розоватая ткань оживляла бледное лицо, но в целом, на взгляд Болека, он выглядел неважно. После инфаркта чубчик на лысоватой голове как будто совсем истончился и превратился в пух. Пух этот ласково пошевеливал… даже не ветер – закатный луч!
С прищуром, словно не узнавая, старший Трифонов взглянул на вошедших и в следующий миг был атакован Серафимой.
– Ох! Приехали! Ну, молодцы, молодцы! Ася! Приехали! – крикнул он, обернувшись на дом, но возглас получился дребезжащим, тусклым. – Тихо, деточка! Тихо, ты же свалишь нас… – попытался он отстранить Серафиму, вздумавшую залезть на перила его раскладного кресла. На счастье, подоспел Пашка и увел девочку в дом, где скучал в клетке заранее перевезённый на дачу хомяк Птенец.
– Илья Георгиевич! – проговорил Болек так, словно не видел старика сто лет и не чаял увидеть. – Илья Георгиевич… – И, подойдя, приобнял его.
Из дома вышла Ася в смешном клеёнчатом фартуке, сплошь окровавленном вишнёвым соком, как и руки почти до локтя – вынимала из ягод косточки. Как-то грустно улыбнулась приехавшим. Целоваться не подошла.
– А родители в городе за продуктами, скоро будут! – сказала она. – Сейчас, я только руки помою!
И уже не вернулась.
Болек придвинул пластмассовое кресло к столу и, расположившись, заглянул в бумаги Ильи Георгиевича.
– Мы тут, Болюшка, видишь, занялись с Пашей моим трудом! Он перепечатывает в компьютер и по ходу читает вслух, чтобы я мог поправить. Очень так удобно! Знаешь, и местами мне даже нравится. Есть мысли! – оживляясь, похвалился старик.
Болек с серьёзным видом взялся просматривать стопку бумаг.
– А знаешь ли, что мне сказал Саня? – тем временем продолжал Илья Георгиевич. – Что надо работать с размахом, не озираясь на возраст, потому что мы не знаем, что нас ждёт впереди. Может быть, очень даже интересное продолжение наших земных проектов!
Болек отложил бумаги и, подперев ладонью голову, с любопытством посмотрел в его старое и жалостливое, но симпатичное все-таки лицо.
– И ещё он сказал: всегда можно надеяться. Как когда ждёшь доброй вести. Очень может быть, к тому времени, как мы с Пашей доделаем рукопись, что-то переменится в мире. Что ты об этом думаешь, Болюшка?
– Я думаю, что Саня попал в тупик, – со вздохом проговорил Болек. – Но ещё я думаю, что ничего не знаю наверняка. Поэтому давайте так и будем считать, как он сказал. Всегда можно надеяться.
Илья Георгиевич кивнул и, понизив голос до полушёпота, прибавил:
– А я ещё вот что думаю. Всё-таки Саня – человек с прекрасным обновлением клеток души! Они у него не черствеют, не образуют корку бесчувственную. Нежные, как у ребёнка. Может быть, он просто больше чувствует, чем мы? Как говорят, маленькие дети много чего видят, чего мы уже не можем воспринять… А вообще, жизнь ведь такая хорошая! – неожиданно подытожил он. – Если б только умирать не надо!
А затем вернулись тётя Юля с дядей Серёжей, и всё оказалось по-прежнему. Спасёновский рай принял беглецов и, не дав передохнуть, вовлёк в труды по своему процветанию. Перетащили в дом сумки с продуктами и взялись за приготовление ужина. Участвовали все, кроме Аси. Весь вечер, пока не стемнело, она работала в парнике, обрывала на огуречных побегах пожелтевшие листья. Болек понимал её усилия – на этом тихом краешке жизни, в «рукаве» реки, укрытом от большого течения, она набиралась новых сил.
После ужина, позднего и затянувшегося, обнаружилось, что в саду совсем темно и пахнет ночными цветами. Софья отправилась укладывать Серафиму. Ушли к себе, в комнату для гостей, Илья Георгиевич с Пашкой. Но в обычае у сов-Спасёновых был полуночный чай с чем-нибудь вкусненьким и, если ночь тепла, – разглядывание звёзд на безоблачном июльском небе.
Рассчитывая на продолжение, Болек спустился в сад. Ночь, приглушив возможности зрения, ярчайшим потоком заполнила слух. В отдалении звенела вода – Ася на улице под навесом мыла посуду, а на веранде дядя Серёжа, взяв флейту, перебрасывался репликами с ночной птицей.
Болек прислонился плечом к стене дома и закрыл глаза. Ну конечно, рай! Готовят, моют посуду; с веранды, открытой, как палуба, в душистую ночь выплёскивается музыка. Святые живут единой душой, и если грешат, то лишь тем, что под ногами не замечают земли.
Вздохнув, он отделился от стены и пошёл в глубь сада, на свет и журчание воды, к звенящей посудой Асе.
– От Сани нет новостей? – подойдя, спросил он.
– Вчера звонил. Говорит, побежал за молодильными яблоками для Ильи Георгиевича…
– Прекрасно! А уволился зачем? Можешь мне объяснить, ну что у него за мысли бродят?
Ася неопределённо пожала плечами и, взяв стопку тарелок, повернула их боком, чтобы стекла вода.
Она была грустна, но подбадривать её показалось Болеку лишним. Это была заслуженная грусть, осознанная, а потому полезная, как полезен бывает пост после бурной Масленицы.
– А Пашку ты как находишь?
Ася посмотрела в сторону, на белеющие в свете садового фонаря флоксы.
– Притих. На «бюджет» по баллам не проходит. Не знаем, куда его теперь. Может, Саня что-то придумает, чтоб хоть не в армию. За деда переживает. Хорошо, что они хотя бы здесь.
Слова Аси не расстроили Болека. Он подумал, что случившееся – всего лишь момент жизни. Юный возраст позволяет надеяться, что «момент» заживёт, как ссадина на коленке, не оставив шрама. Но, возможно, и нет. Возможно, ствол сломан и рост дерева изменён непоправимо. Но кто сказал, что в худшую сторону? Может быть, из Пашки вырастет что-то вроде той благодатной липы, что решила завернуть на балкон к Спасёновым?
– Ничего, справится, – сказал Болек.
– Ты думаешь? – с надеждой спросила Ася.
Ася понесла посуду в дом, а Болек остановился у крыльца, любуясь тем, как задумчиво дядя Серёжа держит в пальцах совершенно полую бамбуковую дудочку. В ней нет ничего – ветер и пустота, и всё же в ней есть голос.
Послушав пару минут, Болек понял, что флейта является странным продолжением дяди Серёжи. Её голос словно бы проживает за него то, что не сбылось, рассказывает ему о далёком, вольном, загадочном, чего не довелось увидеть в жизни. Дядя Серёжа открывает и закрывает пальцами круглые окошечки во вселенную, и проникающий через них ветер поёт ему о любви.
– Дядя Серёжа, а можно мне? – дождавшись паузы, попросил Болек и, поднявшись на веранду, бережно принял инструмент из рук удивлённого, а впрочем, тронутого его интересом флейтиста.
Флейта дружелюбно согрела пальцы новичка, но звучать наотрез отказалась. Сколько ни прилаживался Болек, сколько ни советовал смущённый дядя Серёжа, как и под каким углом лучше извлекать звук, – без толку! Дудочка молчала, как партизанка, – ни стона, ни скрипа, ни даже шороха. Голос мироздания, напугавшись чужака, вылетел вон, и флейта стала пустой.
«Да, совершенно пустая!» – констатировал Болек, приставив дудочку к глазу, как подзорную трубу, и поглядев в тёмный сад.
Не то чтобы он расстроился. Просто почувствовал, что восходящие потоки его жизни стихли. Когда волшебные существа вроде флейты начинают отказывать тебе в дружбе, – это повод остановиться и переждать. Чем, собственно, он и занят сейчас. Ну что ж, молодец!..
Засыпал тяжело, таращась в синюю щель между шторами, кое-где с тонкими огоньками звёзд. Дядя Серёжа, как нарочно, всё не мог наиграться.
А утром, даже и не утром ещё – перед рассветом – в жизни Болека произошла знаменательная встреча. Так толком и не заснув, промаявшись в полудрёме, около пяти утра он вышел на веранду подышать и увидел Софью. Умотавшись в плед прямо поверх пижамы, она стояла, положив локти на перила, и напряжённо вдыхала сырой предутренний воздух.
– Ах, как пахнет! Ты знаешь, я уже очень жду осени! – сказала она, совсем не удивившись его появлению, даже не обернувшись. – Скорее бы кончилось вот это бездействие. У меня сейчас такое ясное чувство, что суд пройдёт хорошо. Ничего ужасного не будет. То ли это Саня за меня хорошо помолился… Или вдруг Женька, а? В общем, смотрю с оптимизмом! И вот, я думаю, надо будет прямо в сентябре придумать что-нибудь новенькое. Надо ведь на что-то жить. И чем-то заниматься. Да? Прямо хочется уже всё распланировать! Ну а у тебя какие мысли? – наконец обернулась она, и Болек увидел – вчерашние «ресницы» слегка размазаны у неё под глазами. Должно быть, от избытка чувств она забыла смыть макияж.
Какие у него мысли? Пряный, путающий сознание запах из дальнего времени сбил его с толку. Он сел на корточки и разглядел по краю цветника невзрачные сиреневые звёздочки. Эти волшебные создания на скучных, почти безлистых ножках бабушка сажала каждое лето под окнами особнячка, назывались они… – да, маттиола.
– Какие мысли… Отремонтирую бабушкину мансарду и сяду писать книгу, – сказал он. – А вообще, не знаю, Соня. Пока не знаю, нет ответа. Единственное, что могу обещать, – я буду поблизости.
– Будешь поблизости! – возмущённо сказала Софья. – Ну а поконкретнее? Например, помочь мне что-нибудь придумать вместо убитого филиала? Это нет?
Болек поглядел на Софью и, чуть улыбнувшись, кивнул:
– Это да!
Подышав ещё немного утренней сыростью, Софья ушла к себе досыпать утро, а он пересчитал время и, придя к выводу, что полуночница Мария Всеволодовна, может быть, и не спит, позвонил.
– Марья, а я к тебе с поклоном! – сказал он после первых приветствий. – Ты молодец! Ухитрилась-таки наслать на меня любовь! Знаешь, и порядочно. Впервые не чувствую дефицита. Ну, рассказывай, как вы? Нашлось что-нибудь подходящее?
– Нет, сынок, мы в своей халупе. Налегаем на огород. Ждём, когда ты одумаешься и вернёшься! – бодро возразила она, но голос дрогнул.
«Целый мир любви!..» – восхитился про себя Болек и сказал вслух:
– Ну, давай я тогда тебе расскажу. Я долго буду рассказывать – можешь даже вздремнуть, я не обижусь. Так вот. Стою сейчас на открытой террасе. Скоро рассвет, очень сыро. Не пойму – то ли дождик мельчайший, или просто туман. Пахнет маттиолой. Это такие мелкие голубые цветы, может, ты помнишь. Тут ещё ранние яблоки, кисло-сладкие, очень душистые, правда, все в чёрных точках. Не знаю, как тебе объяснить, но мне кажется, происходит что-то хорошее. Как будто во мне уже давно закончились какие-то необходимые вещества и без них всё скрежетало. Понимаешь? И вот я дышу – и наполняюсь ими заново. Это похоже, как ты меня лечила под звёздами. Но, наверно, звёзды были не те. А здесь – как раз те самые.
А ещё мы только что говорили с моей сестрой Сонькой, – продолжал он, всё более доверяясь волне, закипавшей в сердце. – Пять утра – оба не спим, вышли дышать в сад. И всё это вливается в меня совершенно родной кровью – Сонька, яблоки, сырость. Буквально всё. Илья Георгиевич, крапива, молоко в банках. Марья, как ты думаешь, это и есть рай?
Марья помалкивала, не желая выдавать слёзы. Она соскучилась по «сынку».
– У нас тут есть одно обстоятельство. Если оно благополучно разрулится, прилетим к вам на недельку, где-нибудь в октябре – ноябре. Ты не против? Как там пикапчик Луиша, ещё ездит? Понадобятся экскурсии!
– Ох, сынок! Всё починим – ты только уж приезжай! – хрипло сказала Марья.
Пока Болек разговаривал со своей бывшей домоуправляющей, дождь усилился. Он сеял мелко и густо. Уже слышен был шорох и стук с перебоями. Идеальный звук, чтобы в неге проспать часиков до десяти и, проснувшись, попасть прямо к завтраку. Ну-ка, что там у нас сегодня? Мне, пожалуйста, неограниченно кофе. Свежий хлеб, варенья разного – буду пробовать всё. Глазунью, помидоры немного поджарить. Свежевыжатый сок? Ладно уж, обойдусь. Ах да! Ещё оладьи из кабачков! Соня, надеюсь, ты прочла мои мысли?
Пройдя под дождём по обжигающе мокрой траве, замирая и морщась от капель, Болек отыскал на нижних ветках яблоко поприличнее, сорвал и, откусывая на ходу, вернулся в дом спать. Вчера вечером Ася уступила ему свою комнату, перебравшись к Софье и Серафиме.
На первом этаже, прямо под Асиной спальней, в маленькой «гостевой» с окном на жасминовый куст сопел Илья Георгиевич под чутким приглядом Пашки. За Пашкой, в свою очередь, приглядывала Агнеска, дремавшая под его раскладушкой.
Тем временем циклон, укрепившись над верховьями Волги, продолжил наступление на юг. Ко времени завтрака, за которым Болек получил всё, о чём мечтал, с той лишь разницей, что вместо кабачковых оладий подали блинчики, тучи были уже в Москве.
* * *
В половине одиннадцатого утра дождь вовсю стучал по железу «ракушки» и поливал участок под приют, где Курт с Наташкой встречали машину с даром от новых хозяев Василисы.
Хозблок выгружали под ливнем, что не помешало Наташке по-хозяйски прикинуть: если внутри устроить перегородки, а снаружи, во фронтальной стене и с торца, прорезать дверцы, получится суперский «таунхаус» для десятка собак. А вторым ярусом – не нужен ведь собакам высокий потолок – устроим склад!
Промокли, но сушиться в новом Полцарстве было пока что негде. Вызвали такси – пешком идти полчаса. А пока зашли в хозблок и остановились у входа, боясь наследить по некрашеной половой доске.
– Послезавтра Пашка вернётся. Начну его втягивать в дело. Вот пусть красит! – сказала Наташка, отмахивая за плечи мокрые волосы.
– Да, – кивнул Курт. – А я вчера уже первого постояльца видел. Бродил тут, на Гурзуфа похож. Хромал сильно…
Дождь был такой хороший, так пахло землёй и рельсами, что не хотелось браться за работу. Так бы и бездельничать целое лето, до осени!
– Наташ, давай я тебе прочту стих? – усаживаясь на порожке, проговорил Курт. – Его ещё нет – но он прямо рядом.
– Ну, давай… – сказала Наташка без энтузиазма.
Курт вдохнул и тихо, бесстрастно начал:
Всё спокойно во мне, нет ни ран, ни стыда. Всё волшебное стало привычным. Всё высокое стало натужным враньём, Всё горячее – пенкой покрылось. Нет ни дерзости, ни белокрылой мечты…– Фу! – перебила Наташка. – Какое-то грустное! – И, прищурившись, поглядела в даль проезда, не едет ли такси.
– Наташ, ты что-нибудь слышала о Противотуманке?
– Ну да, Александр Сергеич рассказывал. Это такая фара… Чтобы всё невидимое стало видимым.
– И страждущие утешились, – кивнул Курт. – Ася сказала… – начал было он и умолк, побоявшись выдать чужую тайну.
– Я, наверно, не на станцию, а сначала к Танюльке, – решила Наташка, когда подъехало такси. – Посушусь у неё – и домой. А то задубею в электричке. И Джерика заодно проведаю. Ну всё, пока! А не сопрут хозблок-то? – заволновалась она, уже садясь в машину.
Курт подумал: должно быть, на небесах из таких, как Наташка, выходят медсёстры. Они утешают вновь прибывших, пока неизвестные нам врачи готовятся к операции по преображению горестной памяти в то наследие, с которым потом можно будет жить ещё целую вечность.
Когда такси уехало, Курт прошёлся по вымокшему участку и вспомнил, что ещё в мае Саня принёс и положил в сломанную «ракушку», к другим вещам, Пашкину первую вывеску. Табличку со словами «Приют “Полцарства”» и номером телефона. Эту самую доску он мигом отыскал среди всякой всячины и примерил к сырой двери хозблока. Хорошо! Прямо прекрасно. Сейчас и пришпандорим. Пашка приедет – может, хоть, улыбнётся.
Он привернул дощечку парой винтов и, убрав инструмент в «ракушку», собрал свои вещи – мокрую куртку, рюкзак. Ну что ж, а теперь домой. Прогулять по-быстрому Нору с Тимкой – и в работу, в работу!
Конец








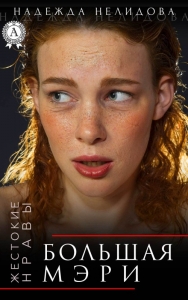



Комментарии к книге «Полцарства», Ольга Анатольевна Покровская
Всего 0 комментариев