Александр Павлович Лысков Старое вино «Легенды Архары». История славного города в рассказах о его жителях
© Лысков А.П., 2017
© Лысков А.П., иллюстрации, 2017
© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2017
* * *
Александр ЛЫСКОВ родился в 1947 году в Архангельской области. После учёбы в Архангельском лесотехническом институте работал инженером на Архангельском ЦБК. В 1991 году окончил Высшие литературные курсы, с тех пор живёт в Москве и занимается литературной работой. Автор многих книг.
Часть I Карусель
Капитанша Майка
Скорее доска с парусом, виндсёрфинг с лавочкой для сидения, чем яхта (теперь их отливают из пластика), – вот уж истинно «мыльница», тоже всегда сырая, скользкая, в отличие от фотоаппарата с одноимённым прозвищем (а тогда их клеили из шпона, они были фанерные, эти «финны»).
Словно какой-нибудь каяк, корпус его можно было тоже одному перетащить на воду или при сильном волнении в гавани втянуть на берег.
Ну, вдобавок к рулевому, девушку на своём борту «финн» ещё выдерживал, но с тремя – уже черпал бортом.
Они, эти мелкие судёнышки, даже имени не удостаивались – номер на парусе – и достаточно, будто и не корабль вовсе, хотя своим ходом и размером именно «финны» напоминали самых благородных морских тварей – дельфинов (а какая рифма!).
Лучшими финнистами в яхтклубе тех лет были Кок и Рог. Чернявый вёрткий Рог (Алик Рогов).
И рыжий увалень Кок (Женька Коковин).
Один – маленький, живой, привязчивый, как муха, дотошный до тошноты.
Другой – массивный, задумчивый молчун с наружностью и в самом деле повара – кока.
Они были неразлучны, всегда ходили вдвоём. Ноги низкорослого Рога мелькали, как спицы в колесе.
Кок с каждым выбросом ноги цеплял каблуком землю, будто трактор траком, цеплял и подтягивал, цеплял и подтягивал.
Рог зимой играл вратарём во втором составе «Водника», в воротах был удивительно прыгуч, пользовался популярностью у болельщиков, а как аспирант лесотехнического института – особым уважением босса – начальника яхт-клуба, бритого налысо сидельца сталинских лагерей.
А Кок был мотороллеристом. Гонял по городу на трёхколёсном фургончике, развозил товары по магазинам. Его угнетала эта запись в трудовой книжке – «мотороллерист», он считал её для себя унизительной и не понимал, почему нельзя было отделу кадров провести его в штатном расписании под благородным именем мотоциклиста, как он просил…
Перед началом навигации яхте Кока потребовался ремонт. Когда он перевернул свой «финн» днищем вверх, посмотреть на пробоину сошлись все, кто поблизости шкрабил, грунтовал, красил, полировал посудины, как это всегда бывало на веранде яхт-клуба в мае.
Стояли молча. У одного борта увечного «финна» Рог – с висящей на шее «Спидолой».
Напротив него – Кок, засунув руки в карманы широких брезентовых брюк.
У него спрашивали, как он будет заделывать пробоину. Он молчал.
– Если человек состоит из жидкости, то в Коке жидкость тормозная, – сказал Рог.
Все засмеялись, а Кок лишь нахмурился, медленно-медленно отвернулся и с прищуром стал смотреть куда-то через плечо, за спину. Он страдал от обилия разговоров, от многословия и многолюдья, будто аллергик от цветочных запахов.
Вынужденный оставаться в буче трёпа, чтобы отвлечься, обычно он брал монету, подкидывал щелчком и ловил. Или выкручивал себе ухо. Или зевал, распахивая во всю ширь розовую пасть, оснащённую полным набором первосортных зубов, и оглядывался, где бы прилечь.
Но терпение его было небеспредельным. Случалось, и самая безобидная подначка вдруг срывала его с места, и он с наскоку валил обидчика на землю, – никогда не бил, довольствовался одним борцовским одолением.
Только головастому Рогу (и вправду большеголовому) прощал Кок любые подколы по причине какой-то братской любви – с детства они по одному коридору на самокатах гоняли, на одной коммунальной кухне получали ложками по лбу и закалялись на сиденьи одного ужасного, холодного, щелявого нужника (туалетом назвать язык не поворачивается) в кособокой двухэтажной хибаре на болоте Обводного канала…
Но в гонках рубились безоглядно. Ходили на своих «финнах» одинаково мастерски, пересекали финиш нос в нос, а если Кок и отставал, то лишь в тихий ветер по причине восьмидесяти килограммов веса в сравнении с пятьюдесятью пятью Рога…
Когда в приёмнике Рэй Чарльз своим хрустящим баритоном рассказывал, как он ехал до Чаттануги, припевая, словно паровоз, «чу-чу», к собравшимся вокруг раненого «финна» подошла Майка Жукова – рулевой женского экипажа «дракона» – устойчивой и безопасной яхты, вопреки устрашающему названию её класса.
Рэй Чарльз пел в это время:
There's gonna be A certain party at the station Satin and lace I used to call «funny face» She's gonna cry Until I tell her that I'll never roam…[1]Майка вполне бы сошла за милашку из песни, только с поправкой на время, – одетая не в атлас и шёлк, а в акрил и нейлон. Милость её была двойная за счёт «короткой уздечки языка», что придавало её речи очаровательное пришёптывание.
Алик у неё получался чисто, а на Кока изливалось это обворожительное «Зенецка», что, возможно, и стало поражающим элементом для сердца великого молчальника.
Рог, липнущий к Майке, помня о ней как о дочке крупного чиновника, намекал ей на серьёзные намерения, что её, выпускницу пединститута, должно было бы интересовать, но ей больше нравилась влюблённость Кока – дистанционная, безрассудная, чистая.
Если Рог всегда вился вокруг Майки похотливым кобельком какой-то декоративной породы, то Кок издалека смотрел на неё и непременно исподлобья.
Рог был бабник и не раз уже возил на своём «финне» девчонок на другой берег Двины в кусты черёмухи.
Кок был невинен, и Майка, видимо, чувствовала это, будучи и сама скромной девочкой.
От нападок Рога она отбивалась со смехом.
А Кока однажды даже пригласила прокатиться на своём «драконе». Если бы не преувеличенное представление о мужественности, быть бы Коку её парнем, но он, единственный кормилец матери-инвалида и младшего брата, воспитавший в себе крайнюю самость, не мог позволить оказаться в роли катаемого, как девчонки. В свою очередь, пригласить Майку пройтись на вёртком «финне» считал унизительным – для неё, капитанши…
А между тем пробоина в днище руками Кока уже заделывалась куском алюминия – запасливый Кок добыл этот лёгкий металл на свалке самолётов в Кегострове ещё прошлым летом.
– Хотя бы резину под заплату подложил, что ли. Протечёт, – советовали ему.
– Кусок от ероплана теперь у него. Нестрашно. Теперь это не «финн», а истребитель.
– Подводная лодка. Только из гавани выйдет – и ко дну.
Издевались, как всегда, над безответным упоённо и беспощадно в присутствии Майки, но что стало самым болезненным для Кока – что и она смеялась.
Он растолкал весельчаков, одним махом перевернул свою яхту на киль и поволок к воде.
В это время, вполне по-майски, резко изменилась погода. Со стороны кузнечевского русла подкатила грузная туча и опорожнилась мокрым снегом.
И будто затычку в небе вышибли – оттуда же, с норд-оста, хлынул ледяной ветер, пронизывая насквозь, вырываясь на просторы реки несколькими потоками из труб-улиц, словно из труб аэродинамических.
Это был знаменитый шторм со всеми признаками урагана, когда сорвало крышу с кинотеатра «Победа», выкинуло лихтер на мель городского пляжа, лопнули цепи в запани одного из лесозаводов, и отборный лес массово «эмигрировал» в Норвегию.
Всё произошло быстро.
Только что гладкая, обсыпанная солнцем река в километр шириной вдруг превратилась в огромную площадь, вымощенную камнями, затем её будто усеял белый лебяжий пух, и гребешки начали свиваться в жгуты, на них завязались узлы барашков, обнаруживших наконец водную природу срывающимися с них брызгами, и вот уже с высоких волн слетают полотнища пены как бы в стремлении воссоединиться с низкими тучами…
Эти грандиозные изменения произошли за то короткое время, когда Кок под прикрытием веранды, будучи в своём «финне» уже на плаву, вздёргивал парус, старательно направляя его в узкий паз мачты.
Из-за грохота ветра он не слышал, как по радио голосом босса был объявлен запрет на выход из гавани, не видел, как над яхт-клубом взвился красный флаг и чёрный шар.
Некоторое время, правда, ещё доносились до него голоса недавних насмешников, выстроившихся вдоль перил веранды и пытавшихся остановить его, что только подстёгивало теперь мстительную гордость Кока и отрезало путь назад.
Он оттолкнулся, вскочил в яхту и, вдев ногу в ремень, сразу набрал шкоты и выбросился для откренивания…
Ветер наваливал его на пирс. Волны ударялись в деревянные сваи, выламывали доски настила и разделялись надвое – на облако брызг и омывающий вал.
Здесь, на выходе из гавани, за стеной многоэтажных домов набережной, прежде чем врубиться в кипень фарватера, Кок ещё позволил себе подразнить остряков на веранде, сделал полный поворот (так пилоты прощально качают крыльями) и после этого на фордвинде (ветер сзади) взлетел на крутую зыбкую гору, на её вершине ещё демонстративно пофинтил и скатился вниз, исчез из виду, как говорится, ухнул в пучину.
На веранде под ударами ветра все молчали в недоумении от поступка Кока. Никто не восхитился его отчаянностью, все были подавлены. Оценка Рога – «безмозглый тупица» – кажется, всех удовлетворила.
Лишь Майка забралась в брюхо своего «дракона» на стапеле и плакала, в забытьи страдания позволяя утешающему Рогу дружески себя обнимать…
– «Финн» двенадцать, «финн» двенадцать! – раздавался голос из радиодинамиков. – Немедленно вернитесь в гавань!..
Видимо, не надеясь на мощность репродуктора, босс выбежал на веранду и, встав к барьеру, принялся орать в жестяной раструб на разрыв аорты:
– Коковин! Быстро назад!..
Он был бессилен. Только что в разговоре с диспетчером порта ему было отказано в помощи. Единственный спасатель «Тритон» возился с терпящим бедствие лихтером, а катеру водной милиции тоже запретили выходить.
Боссу оставалось молча наблюдать, как один из парусов вверенной ему флотилии мелькал над волнами всё реже и реже, пока наконец не слился с клочьями пены и по цвету и по размеру..
… Воды в корпусе было уже по щиколотку, и вовсе не из-за небрежности в ремонте, – «финн» черпал и носом, и бортом, и кормой из-за «неправильных» речных волн в городской черте. Надо было бы уменьшить парусность, но Кок медлил, а, дождавшись наконец волны повыше, мчась с неё на бешеной скорости, открыл клапаны в транце, – воду из корпуса словно бы высосало подчистую, и прежде чем в эти окна опять хлынуло, он успел опустить защёлку.
Идти приходилось до сих пор на фордвинд, и в виду яхт-клуба долго ещё для самолюбия Кока оставалось самым опасным и страшным на глазах у соглядатаев сделать оверкиль – кувырок после зарывания яхты носом в волну, когда тебя выбрасывает, словно катапультой, на посмешище публике метров на десять вперёд.
Вот тут-то и пригодились Коку лишние двадцать килограммов костей и мышц…
Эти дополнительные килограммы служили ему, как стальная чушка в тонну на конце шверт-киля «дракона», конечно, в пропорции.
(Он не любил килевиков, как и Рог. Всегда высокомерной ухмылкой давал понять, что вполне согласен, когда друг изрекал примерно следующее:
– Килёвки для баб!.. Любой «финнист» пройдёт на килёвке в любой ветер. Чего там у вас надо? Взял рифы, выкинул плавучий якорь – и в кокпит кофе пить… Капитаны, тоже мне!.. Мореманы-кругосветчики… А на «финне» вы, такие все крутые, до первой смены галса…)
Кок понял, что не погибнет, улучил момент и оглянулся. Города не было видно вовсе – он был залит сверху дождём. Казалось, с северо-запада обрушивалась на город ещё одна река, неизмеримо более широкая и могучая, чем та, что текла в берегах.
Брезентовые брюки Кока намокли и стали, как фанерные.
От порывов ветра расстегнулся патент – молния на его вельветовой куртке, голая грудь сверкала, словно костяная, а мокрые волосы облепили голову и уже не развевались на ветру..
Впереди в пелене дождя показался какой-то берег.
При смене галса парус трепетал и подкидывал гик.
Этот деревянный брус рубил пространство над ныряющим под ним Коком и с треском расхлапывал парусину будто гигантская мухобойка.
Кусты набегали стремительно.
Кок поднял шверт, убрал парус задолго до берега и был вынесен в устье мелкого ручья, на один из множества неизвестных островов дельты реки.
Ночевал он под перевёрнутым «финном», завернувшись в парус, как зверь в норе…
Утром подмороженная мокрая парусина трещала при разворачивании. Он вылез из укрытия и стоял, зачарованный ярким светом, застывший от холода, словно бы вмёрзший в голубизну небес. Над ним сияло холодное неугасимое солнце мая, лёгкий ветер доносил запах Карского моря…
К яхт-клубу «финн» бежал резво, часто бил «скулой» в мелкие упругие волны, яхту потряхивало, как телегу на ухабах.
В утренней тишине пудовые мокрые ботинки Кока с железными подковами на каблуках звучно грохотали по настилу веранды, когда он нёс мачту в сарай.
Возле стеллажей мачта выскользнула из закоченевших рук и ударила по доскам, как огромная колотушка по литавре.
Из кокпита Майкиного «дракона» высунулась голова Рога.
Он извергнул из своей глотки самые грязные ругательства, замешанные на братской любви.
Кок стоял и улыбался, опустив голову, шевеля стопами в ботинках и глядя, как из дырочек у шнурков прыскают струйки воды.
Вдруг рядом с Рогом встала Майка и тоже накинулась на Кока с милыми упрёками: «Зенецка, Зенецка…»
Струйки перестали прыскать из ботинок. Кок стыдливо отвернулся от этой ночевавшей в яхте парочки, как будто они предстали перед ним нагишом.
Он долго не мог сдвинуться с места. Пытался застегнуть сломанную молнию на куртке. Язычок оторвался.
Он швырнул железку в воду, быстро, бегом, поднялся по лестнице и скрылся из глаз…
Ярости босса не было предела.
Он дисквалифицировал Кока, запретил ему появляться в яхт-клубе, но скоро смилостивился: близилась регата, и надо было выигрывать у «Труда». Он послал за Коком его верного друга, который через некоторое время вернулся с заплывшим глазом. Он не успел сказать Коку, что с Майкой у них «ничего не было»…
Регату «финнисты» «Водника» проиграли.
Яхту Кока передали новенькому.
Парнишке рассказали о бесстрашной выходке прежнего хозяина «финна» и он потом благоговел перед посудиной с алюминиевой заплатой на днище.
А Кока теперь можно было видеть только на улицах города, на Троицком проспекте, похожем в те времена на пустынную гоночную трассу, – на всём его протяжении висели только два светофора, было где разогнаться его трёхколёсному, страшно трескучему «муравью», тоже, кажется, единственному на весь Архангельск…
P.S.
В конце девяностых годов Рог, профессор и доктор наук, уехал преподавать в Норвегию. Теперь живёт там.
Кок стал дальнобойщиком. Сначала водил потрёпанный старый КамАЗ, а теперь у него в аренде известный всему городу огромный «Freightliner» цвета «красный металлик».
Майка вышла замуж за человека, далёкого от парусного спорта.
У неё внуки.
Гиганты
1
Одним крылом этот дом стоял на улице, другим – на переулке, и в его захвате образовывался обширный двор.
В центре двора был вкопан столб с четырьмя канатами. Это был единственный в городе дворовый аттракцион – «Гигантские шаги», а если коротко – «Гиганты».
На зиму канаты со столба снимали. Навешивали непременно к Первому мая. После чего начинало казаться, что вся жизнь дома вертится вокруг этого столба.
По ночам столб стоял одинокий, как всеми забытый клоун на ярмарке, с длинными рукавами-канатами. Утром дети по пути в школу усаживались в петли и разгонялись сначала мелкими шагами, потом с каждым толчком взлетали всё выше и выше, пока мамаши из распахнутых окон несколькими громкими фразами не принуждали их продолжить путь к знаниям.
Потом возле столба бродили младенцы с няньками. Преодолевая страх, они дотрагивались до канатов крохотными пальчиками, как бы причащаясь к таинству полётов.
Затем место невинных созданий занимали прогульщики и хулиганы.
Их опять сменяли законопослушные ученики.
К вечеру двор был полон детьми – от дошкольников до всяческих верзил, от милых девочек в капорах (да, капоры ещё были тогда в моде) до зрелых девиц с кошачьими повадками и в юбочках – парашютиках.
Скамеек во дворе не было. Взрослые усаживались на ступени у подъездов, выходили на балконы, выглядывали из окон. В их перекличках, в ребячьем многоголосье (от пронзительных визгов до горьких рыданий), в собачьем лае и музыке из радиолы слышались отзвуки большого праздника, народного гулянья, ярмарки, – четырёхместная карусель вращалась безостановочно.
Среди переростков, детей войны, жестокой безотцовщины (в отличие от залюбленных, нежных детей Победы) всегда находились добровольные ускорители. Такой Адька, Терка, Вилька (полные имена – Адольф, Геральд, Вилли, результат германофильства конца 1930-х годов) упирался длинной доской в канат, поднимал, разгонял и запускал толчком, как модель планера. Седоки вращались не только вокруг столба, но ещё и вокруг каната. Головы мотались. Перед глазами струились то полотнища облаков, то утоптанная глина, то голубятня на крыше дома, то гора опилок под стенами сараев.
«Завод» кончался, вот-вот летун должен был удариться боком о столб, но его успевал подхватить сильный помощник, сам тоже переживая восторг и упоение, с удовольствием впадая в детство.
Снова перед карусельщиком неслась лента из штор, половиков и ковров (трофейных немецких) на перилах балконов, женских платьев, мальчишеских разномастных кепок, тюбетеек (такая странная была мода, скорее всего, привезённая из ташкентской эвакуации), девчоночьих бантов, гераней на подоконниках…
Головы мотались, как пришитые, кукольные. От резкого поворота назад перед глазами словно бы распахивалась шторка в фотоаппарате ФЭД-2 (с выдвижным телескопическим объективом размером с катушку ниток), взгляд выхватывал перекошенное от восторга лицо толкача, а на следующем кругу он уже исчезал из обзора… Звучала «Кукарача», и Вилька Аксаков в широченных матросских клёшах бросал доску, пританцовывая, подбирался к девчонкам, уже бегающим парочками под бойкую румбу…
Зимой, со снятием канатов, у столба выхолащивалась суть столПа – основы, средоточия бурной жизни двора. Ему определяли унизительную роль держателя бельевых верёвок.
Наверно, нелегко ему было с его летучим, крылатым характером смириться со столь примитивным назначением – мрачно взирать на панталоны и кальсоны, похожие на останки канатоходцев, на чулки и лифчики разных размеров, на сплошные стены из заледенелых простыней, гулких, как листы ватмана (бельё стиралось в оцинкованных корытах, полоскалось в бездонной смертоносной речной проруби руками женщин, красными как гусиные лапы).
Если большие стирки затевались не чаще чем раз в месяц, то мать Вильки Аксакова, смуглая, суровая, с чёрными татарскими глазами, каждое утро выносила и накидывала на верёвку простынь с застарелой желтизной посередине, сполоснутую в тазу на скорую руку Ей, бесхитростной труженице в многодетной семье, и в голову не приходило, что она этой постирушкой выставляет на всеобщее обозрение самое сокровенное в жизни её сына, – на полотне проступали отметины отнюдь не достоинства целомудренной невесты, а следы энуреза.
Злые, проницательные сверстники Вильки всегда были готовы нанести ему удар ниже пояса, процедив сквозь зубы это свистяще-булькающее слово… Вилька смертельно обижался, лез в драку…
2
Вилька Аксаков был гением пинг-понга. Низко приседал с ракеткой в вытянутой руке, покачивался из стороны в сторону, словно кобра перед прыжком.
Рубаха пузырём колыхалась под тощим, поджатым (поджарым) животом, матросские брюки с передним клапаном (мечта всех мальчишек) мешком висели на тощем заду.
Он накрывал мячик ладонью на ракетке, колдовал, кажется, даже что-то шептал, потом с силой дул в укрытие, закручивая шарик струёй воздуха, и затем ещё в момент удара дёргал по нему резиновой накладкой, после чего белое пластмассовое яичко летело рывками, словно бабочка, совершенно непредсказуемо, неуловимо для ловца.
Так он выигрывал все первые подачи.
Случались и проигрыши, но из шести геймов четыре всегда были его, и никаких тай-брэйков!
Примерно на десятой подаче, уверовав в победу, он устраивал из игры театр. Запускал «свечу», вынуждал соперника далеко отбегать от стола, а сам с треском, напоказ, припечатывал ракетку к столу, приседал и делал вид, будто завязывает шнурок. На детских лицах расползались улыбки ужаса («Ой, не успеет!»), но расчёт был точен. Вилька вскакивал и гладиаторски беспощадно вонзал прилетевший шарик в самый дальний край стола, в недосягаемости для соперника.
Аплодировать было не принято. Дети восторженно переглядывались, но у подпрыгивающих девочек хлопки всё-таки срывались.
Побивались Вилькой Аксаковым все теннисисты города, и неоднократно.
А с началом морской навигации этот самодельный, выструганный из досок стол становился ещё и международной ареной.
…Появлялся во дворе какой-нибудь греческий моряк в белых брюках и шёлковой рубашке с пальмами. Из своих широких штанин выкладывал на стол горсть пластинок Wrigley’s Spearmint[2] – ставку на кон. А Вилька привычно произносил на дурном английском – портовом, указав на свою ракетку: «Му bet»[3].
Вилька засучивал рукава.
Грек – штанины, видимо, чтобы не запылились от топтания на спёкшейся глине.
Вилька колупал резиновые пупырышки на ракетке.
Грек улыбался всем вокруг и пробовал мячик на отскок.
Неожиданно его ракетка мелькала на подаче почти в плоскости стола, кручёный мяч ещё и до сетки не долетал, а лицо грека уже каменело в неукротимой ярости…
Эллин изнемогал от проигранных геймов, морально разваливался, у него не оставалось сил ни на улыбки, ни на зверские рожи.
Как истинный южанин, он чуть не плакал после разгрома. Вилька обнимал его и утешал.
Рядом с пепельно-серым лицом грека светился узкий, болезненный лик Вильки, блестели увеличенные общей худобой его глаза, лицо кривилось в беспощадной улыбке – в эту минуту он был похож на оглашенных большевиков в революционных фильмах (в октябрьские праздники вывешивали экран на «гигантском» столбе и под стрёкот кинопередвижки показывали политическое кино).
Потом весь двор жевал.
Кому доставалась половинка пластинки, кому – четвертушка, кому – и вовсе с воробьиный носок, но челюсти у всех ходили одинаково, и у всех вид был одинаково строгий, сосредоточенный на перемалывании этой резинки во рту.
На ночь жвачку прилепляли к спинке кровати.
Назавтра доводили до клейкости теста.
И лишь на третий день расставались с сожалением, размазывая где-нибудь на видном месте на память…
А Вилька после такого международного матча обычно выкуривал ещё сладкую призовую «камелину», сидя на чурбаке за поленницами, подальше от глаз суровой матушки…
3
…Тридцатого апреля, день в день, каждый год во двор въезжала полуторка военных лет. От старости у неё трясся капот и доски в бортах кузова.
Фары у машины были вынесены на дугу впереди мотора, сидели кривовато, напоминали очки старушки, в то время как из кабины выглядывала полная сил и веселья фронтовичка тётя Надя с неизменной папиросой в зубах.
Фанерная дверь кабины распахивалась с треском, и тётя Надя вставала посреди двора, сладко потягиваясь, в синей фланелевой кофте, сатиновых шароварах и с букетиком жёлтого ранника (мать-и-мачехи) под ремешком краснозвёздого берета, – краса и гордость водителей города.
В окружении восторженных детей, орущих «Тётя Надя, прокатите!», она открывала борт и вываливала на землю клубки канатов для карусели. Как подъём флага на корабле, так и навешивание канатов перед Первым мая на столбе было зрелищем волнующим.
Начиналось с того, что сапожки тёти Нади вставлялись в стальные стремена верхолазных «когтей» и затягивались ремнями.
На поясе у неё крепилась цепь, как у пожарных.
Сделавшись косолапой, тётя Надя шла к столбу по-медвежьи, пугала малышню раскинутыми руками и страшным рыком.
Она восходила к вершине одним махом.
Став малюсенькой, словно с небес, сбрасывала обыкновенную верёвку.
Самый проворный из детей хватал конец, привязывал тяжёлый канат на подъём…
И с верхотуры она соскальзывала непременно по канату…
Катание ребятни на грузовичке эта озорунья всегда исполняла с крайней осторожностью, на малой скорости, по тихим переулкам.
Сама поштучно подсаживала детей в кузов, а после рейса снимала и ставила на землю, тоже по одному, замедленно, как будто желая на год вперёд набраться тепла и любви от лёгоньких тел.
Потом ещё долго сидела на подножке своего грузовичка и показывала детям фокусы из ниток – одним движением распутывала паутину между пальцами, или без иголки прошивала ниткой кожу на ладони, или сжигала над спичкой, а потом нитка оказывалась целой и невредимой…
4
Вихлястый газик тёти Нади частенько въезжал под карусельный столб ещё и с полным кузовом поленьев. Разгрузка затягивалась. В ребячьих полётах наступал томительный перерыв. И грузовичок тогда вызывал досаду.
Случалось быть ему и катафалком в сопровождении маленького медного оркестрика – опять же, к вящему неудовольствию жизнелюбивой детворы.
По той же причине ненавидели ребятишки и ассенизационную цистерну, и даже пожарную машину.
Однажды утром возле столба оказалась привязанная лошадь. Мужик ехал с базара и ночевал у родственника. Тогда, наоборот, были проявлены малышнёй самые лучшие стороны души – завзятые летуны с радостью отложили катание на «Гигантах», наперебой кормили гривастую мезенку хлебом и сахаром (а «яблоки», выпавшие из лошадки, щепкой собрала потом в газету домработница мадам Леонихи – таким было прозвище у жены поэта Леонида Гинзбурга).
Эта Софья Наумовна умудрялась постоянно присутствовать в сознании жильцов благодаря своему упорному отсутствию среди них во дворе. Как и безногий инвалид дядя Вася, она тоже днями сидела у окна, только не со стаканом чая, а с книгой.
Поясной портрет впечатывался в память из-за постоянной демонстрации: бордовый халат на пухлых плечах, нагромождение чёрных волос, высоко поднятая голова и низко опущенные глаза…
Неподвижность её была какая-то растительная, под стать множеству карликовых роз у неё на подоконнике. Будто в настоящем ботаническом саду на бумажках можно было прочитать названия сортов: Peach Meillandina, Pink Symphonie, Rosmarin 18, Sonnenkind… Последнее переводилось как «солнечный ребёнок» и как будто относилось в некотором роде и к Софье Наумовне.
Кажется, у неё только и дела было в жизни, что ухаживание за своим розарием, в том числе и полив компостом, приготовленным домработницей из лошадиных «яблок».
Она так была отчуждена от жизни города, улицы, соседей, настолько эти люди и эта их жизнь были далеки от неё, что она могла появиться в окне в одном лифчике, виден был и её большой живот… Мужчинам приходилось отворачиваться, а женщины пытались повлиять на неё, укоряли за несоблюдение элементарных приличий, бросавших тень на всех их… Напрасно.
Высокомерие переполняло Софью Наумовну.
Говорили, она была дочерью знаменитого когда-то в городе фотографа Адама Смушкиса. Старухи помнили, что во время английской оккупации в витрине его студии на Троицком тоже стояли горшки с такими же крохотными розами…
В поэте Гинзбурге принадлежность к избранным обозначалась изящной полоской усов и золотой заколкой на галстуке (шляпа, начищенные башмаки, портфель не являлись для интеллигентных мужчин этого дома чем-то необычным). А вот приподнимание шляпы при встрече было свойственно только ему. С виду он был строг, но очень приветлив с детьми, может быть, за неимением своих.
В стенах своего жилища супруги были неосмотрительны одинаково.
Из открытого окна их квартиры с цветами на авансцене, из мрака рампы могло разноситься по двору, к примеру, такое:
– Ты же поэт, Лео!
– Но я не лирик, Софа! Я – трибун!
– Почему бы тебе не написать пару гениальных строк и о любви?
– Софочка, но ты же прекрасно знаешь, что за любовь платят сущие копейки!
– Значит, вот это написано совершенно бескорыстно?
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду листок с женским почерком, что нашла в твоём кармане.
– И что же ты этим собираешься мне сказать?
– Я собираюсь читать, Лео. Плакать и читать.
Софья Наумовна начала декламировать:
Не покидай меня ночами, не оставляй меня во сне. Пусть это долго длится с нами, — когда ты мой! Когда – во мне!..Она перевела дух, высморкалась и продолжила допрос:
– Лео, кто эта «Ю», что подписала это ужасное стихотворение?
– Ты не можешь допустить, что молодая поэтесса передала эти стихи мне для рецензии?
– А с каких это пор эротические вирши стали рецензировать поэты гражданственной направленности?
– Софа, но разве не достаточно для этого обладать просто высоким общекультурным уровнем?
– Ты лжец, Лео!
– Позволь, Софочка! Тогда ты должна привести тому веские доказательства. Иначе я уже перестаю понимать, на каком я свете!..
И настал день, когда многострадальный фронтовой газик с тётей Надей на подножке задним ходом подъехал к окну поэтовой квартиры.
Цветы из окна подавала домработница, а Леонид Гинзбург в сдвинутой на затылок шляпе ставил горшки в кузов.
Казалось, и сидящую на своём обычном месте Софью Наумовну домработница должна была взять на руки и передать супругу, но скоро он, одновременно обнимая и подталкивая, обыкновенным порядком – через дверь – вывел её, окутанную платками, шарфами и палантинами, как в опере выводят на казнь гордую героиню (может быть, даже в библейской традиции сказав ей напоследок: «Ты мне больше не жена»).
Газик скрипел и качался, пока Софья Наумовна устраивалась в кабине.
Что-то похоронное просматривалось в тихом ходе грузовичка по двору – скорее всего, это изгнанница попросила ехать помедленнее…
6
Дым от изношенного мотора-ветерана быстро улетучился, вентилируясь каруселью, но дух печали ещё долго витал во дворе. Слышался он и в ударах-вздохах колуна где-то в лабиринтах сараев, в скрипе-стоне подшипника на столбе, в щелчках пластмассового шарика пинг-понга. Щелчки были двух тонов: глухой, вязкий – от ракетки, и сочный, пулевой – от стола. Один спрашивал, другой отвечал. Один говорил «да», другой – «нет». Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмёт – к чёрту пошлёт…
Неуловимо для слуха в эти философско-лирические ритмы стали вплетаться грозные идейные удары костыля и протеза по деревянной мостовой. Костыль бил по доске грозно и требовательно, а берёзовый протез вторил неуверенно и не в такт, зависая и как бы прицеливаясь. И в эти паузы (retinuto) носителем этих «ударных инструментов» выкрикивались боевые лозунги непобедимой армии и здравицы оклеветанному вождю…
Это Брынзин возвращался из артели инвалидов. Словно оружием, он размахивал деревянными вешалками для одежды – оплатой за труд.
Все знали, что карманы его засаленных штанов, словно патронами, были набиты ещё и бельевыми прищепками.
Недавняя война вторгалась во двор в лице пьяного, небритого Брынзина запахом перегара, перестуками костыля и протеза, гибельными кличами.
«Аэродром» у столба пустел, канаты обвисали безжизненно.
Дети кривлялись перед агрессором, корчили рожи, показывали язык…
Он сражался с ними героически. Набычившись, шёл в атаку на карусельный столб. На его лице, налитом кровью, кривился оскал мертвеца, губы были будто присыпаны каким-то белым порошком, глаза стекленели…
Маленькая, сухая, безымянная жена Брынзина, стыдливо кутаясь в чёрный платок, сгорбившись, выбегала из подъезда и совершенно бесстрашно, а как будто бы даже и нежно брала его за руку и уводила домой.
В их недолгом шествии по притихшему двору, казалось, даже видно было, как злоба изливалась из Брынзина в землю синими дрожащими жилками через худенькую, костлявую жену, словно по проволоке громоотвода.
7
Некоторое время ещё деревяшки бойца стучали по ступенькам в подъезде, и потом опять во дворе наступал мир.
Слышалось, как с чердака, из голубятни Вильки Аксакова, порхнули голуби. Сначала тройка шустрых чёрных «грачей», за ними – космачи в пуховых «башмаках», и напоследок – пара «якобинцев» с пышными воротниками и крыльями, свистящими в махе.
Разбойничий свист Вильки гнал их ввысь. И у самого голубятника словно бы начинался разбег для взлёта – железо крыши под его ногами хрупало и гудело…
А чуть ниже, в метре от бесстрашного Вильки, на балконе третьего этажа мальчик закручивал резиновый жгут в модели самолёта. Всю зиму он на подоконнике у себя в комнате выстругивал тонкие, как спагетти, стрингеры. Перочинным ножиком с перламутровой рукояткой вырезал из шпона нервюры-капли, а браслеты шпангоутов выпиливал из фанеры лобзиком. Эта тончайшая работа, под стать художествам костореза, доводила его до одури, порой он засыпал на груде стружек, забывал про еду..
Косточки скелета затем вплотную подгонялись одна к другой, скреплялись янтарным клеем – пьянящим эмалитом (с появлением целлофановых пакетов этот клей станет самой доступной «мазой» для малолетних бродяжек-нюхачей).
Тончайшей кожицей папиросной бумаги мальчик обтягивал каркас, выстругивал воздушный винт, после чего наступал вожделенный миг, когда «дитя», рождённое в сладких тяготах, выпархивало из рук творца на простор двора.
Фырчал пропеллер, мощь скрученной резины выносила птицу в зенит на страх голубям, на едином вздохе достигалась самолётиком предельно возможная для него в этом мире свобода, после чего, согласно легендарной закономерности, он мчал к земле и разбивался.
Детвора, только что с восхищением взиравшая на стрекочущее чудо, теперь вопила в жертвенном восторге.
А мальчик, рассматривая останки, прикидывал, какие из реек пригодятся для новой модели.
Он, осенённый идеей выси, обуреваемый полётами во сне и на яву познавший их благодаря самодельному «существу», затем в течение своей долгой жизни перебрал все возможные «реечки-идеи» во всяческих комбинациях и в конце концов выразил себя в трёх словах: «Бог есть свобода».
Свобода камня, пущенного «блинчиками» по воде.
Свобода стрелы, сорвавшейся с тетивы.
Впервые познанная собственная, личная свобода в полёте на канатах дворовой карусели…
8
Из окна квартиры Рокотовых было слышно, как Жанка играла на флейте.
Посвистывание её трубочки дополнялось словно бы клавесином – аккомпаниатор, папа Жанки, подкладывал лист газеты под молоточки пианино, звук состаривался и вызывал в памяти времена Баха, когда и писалась исполняемая ими эта соната ре минор.
Папа был известным актёром в городском театре драмы, воплощал даже образ вождя: одна рука – в пройме жилетки, другая – вскинута, будто в попытке тормознуть машину на обочине… Пожилые «леди» двора Жанку обожали.
Пронзительными трелями флейты она могла до слёз довести их, чувствительных выпускниц женской Мариинской гимназии.
А после дуэта с папой будто весь воздух, вдутый Жанкой во флейту, выстреливал ею, как из пневматического ружья, – она пулей вылетала из подъезда, не раздумывая, хватала доску и наперегонки с парнями толкала канат с маленьким седоком в петле «Гигантских шагов»…
Или вот только что она вытанцовывала на школьной сцене трепетную «маленькую лебедь», а тут уже с размаху лупит портфелем по обидчику..
По пути в музыкальную школу откладывает в сторону нотную папку на верёвочках, устраивает сверху футлярчик с флейтой и суковатой палкой принимается «гонять попа» вместе с мальчишками…
Её ребячество оборвалось неожиданно, она будто с карусельного каната сорвалась, сошла с орбиты дворовой жизни: мутные два-три года созревания, этот тайный период в жизни любой девочки, прошли у неё в командировке с отцом.
Из туманов и облаков своей весны она явилась в полном цвету.
В первый же день её возвращения можно было увидеть, как она сбежала со ступенек подъезда бойкой девицей Жанной Рокотовой – Роковой (фасон платья – «песочные часы», ножки-«фужерчики» вставлены в «рюмочки» туфлей на высоком каблуке. На затылке – начёс, на лбу – чёлка валиком, красногубая улыбка во весь рот)…
Под стать кружению канатов на дворовой карусели вращалась в её руке лаковая сумочка на длинном ремешке.
Она крутила её, словно пращу перед броском, – кто-то будет сегодня убит ею наповал?
И запах фиалки разносился от этой Жанкиной карусели по всему двору, перебивая табачный дым, чад кухонь, смоляные миазмы сосновых чурок.
Мать из окна кричит ей навзрыд:
– Опять в ресторан?!
Она посылает ей воздушный поцелуй и скрывается за углом.
Вслед за ней, как в воронку циклона, – и годы, и люди, и этот дом с каруселью…
Безработица в Париже[4]
1
Дощатый вагон, похожий на шкатулку, выворачивал на проспект, словно из тумана появлялся, обвитый метелью, звеня и покачиваясь. Снежинки в свете фары кружились, как полчища мотыльков. От мороза, казалось, даже рельсы стыли, стонали, будто от боли, а шпал и вовсе было не видать – две лыжни под трамвайными колёсами, да и только.
Внутри грело лишь под кондукторшей. Шуба её, словно крылья наседки, накрывала горячее креслице, а ленточка билетиков на груди напоминала бледный росток из теплицы.
Перед остановкой вагон замедлял ход, кондукторшу во сне клонило набок, она просыпалась, начинала дуть на стекло, скоблить монеткой и потом хриплым голосом возвещала о пункте прибытия.
– Стадион!
«Гармошка» двери в этих древних трамваях находилась во власти пассажиров, как и тамбур, куда набилась ребятня, обвешанная коньками после «массового катания».
Кондукторша встала над ними во всей своей безграничной власти.
Перед ней сияли раскалённые на ветру мордочки мелкоты, подростковые лица мальчиков и девочек, послушно опускающих трёхкопеечные монеты в корытце её ладони.
Кондукторша отрывала билетики, а краем глаза уже держала на прицеле «наглую харю» «зайца», которого даже знала по имени.
Она заслонила его всем своим мощным корпусом и потребовала денег.
Для начала этот прожжённый безбилетник начал изображать поиски монеты по всем карманам и запазухам и был вполне любезен. Кондукторшу называл «тётя Нюра», и она, по доброте сердца, опять, кажется, поверила ему, в то время как он тянул время до следующей остановки, чтобы улизнуть. Кондукторша уже поторапливала его. Предел доверия заканчивался. Начиналась перепалка. В ход пошли оскорбления: «Ну что, Генка, завертелся опять, как вошь на гребешке?», «Денег нет – на лайбе ехай!», «Какая я тебе тётя, я – леди!»
Трамвай остановился. Парень весь подобрался и ринулся к выходу, но кондукторша была наготове. Она намертво зажала «зайца» в углу, сорвала с его головы шапку, ловко швырнула в дверной проём. Шапка исчезла в снежных вихрях, а трамвай, рванувшись, опять стал разгоняться.
Шапка была суконная, разношенная донельзя, с отвислым козырьком и без завязок на «ушах», – дрянь, а не шапка, вещь совершенно нестоящая, даже по меркам этого, нищего, пятьдесят четвёртого года, но единственная у парня, за утерю которой ему уже собственные, а не пришивные уши надерут.
Избавленный наконец от натиска врагини, освобождённый ею, уже севшей на свой тёплый трон, Генка Романов, по кличке Рогатый, (в драках умело орудовал головой) на ходу выскочил из трамвая, чтобы никто не успел подобрать шапку и «зажилить», как непременно поступил бы он сам, обнаружив подобную потерю на дороге.
Парень поскользнулся, упал, буквально треснулся затылком о наледь, «снегурки» клацнули возле виска, и он, потеряв сознание, не видел, как совсем рядом прокатилось вагонное колесо, и трамвай погрузился в снежные буруны.
Открыв глаза, парень некоторое время лежал и глядел, как фонарь над ним бьётся о столб жестяным колпаком. Придя в себя, вскочил на ноги, поднял уже заносимый снегом треух и напялил на голову.
Ветер дул в лицо. Шатаясь, он шагал вдоль забора почти вслепую, прикрывая варежкой лицо.
Впереди темнел какой-то бугор. Им оказался кособоко сидящий человек. Блеснули погоны на плечах, подковки на каблуках сапог…
Парень огляделся.
Безлюдный проспект был наглухо забит метелью.
Он склонился над офицером, тронул за плечо:
– Дяденька!
Послышалось глухое мычание.
В морозном воздухе Генка почуял примесь спирта.
Застёжка подалась легко.
Он вытащил добычу из кобуры и нырнул в ближайший двор, словно налётчик.
2
Зэка № 312 душила эмфизема на полгруди; он дышал шумно, с протяжным свистом, как если бы дышал одной ноздрёй. Кашлял и хрустел пальцами, выворачивая их, а на лице его словно бы застыло какое-то давнее изумление – то ли этим своим сиплым дыханием, то ли окружением сидящих перед ним врачей и тюремщиков, то ли ещё чем-то непонятным, и непонятым с самого детства.
Даже во сне не опадали его вскинутые брови. Казалось, и во время длительной лёжки на койке в «больничке» ночью он лишь прикрывал глаза, а слышал всё.
Также мучительно размышлял он о чём-то неизъяснимом, стоя за спиной картёжников в камере или обтачивая напильником болванку в лагерной мастерской.
И уши у этого зэка всегда были прижаты, и глаза навыкате, и валики морщин со лба убегали дальше по темени в колючую «стерню» арестантской стрижки.
– …Романов Николай Иванович… освободить досрочно по состоянию здоровья…
Слова «кума» только ещё больше изумили его, так что в течение двух-трёх дней до того, как за ним затворились ворота тюрьмы, между приступами кашля, он вовсе глаз не сомкнул.
За время отсидки он не заслужил ни ненависти, ни уважения, ни у начальства, ни у братвы. Несколько голосов с нар отозвались на его уход из камеры насмешливыми репликами. Каптёр молча выкинул ему на барьер ссохшиеся американские ботинки из свиной кожи, ветхий бушлат (арестовали его летом в рубахе и парусиновых штиблетах). В этом бушлате с завязками вместо пуговиц он и сел на берегу в трамвай ледовой переправы.
Между двумя рядами наскоро вмороженных деревянных столбов вагон кидало из стороны в сторону Шпалы, как полозья санок, проскальзывали: город словно пытался вытащить на лесе трамвайного пути строптивую, брыкающуюся добычу…
Ловец – мальчишка с большими деревянными санями-чунками – был доволен уловом. Из вагона вывалились фанерные чемоданы и тюки семейства ссыльного татарина, наконец отпущенного на родину.
Сани рикши были нагружены доверху, и, когда из вагоны вышел прощёный урка, парнишка с поклажей уже удалялся в сторону железнодорожного вокзала.
По дощатым сходням туберкулёзник поднялся на набережную, дыша, как паровоз. Постоял, набираясь сил, зажал ворот бушлата и, так и не признав в саночнике младшего брата (четыре года не видел), побрёл в сторону трущоб «Шанхая».
3
В конце смены день медленно изживался в сизом морозном небе над заводом. Ночь наступила в миг включения прожектора на крыше лесопильного цеха. Засверкал отполированный брёвнами стальной жёлоб, возле которого она багром стаскивала кругляки на транспортёр, провожая их в последний путь – под ножи пилорамы, на четвертование, – сегодня пилили брус. Она делала это (вымётывала древко, ужаливала, подрывала конец бревна) непрерывно с утра – в длинном брезентовом малахае, перекрещенном на груди концами вигоневого платка с узлом на спине, затянутым с помощью напарницы.
С утра они с ней ещё переговаривались – о карточках на продукты, о ценах на дрова-швырок, о замёрзшем водопроводе в городе, но уже в будке учётчицы за обедом (со своим хлебом и казённым кипятком) голоса их звучали тускло, а к концу смены и вовсе утихли, – были исчерпаны даже и энзэ материнской любви, – тяжёлой работой и морозом выдавлены были из них мысли о детях, как воздух из глины под жимками беспощадного ваятеля…
Вахтёр потребовал поднять крышку у бидончика и вполне серьёзно заглянул на дно: не выносится ли народное добро? Вода была не в счёт. «Проходи». Воду она зачерпнула из реки, с брёвен в запани, вырубленных изо льда (пока ждёшь водовозки, бидончик уже вскипит на керосинке). Бирку со своей фамилией – Романова Анна Степановна – навесила на щит у вертушки…
В трамвае, зажатая рабочими, как бревно в сплотке, она удивлялась силе кондукторши, буравящей человеческую массу, помогавшей себе не только локтями, но и коленями. Кондукторше специально препятствовали, коллективное пролетарское сознание преобразовывалось в этой давке в стадное, в результате чего многим удавалось доехать до своей остановки бесплатно.
Веселье у изнурённых было отчаянное, ругань – безбожная.
Кондукторша пыталась унять злословие: «Прежде чем материться, подумал бы!» «Уже три раза подумал. Очень устал…» «Если у нас мат кончится, у тебя, Нюрка, трамвай встанет…»
4
Однажды ночью этот дом на деревянных сваях постройки 1860 года поплыл – повело его на сторону, и он пал на днище. Удар был неожиданно сильным. Жильцы, ещё помнящие бомбёжки, повскакивали. Причина выявилась мирная – подгнили опоры.
Печи от удара потрескались, но не обрушились, а только стали сильнее дымить. Кирпичные трубы на крыше, однако, осыпались и были заменены на жестяные. С тех пор дом так и стоял, кособокий и многотрубный, словно корабль, выброшенный на мель…
Она шла по длинному коридору среди рухляди у стен и заломленными назад руками пыталась развязать узел платка на спине.
Из дверей её комнаты донёсся надсадный, рокочущий кашель. Она остановилась, потом быстро, почти бегом, достигла конца коридора и распахнула дверь:
– Коля!..
Сын сидел на корточках у печки и ворочал кочергой в топке.
Свет животворного огня состаривал его лицо до неузнаваемости. Он глядел на мать изумлённо, словно на чужую.
– Мама! Его досрочно!.. – радостно выпалил младший. Он резал батон, купленный на заработок саночника.
Словно бы оттаяв, полилась у неё с языка бесконечная, взволнованная и бестолковая речь-причет.
Брезентовый малахай она грохнула в угол на сундук и, как была в ватных штанах и валенках, с мешочком ячневой крупы и с бидончиком убежала на кухню варить кашу.
Генка бросил нож и из-за сундука вытащил тряпичный свёрток.
– Гляди, Коля! Настоящий тэтэ.
Николай испуганно отвёл руку брата с пистолетом, словно это была спящая гадюка.
– Где взял?
– У пьяного.
– Пьяного шмонать и шнырю западло.
– Не я, так другой бы… На толкучке, Коля, продать, сколько дадут, как думаешь?
– Проси сразу «десятку» строгача..
– Ты чего, Коля? – не понял Генка. – «Штуку», не меньше, можно «оторвать».
– Повяжут тебя на раз.
– Ну, у тебя же есть друганы. Через них скинем.
– Мать знает?
– Я что, дурак?
– Спрячь и забудь.
5
Сердце её сжималось от боли и ужаса за сына, полуживого, не от мира сего, в могилу краше кладут, а слёзы источались радостные. Руки сами собой созидали праздник. Чистой скатертью из приданого она накрыла стол. Единственный стул придвинула – для блудного, а две литые табуретки работы кустаря – для себя и младшего. Кастрюлю с кашей водрузила в центр. Тарелки выставила, опять же, для пришельца – самую большую, и разложила искорёженные алюминиевые ложки…
Масла в кашу болезному Николаю она вылила полпузырька, а он лишь поклевал и отодвинул тарелку.
– Я, мама, в тубдиспансер на учёт встану. Талоны на молоко дадут.
– Кашка-то на молочке!.. Ох и заживём, ребятки! – бодрилась она.
Младший уже вылизывал свою тарелку, жадно косясь на нетронутую порцию брата, но прав на неё не заявлял.
Голая лампочка на шнуре освещала пролетарское пиршество.
Чёрный зев бумажного репродуктора извергал благостные вести:
«Забота о человеке – закон нашего общества».
«Вручение орденов передовым работникам».
«Заводской посёлок молодеет».
«Новая опера о колхозной деревне».
«Образ народа-победителя».
«Безработица в Париже».
«Новое яркое проявление заботы о благе народа».
«Рабочее «спасибо».
«Смертельная хватка власти капитала».
«Патриотический подъём»…
6
Их дед, Романов Савва Михайлович, в пасть прожорливой власти швырнул новенький пятистенок, с пожеланиями подавиться оставил скотину, повозки, скарб, но инструменты задворками уволок ночью на тележке – все эти буравы, долотья, киянки, фальцгебели и зензубели… Там были и деньги, тугой трубочкой засунутые в выемку фуганка.
В городе дед с семьёй осел в бараке, для виду поступил в артель, а кормился столярным промыслом – резной красной мебелью собственного великолепного исполнения.
Благоденствовали меньше года. По доносу соседа фининспектор «закатал» его в тюрьму, где он и сгинул.
Могуч был, костист, с корявыми руками и усами, скрученными в иголку, хотя от него остались лишь две табуретки, но по тому, как они были скроены, сбиты-сшиты, можно было представить Савву во всей его старопрежней богатырской сути.
А сын, презрев отцову неукротимость, записался в комсомол, пошёл к власти на полное услужение и был убит под Киевом немцами.
Осталась Анна с двумя парнями. Младший, сосунок, ещё выживал на скудных материнских соках, а Колька тощал неимоверно. Он не пожелал следом за бабкой, умершей от голодного белкового отёка (плясунья была и певунья), а стал вором, и удачливым. Пока мать не взяли на лесозавод, подкармливал и себя, и сирое семейство: взламывал ящики в порту, шерстил товарняки, а на квартирной краже попался. Через год вышел лихим разбойником и скоро плотно сел за драку с кастетом. Покрепче всякого кастета оказался нанесённый по нему удар туберкулёзной бациллы. Даже для тюрьмы стал не годен. Целыми днями лежал теперь дома на сундуке у печки, кашлял, сплёвывал и слушал радио:
«Будем работать ещё лучше».
«Растёт производительность труда».
«Друзья» – главы из поэмы».
«Баллада о счастье».
«Трудолюбивая молодёжь».
«Стране нужны здоровые дети».
«Голодные рабочие во Франции».
Вместе с палочками Коха грызли его и эти слова, он впитывал их, как отраву, сулему или крысиный яд, в стремлении поскорее извести своё никому не нужное тело. Теперь всё чаще он впадал в беспамятство и бредил. Вырывался из его ссохшейся груди даже не стон, а вой…
Брат приносил молоко. Просил пить. Колька матерился:
– Брось, Генка! Ну его на хер, это ихнее молоко… Ещё заразу там подцепишь..
– У тебя не подцепил и у них не подцеплю».
– У них вся зараза, Генка, у них!
Мать твердила, как заклинание «Всё будет хорошо!» Какие-то порошки сыпала ему в беззубую пасть…
У него хватило отваги не врать себе.
«Подохну… Загнусь… Скопычусь… Пропаду ни за грош…»
…Первого мая он встал с гимном. Мать спала после ночной смены. Он растолкал младшего.
– «Плётку» давай.
– Не борзей, Коля. Он мой.
– Давай, говорю. К братве на сходняк иду. «Загоним» на праздники.
Схорон у Генки был в коридоре за санками.
Он передал тряпичный свёрток брату с наказом:
– Меньше тыщи не соглашайся.
– А две не хочешь?
Развернул пистолет, снял с предохранителя и сунул в брюки.
Надел пальто с прорезью в правом кармане и ушёл.
7
Трамваи в этот день были бесплатные. С красными флажками на крыше, с транспарантами по бортам пробегали по улице, звеня сильнее и чаще, чем обычно. Увеличилось количество мужских шляп. Выходных кепок-«лондонок». То и дело мелькали дамские нарядные шляпки – плюшевые «таблетки» и фетровые «колокольчики». Чисто одетый, шёл народ, несколько удивлённый такой новизной в себе.
Этот худой парень в пальто с поднятым воротником и в надвинутой на глаза кепке, как говорится, путался под ногами. Его толкали, обгоняя. Какие-то остряки пошутили насчёт тяжёлого похмелья, девушки сердито зыркали на неуклюжего, а у него с синих губ только одно и срывалось: «Суки!»
Появление его в колонне лесозавода никого не заинтересовало. Мужчин в кепках, в чёрных пальто было большинство. Правда, несколько настораживала необычная бледность и худоба демонстранта: такой и швырок с лесотаски не поднимет, не то чтобы брус. А куда уж флаг ему нести? И чего тут отирается? Но когда кто-то из женщин признал его как «сына Нюрки», то немного ещё поразглядывали его, как убогого человека, у которого непонятно в чём душа держится, и, сцепившись под руки, потоком ринулись на площадь, где гремел военный оркестр…
Бутафория фанерная, реечно-полотняная громоздилась по периметру городской площади. Всю ночь щиты, портреты вождей приколачивали к деревянным домам, со стороны реки подпирали досками, отчего сооружения становились похожими на огромные парусники, и обтягивали трибуну красной материей. Сейчас там было тесно от синих габардиновых чиновничьих пальто и шерстяных светлых офицерских шинелей. Ветерок доносил оттуда запах дорогого коньяка.
Артист театра драмы произносил в микрофон лозунги «под Левитана» низким заупокойным голосом, как во время войны. Девочка-пионерка прокричала какой-то стих, после чего женщины в строю умилённо зааплодировали.
Колонна змеилась перед трибуной, возбуждаясь славословием в собственный адрес. Мужчины принуждённо улыбались, преодолевая неловкость и не глядя в глаза друг другу, вопили «ура» и покидали площадь, опустошённые, устремляясь к столам с водкой и закусками.
Обливаемая патокой восхвалений, «змея» тянулась бесконечно, как бы пряча свою коварную змеиную натуру в этом хилом парне с засунутой в карман пальто правой рукой. Не в пример остальным он впитывал смыслы торжественных восклицаний всей душой, патетические словосочетания сотворяли в нём нечто, подобное замедленному взрыву Он становился одержимым бешеным восторгом, наполнялся яростной силой и счастьем близкого конца.
Вот из строя вышел директор лесозавода и по заведённому порядку поднялся на трибуну к избранным. Змеиным жалом выскочил следом за ним вдохновенный доходяга Колька Романов, вдруг ставший выше ростом, решительный и просветлённый, тоже будто по праву, по тайной договорённости-регламенту, побежал к трибуне.
С «язычка» этой «змеи» плюнуло огоньком – в такт полковому барабану, почти неслышно. Стрелок впервые в жизни целился и нажимал на курок пистолета, но оказался удивительно точен, хотя стоял неумело, вовсе не в позиции, и после каждого выстрела покачивался и отступал на полшага.
В грохоте и треске оркестра его выстрелы звучали глухо. Обрушения на трибуне в рядах ботов-истуканов с удивлением замечали только стоящие с ними рядом. Колька стрелял, как в тире, по порядку, пока кто-то не выбежал из колонны сзади и не обрушил его лицом в камни брусчатки. Хрястнули кости носа, вломило их в глубь черепа, и он пришёл в сознание уже за трибуной от запаха нашатыря и мстительных ударов сапог по хрупким бокам. Били до тех пор, пока у него не хлынула кровь горлом…
Расстреляли его белой ночью на Мхах, над свежей могилой, полной ржавой болотной воды. От удара пули в бритый затылок он повалился в воду, обрызгав шинель палача.
Солдаты быстро завалили его торфом и уехали.
Теперь на этом месте построен железнодорожный вокзал.
P.S.
В музее ФСБ хранится этот пистолет. Лежит со спиленным бойком, в консервационной смазке, на левом боку. Для особо почётных гостей, для «своих», отставной полковник переворачивает пистолет на другую сторону, где на рукоятке выцарапано – «За свободу – рускому народу». Так и написано: с одной «с».
У стрелка было только четыре класса образования.
Простительно…
Дуня и Валентайн
Ненависть внедрённая и ненависть врождённая, природная, – к богатым, успешным, чистым и сытым, ненависть зубодробительная проснулась в капитане Узловом совсем неожиданно для него в этот вечер в отдельном кабинете портовой столовой на Левом берегу, где они с инженером Айком Этвудом отмечали успешную разгрузку первого «Либерти», хотя в длительном и глубочайшем политическом недоумении капитан Узловой находился уже три месяца, с самого начала войны.
Всю свою жизнь капитан и штыком, и снарядом готовился сделать из коварного британца кровавый фарш, гусеницами своей танковой роты – перепахать «дряхлый Альбион», установить власть Советов в «метрополии злата», предать всяческим унижениям «гадливую англичанку», а тут вдруг, получив назначение в этот северный приморский город приёмщиком военной техники из Ливерпуля по ленд-лизу, оказался за одним столом с этим «Чемберленом» нос к носу, рюмка к рюмке.
Угол для командного состава был наскоро отгорожен в столовой занозистыми досками, и сначала до слуха грузчиков трудфронта, ещё даже и нестриженых мужиков в лаптях и зипунах, подпоясанных верёвками, доносились только звон питейного стекла и невнятное, но добродушное бурчание пирующих, потом по спинам мужиков просквозило холодком при имени вождя, выкрикнутого капитаном Узловым в ходе произнесения тоста. Наконец движение полчищ ложек (и деревянных тоже) замедлилось и почти остановилось, когда в ответ закрякал чужестранец: «Раша, раша, раша…» – и умолк, пресечённый ударом по столу кулака капитана. Может, на том и закончилось бы их взаимное недопонимание, рассосалось бы под действием очередной порции веселящего напитка, но тут весьма некстати в возникшей тишине раздался весёлый стук каблучков официантки Дуни с короткой рабфаковской стрижкой и с белой заколкой на темечке, хотя она как раз могла бы предстать перед двумя военспецами именно как миротворец – с блюдами на подносе, – остановить нарастающее брожение их взаимного недовольства, – но случилось обратное.
– Запоём мы песню нову про Дуняшу черноброву! – воскликнул капитан.
Даже ещё и теперь возможен был мирный исход противостояния двух систем, не замурлыкай, в свою очередь, и заморский гость.
Недолго ему пришлось изъясняться в чувствах к девушке. Снова дощатое помещение сотряс удар комсоставского кулака, и затем вслед за убегающей официанткой, пятясь вприпрыжку, предстал перед мужиками джентльмен Айк Этвуд в боксёрской стойке, а за ним, поигрывая налитыми плечами, – капитан Узловой.
– Ноу, ноу, ноу, Валентайн! – вырывалось из груди англичанина. – Нот сука! Ай сэй лука (приятная. – А.Л.). Дьевка гуд!
– Ну уж нет! За «суку» я те сейчас – за те же денежки, да ещё разок!
– Дьевка гуд! Сталин гуд! Раша гуд!
– Рожу-то я те щас отрихтую.
– You did not understand me![5] – выкрикивал Айк Этвуд, одной рукой ловко тыкая в лицо капитана, а предплечьем другой успешно пресекая размашистые удары его кулака.
Они топтались в проходе между оробевшими крестьянами до тех пор, пока сдатчик танков не выскочил вон. Капитан ломанулся за ним, но то ли двери столовой оказались для него узковатыми, то ли плечи слишком широкими, но он замешкался, упустил противника из поля зрения, встал в темноте совершенно потерянный и страшно униженный.
Тьма была разлита вокруг осенняя, светомаскировочная, неразличимы были ни лаковые «шпалы» на воротнике капитана, ни золотые галуны на рукавах, и тем более, конечно, невозможно было, как что-то отдельное, рассмотреть в ночи чёрный костюм-тройку англичанина, хотя бы и в трёх шагах.
– Эй, ты где? – как бы у самого себя спрашивал капитан.
Тьма перед капитаном громоздилась пластами, дыбилась терриконами угольной фактории, расстригалась ножницами кранов, и только на другом берегу реки искорками электросварки «строчил» по проводам полночный трамвай…
Вот обозначилась в ночи полоска белых зубов капитана. Раздался скрежет коренных, и снова – сплошной мрак и тишина…
Трудармейка Дуня Птицына, девица с Бакарицы – холщёвой рукавицы (Кузнечиха-невстаниха, Жаровиха-жмуриха) была девушкой портовой, совсем не робкого деревенского десятка, но и не разухабистой. Блюла себя для «сурьёзного человека». Повесткой военкомата она была «сдёрнута» со штабелей лесобиржи в мойщицы посуды. Очень скоро за летучесть походки, обретённую в беге по обледеневшим брёвнам, повысили её до официантки. Бойкость рабочей повадки как-то соединялась в ней с нервностью вовсе уже городского свойства. Она любила романсы и на нарах женского барака пела под гитару довольно низким, подражательно-мужским голосом: «Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпита до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я?..»
В роли роковой дамы была она немного смешна, но женщины принимали её всерьёз. С нар раздавалось:
– Правильно, Дунька. Так их!..
Без особого труда, только лишь в поступь добавив чуть больше твёрдости, а в посадку головы – прямизны, она в окружении сотен мужиков, среди этого мобилизованного братства, умела оставаться в недосягаемости без малейшего ущемления своей женской свободы, носилась с подносом, бойкая и языкастая, однако первый раз увидав в столовой капитана Узлового, под его первым же, вовсе даже случайным, взглядом сразу урезонилась, опустила глазки и за перегородкой невольно стала прихорашиваться.
И капитана при виде Дуни тоже сбило с толку, словно, будучи на марше, он выполнил команду «приставить ногу». Он одёрнул гимнастёрку с орденом Красной Звезды, сжался, как перед прыжком в спортивном зале… Так же, с затылка до пят, схватывало его, когда он в танке через перископ засекал пулемётное «гнездо» в песках Халкин-Гола или снайпера-«кукушку» в завале глубоких снегов Финляндии…
Время для «амуров» было у капитана Узлового самое подходящее: тогда ещё даже чертежей не поступило из Англии, первый конвой ещё болтался на рейде Эдинбурга. Сам капитан, поселившийся в домике паровозного машиниста в Затоне, пребывал в полнейшей праздности – в новеньком, вплоть до мельчайшего ремешка портупеи, обмундировании.
К любви располагало всё – и трёхразовое питание в столовой с подноса Дуни, и кино в клубе, и сухая солнечная осень с россыпью инея по утрам.
Три стадии сближения были уже у них позади: поимённое знакомство, прогулки плечом к плечу, держание за руки. Вот-вот должны были они созреть для «встреч» предельно тесных, но тут вдруг и пришвартовался этот «Либерти», и с его борта сошёл на берег этот «Черчилль» с котелком на голове и с тростью в руке.
Тотчас за праздничным обедом он принялся охмурять Дуню вставаниями и поклонами, блеском зубов в широчайшей улыбке, сверканием маслянистых глаз и, гнида буржуазная, поцелуями её ручки…
– Эй! Ты где?
Капитан обшаривал невидь перед собой, будто слепец, и пальцы его вдруг коснулись железа, настывшего в конвое на атлантических ветрах, словно айсберг, только цветом чернее ночи, – это был танк марки Valentine лёгкого класса, для поддержки пехоты.
– Ну, щас я тебе!
Капитан ловко, на ощупь, влез в башню и включил фару.
Вращая рукоятку поворота, повёл световым конусом по перепаханной гусеницами разгрузочной площадке, ящикам с запчастями, скопищу таких же «валентайнов» вдали…
Вдруг из-за бочек, судя по лаковым башмакам, выскочил «союзник», метнулся вправо-влево и юркнул в столовую.
– Не уйдёшь, гад!
Капитан впрыснул в поршни эфир (придумают же, сволочи!), мотор завёлся мгновенно. И педаль сцепления выжалась удивительно легко, и передача включилась беззвучно (умеют же делать, поганцы!). Лязгнули гусеницы, и танк двинулся следом за исчезнувшим инженер ом сдатчиком.
Лицо своё вдавил капитан в резину окуляра. Ему было видно до мелочей и скобу на пороге столовой для очистки грязи с обуви, и проволочный крючок, и буквы в расписании кормёжки.
Капитан ликовал уже не столько от совершающейся мести, сколько от удовлетворяемой страсти прирождённого танкиста: англичане сами[6] и разгружали, и перегоняли машины в отстойник, и капитан, со стороны видя всю техническую стать танков, слыша поразительно мягкий рокот моторов, предчувствуя лёгкость хода, давно с трудом сдерживал желание сесть внутрь и поехать (останавливала гордость советского человека). И вот свершилось!..
Под управлением капитана танк как бы внюхивался дулом в запахи столовой, шёл за своей законной порцией решительно и неукротимо. Вдруг в свет его прожектора вскочил человек в круглых очках и в пальто «реглан»[7] из серого жаккарда. Он подпрыгивал и махал над головой обеими руками. Это был переводчик Сеня Кац. Они всегда трапезничали втроём: капитан Узловой, инженер Айк Этвуд и Сеня Кац. Не опоздай переводчик сегодня на ужин, всё закончилось бы вполне мирно – он умел не только смешивать языки, но и притирать сильные характеры. И хотя капитан тоже не любил Сеню, но терпел как толмача, а за знание языка даже уважал.
Теперь он, уже без помощи оптики, приникнув к бойнице, видел, как на крыльцо в помощь Сене выскочил ещё и англичанин (подглядывал в щель тамбура, в одиночку трусил, а с помощью «господина Каца» надеялся повлиять на буйного приёмщика).
Они кричали по очереди, хотя и знали, что человек, сидящий в танке с включённым двигателем, не может их слышать.
– Marriages are made in heaven, captain![8] – вопил богобоязненный Айк.
– Под трибунал захотел? В штрафбат? – переводил находчивый Кац.
– Marry in haste and repent at leisure,[9] – назидал британец.
– Он просит прощения! Выпивка за его счёт, – трактовал слова англичанина мудрый Кац.
В последний момент, когда пушка «валентайна» почти коснулась стены столовой, оба миротворца кинулись в сторону, пропали из виду.
Капитан потянул рычаг поворота, намереваясь пуститься на поиск, но тут мотор заглох.
Слышно было только бульканье в системе охлаждения.
Фара продолжала светить от аккумулятора.
Башня поворачивалась вручную бесшумно.
Скоро в обзор попали Айк с Кацем – они выглядывали из-за ящиков.
– Горючее только в карбюраторе! Всё! Наездился! – крикнул переводчик.
– Give up![10] – припустил инженер британского юмора.
– Хрен вам! – сообщил о своём решении капитан через пулемётную амбразуру и закрыл верхний люк на задвижку…
Скудным был рассвет следующим утром над мелколесьем тундры.
Светло было больше от инея, нежели от полоски бледной зари цвета морошки.
Смена у Дуни закончилась после того, как она расставила на завтрак алюминиевые миски и кастрюли с кашей (одну на десятерых).
Накинув на плечи фуфаечку, она выбежала из столовой, подошла к танку и постучала кулачком по броне:
– Валентин! Валя! Валюша… Я кваску принесла…
Никто не отозвался.
Она приложила к броне ухо.
Тишина.
Она принялась ударять по железу крышкой от бидончика и опять ласково выговаривать имя лебезного и выманивать «на квасок».
Ночевавший в танке капитан слышал, страдал, удерживая себя от отзыва, ибо не желал показываться перед хорошей девушкой в непристойном виде – небритый, не спрыснутый одеколоном «Комиссар», без должного блеска и выправки.
В это время за спиной Дуни послышались шаги по деревянным мосткам, и кто-то пропел озорным голосом:
В Архангельском пог-рту На левом бег-регу, Эх, грг-узчики пг-росыпали муку..Она оглянулась – по дороге со стороны Затона шли Кац и Айк.
Кац вежливо отодвинул Дуню в сторону и негромко произнёс возле пулемётного гнезда:
– Капитан, давай опохмелимся – и на завтрак!
– А что? Есть? – послышался голос из танка.
Кац позвенел о броню поллитровкой с сургучной головкой.
Крышка люка на башне с грохотом откинулась.
Они устроились на скатке брезента. Дуню усадили рядом с капитаном Узловым, а сами сели несколько в отдалении, сообщая этим о полном невмешательстве в их нежности.
Выпили.
Капитана отпустило. Согрелся изнутри весь его закалённый организм, настывший в ночном холоде боевой машины, размягчилась и твёрдость идейная, и судороги ревности на суровом лице распустились в нечто вроде улыбки.
Единственная льдинка теперь перекатывалась в сердце капитана, одна мысль досаждала, одно мучительно-сладкое чувство не отпускало, ибо после недолгой ночной езды в «валентайне» в капитане ожил сложный, неподвластный ему комплекс чувств и ощущений, и тело его, давно бывшее частью танка, ночью получив боевой импульс, теперь томилось в примитивном состоянии. Возможно и сам танк под ним испускал какие-то провокационные токи, как говорится, подзуживал.
Ни о чём другом не мог думать сейчас капитан, только об этом сложном нагромождении стали, способной двигаться и стрелять. Если ещё и бурлил в нём дух соперничества, то лишь в той части души, где крылась его любовь к боевой технике.
И он затеял спор, чей танк лучше – наша «тридцатьчетвёрка» или этот тёзка капитана.
– Вот спроси у него, Семён, какова скорость полного оборота башни у этого ихнего «вальки»?
(Пока Кац переводил, капитан почтительно прислушался, снова и снова, не подавая виду, изумлялся происходящей в это время работе в мозгах переводчика. «Вот ведь, с нашей колеи в ихнюю не въедешь… Нашу гайку на ихний болт не накрутишь… Нашей пуле будет туго в ихнем дуле… А вот все их слова можно заменить нашими, и наоборот!»)
– А теперь, Семён, вот что спроси: каково у них удельное давление на грунт?
Затем капитан интересовался ещё толщиной лобовой брони, углом вертикального наведения и даже глубиной водной преграды, которую может одолеть «валентяй», как он выражался.
Кац с трудом находил слова, будучи всего лишь преподавателем английской литературы, даже ещё и не мобилизованным, не переодетым в военное.
Он путался, и чем дальше, тем больше вносил бестолковщины в разговор двух задиристых спецов.
Они уже говорили одновременно, горячились и прерывались только для исполнения тостов.
Англичанин готов был уступить, как гость. Но капитан всё тормошил Каца:
– Ну, что он сейчас сказал? Что сказал? Ну?
Чтобы побыстрее покончить с бестолковщиной, переводчик решился на отсебятину и очередную тираду англичанина об устройстве поворотного дифференциала истолковал так:
– Он сказал, что всё зависит от того, кто управляет танком.
Слова эти стали роковыми.
Опять схлестнулись соперники, теперь уже на поприще воинского мастерства. Инженер Айк Этвуд хоть в боях и не участвовал, но служил в фирме Vickers-Armstrong испытателем боевых машин и доказывал, что он лучший.
Свой боевой опыт ставил на кон капитан Узловой.
Понимал их только лукавый толмач, даже и не пытавшийся наладить смысловой контакт между разгорячёнными мужиками.
В пылу спора они перешли на чистые восклицания, понятные без вмешательства Сени Каца.
– А давай!
– Camon! Camon![11]
– Трепло!
– Low![12]
– Кишка тонка.
– Guts![13]
Честь у обоих была не то чтобы задета, а прямо-таки травмирована.
Дальше общались они на интернациональном языке жестов.
Англичанин спрыгнул с брони и указал на крышку топливного бака. Пока он бегал за канистрой, капитан открутил крышку и стал заливать солярку в горловину.
Англичанин, уже как члену экипажа, скомандовал Сене Кацу: «Follow me»,[14] и они скорым шагом ушли готовить к гонкам свою машину.
Выпив «на посошок», капитан Узловой обнял Дуню.
– Поедем, красотка, кататься?
Она тряхнула кудрями, соглашаясь.
После чего одним рывком девушка была втянута капитаном на броню и оставлена стоять в открытом люке с упавшей на плечи косынкой и безграничным восторгом во взгляде, в то время как сам капитан Узловой глубоко под носовой бронёй заводил мотор.
Через щель он увидел, как из строя новеньких «валентайнов» уже выскочил и остановился, качаясь на рессорах, танк Айка Этвуда, над башней которого на командирском месте высился очкастый переводчик.
Они встали в линию.
Услышанное капитаном в наушниках слово «старт» (start) означало одно и то же на всех языках. Он, не медля, отжал сцепление.
Дуня чисто по-женски взвизгнула, когда машина под ней рванула и понеслась по болотистому пустырю.
Рядом с ней ревел и стрелял ошмётками грязи танк Айка Этвуда, и Сеня Кац с командирского места махал ей рукой.
Навстречу им по хлябям тундры брели невольники войны – мужики труд армии с серыми барачными лицами. С приближением танков они стали лениво разбегаться, как стадо тяжёлых неуклюжих существ семейства тюленьих.
Парно, ствол в ствол, наперегонки мчались прямо на них два сытых, игривых зверя с волчьей повадкой и по очереди испускали из клаксонов звуки, подобные сиренам воздушной тревоги, оглушительные, но приятные на слух.
Декорации для фильма «Парень из нашего города» ещё только строились на пыльных улочках Алма-Аты, сцена знаменитого прыжка танка через разрушенный мост у режиссёра Столпера ещё только созревала в голове, а капитан Узловой, в попытке обогнать инженера Этвуда, уже сворачивал с насыпи и мчал по куче брёвен всё выше и выше, срезая путь до железнодорожной эстакады, и на полном газу в конце бревенчатого наката, как с обрыва, перелетел через ручей.
– Говори направо, а гляди налево! – кричал капитан в микрофон.
Ответно раздавался в наушниках голос инженера:
– Chatter can cost life[15].
Капитан ворчал:
– Хромой козёл всегда позади.
Он опережал Этвуда на два корпуса, и теперь для закрепления успеха ему оставалось вырулить из болотины на гать, занять главную лыжню, как это водится в массовых стартах лыжников, но торф становился всё жиже, сзади танка били из-под гусениц струи вонючей жидкости, вода уже бурлила на броне спереди и лилась через щель капитану на колени…
Когда машина Этвуда задним ходом подъехала к неудачнику, огорчённый капитан Узловой сидел с Дуней на скатке брезента и очищал сапоги от грязи.
Капитан накинулся на англичанина с упрёками, мол, техника не для наших дорог. «Подумаешь, в песках Сахары они их испытывали! Нет, явная конструкторская недоработка…»
Кинули капитану спасательный трос и вытащили на твёрдое.
Дальше ехали один за другим на малой скорости, осторожно…
P.S.
Пройдёт немало времени, и настанет тот день, когда известный в этом портовом городе скандалист дядя Валя, будучи завсегдатаем рюмочной на углу Серафимовича и Троицкого, подвыпив и вися на костылях, однажды (году в 1967-м) расскажет нам, студентам лесотехнического института, забегающим сюда после лекций за стаканом чёрного вермута, что Второй фронт был открыт лично им спустя всего три месяца после начала войны, и, что самое главное, без участия немцев. И произошло это, как точно помнил дядя Валя, в конце 1941 года вон там, на левом берегу (он указывал рукой), где он устроил потасовку с англичанином после успешного окончания разгрузки первого транспорта типа «Либерти», потом гонялся с ним на танках и всегда приходил первым.
Ваня Чёрненький
1
– Я русский! Русский я! – вопил негритёнок лет десяти в ушанке и в валенках. Казалось, голова его снегом набита – белели только глаза и зубы.
– Копчёный!..
– Баобамба!..
– Пушкин! Пушкин! – неслось со всех сторон.
Обидчики с каждым выкриком шлёпались задками на фанерки и уносились с горки от расправы «бешеного гуталина», – негритёнок бросался за ними и мчал по ледяному склону, стоя на ногах. Нагнав, кидался грудью. Начиналась драка.
Если попадался кто-то крепче его и напористее, то он уходил домой, в барак, побитый, но всегда без слёз (синяки были незаметны на нём), а если сам оказывался сверху, то долго кружился в победном танце.
Тогда он один такой обитал не только здесь, под сенью портовых кранов Бакарицы, но и на тысячу километров вокруг не найти было африканца среди детей выходцев из множества других племён – финских, угорских, пермяцких, татарских, славянских, тоже значительно разнящихся один от другого и физиономиями, и даже цветом кожи (от бледно-розового до песчано-глинистого), но за столетия ставших привычными друг для друга в своём русском соединении.
По словам расконвоированного учёного-генетика, ходившего в гости к его матери Нюре, напоминал он здесь, на Русском Севере, диковинную окольцованную птицу, выпущенную на волю для изучения миграции видов человека.
Хотя, если быть точным, то перелетевшей через океан птицей был, скорее, его отец – безвестный моряк в конвое «Дервиш».
2
Их военно-морской роман развивался стремительно.
Однажды Нюра Барынина в холщёвых рукавицах и брезентовом фартуке таскала доски от пилорамы к штабелю, и вдруг кто-то окликнул её с высокого борта судна. Она поглядела вверх и увидела, как на верёвке спускается к ней картонный пакет. Верёвка была в руках смеющегося матроса.
«Плиз, плиз!» – кричал он. Лицо у матроса блестело, как чернозём после дождя. Он давно приметил эту ловкую стивидоршу, и теперь, дождавшись, когда она приняла пакет и заглянула в него (там было полно продуктов), повёл разговор касательно make love[16], пообещав ещё – change[17] (слова, понятные каждому в порту).
Он сверкал налитыми кровью глазами и посылал воздушные поцелуи. Матрос был уморительно мил и сразу понравился Нюре – разведёнке с двумя детьми, вечно голодными мальчишками-воришками…
Принявшей дар с борта океанского транспорта Нюре теперь ничего не оставалось, как в скором времени ждать и самого дарителя. Это случилось в ночную смену. Матрос неожиданно оказался рядом с ней между штабелями досок. Товарки поощряли, подзадоривали, обещали прикрытие от начальства, как уже случалось не единожды и у некоторых из них.
Нюра не сразу решилась. Матрос взахлёб лопотал что-то на своём языке, перемежая речь единственным русским словом «хара-шоу», и в тени дощатой горы, вдалеке от фонаря, со своим чёрным лицом был как невидимка, пока не улыбнулся во всю ширь. А когда он взял Нюру за обе руки, то глаза его наполнились слезами животной тоски…
Перед отплытием предприимчивый уроженец штата Алабама побывал ещё и в гостях у Нюры, в комнате барака с тонкими перегородками, где она не позволила ему остаться на ночь, опасаясь толков, наговоров и доносов. А на следующий день пароход с грузом пиломатериалов ушёл в рейс и был потоплен немцами.
История умалчивает, видел ли кто-нибудь Нюру Барынину, машущую платочком на причале во время отплытия этого парохода-призрака. Зато в архиве роддома портового посёлка и сейчас можно найти запись о появлении на свет 14 июня 1943 года «…мальчика, темнокожего, вес 4300 г, рост 47 см».
3
«Нюрка Барынина негра родила!» – разнеслось в тот день по всему Левому берегу.
В посёлке стали гадать, как она со всем этим будет управляться. Даже самые лёгкие на язык бабы не знали, о чём судить-рядить, в какую сторону гнуть, – событие произошло беспримерное. Сначала ждали, когда сквозь тонкие стены барака пробьётся первый плач, что могло бы стать сигналом, поводом для посещения разродившейся стивидорши, но загадочный младенец, как назло, оказался покладистым, сосал грудь и спал. Потом уже прикладывали ухо к дверям своих комнат в бараке, чтобы перехватить Нюру в коридоре на пути в Рабкооп за продуктами. Залучили наконец её, уставшую, счастливую. Она была скупа на слова. Бабы ещё сильнее распалились – просто дух захватывало от желания хотя бы одним глазком заглянуть в колыбельку.
Незваных гостей Нюра останавливала на пороге, порой применяла и вежливую силу. После чего жаждущие дивного зрелища принялись действовать через посредников – двух старших сыновей Нюры, ласково подкатывали к мальчишкам и допытывались, что за «братик» у них появился. Тоже напрасно. Парни уже прониклись к младенцу родством и стояли на стороне матери – отмалчивались или огрызались.
Вот перед бабушкой, матерью Нюры, жившей в соседней деревне, дверь в комнату к новорождённому сразу бы настежь распахнулась, но прародительница была весьма набожна, блюла старую веру, и появление в роду «неведомой зверушки» сочла за позор и Божье наказание. Отмаливала грех дочери на ежедневных службах в старом, обшарпанном храме. (А когда года через три случилось ей в магазине всё-таки наткнуться на Нюру с чёрненьким сыночком и мальчик подбежал к старухе с криком «Бабуська!», она в страшном испуге, скорым шагом, набычившись, убралась вон, после чего в этом Рабкоопе её ни разу не видели – стала закупаться теперь бабушка в продуктовой лавке лесозавода.)
Чуждый люд, в отличие от родной большухи, наоборот, полюбил Ваню Чёрненького, но любовью странной, любовью-любопытством. Ни один человек не проходил мимо, чтобы не отличить мальчика улыбкой, шутливым словечком, а то и гостинцем. Постепенно это стало ему в тягость.
И дошло до того, что Ваня, будучи уже школьником, стал завидовать серым, невзрачным, незаметным, ничем не выдающимся детям. Он как бы хотел сказать: «Чёрненького-то меня всяк полюбит, а вот вы меня беленького полюбите!»
В нём возникало иногда странное желание быть оскорблённым матерью, обруганным, побитым, как, по его наблюдениям, случалось с обычными, «белыми», детьми из рабочих семей, – там он видел любовь в её, как он считал, истинном проявлении, но его мать Нюра, «как назло», была бесконечно добрая, мягкая, и он в смутной жажде каких-то более сильных ощущений безотчётно стал вызывать «огонь на себя», дома постепенно становился неслухом, а на воле – забиякой и драчуном.
Он хотел быть как все и ненавидел цвет своей кожи. Озорники знали это его больное место и не жалели прозвищ: «Ванька, помойся!», «Головёшка!», «Африкан!».
Ему оставалось лишь кричать в ответ: «Я русский! Я русский!» И бросаться в драку на обидчика. Не вдаваться же в долгие рассуждения о психических свойствах человека – приобретённых и врождённых, о которых толковал с ним по вечерам поселившийся у них после освобождения дядя Генрих, бывший профессор-генетик…
Учёный язык у Вани был, конечно, не в ходу, но в просторечье он блистал.
Забавно было слышать от него, от «обезьяны», местные словесные обороты, присущие лишь коренным обитателям этого посёлка.
Например, при игре в городки срывалось с его алого язычка:
– Ha-ко, лешой! Промазал! Ужот-ко, с разбегу ежели…
В завершение перебранки этот негритёнок восклицал:
– Водяной тя понеси!
А если падал и ударялся, то восклицал:
– Ох, ти, мнеченьки!..
4
Он подкупал одним своим появлением.
И в школьном коридоре в перемену женщины-учителя, в основном вдовы и старые девы, всегда заступали ему путь, приседали перед ним, чтобы попасть под его лучистость, заговаривали с ним. Он с трудом выносил их сладостное внимание, терпел лишь по широте души. Улыбался. «Солнечный ребёнок!» – вздыхали женщины.
Проницательный физрук-фронтовик углядел в нём нечто более основательное. В учительской, среди педагогов, физрук по-военному чётко произнёс:
– Проворный, хитрый, отчаянно смелая душа…
Не остался без внимания и незаурядный природный артистизм Вани «Пушкина». В новогоднем спектакле ему дали роль Щелкунчика. Образ был освоен им мгновенно. По сцене он ходил, как деревянный. Сверкал глазами. Зубы, крепкие, в самом деле способные вдребезги расщепить любой орех, скалил устрашающе. И дети, и учителя были поражены его игрой, а девочка из параллельного класса подошла и сказала:
– Давай дружить.
Увы, чувства были ещё не настолько сильны, чтобы она смогла справиться со злопыхательством ребятни, кричавшей им вслед:
– Жених и невеста из чёрного теста!
Дружбы не получилось. Страдали оба. Девочка – от вынужденной измены, а Ваня – от людского жестокосердия.
Неожиданное признание его сценического таланта «настоящими артистами» смягчило боль от первой любовной неудачи. Он сыграл своего Щелкунчика на большой сцене в городе. Театральная молва не знает границ. О дивном негритёнке проведали на Одесской киностудии. Там искали чернокожего мальчика для роли в фильме о матросах парусного флота…
5
В отрыве от земли, в полёте, мать в поезде тупо улыбалась. Казалось, она совсем потеряла рассудок от грохота, рывков, качки вагона, от бесконечности стиральной доски леса за окном. А Ваня прилипал к стеклу, плющил нос и щёку, криком сообщал матери об увиденных шлагбаумах, водокачках, стадах коров и принуждал смотреть.
Порой он сам отражался в стекле, заглядывал в вагон, словно скользя по телеграфной проволоке, нёсся там в дыму и саже от паровоза, не отставая ни на метр. На остановках отражение пропадало, и тогда уже бабы, перронные торговки, с удивлением глядели на это белозубое существо в вагоне.
Россия представала перед Ваней в разрезе. Сонные болота после отъезда, утром, постепенно прорастали елями и соснами, древесный частокол сгущался до непроницаемости, и к вечеру заросли, казалось, доставали вершинами до небес. А проснувшись на следующий день, Ваня уже дивился голым травянистым холмам. К вечеру земля за окном совсем сгладилась и Ваня услыхал от попутчиков слово степь.
Переезжали через мост. Дядя Лёва, (режиссёр Бабаджанов) тоже почти как Ваня с чёрным каракулем волос на голове, смуглый и носатый, напевно произнёс:
– Чуден Днепр…
Деревца теперь были низкие, словно кустарник. Домики в их гуще – белые и маленькие, едва заметные. Но главное – жара!
Мать Вани изнемогала, обмахивалась платком и прикрывала глаза, словно кура на насесте. Режиссёр своим губастым ртом жадно хватал струю воздуха из форточки и утирался вафельным полотенцем. То и дело ходила умываться в туалет помощница режиссёра Эллочка, каждый раз после этого подкрашивая губы и наводя тени. Одному Ване жара была нипочём. Он смеялся, переползал с полки на полку, мелькая белыми подошвами. Строил перед Эльвирой уморительные рожицы.
Девушка очаровала его с первого взгляда. Губы её постоянно шевелились, она будто всё время что-то нашёптывала, в больших серых глазах играли «зайчики» и даже волосы были весёлые. Она читала ему книгу «Судьба барабанщика», и сначала Ваня сидел напротив за столиком. Потом силой её притяжения был перемещён к ней на лавку и норовил приласкаться. Влюблённый, бегал за ней следом до туалета, смущал ожиданием, хватанием за руку. При этом он воинственно поглядывал на Бабаджанова как на соперника – так непроизвольно действовали на него красота и молодость Эльвиры. И пылкость мальчика, его непосредственность, сначала просто умиляли режиссёра, он сокрушался об утраченной свежести собственных чувств, но скоро напористый негритёнок стал раздражать его, а покладистость Эльвиры и её увлечённость энергичным поклонником рождали в душе упрёки. Надо было что-то предпринимать, и он придумал для Эльвиры совершенно не обязательную работу: составлять список реквизита для этого нового актёра, рисовать эскизы его костюмчика, прикидывать смету, для чего увёл девушку в вагон-ресторан, как место, более подходящее для серьёзного дела.
Переживая поражение, Ваня пылал от гнева – у него покраснели глаза. Он громко пел, ударяя книгой по столу. Мать успокаивала, стыдила. Он долго отбивался от неё, а потом одним прыжком очутился на багажной полке, забился в угол и затих…
6
Во всю ширь распахнув свою пасть, море дышало зноем. Листья пальм над верандой военного санатория висели безжизненно. В их тени режиссёр Бабаджанов репетировал с Ваней.
Максимка (так звали мальчика по сценарию), в одной набедренной повязке, без слов должен был вывернуться из лап злобного капитана-работорговца (Бабаджанова), укусить его за ногу и вскочить на корабельный борт (диван). Это было проще пареной репы, как убеждал Ваню режиссёр. Но мальчик оставался вялым и безразличным. Капризничал, как девчонка. Так происходило всякий раз, пока на площадке не появлялась Эльвира. Девушка непременно представлялась Ване словно бы флакончиком, сразу в душе его ксилофон начинал выколачивать мелодию Чайковского из многажды игранной им новогодней пьески, и он, как в сказке, грянув оземь, оборачивался послушным, исполнительным, выдавал сценку с блеском. «Эх, жаль не на камеру!» – сокрушался Бабаджанов. И слышал в ответ успокоительное, твёрдое по-мужски: «Ничего, я ещё могу!»…
В начинающем артисте открылся незаурядный шантажист: «Или Эльвиру мне, или…»
Ради искусства режиссёр готов был делить помощницу с маленьким обожателем.
Как-то само собой Ваня оказался в положении сына полка, что нередко случалось на недавней войне. Статные мужчины, видные актёры – Андреев и Чирков, Тихонов и Бернес – не только по ходу вживания в роль, но и на досуге, в отрыве от своих детей, тянулись к Ване, брызгались с ним в черноморских волнах, угощали мороженым, носились по песку, посадив его на закорки, играли в кольцеброс…
Вполне устроенной оказалась и мать. (Стивидоршу стали привечать со всей почтительностью ещё в вагонном купе, тогда Ваня впервые услышал, как её называют по отчеству, Анна Павловна.) Мать зачислили в штат поварихой, её возили в студийной машине на Привоз, откуда она возвращалась с корзинами продуктов, и вечером на лужайке под акациями накрывала стол с блюдами собственного приготовления, одетая в платье, подаренное Эльвирой.
Счастье длилось до тех пор, пока на двух автобусах не привезли массовку негров для сцен работорговли[18].
7
Как только первые чернокожие стали выскакивать из автобусов на лужайку под акациями, Ваня спрятался за широченные белые штаны Бабаджанова.
Он никогда не видел негров (в зеркале не в счёт). Не считал себя негром, как бы ни старались просветить его дворовые мальчишки в порту. Глядя в зеркало, необычный цвет своей кожи относил к некоему уродству, как хромоту, заикание или косоглазие, но такое обилие чёрных людей уже нельзя было оправдать никакими кривотолками. Вот они-то и в самом деле были «трубочисты», заслуживали язвительных прозвищ, и у него самого, наученного портовой шпаной, на языке вертелись эти обидные словечки.
Мир перевернулся.
Бесстрашный шоколадный сорванец, без раздумий прыгавший в море с высоченного утёса, заговаривавший с любым незнакомым взрослым и залезавший в клетку к огромному псу-волкодаву, привезённому для съёмок, вдруг оробел при виде родных по крови, себе подобных существ. Они подходили к нему – он шарахался от них, запирался в своей комнате и на все увещевания Бабаджанова только яростно мотал головой и стонал сквозь зубы. Последняя надежда была на Эльвиру. Она ласково говорила с ним через двери, просила впустить на минуточку под тем предлогом, что мороженое растает, но Ваня был непреклонен.
Стоявший рядом с ней Бабаджанов паниковал:
– Эля! Кажется, он их просто органически не переваривает. Что нам делать с этим маленьким расистом?
Что-то ужасное виделось Ване во множестве этих чёрных людей: ночные тени при луне, бред скарлатины в красном свете изолятора, туши тюленей под бортом лодки… Он перестал есть. Лежал на своей кровати, уткнувшись в стену. Никакие увещевания не действовали. Бабаджанов попросил Анну Павловну:
– Поговорите вы с ним.
– Что же я могу? Он мне и лица не кажет.
– Ну, вы как-нибудь по-матерински…
Она трогала его за плечо, гладила по голове, а он откидывал её руку и выкрикивал:
– Домой хочу! Поедем домой!
В чувство привели его слова, сказанные тихим, печальным голосом.
– Мне, Ванечка, отпуск дали за свой счёт. Здесь тоже копейки платят, коли на всём готовом. Ты не будешь представлять, денег на обратную дорогу вовсе не наберём. Не упрямствуй, сынок. Сделай, как просят.
И на следующий день в сцене бунта рабов на американском корабле он не то чтобы сразу вошёл в образ, но для начала хотя бы притворился одним из «них».
Ему необходимо было сказать несколько слов по-английски, и этой фразой «captain ustipit»[19] из него будто вышибло пробку болезненного предубеждения.
После команды «снято» он принялся раскачиваться на канате, смеяться и выкрикивать какую-то тарабарщину, якобы по-английски…
Высота была опасная, он мог сорваться и покалечиться.
Роберт Росс, вождь «восстания», актёр голливудской стати, протянул руки, и Ваня с доверчивостью младенца упал в его объятия.
И тут с Ваней произошла ещё одна метаморфоза.
Если раньше он не пропускал ни одного вечернего застолья под акациями, смеялся над остротами Бабаджанова, упивался романсами Эльвиры и её игрой на фортепьяно, то теперь он стал пропадать на берегу моря в палаточном лагере «рабов». Раскрыв рот, слушал блюзы под гитару красавца-гордеца Роберта Росса и во все глаза глядел на танцы у костра, когда гитарист зажимал между ног перевёрнутое ведро и принимался колотить по днищу кистями рук так, что дух захватывало…
…Море давно захлопнуло жаркую солнечную пасть, и теперь могло показаться, что в непроглядном чреве южной ночи извивались и дёргались у костра какие-то беспозвоночные рептилии – настолько гибкими были тела в танце, суставы гнулись вопреки всякой анатомии. Танцоры не сходили с места, в отличие от вальсирующих «белых» там, на вечеринке, высоко на берегу. Здесь танец происходил в пределах тела: и танец живота, и танец шеи, и танец рук… Рывки, выпады, прыжки сменялись полным расслаблением, текучестью, чтобы безжизненный комок мышц опять взорвался в бешеном кружении под гортанный распев бесконечно повторяющегося мотива.
Ваня танцевал вместе со всеми.
Очередной его влюблённостью стал этот великолепный Роберт Росс. Ваня всюду ходил за ним, слушался с первого взгляда. Эльвиру знать не желал. Ночами в своей кровати он намечтал себе, что Роберт Росс – его отец. А почему бы и нет? Корабль разбомбили «фрицы», а Роберт выжил на обломке мачты, как было написано в книжке, по которой снимался фильм.
Теперь Ваня был озабочен только тем, как бы открыться найденному отцу. Без матери тут не обойтись. Она должна была увидеть Роба и признать в нём родителя Вани. Однажды перед сном он поведал ей о своих догадках.
Подсев к нему на кровать, Анна Павловна незаметно плакала, гладила его по комковатой голове и говорила, что «твой папа был лет на десять старше, и курносый…».
После крушения заветной мечты Ваня, казалось, ещё сильнее полюбил Роберта Росса.
Родным стал для Вани и берег этой бухты на «Тринадцатом фонтане». Он блаженствовал, овеваемый степными ветрами, его нежили прохладные морские бризы. В полдень шелестели над ним листья пальм, а в полночь звенели цикады.
В его воображении здесь сложилась его семья – мама управлялась на кухне, а папа учил его игре на гитаре. Из памяти напрочь стёрлись портовые бараки на сером Севере, выветрилась из души школьная тоска, унялась боль от мальчишеских оскорблений и давно зажили полученные в драках невидимые синяки.
Но время неудержимо подвигалось к осени. И настал тот час, когда весь этот холодный знобкий ком северной памяти вдруг обрушился на него, ошеломил и привёл в ужас: было объявлено об окончании съёмок и назначен день отъезда.
– Не хочу домой! Не хочу уезжать!
Зубы сверкали на залитом слезами антрацитном лице, он зверьком забился в угол гостиничного номера и обоими кулаками яростно бил по полу. Когда мать протянула к нему руки, чтобы обнять и успокоить, он вскочил на ноги и выпрыгнул в окно.
Весь день его искали – в саду санатория, в дачном посёлке, спрашивали у кондукторов трамваев. Бабаджанов ходил с жестяным рупором, посылал призывы направо и налево.
Лишь к ночи Ваня вышел на голос Роберта Росса – выбрался из недр бутафорского корабля, и то лишь после того, как обожаемый «папа» прибег к военной хитрости:
– Ваня! Будет вторая серия. Тебя обязательно пригласят.
(Такие намерения действительно имелись в планах у Бабаджанова…)
Теперь в поезде лента жизни Вани стала отматываться назад будто киноплёнка на монтажном столе: сухая пыльная степь, Днепр стального цвета, жухлые купы садов и белые домики в них, ставшие как будто выше, перелески и лесополосы, дубняк и березняк под облака, мрачные завалы тайги, корявый болотник…
8
Сначала уходили на завод в иссиня-серый рассвет мать с дядей Генрихом, а потом Ваня с братьями – в школу, но лишь потому, что там было теплее, чем в комнате барака: за ночь в углах нарастал лёд, волосы примерзали к прутьям железной кровати, изо рта шёл пар.
Отогревшись в классе, Ваня брёл на вокзал в валенках и в зипуне с короткими рукавами. Обнажённые запястья жгло морозом. Он шмыгал носом и подпинывал коленкой сумку с книжками. На перроне бросал сумку к стене и засовывал руки в рукава для обогрева.
Все поезда отсюда уходили только на юг. Он дожидался вечернего. Облако пара с зыбким огнём внутри накатывало на вокзал. Чемоданы, узлы, сундуки растаскивались оживлёнными пассажирами по своим местам.
Только кондукторы с флажками оставались на морозе. Начальник в красной шапке сердито отодвигал сапогом сумку с книжками и ударял в колокол. Череда уютных мирков протаскивалась перед Ваней, ускоряясь, пока в обрыве не загорался красный, быстро угасая в холодной испарине…
Потом до прихода матери, до того, как затрещат дрова в «буржуйке» и сготовится горячее, Ваня в одиночестве бродил между бараков, пинал ледышки на укатанной дороге, погреться заходил в магазин.
Теперь дети сторонились его. На любое их слово он отвечал воинственными наскоками, дрался яростно, молотя кулаками без разбора. «Бешеный гуталин!» – кричали они уже со значительного удаления. И вот однажды, тоже с довольно безопасного расстояния, они заорали:
– Ванька, ты в клубе на картине нарисован.
– Кино «Максимка» сегодня.
– Не врал, Баобамба. Молодец!
– Про что кино-то, артист?..
9
…Из зала он ушёл, не досмотрев, со слезами на глазах от нахлынувших воспоминаний счастливого лета…
Дома за ужином он сидел печальный. Анна Павловна сияла от радости. А дядя Генрих рассуждал:
– Вот ведь как получилось у тебя в жизни, Ваня! Ты пришёл к славе, не понимая ещё, кто ты есть на свете. Ну, вот теперь, значит, она, слава, и определит, что ты за фрукт… Я тоже, Ваня, в своё время был в великой славе, потом испытал величайшее бесславие. Ну что тебе сказать? Не переживай. В сущности, это одно и то же…
А в школе набросились на него директор с завучем:
– Теперь ты, Ваня, должен…
– На тебя весь Советский Союз смотрит…
– Чтобы с завтрашнего дня…
А Ваня знать ничего не желал.
В самый разгар приполярной зимы взяли над ним полную власть свободолюбие и беспечность уроженца пустынь и прерий.
Ошеломительная известность (слово «популярность» тогда ещё не было в ходу) разнесла в пух и прах все условности его жалкого существования в забытом Богом рабочем посёлке.
Он стал жутко уверенным в себе, с различными наставниками (учителями, пионервожатыми, уполномоченными по делам несовершеннолетних) держал себя на равных, а то и поглядывал свысока.
И наоборот, удивительно покладистым стал с дворовыми мальчишками, блаженно улыбался в ответ на все их кривлянья и злословие, как человек поживший.
10
Всю зиму он ждал вызова на съёмки второй серии, а не дождавшись, с первыми тёплыми апрельскими деньками (0–5 градусов) влез в ящик под пассажирским вагоном московского поезда.
С поезда его сняли в Вологде, вернули домой.
Через месяц он снова совершил побег. На этот раз ему удалось доехать до Ярославля.
Дома на него завели «дело», как на малолетнего правонарушителя. Грозили колонией.
Спасать «коллегу» примчался режиссёр Бабаджанов. Он уговорил Анну Павловну отдать Ваню на воспитание в его семью. Анна Павловна согласилась. Потом она часто бывала в Ереване. Ваня окончил музыкальное училище, играл на трубе и пел джаз. Анна Павловна дождалась ереванских внуков. Их было много у четырежды женатого Ивана Ивановича Барынина, мирно скончавшегося под южным небом в возрасте семидесяти лет в 2012 году.
Р. S.
По другим данным, И. И. Барынин умер в юном возрасте в 1957 году от крупозного воспаления лёгких и похоронен на своей северной родине.
Последний бал К. Г
1
Кладбище древнее. Перемешаны тут в земле десятки поколений горожан. Старинных могил немного. И все они – под стенами храма, как часть фундамента.
На чёрной мраморной плите споры мха не прижились.
Сто лет, а плита как новая. Мох только в желобах надписи, и можно прочитать:
«Андрѣй Васильевич Гагаринъ, корнѣт. 1898–1919 гг.»
И ниже – барельеф в виде двух скрещённых пистолетов с длинными дулами, дуэльных…
2
Они бегали вокруг стола. Ксюша дразнила его: – Корнет, а где же ваш кларнет?
Он на ходу сочинял:
– Прекрасная Дама не знает, что часто от радости рот разевает…
Теперь уже она бросалась за ним, чтобы поколотить кулачками по спине, обтянутой чёрным сукном новенького мундира, сама будучи вся в белой кисее.
Он поворачивался к ней. Смирял. Слова утопали в неге.
– Свой ротик прелестный разинув, глядит на кузена кузина… Они целовались.
3
За окном, у памятника Петру, духовой оркестр отбивал польки и марши. Завывания гармошки в портовом кабаке подхватывали трубные голосища пароходов.
А из-за кружевных штор усадьбы Ганецких, из-под пальчиков Ксюши изливались на площадь волны фортепьянной музыки – праздник тезоименитства государя совпал с парадом союзных войск.
Она встала из-за рояля.
– Идёмте, корнет! Сейчас начнётся…
На портовой площади выстроились роты канадских стрелков в грубых суконных куртках.
Клетчатые юбки ветерком колыхались на солдатах шотландской пехоты.
Перед своими ползучими чудовищами из клёпаной стали замерли в строю одетые в кожу экипажи бронетанкового батальона герцога Этингенского.
Духовой оркестр умолк.
На трибуну-времянку взбежал бородатый господин в сюртуке с серебряными пуговицами.
Он снял шляпу и принялся вбрасывать в вязкий воздух июньского полдня слова о войне и чести, о великодушии горожан и благородстве воинов.
– Папа сегодня в ударе, – прошептала Ксюша и слегка притиснула к груди локоть корнета.
Корнет сиял, вытягивал подбородок из жёсткого воротника, крутил головой.
Он был высок. Верхняя губа и щёки гладко выбриты.
Глаза были насторожённо распахнуты, и ноздри трепетали на крупном носу, словно бы он постоянно к чему-то принюхивался, – контузия не отпускала.
Он уже почти не хромал, но от него всё ещё пахло карболкой, что всякий раз останавливало Ксюшу во время объятий, и сейчас на площади она тоже осторожничала…
Начался парад.
Шотландцы с голыми коленками, увешанные кистями и килтами, под звуки волынок промаршировали в полусажени от корнета и Ксюши. На неё опять напали смешливые корчи, и опять она не позволила себе во всю силу, нажимом локтя, передать свои чувства корнету.
Шепнула на ухо:
– Боже, как они милы!
Глаза у корнета потемнели.
– Смешны, ты хотела сказать?
– Ну конечно, Андрэ! Bien sûr!..[20]
4
Званый обед в доме предводителя уже начался, когда на пороге гостиной появился некто будто бы в маскарадном костюме, напоминающий также Робинзона Крузо на необитаемом острове или индейца племени чикос – таким перед собравшимися в гостиной Ганецких предстал майор шотландского корпуса Оливер Келли – с меховой шапкой bonnet под мышкой и красным пледом через плечо (своеобразная шинель). Он был изысканно-кудрявый, что точнее определяется как кучерявый. Глаза ширились в напускной браваде. Обнажённые костлявые колени мерцали устрашающе.
«Стандартный габби», – подумал о нём корнет/[21]
В честь гостя все перешли на английский.
Майор крайне оживился. В свою очередь, рассматривал обедающих, как неведомых зверушек, и громко хохотал. Причину чрезмерного возбуждения нашли простительной – позади у майора Келли был опасный морской переход, после чего он неожиданно для себя вдруг попал from the ship to the ball[22].
Ксюша звонко смеялась. Её щёки пылали. Она закрывала лицо салфеткой, а когда над обрезом накрахмаленного батиста вновь показывались её глаза, то корнет видел совсем другую Ксюшу, словно бы они с ней играли «в маски», когда по правилам требовалось с каждым снятием платка с лица предстать в новом образе.
Это было ими придуманное, их сугубо личное развлечение: показ «масок» перемежался поцелуями, горячими словами любви.
Но теперь Ксюша невольно как бы играла в ту же игру с этим клоуном в дикарской одежде – так для себя определил его корнет.
У Андрея онемела рука и задёргалось веко.
Мрачная волна накрыла Ксюшу со стороны корнета.
Девушка замерла на мгновенье. Её просквозило чувством острой вины без раскаяния.
Она отважно, с прищуром, глянула на корнета.
Андрей не в силах был понять природу сковавшей его боли – здесь, в её доме, ставшем почти родным, в дуновении тёплого ветра с реки, в колыхании лёгких занавесей, по нему был нанесён коварный удар…
Боль усиливалась, сдавливала виски, в глазах меркло, словно бы в пыточной камере подносили раскалённое железо всё ближе и ближе, – это Ксюша на пути к роялю приближалась к нему.
Она наклонилась и примирительно шепнула:
– Кларне-ет?..
Ощутив вместо ожога на щеке трепет её волос, почувствовав запах её духов «Kotty», корнет воспрял духом, словно к его пылающему лбу приложили лёд, а голос Ксюши в романсе «Сирень», полном недоговорённостей, обволок его любовью, хотя и не умиротворил…
5
Шотландец, стоя у рояля, дирижировал. Потом он вдруг стал громко, тупо бить в ладоши и вытаптывать нечто плясовое. Ксюша не растерялась: на двух басовых нотах она озвучила предложенный ритм, а на клавишах с тонкими голосами повела партию волынки.
Майор Келли принялся отплясывать Breton stap[23], заложив руки за спину и звеня бубенцами на подвесках у щиколоток.
Подковы на его жёлтых ботинках из свиной кожи щёлкали по дощечкам паркета с невообразимым проворством. То он в сплошном биении каблуков словно бы становился невесомым, то обрушивался на звонкие дубовые плашки всем весом, словно пытаясь пробить дыру в полу, то нога его взлетала навыворот, как при игре в «чижика» и он принимался подпинывать себя по заду…
Так он долго выкаблучивался и в конце концов упал перед аккомпаниаторшей на колени в благодарном поклоне.
Корнет исподлобья гневно наблюдал за происходящим.
Он готов был сорваться с места и шумно, вызывающе покинуть застолье в тот миг, когда рука Ксюши коснётся волосатого запястья заморского гостя.
Он уже отложил вилку и вытащил салфетку из-за воротника.
Ксюша листала ноты на пюпитре, словно не замечая коленопреклонённого.
Несолоно хлебавши шотландец поднялся с колен.
Волна признательности к невесте вышибла слёзы из глаз корнета…
6
Вечером на губернаторском балу старый барабанщик деревянными палочками по ободу выстукивал на хорах сдвоенные начальные доли полонеза. Вторые и третьи доли смягчал ударами по натянутой коже. Выстреливал по каждой танцующей паре наособицу, следя за попаданиями, – удары взбадривали танцующих, подхлёстывали, а скрипки на подхвате несли в полёт.
Корнет с Ксюшей, держась за руки, шли в середине шествия.
Ксюша вдохновенно-низко приседала и с силой выпрямлялась, почти подпрыгивала, в её движениях было что-то гимнастическое, а руку корнета она использовала как брус в балетном классе.
Готовность терпеть боль в руке была у корнета беспредельная, ибо в зале не обнаруживалось петушиных перьев резвого майора.
Корнет наговаривал Ксюше на ухо:
– Канун Рождества… Шотландец посылает жену на другой берег реки в город за покупками. Но вместо денег даёт ей письмо. И знаешь, что там написано?
Ксюша ответила стремительно:
– Там было написано: «Прошу отпустить в кредит. Деньги посылать вместе с супругой не рискую: лёд на реке ещё некрепок».
– Откуда ты знаешь?
– Келли рассказал. Папа предложил ему квартировать у нас.
Словно брус в балетном классе обломился, Ксюша пошатнулась, сбилась с такта.
Торопливо добавила с напускной досадой:
– Вот навязался на нашу голову этот майор!
Но в танце не солжёшь. В движении больше искренности, чем в слове. Их руки ещё были плотно сжаты, но сами они уже двигались по отдельности.
Скрипки в полонезе взлетели до финальных высот, музыка обрушилась барабанной дробью и затихла.
Бинт на ноге корнета торчал из-под брючины.
Ксюша виновато улыбалась оттого, что только сейчас вспомнила о его ранении…
7
В курительной комнате корнет перебинтовывал ногу. За стеной грянула мазурка. В отличие от чопорного полонеза, это была музыка измены. Сильная доля постоянно смещалась то на вторую, то на третью, заражая танцующих легкомысленной вёрткостью.
Когда корнет закончил с перевязкой и вернулся в зал, то увидел, что под тяжёлой люстрой кружились и подпрыгивали Ксюша с майором Келли.
Экзотический наряд шотландца сам собой составлял отдельное зрелище. Бубенцы на его ногах трезвонили.
Заменившая клетчатый плед белая шёлковая накидка, словно туника, трепетала за плечами. Развевались полы юбки – теперь уже синей, в мелкую клеточку…
Чужестранец был так хорош собой, так мучительно красив, что в корнете зажглась охотничья страсть – в бытность и бедность свою деревенскую он с особым наслаждением убивал на охоте пёстрокрылых тетеревов в минуты их брачных игр…
8
Андрей Гагарин происходил из рода опальных бояр времён «второго Самозванца». Его далёкому пращуру велено было сесть на «чёрную соху», добывать пропитание трудами своих рук на реке Ваге.
Отец Андрея, управляющий казёнными лесами, называл себя «дворянин во крестьянстве».
Андрей рос неотёсанным деревенским парнем, но семь лет в пансионе мадам Ульсен при гимназии этого города выявили в нём природный аристократизм.
Раненный в Ледяном походе, сквозь большевистские кордоны он пробрался в этот северный портовый город – здесь, на Сенной, жила его мать.
Вскоре Андрей удостоился визита к предводителю дворянства и влюбился в его дочку Ксению…
9
Он наблюдал за порхающей парой из-за колонны.
Третья, четвёртая фигура… Полёты дамы вокруг кавалера, бег по кругу с поддержкой за талию, прыжки в стороны и вот, наконец, совместный поклон.
Шотландец передал Ксюшу матери и встал в стороне, торжествующий.
За спинами зрителей корнет пробрался к нему сзади и произнёс:
– I hope ostrich feathers on your head do not report their media known habit of these birds[24].
Келли нахмурился.
He дождавшись ответа, корнет усмехнулся:
– Yeah! It seems so. Hardly that, and head in the sand[25].
Теперь уже шотландец отреагировал мгновенно:
– Where and when?[26]
– At five in the morning,[27] – сказал корнет и добавил по-русски: – На Мхах!..
10
Прошло полгода.
Союзники грузились на пароходы. Трамваев было не слыхать из-за грохота ломовых телег по булыжникам проспекта. Военные обозы тянулись без конца, кондукторы звонили, не переставая.
На палубе двухтрубного Viktory оркестр играл марш. Ать-два!.. Time… Two… И старому барабанщику здесь требовалось только тупо, бессердечно бить фетровой колотушкой по громадному бонгу.
Людей на палубе попросили перейти на правый борт: «Из города могут стрелять».
Под прикрытием стальной рубки Ксюша смотрела на прозрачные льдины. Они напоминали ей хрустальный гроб из сказки о спящей царевне.
Отнюдь не сказочный цинковый ящик лежал под её ногами глубоко в трюме. Там покоился майор Оливер Келли (1890–1919 гг.) – граф, наследник замка в Хэддингтоне, прямой потомок Уильяма Уоллеса…
Майора убили партизаны близ деревни Верхопаденьга (Vierchopadienga)…
Дом для девы
Памяти Бориса Шергина
1
Играли в «чижика».
Оля спряталась за поленницей.
Вдруг сверху повеяло на неё холодком.
Разгорячённая бегом девочка желанно подставила лицо этому свежему ветерку и застыла в страхе. Облака над ней словно бы сошлись в виде простоволосой женщины с ребёнком. Как у живой, были вытянуты руки у этой женщины, и младенец на огромной высоте сидел в подоле без поддержки.
До того явственно всё было слеплено, что девочке даже стало страшно за ребёнка. Она прихлопнула рот ладошкой и увидела, как небесная плывунья повела рукой, будто успокаивая её; с перстов её рассеялся дождик, на лицо девочки брызнуло…
Оля выскочила из укрытия на мощёную улицу с криком:
– Глядите! Богородица!
Дети подняли головы. На их глазах женщину с ребёнком окутывало лимонным маревом, а тучи при этом разносило сразу во все стороны, словно ветер подул снизу.
Страх за младенца на высоте не отпускал Олю.
– Как бы не упал! – шептала она.
– Скажешь тоже! Чай, не с наёмной нянькой.
– Маленький Спас у неё.
– Глядите! Он тоже ручкой помахал!
– Летят прямо на солнце.
– Зажмурься, ослепнешь!
– Я между пальцев, в щёлочку..
Кроме детей, на улице не было ни души.
Булыжники под их ногами, спрыснутые небесной влагой, бугрились и сияли под солнцем, будто изнанка туч. Дети на этих каменных облаках казались оторванными от земли, тоже куда-то летящими…
После того, как видение растворилось в бездонной голубизне, они ещё долго оставались молчаливыми, подавленными непосильными размышлениями.
Игра разладилась.
Щепочка-«чижик» так и осталась лежать на доске нетронутой.
Молча, не сговариваясь, дети разошлись по домам.
2
Вечером в квартире Земелиных стучал маховик «Зингера». Мать шила. Оля сидела в «красном» углу под образами и плела венчик для куклы. Она то и дело раздвигала занавески и глядела в окошко. Мрак за окном был звёздный, августовский.
Зинаида Ивановна спросила:
– Что с окошка глаз не сводишь. Или ждёшь кого?
– Мама, а я сегодня Пречистую видела. И Спас у неё на коленях.
– В храм, что ли, наведывалась?
– Нет, мама. Она к нашему дому спустилась.
– Не мели давай несусветно.
– Она мне рукой помахала, мама!
– Олька! Или с головой у тебя что?
– Я её, мама, теперь век не забуду.
Мать протянула руку и потрогала у девочки лоб.
– А хоть и у Гали спроси. У Серёжи. Тебе всякий скажет. И Валя, и Миля, и Витя, и Юля!
Они долго и выжидательно глядели в глаза друг другу.
Озадаченная мать снова принялась строчить на машинке. Искоса незаметно посматривала на дочку. Тревожно стало на душе. Шитьё разладилось. Не говоря ни слова, она пошла к соседке.
Варвара Семёновна Киселёва в общей кухне готовила на керосинке.
– Варвара, ну-ко, не говорила ли чего твоя Юлька про Богородицу?
– И Юлька, и Серёжка – обои в один голос ерунду какую-то мололи. Матерь Божья на облаке! Прилетела, мол, поглядела, – и след простыл.
– Ой, нехорошо это, Варвара.
– Чего же нехорошего? Ежели бы чёрт с рогами…
– Не до смеха. Знак это, чует моё сердце. Пойду ещё к Ульяне схожу.
Она поднялась по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и, немного погодя, скорым шагом миновала кухню.
– К отцу Михаилу надо, – доложила она соседке.
3
Священник Воскресенского храма Михаил Иванович Попов жил в собственном доме через дорогу. Он сидел в своём кабинете при свечах и составлял текст молитвы к заутрене.
«О, святый Георгий-победоносче, даруй белому воинству победу, укрепи православных во бранях, разруши силы восставших безбожников…», – писал он, макая перо в чернильницу.
За дверью послышался голос служанки:
– Батюшка Михаил, к вам посетительница.
Войти было позволено, и через порог с поклонами переступила швея из соседнего дома, в опорках на скорую ногу и в наспех накинутом платке.
– Не прогневайтесь, отец Михаил, душа места не находит. Ребята в один голос твердят, мол, нынче под вечер видение у них было. Играли во дворе, да вдруг Богородица им в небе показалась. Ладно бы одна моя Оля, она и намолоть может незнамо что, язык-то без костей. Так ведь и все другие, как один: Матерь Божья с младенцем! И будто им рукой вот эдак…
По мере того, как отец Михаил выслушивал сбивчивую речь, рука его сначала вздрогнула, потом неуверенно стала подниматься к груди и наконец решительно рассекла полумрак комнаты крест-накрест:
– Истинно говорю: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него!
Сказано было весело, с вызовом.
Он сдёрнул сеточку с напомаженной головы, надел камилавку и с большим медным крестом в одной руке и с керосиновым фонарём в другой вышел, увлекая за собой посетительницу.
4
Не такой был достаток у жильцов этого доходного дома № 135 по Кольскому проспекту в 1919 году, чтобы провести электричество. Лица детей в темноте коридора освещались фонарём в руке отца Михаила. Свет фитиля мерцал в их глазах. Говорили взволнованно, взахлёб. Не хватало ни слов, ни опыта в изъяснениях, да и то сказать, виденное ими не имело примера. Не всякий бы взрослый осилил описание. Только у Оли нашлось несколько слов для подробностей:
– Из облаков навыворот… Ресницы в инее… Ноготки перламутровые…
Убедительными оказались для отца Михаила не столько подробности рассказа, сколько страх в глазах детей.
Дома отец Михаил взял чистый лист бумаги и заново написал текст молитвы к заутрене. Теперь его упования были обращены не к Георгию Победоносцу, а к Пречистой.
«О, заступница и предстательница наша, помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни. Да постыдятся и посрамятся безбожники-большевики, и дерзость их да сокрушится, яко мы имеем твоё Божественное заступничество…»
5
Назавтра о чудесном явлении сообщила газета «Епархиальные ведомости». Во всех храмах объявили весть о «явлении Божией Матери над градом Архангельским». Читались акафисты[28]. Толпы прихожан с иконой Заступницы прошли по набережной до кафедрального собора, где отслужили молебен о победе над безбожными супостатами. А когда расходились по домам, то городская юродивая Евпраксия вошла в реку с образком в руке и побрела вглубь, растрёпанная и восторженная, вопя во славу спасительницы, и скрылась под водой. Полиция вытащила её почти бездыханную. Размокший картонный образок был зажат в руке намертво. Её еле откачали. Лёжа на берегу, Евпраксия блаженно улыбалась, восхищённо оглядывая лица спасителей, словно херувимов, и целовала образок в горсти.
Весть о небесной покровительнице настолько воодушевила горожан, что уже на следующий день снизились цены на рынке, в зале Дворянского собрания задаром была сыграна оперетка для офицеров Добровольческого корпуса и дан бал, а на ремонт обветшалой кровли Воскресенского храма пожертвовано много больше требуемого.
Воодушевление было всеобщим.
Героем дня стала девочка Оля Земелина.
То в училище лоцманов, то в госпитале, то в казарме рабочих лесозавода Ульсена можно было увидеть в те дни отца Михаила и Олю. Он – в праздничной атласной рясе и в камилавке с золочёной выпушкой, она, скромная помазанница, – в тугом белом платочке.
Старославянские обороты речи отца Михаила дополнялись простыми словами девочки. Свидетельствовала она с каждым выступлением всё бойчее и толковее, рассеивая всяческие сомнения слушателей. Отца Михаила озаряла вера девочки. При звуках голоса Оли пророческая строгость на лице священника сменялась отеческим умилением.
Оля прославилась в городе.
От детей во дворе получила кличку Глазастая.
Стала робеть перед дочкой мать, Зинаида Ивановна. То заискивала перед ней, то сердилась бог знает отчего.
– Она куклу христосиком наряжает, – рассказывала мать соседке. – Я говорю: а не грех ли это, Оля? Она в слёзы. И я следом. Ревём как белуги…
Тут и слухи с фронта потянулись обнадёживающие. Говорили, мол, из Ярославля идёт бронепоезд на подмогу нашему христолюбивому воинству. Из Шенкурска по Ваге спускается баржа с тремя пушками, а союзники со своих кораблей уже выгружают аэропланы.
Кипели молодые силы, – в мужской гимназии старший класс полным составом записался в волонтёры.
Девочки-скауты дёргали корпию[29] и прислуживали раненым.
Город жил ожиданием победы.
6
Ещё и рождественские праздники провели безмятежно, в уповании на защиту Провидения, но уже к Масленице опять поползли вверх цены на рынке. Затем гимназисты вернулись, побитые, грязные и голодные. Потом разрозненные союзные войска грузились на корабли и уходили в Англию, а блаженная Евпраксия ползала в слякотном месиве, норовила лечь поперёк пути отступающих.
Наконец сняли флаги с дома губернатора, и город замер.
По домам роптали. Саму Богородицу не винили, явление её не отрицали, но толковали теперь как случайное, мол, по своим делам куда-то налаживалась Мать-заступница, и попутно попался ей неказистый этот Архангельский город…
Наверняка более важное было у неё в замыслах, а отец Михаил возомнил бог знает что…
Теперь Михаил Иванович уже не улыбался. Приходил домой к Оле, и они беседовали, как облечённые неким общим, только им одним ведомым, знанием. Мать, Зинаида Ивановна, чувствовала беспокойство священника. Не рада была его посещениям, поила чаем без сердечного участия. Ел аза долу. Тубы поджаты.
Совсем другим жила душа девочки. Она вовсе не подвержена оказалась всеобщему упадочному настроению. Эта её крепость духа и радовала, и тревожила отца Михаила, ожидавшего нелёгкие испытания и для себя, и для неё…
7
Красные вошли в город хоть и не безобразно – строем, с оркестром, но безобразно. Разве что чёрную рысь Кугу, предвестницу чумы у древних русичей, напоминала вползавшая в город колонна бунташных войск.
Небо над ними было ватным, колокола молчали, только пушки лязгали на лафетах, и высекали искры из булыжников подковы боевых коней.
На следующий день коммунары изгнали из классов семинаристов епархиального училища. Ещё через день заперли на замок все храмы в городе, забили досками окна и взялись за несогласных.
Выпустили секретный циркуляр, которым предписывалось «допросить гимназистку Земелину, утверждающую, будто бы 3 августа 1919 года над городом произошло так называемое явление так называемой Божьей Матери. Заставить признаться, что показания взяты со слов посторонних. Если она будет настаивать, то подвергнуть оную психиатрическому освидетельствованию…»
8
На допросе в Чека чисто выбритый, словно актёр без грима, следователь в кожанке, наперекор Олиному рассказу о чудесном видении Защитницы небесной, принялся доказывать обратное, отрицал, вкупе с самим Богом, и всяческие сверхъестественные происшествия, таким образом косвенно признавая их, ибо при отсутствии таковых нечего было бы ему и опровергать.
– Как если бы дождя не было, никто бы его не видел, то и спору не могло быть – лило или нет, – так отвечал ему отец Михаил, бывший с Олей на допросе…
Домой из Чека Оля пошла одна. Священника арестовали. Попова М. И. обвинили в том, что он «состряпал заведомо невероятный акт о явлении Богоматери над г. Архангельском, чем сознательно старался усилить симпатии населения к представителям Союзных сил и возбудить ненависть к власти большевиков». Приговорили батюшку к расстрелу. Потом смилостивились, снизошли до каторги, и с тех пор его никто не видел. Но Оля, к чести обследовавшего её врача, была признана «вменяемой, с устоявшейся психикой».
9
Дети из дома № 135 приуныли после известия об аресте священника. Они любили отца Михаила по-соседски. Он с ними и в «чижика» играл, и на паре своих лошадей катал, и просвирками угощал…
В его несчастье обвинили Олю:
– Из-за тебя всё! Сидела бы тихо за поленницей. Так нет! Богородица, Богородица!..
– Никакого удержу не было у меня. И сейчас бы то же сказала.
– Вещунья какая нашлась!
– Никто тебя за язык не тянул.
– Беду накликала, чокнутая.
– А сами-то вы что? Будто и не видели?
– Облака это были.
– Поблазнило.
– Если бы не ты, Олька…
А городской народ шептался по углам, и опять всё о том же: отчего не обнаружила Пречистая достаточной силы?
Сошлись наконец на мысли, будто и потому ещё Богородица город оставила без подмоги, что не было в нём для неё достойного пристанища – благолепного храма в её честь! Без своего-то угла каково? Вот и не задержалась. А теперь с этими нехристями разве выстроишь? Они и старое-то всё до основания…
Как в воду глядели.
Первого мая был взорван один храм. За ним вскоре разрушили и остальные.
Не тронули только невзрачную кладбищенскую молельню.
10
Ненапрасно болела душа отца Михаила об Олиной судьбе.
Жизнь девочки с приходом новых властей стала складываться в утеснениях.
Те же дети, что вместе с Олей совсем недавно восхищались чудесным видением над городом и горевали после ареста отца Михаила, теперь проходу не давали «глазастой» и «чокнутой». Дразнили. Захватывали в плен и принуждали смотреть на какое-нибудь причудливое облако. Нарекали облако именем святого и кривлялись.
Она вырывалась, уходила молча с опущенной головой, но никогда не плакала, не обижалась на бывших друзей.
Вовсе отступились от неё товарищи по дворовым играм после того, как ей было отказано стать пионером.
Она и не навязывалась.
Теперь после уроков шла она в церковь на Смольном кладбище. Пребывала там допоздна. Домой не хотелось. Там мама вечно в досаде, совсем с ума сошла: только перекрестись, сразу мокрой тряпкой со всего размаху…
– Сдалась тебе эта религия! Сколько из-за неё натерпелись!..
Это она про отца. Он, христолюбивый воин, вернулся из плена весь больной. Зинаида Ивановна проклинала его за добровольческий порыв, а он шёпотом, пока матери нет, наговаривал дочке: «Хорошая ты у меня растёшь. Такой и оставайся. Только помалкивай. На глаза не лезь. А то они меня-то, видишь, во что превратили?»
Скоро отец умер. И некоторое время спустя соседка донесла матери, что «твою Олю с безумной Евпраксией видели. Она у неё теперь в поводырях».
Мать устроила судилище. Била. Заставляла ходить в школу. Тогда Оле уже было шестнадцать лет, и она ушла жить в хибарку к юродивой Евпраксии.
Мать пыталась вернуть – не смогла даже силой…
Когда блаженная померла, Оля стала в лачужке хозяйкой, а в церкви – прислужницей. Убирала, зимой печь топила, стряпала в трапезной. Пела в хоре. Потом приняла постриг и в иночестве стала зваться Ириньей.
11
В тридцатых годах враждебная жизнь заклубилась и вокруг этого невзрачного храмика. На паперти комсомольцы танцевали фокстрот. Обклеивали кирпичную ограду газетами «Безбожник». Били стёкла.
Но вот грянула война с немцами, и всё изменилось.
Уже за первый месяц боёв скопился в душах страждущих женщин заряд вселенского горя, и, словно ударом молнии прошило, вспомнили они о Боге, произошло озарение.
Которую из городских женщин первой повлекло в низенький, убогий храм на кладбище Смольного Буяна, теперь уже не сказать, да и неважно, скорее всего, ожило высокое чувство во всех сердцах сразу, забытые молитвы сами стали срываться с уст. Из недр народной памяти выплыла история о явлении Богородицы над «городом Архангельским» (всего-то с того события прошло, считай, два десятка лет). Вспомнили и о девочке, видевшей Заступницу своими глазами и претерпевшей за то множество несправедливостей. Валом повалил народ в избушку инокини Ириньи. Вдруг все уверовали в её помазанничество. Людская молва её чуть ли не в святые возвела. С благодарностью выслушивали от неё слова утешения, прикоснуться к ней почитали за счастье.
Еогда и сама матушка Иринья была в возрасте Пречистой и облик имела премилый. Вела себя сердечно, участливо и весьма смущалась, когда старые женщины падали перед ней на колени…
Но после войны опять произошёл резкий отток в вере. У кого солдаты погибли, те, отгоревав, стали жить дальше – по наущению земной власти. А у кого вернулись с войны живые, те посчитали своё молитвенное дело исполненным и тоже отступили.
Но всё-таки на этот раз в заблуждении своём архангелогородцы не столь глубоко погрязли, как в тридцатые годы. Евангелие стало ходить в народе, напечатанное на дешёвой бумаге, с помощью копирки или синьки, а то и в фотографиях. Мода пошла на Церковь, как на всё запретное. Начали ремонт Сийского монастыря, сначала как памятника старины, а потом вдруг пронёсся слух о возвращении святой обители в лоно законных владельцев…
12
К благословенным двухтысячным годам инокиня Иринья из розовощёкой девочки, озарённой видением Богородицы в 1919 году, превратилась в сухонькую улыбчивую матушку, ростом ничуть не больше той, десятилетней, Оли.
Глаза у монахини остались такие же чистые, живые, но вправлены теперь были в прозрачные, будто птичьи, веки. Ноздри тонкого носа были словно пергаментные, и личико при улыбке будто бы издавало тихий шелест…
Обитала она в монастыре отрешённо и в полном мирском забвении. Век свой измеряла от солнца до солнца, от обедни до заутрени, от Рождества до Пасхи, и так уже более пятидесяти лет. На неё снизошло старчество, – по её мудрому немногословию. Чистая келейка её была увешана пучками пахучих трав. Матрац из конского волоса на топчане лежал убитый, одеяло из рядна скатано в валик к изголовью. И вместо домашних тапок заведены были лапоточки.
Настоятельницей уже было позволено ей не всякий раз являться к аналою. Во хворости иногда её и неделями не видали на монастырском дворе. Кажется, она уже пребывала в пред отходном блаженстве, когда однажды, словно с неба, сошли (за ней) к ней в келью четверо в чёрных плащах, приехавших тоже в чёрной, как головёшка, машине, будто бы без окон, как могло показаться и по черноте этих окон.
Она сидела на узкой лавочке, словно птица на насесте, улыбчивая ровно настолько, насколько требовалось для гостеприимства. Посетители загромоздили комнатку, только и света осталось, что в лике монахини бумажной белизны и хрупкости.
– Матушка Иринья, мы по вашу душу, – сказал главный из них.
Она покачала головой:
– Душа моя, ребятушки, в управе у Господа моего. Вот незадача-то вам.
И улыбнулась не без лукавства.
Скоро ей стало понятно, что эти вежливые, но суровые, бестрепетные даже какие-то люди (у одного она заметила пистолет в кобуре под мышкой) приехали к ней как к единственной свидетельнице появления в небе над городом образа Богоматери с младенцем.
Пистолет она увидела, когда один из гостей всё пытался заглянуть в её глаза, всматривался и с той, и с другой стороны, будто там, в глазах монахини, выискивал что-то.
– Зачем же, голубчик, ты эдак льнёшь ко мне? – спросила инокиня.
– Матушка Иринья, так ведь ваши глаза Её видели! И может быть, даже на сетчатке отпечаток остался.
Она опять без тени печали улыбнулась «учёному» и ничего не сказала. Им нужно было, чтобы она привела их на то место в городе, где ей открылось чудо. Они усадили её в свою машину, сами устроились по бокам и поехали.
Она сидела меж ними, слушала их, приглядывалась и думала, что за много лет это были первые люди из мира, для коих несомненным стало пребывание Богородицы над городом, это были её верные сподвижники, как сгинувший в лагерях отец Михаил, как её кровный батюшка – доброволец Белой гвардии, и все славные её воины.
Соседи справа и слева от неё молчали, придерживая её на крутых поворотах. А тот, что сидел возле шофёра, всё не унимался, поворачивался к ней, расспрашивал о монашеской жизни и смущал долгим разглядыванием. И потом вот что сказал:
– С вас, матушка Иринья, хоть образ пиши, такая вы вся прямо…
После чего они стали припоминать, существует ли в иконописи лик пожилой Богородицы. И она тоже задумалась об этом, ничуть не соотнося с собой предмет этого разговора…
В городе она попросила остановиться напротив дома, бывшего когда-то под № 135. Не вылезая из машины, через опущенное стекло указала, где она с детьми играла в «чижика» много десятков лет назад.
И тогда её спутники сказали ей, что они здесь построят храм.
А ночевать отвезли в гостиницу, в большую светлую комнату с невиданно широкой кроватью…
Воришно болото (По Писахову)
Во всякой деревне на Двине своя болезнь имелась. В Лявле – падуча, в Ширше – стригуча, а у нас в Уйме – липуча. Или по-научному, «не-бери-чужого-сроду». Кто чужу вешш схватит, к тому эта вешш и прилипнет. Всё твоё нехороше дело сразу на вид выставляется, на людской суд.
Потому и покраж у нас сроду не было.
А ежели нарождался какой мальчонко, на руку нечистый, али кака баба на соседкино добро зарилась, либо жадный до дармовщинки мужичонко заводился, так мы всей деревней ташшили их под гору в Воришно болото, в лечебну грязь.
Наше Воришно болото – одно на весь свет. Спокон веку пользуем. Липучей заразился – сиди, отмокай! Болото дюже вонюче. Со дна горячий ключ струится, пузыри хлюпают, тепло и вязко. Самому не выползти. У нас крюки специальны на соснах развешаны. Кто сомлеет – вытаскивам. В реке выполаскивам. После этого у человека отшибат всяку охоту к чужой вешши.
А тут было лихари питерски в силу вошли. Царя порешили, у справных людей всё добро отняли и за нашу Уйму взялись.
Чтобы ловчей в избах по углам шарить, в один гуменник всех баб согнали. А в другой – мужиков.
День сидим, второй… Я мужиков успокаиваю: мол, недолго осталось ждать. Так и есть! На третий день ворота гуменника распахнулись – на пороге лихари питерски. Мы за головы схватились. Век такого не видывали. Стоят все, словно пчёлами облепленные, короста на них из щепы от порубленных икон, из чугунины от разбитых колоколов, с головы до пят обсыпаны мукой, солёной рыбой обклеены, – не отодрать. Просят избавить от напасти.
Я говорю:
– Болото есть целительно. Посидеть в нём – так и оттянет.
– Веди же скорее!
Залезли болезные в лечебну грязь, им сразу полегчало. Чужо добро отпадать стало. Они и на крепко место наладились, мол, выздоровели. А зыбь наша сама меру знат. Не даёт им ходу.
– А нельзя ли побыстрее? – просят.
– Быстрая вода до моря не доходит, – говорю. – Сидите тихо и раздумчиво, чтобы до костей пробрало…
На корню бы мы извели заразу эту питерску всем народам Земли на радость, если бы не бабы! Порато жалостливы они у нас в Уйме. Зла не помнят. Стали болотным приносить поесть. И своим мужикам все уши прожужжали, мол, хороших людей зря мочим.
И вот ведь беда, мужики у нас в Уйме тоже не больно настойчивы. Закрючили болезных, наскоро сполоснули и отпустили. Забыли старый порядок: послушай бабу и сделай наоборот.
Питерски лихари недолеченные бегом из деревни убежали. Окопались за околицей и по нам стрельбу открыли. Решили Уйму извести. Палят из пушек – мочи нет.
Мужики меня на руководство выдвинули.
Велел я все телеги, что есть в деревне, на Воришном болоте поставить оглоблями в лечебну грязь. А бабам – прыгать на задки. Которы толще, тех и по одной хватало. А которы без мясов, те в обнимку по двое.
Сам я на пригорок встал. Махну рукой, бабы вскочат на задки, опружат телеги. Оглобли с лечебной грязью разом вскинутся, – вонючи струи летят через лес, прямиком в окопы к лихоманам, на долечивание…
Долго перестреливались. Почитай семьдесят лет.
У них снаряды кончились, а у нас в Воришном болоте и на вершок не убыло…
Ульян Ожогов
1
Дед, как выпьет, так выходит на берег, усаживается на слип[30] и начинает:
– Наши ожоговские карбаса, Ульянко, издали видны! вон под парусом идёт. Форштевень с лиселем – словно ручка у черпака. Скулы навыворот. По корме фальшборт. С екатерининских времён мы, Ожоговы, первые карбасники. Да хотя бы и баркас сошьём или вельбот – всё для нас нипочём. Что уж говорить про какой-то там дощаник или коснушу. Наша верфь – потомственная. И всё это, парень, будет твоё!
Мальчик болтает ногами в воде. У деда в руке трубка-носогрейка.
Деревянная плаха на коленях мальчика, кривой резец податливо входит в осиновую мякоть, выхлёбывает лишка до тонкого донца. Будет новая игрушечная лодочка взамен убежавшей под парусом к настоящим, словно по зову крови. Слёзы давно высохли. Дедовские речи сулят счастливую жизнь впереди, в пределах родового ремесла. Кого-то годовалым сажают на коня, а Ульяна повеличали плаванием на корабле. Где-то ребёнку в знак мужского достоинства вкладывается повод в руки, а Ульяну дали шкоты. За школьной партой он первый, и на семейной верфи всегда при почётных делах. Вьёт из пакли смоляные жгуты. Сортирует заклёпки. На поднос, на посыл тоже охоч и умел. Любимец у корабелов. «Всему у них учись, Ульянко, – наставляет дед, – только не скверному слову…»
– Своё дело, Ульянко, – самое большое счастье для человека. Мне эту верфь мой батюшка передал, я – своему сыну, то есть отцу твоему. А он – обязан тебе. Ты единственный наследник. Расти. Человеком станешь!..
Он растёт и в себе выращивает эту верфь в Заостровье, храмом его души становятся лебёдки на треногах, штабеля досок в сушильнях, звон молота в кузнице, он любит каждую стружку, отщепину, проникается умом во всякие изгибы шпангоутов, в развалы бортов и острия скул. Отец, весельчак и выпивоха, гармонь готов обнимать с утра до ночи, а Ульян бессонно сторожит семейное дело, как мать младенца. Скоро, ещё в отрочестве, перенимает первенство – отец желанно с плеч сваливает. В Галиции тата лишается ноги и, придя домой, ударяется в политику. Его выбирают секретарём Совета. В конторке на верфи он устраивает кабинет, вывешивает красный флаг и однажды объявляет, что верфь передаёт в дар новой власти. Два дня гуляют они с нотариусом, не просыхая, а на третий ударяют по рукам и решение гвоздят печатью.
Словно самого Ульяна в рабство продают.
Ночью пробравшись в контору отца, Ульян выписывает себе документ на чужое имя (Николай Петров). Выливает на штабеля несколько баклажек скипидара и зажигает.
На ялике выгребает подальше от пылающего берега, и волны отлива к утру выносят его в море. Он поднимает парус и нацеливается к норвегам. Катер береговой охраны перехватывает судёнышко у самого Канина. Его отпускают. Он год живёт у поморов в работниках. Перебирается на Мурман, оттуда, минуя родные края, – в Сибирь. К тому времени понимает: порыв его из коммунной неволи преждевременен.
Без языка в свободных странах не осесть.
Попадает под призыв и оказывается в военном училище.
2
На первой же лекции впечатляет полковника Красовского тревожный, взыскующий взгляд этого молодого курсанта, кипящая внутренняя жизнь в этом слушателе.
Они сходятся, как родственные души.
Полковник выписывает ему увольнения три раза в неделю. Вместо холодной затхлой казармы, парень проводит вечера в тепле и бархате интеллигентной квартиры со служанкой у стола и хозяйкой за роялем.
Бывшая мадам учит его немецкому и французскому.
Полковник проходится с ним по университетскому курсу мировой культуры. И к выпуску из училища беглец уже читает германцев в подлиннике, отчётливо выговаривает самое длинное слово в немецком: «Donaudampfschiffahrtselektrizitatenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft».
К несчастью, среди книг начальника училища находится и «Майн кампф». Вполне пристойная в годы дружбы с Гитлером, эта книга становится запрещённой. Времена изменяются настолько, что обладание ей рассматривается как шпионаж. И вместо лейтенантской портупеи получает умник для опояски обыкновенную верёвку.
А полковник – расстрел.
В лагере он с нетерпением ждёт войны. Война приходит. Он отключает в себе всяческое блатное духарство, обнаруживает всё ловкое, солдатское, обточенное тремя годами в военном училище, и зимой 1942 года, с первой же маршевой ротой, в штрафном батальоне попадает из лагеря на фронт.
Хорошим знаком считает прибытие на Карельский перешеек. До владений маршала Маннергейма, кумира полковника Красовского, отсюда, с передней линии окопов у озера Суоярви, отделяет его метров пятьсот.
3
…В тумане они подползают незамеченные вплотную к колючей проволоке. Ножницы в тишине рассвета клацкают оглушительно. Сержант торопливо режет, и они успевают спрыгнуть в окоп до того, как рядом длинно, взахлёб, начинает бить у финнов трескучий, звонкий Lahti-Saloranta[31].
Сержант бросает гранату на этот звук. Взрывы следуют один за другим, накатываются крики русских. От взрывов туман редеет. Становится виден ход сообщения, любовно обшитый досками. Коврик перед блиндажом.
Сержант бросает в открытую дверь гранату за гранатой. А он для верности «поливает» нутро землянки из автомата.
Теперь слышатся уже крики финнов: «Хурроу!»
– Отход, Колька!
Сержант вскакивает на приступок, оглядывается – напарник сидит, словно вмурованный в стенку. Ранен? Убит?
– Колька!
Автомат «мертвеца» угрожающе поворачивается в сторону сержанта.
– Уходишь, гад? – озаряет сержанта.
Односекундно дёргается ППШ бойца в окопе, и сжимается воздух от очередного взрыва.
Сержант тягуче сползает в окоп и замирает, как бурдюк.
Над бруствером появляется белокурый стрелок в серой мохнатой куртке легиона «Лотта Свярд». Он целится из винтовки, кричит:
– Кядёть илёс![32]
Ладони красноармейца тянутся вверх…
Его ведут во второй и третий ряд окопов – в штабной блиндаж у подножия скалы.
Спрашивают на ломаном русском:
– Какой част?
Он усмехается и отвечает на чистом немецком:
– Strafbataillon 125 Regiment 24 Einteilung.[33]
Выждав миг удивления, добавляет на финском:
– Muutin puolellasi vapaaehtoisesti. Haluan taistella bolshevikkien.[34]
Он согласен на сотрудничество.
Его сажают на цепь возле нужника.
Завтра в тыл.
…Текут несколько лучших часов его жизни. Он пребывает в полном согласии с самим собой с тех пор, как уходил на ялике от рукотворного пожарища на родном берегу. Жуёт галеты, смеётся грубым шуткам солдат в нужнике. И даже задрёмывает, расплывшись в счастливой улыбке.
Вечером советские войска контратакуют.
Финны забывают о перебежчике.
За плен его снова бросают в лагеря.
4
…Этап сидит во рву под насыпью железной дороги. Неделя в теплушках на штрафном пайке. Голодные, грязные, теперь они мокнут под дождём…
Вода льётся с бескозырок по серым лицам, затекает в задники ботинок. Рукава фуфаек уже не впитывают сырость с губ. Зэки отдуваются от дождя и отплёвываются.
Мокнут и охранники наверху, на бровке у вагонов. Автоматы с полными дисками патронов. И псы с обвислой шерстью сидят там, на шпалах, жалкие.
Трое на корточках – Пахан, Пчёла и он, № 798.
Отъевшийся круглолицый Пчёла – подручный старосты барака – корчится от холода и злобно поглядывает на № 798.
– Ну что, вояка, решился уже или и дальше бодягу будешь разводить? Думал, за войну тебе маза от кумовей выйдет? А они тебя опять к нам. Зассал тогда срок принять, винтовку взял, теперь, сука, за плен вдвое получил. Тебе не жить, если нож не поцелуешь. Сявки жизни не достойны. Сегодня последний срок для тебя. Ну, что старшому передать?
Выпуклые глаза пахана из-за спины Пчёлы выжидательно мерцают под дождём, как чёрный агат. Он ждёт ответа.
По сговору с администрацией этот Расписной проводит чистку. Требует: присяга ворам или смерть.
Трупы вытаскивают за ворота бараков каждую ночь. Сегодня подходит очередь и № 798.
– Какой день сегодня, Пчёла? – спрашивает № 798.
– Кажись, вторник.
– Ну вот, так и передай ему: «По вторникам кура яиц не несёт».
– Не гони порожняк.
– Вкури, Пчёла! Вкури!
– Заясни, бл!.. – требует подручный.
– Просто передай: «По вторникам кура яиц не несёт». Так и скажи.
Сальное лицо «шестёрки» блестит от воды, в недоумении урка часто моргает розовыми кроличьими глазками.
Рядом с ним обливается тем же дождём лицо № 798 совсем другой человеческой породы – с глазами насмешливыми, блестящими от бешеной работы ума…
5
С насыпи слышится крик начальника конвоя. Вторя ему, лают псы. Щёлкают затворы. Зэки поднимаются на ноги и, разбитые на пары, начинают перекатывать бочки с кислотой из вагонов к варочному котлу в цехе бумажной фабрики на реке со смешным названием Пукса.
В паре с № 798 оказывается Пчёла.
Деревянная горка уходит далеко вверх, к горловине котла объёмом в пять железнодорожных цистерн. На досках – жидкая глина. Пчёла только делает вид, что толкает. Нагло смеётся в лицо и похлопывает по шву в ватнике, где спрятана заточка.
– Чего-то не въехал Расписной в твою маляву. Ты баланду замутил – теперь ответ придётся держать. Сперва «опустим» всем бараком, потом в парашу головой.
№ 798 перестаёт толкать, вся тяжесть падает на злобного урку.
– Всё, конец тебе, пёсья вошь! – визжит разъярённый Пчёла, сучит ногами по мокрому глинистому настилу. Находит опору, но № 798 ударом тяжёлого ботинка подшибает его и опять вынуждает через силу толкать в одиночку.
Десятки бочек вкатываются следом, измождённые рабы тратят силы впустую. Вал матерщины обрушивается на Пчёлу. Ему не удаётся тотчас выхватить заточку – он вынужден катить бочку до площадки. Лишь успевает провести ребром ладони по горлу.
– Такого не прощают, душок!
– По вторникам кура яиц не несёт, – повторяет № 798.
На самом верху запаянные бочки с кислотой под присмотром вольного инженера им предстоит ещё вскрыть, словно консервные банки, большим воротом-ножом. № 798 уходит первым. Пчёла немного задерживается, торопливо разрывает подкладку и выхватывает трёхгранное «пыряло». Догоняет он № 798 на другой стороне громадного котла. Ботинки приближающегося Пчёлы грохочут по железному настилу. Увернувшись от удара, № 798 продлевает атакующий разгон, заламывает руку блатаря и направляет бегущего по инерции к горловине котла, смердящего испарениями серной кислоты.
Грохот бочек по рубчатым сходням заглушает дикий предсмертный вопль. Крик разносится внутри котла, как в колоколе, и даже после всплеска ещё долго мечется в клёпаных стенах…
6
Перед отбоем на сходняке в конце барака «номер 798» влезает между нар и откидывается на вытянутой руке – он «держит базар» за содеянное.
Свободная рука, то зажатая в каменный кулак, то расправленная в когтистую лапу, описывает в проходе замысловатые фигуры. Размочаленный шарф от случайного удара по нему трепещет, словно флаг на ветру.
Певучий пронзительный тенор № 798 завораживает.
– Ирод резал, кровь пускал. Рамзее уже бросал в воду. Римляне перед решающей битвой заживо закапывали рабов на Бычьем Рынке, и Карфаген был разрушен! «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и погрузили его во глубину морскую…» А германцы превзошли всех в наведении порядка и дисциплины! Они топили в болоте…
Своей речью он тревожит тени патрициев в сенате Рима…
…Хуже наказания только безнаказанность… Война всех против всех… «Суров закон, но это закон…» Dura lex, sed lex!
Пахан поднимает руку – он умолкает. Тишина в бараке стоит провальная. Даже туберкулёзники не кашляют.
– Про болото – это ты к чему, Дух? – медленно и глухо произносит пахан.
– Я хочу сказать, что на твою финку, Расписной, у всякого найдётся своя финка. А устрашение должно быть тотальным.
– Не по мазе раздухарился… Заясни, – раздаётся из глубины барака.
– Ха! Болото, бл…
– Не въехали чего-то?
№ 798 разъясняет:
– Болото хрустальным ручейком покажется… В кислоту! Всех, кто по старому закону, – в кислоту! В бочку, на трап – и в котёл…
Гулом возмущения откликается барак. Слышатся крики недовольных: «Грабки не раскидывай!», «Красным слова не положено!», «Мужику западло законы менять!»
Пахан согласно кивает и произносит: «Ша!»
После чего все начинают укладываться спать, ворча и матерясь вполголоса…
В том, 1953 году долго ещё блатной мир сотрясают кровавые расправы, но здесь, на Пуксе, сопротивление старых воров оказывается сломленным…
7
Освобождают из зоны обычно в субботу после обеда, чтобы тюремщикам можно было «закосить» воскресные пайки выбывающих.
Женщины посёлка стоят у ворот тюрьмы нарядные, с записочками за обшлагами (сейчас бы эти бумажки назывались визитками). Одеты в прямые юбки, в колоколы. На головах – «менингитки» по моде или яркие платки.
Пестрят напомаженные губы, трепещут завитки и чубчики самодельного перманента.
Скрипят ворота. Стая прощёных зэков переходит черту. При виде женщин смущаются даже самые прожжённые уркаганы, кривляются, защитно переругиваются. Со стороны женщин доносятся слова поздравления, запах духов.
В руки «отсидевших» ловко втискиваются адреса (важно перехватить мужчин на пути до магазина, после чего в торжестве освобождения под действием водки произойдёт роковой сбой, всё превратится в скотство, как чаще всего и бывает).
Аппаратчица Будёна Лысова (имя дано в честь славного комдива-рубаки Будённого) стремительно подходит к бывшему № 798 и протягивает ему шарф собственной вязки так же торжественно, как пионеры преподносят подарки стахановцам или героям-челюскинцам:
– Желаю вам счастливой жизни.
Срывается с места и убегает, стуча каблуками по доскам, ловко и вёртко переставляя маленькие ножки в полусапожках.
В шарфе матёрый зэк обнаруживает тетрадный листок. «Ул. Химиков, дом 32, боковая дверь». Далее – имя и фамилия. По краям нарисованы цветочки.
Поезд у него уходит утром. Он идёт к ней. Думает, что на ночёвку. Но она своей любовью гасит его порыв к безграничной свободе. Он решает хотя бы временно остаться на бумажной фабрике вольнонаёмным.
Его берут столяром-краснодеревщиком в подпольный цех, где чекисты делают мебель для «своих».
8
Сорок лет – конец молодости. Крах браков. Угасание всякой лирической романтики. А его в сорок лет только настигла первая любовь. Из последних сил, запыхавшись, упав без чувств ему на шею – невесомая, туманная, пахнущая черёмухой и метилмеркаптаном (ядовитые выбросы из варочного цеха).
Непонятно где, в каком уголке его сердца и смогла угнездиться, – всюду рубцы, окостенения, сушь от зла мирского и зла собственного, взращённого этим сердцем и вброшенного в мир на горе и несчастье другим.
По нынешним временам такое вживление чистого и нежного чувства можно было бы объяснить своеобразным биостимулированием, но в те годы подобных подспорий не существовало, стало быть, и метафоры неприменимы.
Также нельзя сказать, чтобы молодильными яблоками, брызгами живой воды или купанием в кипящем молоке преображён был человек.
Остаётся согласиться, что очищение происходит самым примитивным способом – душевным единением с молодым женским существом.
Настигает человека счастье.
Ходит бывший № 798 словно мешком по голове ударенный. Обветренное костистое лицо отдаёт розовым, усмешка заговорщика играет во взгляде прозрачных глаз под светлыми ресницами. Улыбку, словно ветерком, натягивает то справа, то слева. И просматривается в этой великовозрастной невменяемости что-то от лёгкого сумасшествия, вовсе не страшного, однако настораживающего.
Из него, немилосердного бойца-гладиатора Петрова, вдруг прорастает шестнадцатилетний улыбчивый невинный Ульян.
Чудный росток в душе расцветает на диво себе самому (Будёна-то его другого и не знает).
Он начинает писать стихи «под Лермонтова». Наизусть, слово в слово, выучивает его «Маскарад» (на зоне пересказывал, «тискал». А теперь в рабочем клубе записался на роль Арбенина).
Тогда же проникается он одержимостью к красивой одежде. Для приработка мастерит парикмахерские щипцы и завивает поселковых женщин. Отдельно, не спеша, с необычной для себя ласковостью, сооружает причёски и для своей Будёны.
В такие минуты его сильные переломанные пальцы приобретают чуткость часового мастера, каждый её волосок для него важен и люб. Жестокий воровской авторитет по кличке Дух, он тогда превращается в художника. Руки, знавшие хруст рёбер под лезвием ножа, производят изящные, прямо-таки балетные движения. Кулаки, не раз перемалывавшие лица в кровавое месиво, расправляются в голубиные крылья.
Он сравнивает себя с Пигмалионом и рассказывает недоумевающей Будёне эту историю.
Как, бывало, на верфи в Заостровье захватывало его вырезывание по фальшборту всяческих наяд и нереид, как затягивало теперь его мебельное дело на фабрике, так тонет он в непознанной до сих пор женской теплоте и пылкой потайной ласке востроносенькой Будёны.
При всём благополучии любовников, при его отвращении к спиртному и тяге к прекрасному, всё же соединение юношеской нежности и доверчивости в его душе со звериной мстительностью, с привычкой к молниеносному ответу на причинённую боль в конце концов приводит к беде.
Как с головы до пят окатывает его любовью, так и ревностью опаливает – сразу до кости.
Он не имеет опыта подобных переживаний, вовсе не знает женщины как существа иной природы. Его обуревает самолюбие, болезненное до извращённости.
Привыкший и на зоне, и на фронте действовать безоглядно в ответ на любое оскорбление, отвечать молниеносно, он дико ревнует к прошлому Будёны.
Это происходит с ним, когда они находятся на клюквенном болоте за десять километров от посёлка.
На завтра, в понедельник, назначен поход в ЗАГС, и глупенькая простодушная Будёна решает очистить душу перед суженым, рассказать о своих предыдущих мужчинах, чтобы предстать перед ним во всей честности и правде.
Он пинком отшвыривает корзину, полную ягод, кровавая россыпь проливается по мхам. Орёт, бьёт кулаком по стволу чахлой сосенки и раненым зверем, матерясь и рыча, метровыми шагами вламывается в лес, уходит, не оглядываясь.
В их комнате крушит всю мебель, разламывает прибор для перманента, с корнем выдирает из потолка шнур электролампочки.
Ночует в сарае.
К утру остывает.
В комнате Будёны не оказывается. Подруги тоже не видели её. И номерка в заводской проходной не висит.
Он кидается на болото, на поиски. Приходит к россыпи клюквы. Кричит. Пытается найти следы. Дотемна до изнеможения мечется по лесам и болотам – нет отклика.
Возвращается с надеждой увидеть её и повиниться. Но проходит ещё одна ночь, а Будёна не объявляется.
Милиция ищет с собаками, но всё напрасно.
Пропала Будёна.
Он берёт расчёт и уезжает в Архангельск.
9
Проходит жизнь…
…Рамщик на лесопилке – жена – дочь – внуки; хор завода – танцевальная студия – публикации в газетах; митинги – перестройка – установка поклонного креста в Заостровье; смерть жены, отъезд дочери в Норвегию; работа над книгой – одиночество…
10
…И вот однажды утром его видят на окраине города. Ёмкий чёрный плащ с погончиками громыхает в шаге, две седые гривастые бороды ветром сбиваются на сторону.
Он минует заброшенный трамвайный парк и шагает среди деревянных домов на подгнивших сваях. Улицу словно штормит, дома стоят враскачку, как плоты на волнах, дощатая мостовая горбится, трость приходится использовать по прямому назначению, опорно.
Глядя на него из окон, говорят:
– Наверно, поп какой-нибудь.
– Храмов настроили, теперь ходят…
– В церкви будет своей палкой-то грозить…
На асфальте в центре города он расправляет плечи. Трость начинает играть. Вскидывается торчком. Опадает. Вонзается в твердь. И опять делает выпад вперёд.
В тусклых глазах светятся только зрачки, и он как бы смотрит на город сквозь эти отверстия размером с булавочную головку.
У переполненной урны ветер листает газету.
Сапогом он прижимает лист, а тростью переворачивает и дальнозорко прочитывает заголовки.
Тонкий девичий голосок звучит за спиной:
– Вам плохо, дедушка? Вам помочь?
Он ловко поддевает газету концом трости, закидывает в урну и на страх девушке принимается яростно утрамбовывать бумагу вместе с прочим мусором.
Очистив трость от прилипшего окурка, далее шагает в овеваниях автобусных выхлопов, презирая их ядовитость.
Отражённый в стёклах маркетов, учиняет разгром в этих храмах чревоугодия, тростью крушит электронную нечисть, перерубает манекены, нанизывает и расшвыривает окорока.
Древние гостиные ряды на набережной отражают в нём свою старину: его шляпа, борода и трость оказываются одного порядка с арками, нишами и башнями.
Здесь его ждут, распахивают перед ним чугунные ворота.
Невысокий плечистый смотритель с прозрачными глазами и гладким лицом, не знавшим бритвы, улыбчиво пятится перед ним и словно бы пригибает рукой невидимый кустарник на пути гостя.
Они усаживаются за стол друг против друга, – диктофон уже включён.
Течёт тишина. Счётчик записи выбрасывает секунду за секундой.
В 10:17:03…
– На пепелище не говорят о светлом будущем, – произносится трубным жестяным голосом. – Прежде надо выйти из подлой жизни. Это тяжело, но нестыдно. Чудо приходит внезапно…
Скоро его звонкий, металлический голос достигает силы и страсти пилигримов-пустынников.
Слова ложатся в библейскую строку: «…От подошвы ноги до темени головы нет у нас здорового места: язвы, пятна и гноящиеся раны…» (Книга пророка Исайи, 18).
…Он сидит, вцепившись в трость мёртвым хватом, раскачивает её, будто вытаскивает кол из плетня. Ударяет в пол, отбивает фразы.
С самозабвением глашатая «вбрасывает в вечность» слова о людях мира и людях Земли, проклинает одних и возвеличивает других, призывает к победе нации, добытой в битве с недостойными. «На Земле грядёт последнее кровавое ристалище, – говорит он. – Мы пережили смерть своего детства. Теперь мы – последние солдаты, способные принять бой, последняя надежда людей, и нас должен объединить дух мести. Ибо даже христианство предполагает Апокалипсис…»
Галстук у него тугой. Он вскидывает голову, и раздвоенная борода топорщится грозно, бивнями. В голосе звучит трубная медь. Не хватает суконного рубища на плечах вместо дорогого чёрного пиджака из чистой шерсти-викуньи. Капюшона на голове… Но образ дервиша не складывается лишь де тех пор, пока взгляд не достигает брюк из той же заморской ткани, но заправленных в обычные армейские сапоги.
Вид кирзачей взывает к известному имени знаменитого старца времён конца Российской империи…
Вдруг он умолкает и с интересом прислушивается к своему сердцу – оно бьётся всё медленнее.
Глаза его выражают радостное изумление от того, что с ним происходит. Так улыбаются дети перед тем, как заснуть.
Сначала он зажмуривается, потом сникает и свешивает голову на грудь.
Голос едва слышен: «…Спасёмся правосудием, и правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель. Ибо мы станем как сад, в котором нет воды…» (Книга пророка Исайи, 27)
…Сегодня, на третий день голодовки, он уже испытывает сладостное одурманивание от угасания.
Со стороны кажется, что он задремал, оперевшись на трость…
Входит женщина и ставит перед ним чайный поднос.
Он вскидывает голову, удивлённо оглядывается и гневно пристукивает тростью. Поднос со стаканом чая (голодает он всухую) отталкивается с плеском.
С двух сторон к нему подступают помощники, чтобы поддержать. Встав, он с силой разводит локти, освобождаясь от свидетелей его минутной слабости.
Он всё сказал.
Остаётся только достать из потайного кармана свёрток воспоминаний-проповедей и судорожно разжать пальцы, чтобы свиток упал на стол…
Подоконник в бывшей крепости столь широк, что смотрителю приходится на коленях подползать к стеклу.
Писец долго глядит ему вслед…
Старинный задубелый плащ-макинтош хлопает на ветру так же гулко, как паруса стоявших когда-то здесь, на причале, торговых шхун.
Широкие поля шляпы колыхаются от порывов ветра.
Свежий воздух подкрепляет его. Необходимость бороться с напором ветра возбуждает в нём обычную неуступчивость.
Встречные невольно сторонятся, освобождают для него пространства больше, чем надо, и оборачиваются вслед…
11
И ещё не всё.
12
…Он садится на табурет, заворачивает брючину до колена и большой палец правой ноги, раздавленный давным-давно на лесоповале, засовывает в скобу на спусковой крючок дробовика. Ноготь на пальце закаменевший, рифлёный. Об этот ноготь он когда-то чиркал спички, прикуривая.
Теперь, вблизи, он с удивлением обнаруживает, что и другие пальцы на ноге тоже кривые, корявые, с пучками жёстких волос на сгибах.
Кажется, ступня принадлежит какому-то гнусному соглядатаю за его спиной.
«А ну, крыса, пивом не дыши!» – цедит он сквозь зубы. Словно кто-то чужой в нём, изжитый, выговаривает эти слова, давно забытые, закатанные в асфальт его долгого существования среди приличных людей.
Он оглядывается через плечо, словно бы там в самом деле должен кто-то стоять. Ему нельзя допустить постороннего в задуманное им – великая идея требует соблюдения абсолютной чистоты исполнения.
Сталь под пальцем ноги уже нагрелась, желанно быстро сроднилась с плотью, но соития не происходит. Брезгливо глядя на изувеченный палец, он осторожно вытаскивает его из скобы…
Ружьё укладывает на колени, прижимает ладонями, точнее, множеством костей и косточек (восемнадцать в одной кисти), отчётливо видимых под кожей, сухой, как бы даже шелестящей.
В коротком седом «ёжике» на его голове гнездится блик лампы, а буйная белая борода, подкрученная на концах, раздваивается.
Он шумно дышит. Шевелятся и ноздри, и уши, а когда скрежещет зубами, то и «бивни». Веет от него какой-то нечеловеческой яростью, его сотрясают глубинные силы, неизвестно каким образом сохранившиеся в нём до таких лет, как и все зубы во рту.
Следствием этих нерастраченных сил являются и его картины на стенах в самодельных рамках, на рыхлой бумаге (на самой большой изображён карбас под парусом на широкой реке).
На венском стуле высится баян в футляре под лоскутом карминно-красного бархата (наколенник при игре).
Сотни книг ровными рядами стоят в шкафах и на полках, а на самом виду под стеклом выставлена для обозрения коричневая, с золотым тиснением, – «Свиток памяти», книга, написанная им, но напечатанная под псевдонимом Ульян Ожогов.
Хотя это и есть его настоящая фамилия.
«Умри вовремя», – вспоминается ему из Ницше.
Время, видимо, ещё не подоспело.
Он натягивает на ногу шерстяной носок и засовывает в сапог – домашнюю обувь не признаёт, презирает, просто терпеть не может; при виде всяческих тапочек, шлёпанцев, вьетнамок злобствует удивительно несоразмерно со столь ничтожными предметами раздражения.
Встаёт и притопывает. Весь в чёрном, даже галстук, даже платок в нагрудном кармане чёрной рубахи (крови не будет видно).
Ещё раз притопывает, и ещё. Надо бы пойти, но шаг вынесет его в мир живых, напоит воздухом бытия. Коли встал, надел сапог, так хотя бы стой.
«Стоять!»
Волевым усилием ему удаётся остановить проникновение жизни в ледяной каркас его великого намерения. Глаза его опять словно бы подсыхают, вместо моргания – едва заметный тик…
Только в рамках задуманного он позволяет себе, немного погодя, двигаться и действовать – мастерить толкатель.
В углу за верстачком с тисками ему требуется ударить молотком по сгибу проволоки. Его опять сковывает. Рука останавливается на замахе. Он не желает, чтобы звук удара разрушил величественный покой происходящего, воспрянули земные желания и за зря пропала долгая работа над покорением плотской силы в себе, три дня не бравшем в рот ни капли воды, ещё нынче днём сидевшем в многочасовой шавасане, в упорных медитациях посреди этой комнаты.
«Что у стрёмно, волк тряпочный?..»
Самое трудное теперь после первого срыва, – вновь одушевиться мыслью о сверхчеловеческом, продумать действия, создать реквизит, найти грамотное инженерное решение (оперативник при расследовании должен оценить, удивиться и рассказать сослуживцам)…
Он сидит в углу за верстачком с тисками. Толкатель уже готов и испытан. Кольцо скользит по дулу, штанга двигает спусковой крючок.
Сейчас он разложит диван, упрёт приклад в стену, чтобы не случилось отдачи, а дуло – в висок. Движение руки вдоль дула с зажатым кольцом будет отстранённым, вовсе не стрелковым по своей природе, атак, поглаживание, ласковое, поощрительное…
Диван впитает кровь, на полу будет чисто…
Вот только как это не подумал он, что для уловления выбитых мозгов и костей черепа потребуется некий экран…
Он накидывает фуфайку на спинку стула, прижимает к изголовью дивана. Довольный собой, чуть было не расплывается в улыбке, однако успевает ухватить за хвост этого шмыгнувшего мышонка жизни.
…Диван расхлопывается с грохотом, и взгляд его падает на полупудовую гирю в углу. Он хвалит себя за целеустремлённость мысли. При виде гири приходит на ум гораздо более удачное решение: поставить гирю на край.
Привязать к курку. Столкнуть гирю на пол… Достаточно будет лёгкого прикосновения – и чугунный слиток силой гравитации сам всё сделает за него…
В округлости гири видится ему лицо бабы Шуры, соседки, угощавшей его пирогами по праздникам. Этого становится достаточно, чтобы в душу опять хлынул живой тёплый ток, словно в остановившееся сердце – струя адреналина из шприца.
«Понты побоку… Завязывай!..»
Из его костистой грудины исторгаются невнятные грубые звуки, какие-то проклятья и ругательства. Однако ружьё он обкладывает подушками уже с нежностью, словно неразумного младенца, чтобы ненароком не скатился на пол…
Ложится на диван совсем по-стариковски, кряхтя и морщась от боли в спине, представляя себя со стороны, хорошо ли лежит.
Ему видны между двумя остриями белой бороды, за провалом, в том месте, где должен быть живот, концы сапог начищенных до блеска, тоже, как и борода, распавшиеся на обе стороны.
Трость ложится поперёк груди и резиновым наконечником прикасается к гире.
В висках стучит – сильно, упорно, отрицательно.
Телекамера, прикрученная скотчем к абажуру, выпиленному когда-то лобзиком, красным огоньком с любопытством смотрит на него.
«Как бы не села батарейка…», – последнее, о чём думает он…
13
Теперь всё.
Из цикла «Вдвоём»
1. ОБРАЗ
– Пожалуйста, Люси, приподними подбородочек. Такая милая тень у тебя под нижней губкой. Сейчас я возьму её ультрамарином с каплей кобальта…
– Тебе не кажется, что тона какие-то покойницкие?
– Ошибаешься! Я преисполнен оптимизма. Ни больше ни меньше, вижу я тебя сейчас – как весны явление!..
Она сидела в плетёном кресле на крыльце дачи в деревне Ширша и жмурилась от апрельского солнца. На ней были валенки, пуховый платок и заячья шубка, протертая на швах.
Он стоял в отдалении за треногой с палитрой в руке и щурился от дыма сигареты.
– Вот скажи мне, Люси, почему весну всегда изображают цветущей девушкой? Ужасный стереотип! А я вижу весну в твоих немного усталых глазах, в первых розовых пятнышках на твоих щеках, в беловатой окантовке губ. Весна, Люси, – это выздоровление! Помнишь, у Максимова «Всё в прошлом». Барыня сидит розовощёкая, но уже безнадёжная. А ты у меня будешь прозрачная, хрупкая, но полная самых радужных надежд. Назову так: «Болезнь отступает».
– Уже целую зиму отступает, отступает…
– Прости, милая! Конечно же, отступила! «Болезнь отступила». Как сразу заиграло на холсте, всё стало складываться в одно целое!
Он стал отбивать по картине белилами гребёнку сосулек на карнизе, лужицы от капели на досках крыльца, продолжая говорить:
– Мне нравится, что ты не впадаешь в панику, словно какая-нибудь истеричка. Болезнь – это всего лишь обратная сторона здоровья. Человек живёт век, а его образ – вечность… Бессмертная душа человека витает в космосе в виде его образа, Люси… Живописцу дано видеть бессмертный лик человека уже при его жизни, и весьма несхожий с тем, что ты, к примеру, видишь в зеркале… Великое благо для любого – попасть под кисть живописца…
– Ага! Это как к тебе на набережной в туристический сезон? Раз-два, – и вот вам бессмертный образ?
– Кроме шуток, Люси! Частица плоти каждого остаётся в земле безликой молекулой. Даже тень человека – это произведение великого художника по имени Солнце – исчезает. Но образ, увиденный глазами мастера кисти, благополучно витает на просторах мироздания. Он вечен, ибо лицо человека – понятие относительное. В двадцать лет оно одно, в сорок – не узнать.
– Ах, ах! Просторы мироздания! Скромности тебе не занимать… Может быть, ограничишься всё-таки просторами холста, который тоже, кстати, тленен.
– Ну что ты, Люси, что ты! На холст переводится образ вечный, неведомый для натурщика. И горе тому человеку, у которого не нашлось своего художника. Он исчезает с серым пятном вместо лица, так и не познав себя. А художник – провидец. Ему ведома самая суть души человека. А что такое душа? Это есть образ…
– Ты просто хочешь как-то оправдать своё ремесло, придать ему великий смысл. Разные художники писали совсем непохожие портреты одних и тех же людей… И кто же тогда определял, какой истинный, а какой ложный?
– Истинные, Люси, были все! Пребывание в разных образах – великое счастье для человека.
– В некоторых религиях вообще не разрешается рисовать ничего живого. Как же быть?
– Бедные, бедные! Этот пережиток, кстати, очень живуч и у нас. Почему женщина долго не показывает людям новорождённого – это своё творение, а потом всю жизнь боится потерять его фотографию? Потому что, видите ли, с ней потеряется и душа ребёнка. Чувствуешь, Люси, древний страх перед изображением человека (выявлением его сути), страх перед художником или просто перед чужим взглядом. И, знаешь ли, страх этот оправдан. Ибо до сих пор так и не выяснен вопрос, кому принадлежит образ человека: тому, кто его источает, или тому, кто его разглядел. Меня однажды чуть не убили в этой тяжбе… О-го-го, Люси! Тайна сия велика есть – образ! Это тебе не сновидение какое-нибудь, не марево, не мираж. Образ присущ только тому, что можно увидеть в здравом рассудке. Покажите мне рай, я нарисую его, и тогда можете вывешивать мою работу в церквах. А не наоборот, сначала нарисовав нечто, потом убеждать меня, что этот образ имеет под собой какое-то основание.
– А как же Данте? Его ад?
– Это шутка поэта, Люси. Обрати внимание на название – «Комедия». «Божественная комедия». Кощунник! Он посмеялся над грядущей инквизицией, только и всего.
– В ту пору комедия не означала обязательно смех.
– Но ведь, Люси, и не трагедией же он её назвал.
– Ты тут обмолвился о каком-то убийстве…
– Всего лишь о покушении, Люси, всего лишь… Я не хотел тебя расстраивать… Но коль зашла речь, пожалуйста. Коли к слову пришлось, отчего же не рассказать.
Он подошёл к ней, расправил узел её шарфа, словно увядший бутон, прихотливо изогнул концы воротника, потом из-за треноги примерился глазом и продолжил…
– Да, всё началось на набережной у морского причала. Июль. Навигация в разгаре. Ну и мы там «бомбили» на панели с моментальными портретами. Подошёл круизный, повалила публика. Краем глаза вижу: возле меня трётся, мнётся женщина – статная, фактуристая, довольно скромно одетая, типичная провинциалка, и, что странно, без подружки, одна. И бейджика у неё нет – значит не туристка. Потом разговорились, оказывается, она из области. С верховьев… У меня ценник вывешен, видимо, ей оказалось по карману. Как водится, сначала были ужимки, нервный смех, усаживание в позу..
Я сначала быстренько углём её схватил, можно было на этом и закончить, но руки прямо-таки чесались. В добавок прошёлся карандашом. А потом ещё немного пастелью. И до того объёмно получилось, до того выразительно. Я увлёкся. О чём-то говорили, не помню. Она уже устала, устраивалась поудобнее и так и этак, но недовольства не выражала. А я весь был захвачен тенями, линиями, штрихами на бумаге, так что подолгу не глядел на неё. Это был тот случай, когда рисуешь человека с натуры, а потом не узнаёшь на улице…
Кажется, человек сидел перед тобой в полуметре, ты сканировал его взглядом до последней морщинки, складочки, выпуклости. Кажется, и запечатлеться он у тебя в голове должен, как никто другой, а ничего подобного. Ибо ты выжимку делал из его лица, создавал нечто особенное по своей природе, а вовсе не копию! Так же и с мадам вышло… Удачный получился портретик. Оригинал я ей отдал, а сам уже по памяти дома быстренько ещё один набросок сделал. Образ с образа. Что-то меня удерживало в ней, в этой моей крестьяночке, как я её для себя назвал. Эти её глаза, что ли, чистые, словно после бани, кожа на лице – упругая, будто маска натянута, и маленькие, такие хрусткие ушки в пуху льняных волос…
– Почему я не видела этой работы?
– Люси! Во-первых, я прекрасно знаю, как ты относишься к моим натурщицам…
– Мне уже давно всё равно.
– Во-вторых, ты тогда как раз в больнице на обследовании лежала. В-третьих, мне вдруг предложили поучаствовать в выставке «Лица». Я за пару деньков довёл до ума эту мою «колхозницу» и отнёс в комиссию. И совершенно неожиданно для меня эта шутейная картинка стала «иконой» выставки. Попала и на телевидение, и в областную газету. «Упорхнула» от меня. И тут началось!..
– Фанфары, премии, награды?..
– Не надо, Люси. Иногда и мужчины плачут!.. Приходит в Союз гневное письмо от этой замечательной селяночки, из которого она предстаёт вот уж совершенно не в образе, увиденном мной и запечатлённом на картоне. Тигрица, медведица какая-то из конверта вырвалась, пантера!
«Я, – пишет, – спортсменка, активистка, пять лет подряд избиралась секретарём парторганизации (господи, когда это было-то?), имею грамоты и медали…» И вот поганец художник опозорил такую расчудесную на всю область… Хотя, Люси, портрет был без подписи. Не всякий бы её в ней и узнал. Просто абстрактный образ сильной, волевой, по-своему красивой русской женщины из народа.
– Ключевое слово – «по-своему».
– Ну да, естественно. Я писал её отнюдь не комплиментарно. Я тогда творчески завёлся. Самоконтроль потерял. Писал с неё то, что меня поразило, взволновало в ней. Не подумай ничего такого, Люси! Это было волнение совсем другого рода…
– Я уже давно ничего не думаю.
– В том письме она писала, что она за тот мой портрет деньги мне заплатила только для того, чтобы никто больше его не увидел. Сразу после сеанса зашла за угол, порвала в клочья и выбросила в урну.
– Какие эмоции! Даже интересно стало, чем же он ей не понравился?
– Я, говорит, была депутатом, руководила самодеятельностью, участвовала в телепередаче «Поле чудес»…
– Ага, уже начинает проясняться.
– Что, Люси?
– Просто несчастная женщина. Одна по городу бродила. И спортсменка и партийка – это всё в прошлом. И о детях, о муже в том письме, конечно, ни слова…
– Ну да…
– А тут ещё всякие живописцы в душу лезут…
– На суде я к ней подошёл, извинился. Она побледнела, вскочила на ноги и принялась бить меня сумкой по голове.
– Как сумкой?
– Ну, как это обычно делают женщины, отбиваясь от хулигана…
– В сумке, надеюсь, кирпича не было?
– Я руками прикрылся.
– И это в зале суда? Куда глядели приставы?
– Суд ожидался интеллигентным. Были приглашены два эксперта, искусствовед, мои друзья-художники. Намечалась содержательная дискуссия…
– Это на одну бедную женщину?
– Конечно, все были в шоке.
– И что же присудили тебе, провидцу-духовидцу?
– «…Картину считать произведением искусства… Изображение женщины на картине…. не связано с личностью Любови Сергеевны Варенниковой… Иск отклонить…»
– Небось дама апелляцию подала?
– Не знаю. Если что, повестка придёт.
– Слушай, гражданин подсудимый, а может, просто-напросто ты совершил художественный промах? Может, ты не образ нарисовал, а образину?
– Обижаешь, Люси. Первая премия на выставке. И вообще, людям нравится. Пойдём, я тебе покажу. Отличный портрет! Эта Любовь Сергеевна когда-нибудь почиёт с миром, а её из-обра-жение будет жить, не скажу, что вечно… Хотя чем чёрт не шутит… Помнишь Шопенгауэра? «Мир – это лишь воля и представление!..» И вообще, Люси, глазами художника на землю смотрит Бог!..
– Я замёрзла.
– Минутку, минутку… Посиди ещё немного.
– Что это ты вдруг лист переменил и за карандаш опять схватился?
– Мысль пришла: нарисовать образ с образа! Интересно, что это за фрукт такой – образ в своей глубинной сути?
2. АЗБУКА БРАЙЛЯ
– Помнишь, Люси, ты мне рассказывала, как тебе, двухлетней, чтобы ты не плакала в одиночестве, давали том энциклопедии. Я представляю: ребёнок с огромным фолиантом на коленях! Переворачивает страницы, смотрит картинки… Девочке два года… И этот бумажный кирпич… Она сидит в углу дивана, обложенная подушками, чтобы не свалилась, и самозабвенно листает… Если бы это была не ты, то я бы подумал – выдумка. А вот и нет! Это была ты, Люси! Двух лет от роду…
– Тогда мне было уже три.
– Три? Это мало что меняет. Пусть будет три, четыре… В такие лета, в лучшем случае, можно буквы выучить и слова типа «мама»… А тут БСЭ!.. Весь опыт человечества!..
Со стаканом только что сваренного на печке глинтвейна он влез на деревянную стремянку с сиденьем наверху, вытащил наугад тяжёлый тёмно-синий том, устроился под потолком поудобнее, раскрыл его и прочитал:
– «Пекулярное движение звёзд – перемещение звёзд в небе, обусловленное их действительным движением в пространстве…» Мамочка моя!.. Ведь и сейчас ни слова непонятно… А что же тогда тебя здесь занимало?..
Сидя у печки в кресле с кочергой в руке, она поколачивала головни и сгребала угли к стенкам.
Заканчивался обыкновенный зимний вечер на даче, когда по лесу гулять уже поздно, а за сериалы садиться – рано. Мороз потрескивал в «суставах» старого строения. Пахло крепким кофе и будто бы подогретыми духами «Cherry».
– Вот скажи мне, Люси, как объяснить увлечённость младенца непонятной книгой?
– Как, как… Смотрела в книгу, видела фигу.
– Шуточки неуместны, Люси. Ребёнка не обманешь. Никакой фигой не заинтересуешь. Ты была захвачена чем-то очень серьёзным. Ты была буквально зачарована, не так ли?..
– И ни одной странички не порвала!
– Вот я и говорю, не игрушкой вовсе это было для тебя. Нет, не игрушкой. Можно было бы отнести это к чисто женскому началу. В таком роде, что девочка с книгой – это вам не девочка с персиками. Такая-то особа гораздо более привлекательна. Элемент кокетства можно было бы допустить, если бы не твои младенческие лета. Хотя нет, слушай, Люси, а не рождается ли кокетство вместе с девочкой? В три-четыре годика девочки уже сами катают колясочки и кормят, укачивают кукол. Вот и книга у девочки на коленях не была ли атрибутом некоего образа для привлечения внимания к себе, чтобы все заговорили о таком милом ребёнке, чтобы он прославился и получил преимущество по отношению с другими. Женское соперничество, стремление к лидерству пронизывает вашу жизнь насквозь. Женщины находятся в состоянии борьбы друг с другом ежеминутно, не так ли Люси?
– Тебя занесло на поляну замшелых сексистов. У мальчиков разве не так же? Эти ваши сражения на палках, споры ни о чём, вечные драки…
– Значит, всё дело в книге, и только в ней! Значит, эти тысячи страниц текста в картонном переплёте испускали какие-то токи, магнитные поля, ещё не поддающиеся измерению, как когда-то гравитационные волны. Гравитацию открыл ещё Ньютон, а прибором измерили эти колебания только через двести лет…
Он захлопнул том и отстранил его на расстояние вытянутых рук.
– Книга притягивает взгляд – с этим ты не будешь спорить, Люси? Запах книги приятно туманит сознание. Волнует тяжесть книги. Ребёнок всё это переживает безотчётно. Как ты думаешь, не в этом ли разгадка нашей с тобой воображаемой картины «Девочка с фолиантом»?
– В твоём глинтвейне разгадка. Воображение разыгралось…
– Обижаешь, Люси! Я давно над этим думаю.
– Не ты первый. Тоже ещё лет сто пятьдесят назад кто-то там «имел благородное побуждение к чтению книг, содержанием которых не затруднялся».
– Ба! Гоголевский Петрушка! Замечательная память у тебя, Люси! Я просто восхищён. Цитируешь, как по-писаному. Не результат ли это фундаментального образования в сосунковом возрасте?
– Это результат трезвой жизни.
– Насчёт Петрушки – отличная мысль, Люси! Петрушка был первым человеком на Руси, кто овладел скорочтением. Чудесно, Люси! Читательский опыт Петрушки вовсе не достоин осмеяния, как и твой в молочном детстве. Всё это лишь подтверждает моё предположение о книге, как источнике особой энергии, передающейся без проводов, квантами…
– Напиточек действует всё сильнее…
– Постой, постой, Люси! Азбука Брайля! Да! Вот! Замечательно! Ведь тогда ты тоже, как слепая, листала эту энциклопедию! И как незрячая, по-своему, всё понимала! Да, невнятно, непроизносимо, но общий дух схватывала и перекачивала в себя – это безусловно!
– Какой там дух! Для слепых печатают специальные книги. Вся страница в пупырышках. Они на ощупь читают.
– Ах, Люси! Как низко с твоей продвинутостью в эзотерике такую интерпретацию давать моей чудесной гипотезе с квантами.
– Ну извини.
– И сейчас, как бы завершая жизненный круг чтения, ты опять приходишь к тому, с чего начала, долго и, со стороны кажется, бессмысленно смотришь в раскрытую книгу, читаешь медленно, с карандашиком. По несколько строк в день этих своих Ледбитеров, Джойотишей, Клизовских… Совсем как тогда, трёхлетняя…
– С карандашиком – да. Но гораздо более, чем по несколько строк. Не ври.
– Но тоже ведь будто фигу видишь. Тоже ведь почти что вслепую, как тогда, крохой на диване. Тоже внимая лишь малой доле заложенной в книге информации. А иногда (я замечал) в каком-то забытьи просто сидишь над книгой, и всё. И этого тебе достаточно.
– Дурочку из меня строишь?
– Люси, ну, не будешь же ты утверждать, что все семь томов Бхагават Гиты уложены у тебя в голове по полочкам? Без обид, Люси! Просто мне хочется дойти до сути. Раскрыть тайну притяжения книги, её власти над нами.
В ответ послышался только более сильный, чем обычно, стук кочерги в печке.
– Видишь ли, такая «энциклопедия», опыт полного непонимания читаемого были и у меня, Люси, только случилось это не в твои три года, а в мои четырнадцать. К твоему удовольствию, это может означать, что мальчики тупее девочек. Фора – десять лет! Ты права, Люси, мальчишки, если они не вундеркинды, довольно примитивные создания. Войнушка, драки, подглядывание за девочками… Хотя я и был из видной семьи, но рос уличным парнем (как-нибудь я поподробнее расскажу тебе об уличной жизни шестидесятых годов). Замечательное было время! Свобода ошеломляющая. Мама в две смены в школе. Отец по госпиталям, по санаториям. После войны весь больной пришёл. Свобода!.. Исключение из школы я упредил переходом в вечернюю. И устроился работать в кочегарку Дома пионеров (тогда в каждом приличном доме в подвале была своя котельная)… Пал, как говорится, на самое дно. Единственное спасение – изостудия в Доме пионеров. Талант никакая улица не убьёт… Сдержит развитие – это да. Но зато и материалом наделит по горло… В Доме пионеров я художником и стал… Но сейчас, Люси, речь не о кистях и холсте – о книге. Вернее, о кочегарке.
Котёл работал на дровах. Была зима. Метровые поленья, сырые, обмёрзшие, колоть приходилось с приступка, иначе замаха не хватало. Колун, клин, кувалда… Я изнемогал. Сил не хватало. И мне помогал сменщик – освободившийся из тюрьмы зэк. Он и жил за котлами: тюфячок, одеяльце, постирушки на верёвочке. Узнав, что он из тюрьмы, я совершенно не испугался.
Было время блатных песен, мы все были пропитаны лагерной романтикой. Да и зэк-то попался мне вовсе не страшный. Вор-форточник. И к тому же запойный книгочей.
Ну, ты знаешь, Люси, в тюрьмах ведь самые благодарные читатели. Да ещё среди шофёров… Вот и он или дрова колол, или чифирь варил, или книгу читал на тюфяке за котлом под тусклой, запотевшей лампочкой, в майке и трусах, – там жарко было.
Со мной обходился запросто. Мне внушал, что в тюрьме ничего хорошего нет.
И в то же время откровенничал. «Вот отлежусь, присмотрю дельце – и в Ялту!»
«А если попадёшься?» – спрашивал я.
«Если и попадусь, то не сразу. Своё отгуляю. Лето, осень, а там пускай берут…»
…Узнал он, Люси, что у меня дома хорошая библиотека, и попросил принести почитать что-нибудь. Нет, в том-то и дело, не что-нибудь, а с точным указанием. Стендаль. «Красное и…» Слушай, Люси, я так до сих пор и не разобрался, «Красное и белое» или «Красное и чёрное»?
– У него есть и то и другое.
– Ну, это, где про парня с женским именем…
– «Красное и белое». Люсьен Левен.
– Вот-вот. Я принёс. Книга потерялась. Студенты-сменщики зачитали… Я и забыл об этом Стендале – он был тогда для меня пустое место. И вот однажды мой зэк заходит в кочегарку в костюме и шляпе (шляпы тогда мужчины носили поголовно) и вручает мне толстенный голубой том… Золотое тиснение… «Исповедь»… Кажется, даже имени автора не было на обложке… Просит прощения за потерю этого красно-бело-чёрного, говорит, что возмещение равноценное.
И больше я его не видел…
В том году в ноябре ударили холода. И меня турнули из кочегарки перед самыми праздниками.
Чуть трубы не разморозил… Диверсия!..
А я рад был избавиться от этой каторги.
Один в квартире. Бог знает, может быть, по примеру этого моего благородного уголовника взял я эту его «Исповедь» и завалился на кровать.
Читал день и ночь, без преувеличения, Люси!
Прочитал, захлопнул. Лежу обалдевший. Ничего не понял. Дни пронеслись, как в угаре. Словно в бреду. «О чём это? Что это я прочитал?» И не поверишь, Люси, тут же начал по новой читать! И опять не мог оторваться. И опять смысла не уловил. Ну, не врубался, – и всё тут! Помню, даже с каким-то страхом смотрел на неё, на книгу…
Прошёлся этот Жан Жак Руссо по мне, как банщик Митрич – рёбрами ладоней по спине, перетряхнул всю мою мальчишескую душу…
Я будто вирус подхватил. Всю зиму просидел в Добролюбовке (какое-то недоверие во мне возникло к домашней библиотеке – казалось, только в «публичке» можно было обнаружить такой же наркотик).
Эта потрясающая взрывная радость от чтения «Исповеди» была со мной всю жизнь.
Пока я не захотел её перечитать… Да, Люси, истинно, не возвращайся туда, где был счастлив… Купил я эту «Исповедь» в дешёвом мягком переплёте, в бульварной серии… Прочитал. Понял теперь, конечно, всё.
Но никакого потрясения, никакого опьянения и духовного ошеломления уже не испытал. Во второй части она даже мне показалась скучной, надуманной.
Если бы я в зрелом возрасте впервые открыл её, то, скорее всего, и не захватила бы она меня.
Хотя нет, слог великолепный! Изящество! Искренность! И, что главное там, – свобода, Люси!..
Он отхлебнул остывшего глинтвейна, опять наугад раскрыл том энциклопедии и произнёс вслух:
– «Парфорсная охота с гончими собаками…» Хм! Интересно.
И углубился в чтение.
Она закрыла дверцу печки на задвижку, глянула на него снизу и вздохнула:
– Как ребёнок, ей-богу!
3. БРЫЗГИ АФРОДИТЫ
– Ужасно много скучных, унизительных работ у людей, Люси! Мусорщик, дворник, разносчик пиццы, арматурщик… Драгоценная жизнь человека тратится так бездарно!.. Работают для прокорма самих себя, и только. Ну, ещё немного для каких-то развлечений. Устают, теряют образ и подобие человеческое, перестают не только мыслить, но и думать. И так изо дня в день, из года в год. Всю жизнь, Люси!.. Мало кто находит в себе смелость начать жизнь свободного индивидуума, бросить постылое дело. Это ежедневное хождение «на работу». Рабское, рабское существование!.. Но с другой стороны, Люси, а если бросят все – и этот арматурщик, и этот мусорщик, продавщица мороженого, и таксист, и зубной техник, фермер, бармен, маникюрша, маклер… Вся жизнь остановится, цивилизация погибнет. Жизнь на Земле держится на преодолении скуки, тоски, досады…
– А я вот, например, мечтала стать маникюршей!
– Отчего же тогда пошла в музучилище?
– Приятно быть на сцене.
– Тщеславие! Надёжнейшее лекарство от скуки будней! Стремление к широкой известности! Человек, Люси, рождён для славы, как птица для полёта! Все хотят прославиться. Блажен лишённый тщеславия, но таких нет. Последний пьянчужка в деревне куролесит, вытворяет бог знает что, лишь бы обратили на него внимание, пускай даже кинулись на него с дубьём, но он сделал это! Он стал героем дня! Втайне он бы желал даже и помереть от удара этого самого дреколья… Как ни печально, Люси, но надо признать, что неожиданная трагическая смерть возмещает десятилетия бесславного существования. Профессионалы славы эффектно стреляются в расцвете сил. И смертью смерть поправ, остаются в веках на вершине славы – в бессмертии, в памяти человечества. Жаль, что само человечество невечно…
Они неспешно одолевали свой привычный маршрут по набережной – от гостиных рядов до яхт-клуба и обратно – в один из первых, самых чистых и свежих дней лета, когда от реки ещё пахло льдом, таявшим теперь где-то там, в океане. На ней была тёплая вязаная кофта и шляпа с цветком, а на нём – бейсболка и подбитая ватином джинсовая куртка.
– …И страшен человек, не познавший славы! Множество таких людей, Люси, мстя за своё безвестное и бесславное существование, устраивают кровавые расправы над счастливчиками. Вопят: «Кто был ничем, тот станет всем!» И в результате, точно, получают свою порцию славы, пусть и с геростратовским душком. Все эти арматурщики, дворники, мусорщики, шофёры… Да что говорить, и охранники, и секретарши, и повара, и мясники с маникюршами…
– Тебя что-то на маникюршах сегодня зацикливает.
– Весьма к месту, Люси! Ваша женская красота! Она, эта ваша красота, не поприще ли самого яростного тщеславия?
– Ой, пожалуйста, не надо! Скажешь тоже, яростного… Достаточно посмотреть на ваш боксёрский поединок, чтобы признать за женским соперничеством самое мирное проявление страстей.
– Но всё-таки и ваше стремление быть лучшей, получить титул «Мисс такая-то» хоть и замешано на лунной энергии, но от этого не становится таким уж безобидным. Какие интриги затеваются! Какие яды подмешиваются! Девочка с ноготок, а уже одержима первенством. Вот скажи, Люси, когда ты впервые почувствовала на своих щёчках брызги от Афродиты?
– Фу! Как выспренне!
– Скажу проще. Когда ты впервые прославилась?
– Когда в детском садике меня назначили Снегурочкой.
– Знаешь, а меня впервые опахнуло крылом Виктории… Ну, прости, прости за пафос!.. Мне было четырнадцать. В тот день я с ручкой управления стоял в центре кордодрома[35] на углу Урицкого и Набережной и гонял по кругу модель самолёта. Было много публики, и мне даже аплодировали. Смотри-ка, Люси, мы с тобой можем с абсолютной точностью назвать день окончания нашего детства. У тебя – новогодний праздник в роли Снегурочки. У меня – один из летних дней тысяча девятьсот шестидесятого года на маленьком игрушечном аэродроме… Ну, хорошо, детство прошло. И как же дальше с тщеславием у женщин? Всё, опять же, решает красота, не правда ли?
– Не знаю, как говорится, не пробовала. Ни на подиуме, ни на экране, ни в балете я первенствовать не могла, данные не те… Красота, конечно, высочайший критерий. Но всё-таки слава большинства женщин – их дети, из которых потом вырастают такие вот бесконечно философствующие субъекты на променаде набережной, которые поглядывают по сторонам в поисках пивной или рюмочной.
– Вот уж неправда, Люси! Тем более, что я точно знаю, – здесь нет подобных заведений… Серьёзно, Люси! Ты права, более всего женщины гордятся своими сыновьями. Ну а если рождаются девочки? Тогда что?
– Матери хвастаются их удачным замужеством. Чего тут непонятного? Ну а как же дальше с тщеславием у мужчин? Каково оно было, твоё пребывание на пике славы?
– Нет, Люси, сначала ты про свой пик.
– С какой стати я? Вопрос был задан тебе.
– Нет. Сначала ты.
– Что за каприз?
– Ну, пожалуйста, Люси!
– Хорошо. Это было, когда я на выпускном в училище сыграла Пятую сонату Бетховена.
– У тебя всё было по-настоящему.
– Слышу нотки зависти.
– Как бы так…
– А тебе что, стыдно признаться?
– Немножко.
– Немножко стыдно не бывает. Или стыдно, или нет.
– Моя слава, Люси, была несколько сомнительная.
– Как!? Ты молчал! За все эти годы нашей жизни ты не признался, что вкусил скандальную славу! Ну, говори же, говори! Где? Когда?
– Картина была такая – «Корова на лугу». Вымя розовое, налитое. И пять сосков.
– Как пять? У коров четыре.
– Тогда это вызвало резкие политические ассоциации. Пять сосков – это пятилетний план. И он как бы абсурден. Теперь это даже несмешно, а тогда весь город меня на руках носил. Это было ещё до тебя. Я был молодой, дерзкий. Тогда ты вышла за меня в надежде стать женой великого художника…
– Ни о чём подобном я даже и не думала. Просто ты мне нравился.
– Ты всю себя отдала мне. Вот, отыграла своего Бетховена, отгремели те аплодисменты, и потом со мной – сплошная чёрная полоса… Прости, не оправдал…
– Ну, ну, что это ты вдруг загрустил? У тебя много замечательных работ.
– Кому они нужны в запасниках, Люси?
– Тебе были нужны, когда ты их создавал.
– Создавал, между прочим, в уповании на мировую известность!
– И это прекрасно. Хотя бы великое упование было у тебя, и, надеюсь, оно живо в тебе до сих пор.
– Ну, как-то так.
– У тебя прекрасный набросок на мольберте. Смело. Свежо.
– Ты так думаешь, Люси?
– Ну, как-то так.
Они остановились у парапета, глядя на яхты в гавани.
На двухмачтовом кэче поднимали паруса. Ветер волновал полотнища одинаково с водой, намекая на их родство.
Он пристально наблюдал за отходом судна, а она деловито просматривала вызовы в мобильнике.
– Смотри-ка, тебе предлагают иллюстрировать детскую книжку, – сообщила она.
Он помрачнел, тяжело вздохнул и зашагал по набережной в обратном направлении.
Едва поспевая следом за ним, она на ходу поглядела в зеркальце и, догнав, опять взяла его под руку.
Часть II Трамвай любви
Маша и медведь (Рассказ молодого инженера)
Она плакала.
– Завтра – на дачу. На весь отпуск!
– Из-за этого так огорчаться?
– Меня увозят на дачу, понимаешь?
– В общем, догадываюсь.
– Гриня, это рабство какое-то!
– У рабов есть право на восстание. Поживи у подружки. Можешь и у меня.
– Это будет предательством, Гриня!
– Это – тирания, Маша!
– Это – папа! Он меня любит!
– Он любит себя.
– Ты не понимаешь…
Вот уже года три, как мы были знакомы, вместе отсиживая часы в офисе небольшой строительной фирмы, в отделе виброустойчивости. Изредка выезжали на замеры в спецмашине. Водителем был дядя Петя – отец Маши. Он и шефа возил, а в долгие часы безделья вышагивал по коридорам офиса весёлым надсмотрщиком. Кажется, даже сам шеф его побаивался. Бесцеремонно, обаятельным простаком заходил дядя Петя в любой кабинет и с ходу начинал тянуть «одеяло на себя». Его любили как большое домашнее животное. Целыми днями околачивался он в кабинетах. Непременно и в нашем, вибрационном.
По коридору приближался неслышно. И если у нас с Машей было тихо, то он ударом плеча распахивал дверь в надежде застать нас за чем-то, по его мнению, непристойным.
Мы были крайне осторожны, и разоблачения не получалось. Однако попыток «взять меня за шкирку» он не оставлял. Чувствовал неладное, что какая-то туча надвигается, тать ночной вожделеет его бесценную Машу….
А если, подкравшись, слышал наши бесстрастные голоса, то отворял дверь медленно, заговорщически, высовывал голову и вырастал в кабинете этаким пятидесятилетним озоруном с глянцевым безбородым лицом, белой пыльцой на розовом черепе, маслянистыми глазками – в армейской выкладке с множеством клапанов и карманчиков.
Меня он называл не иначе, как Григорий, но на южный манер смягчая обе «г» в моём имени, хотя сам был кровным северянином. Вроде бы как унижал.
– Хрихорий! – говорил он, развалясь на стуле посреди нашего кабинета. – Рождённый ползать летать не может!
Его провокации заводили меня с полуоборота. Вот и тогда я принялся длинно рассуждать, что летающая бабочка рождается из ползающей гусеницы, и, следовательно, пословица бессмысленна. А живот дяди Пети в расстёгнутой выкладке под тельняшкой уже трясся в язвительном смехе:
– Дарвина давно перечитывал, Хрихорий? У бабочки полное перерождение. Все вещества в ней совершенно не похожи на гусеничные. Эх, Хрихорий, Хрихорий!..
Как и все представители его профессии, он был начитан. Эссе Шопенгауэра «О женщинах» знал едва ли не наизусть. И как-то совмещал женоненавистнические убеждения этого немца со своей страстной отцовской любовью, которая, мне казалось, тоже, как бабочка и гусеница, имела двойственную природу. Чистая родительская – в бытность Маши десятилетней девочкой. И банальная мужская – к цветущей молодой женской особи Марии Петровне, как он её напыщенно величал.
«Наша Маша» была восхитительна. Она была, безусловно, красива, но какой-то негородской красотой, будучи возделанной в теплице постоянного отцовского контроля.
Первое время красота её меня даже озадачивала. Потом дошло: косметики не хватает!
«Если заливной луг и в диком виде прекрасен, – думал я, – то лужайка перед домом требует доводки, ландшафтного дизайна, так сказать».
Чёрные брови Маши нуждались, на мой взгляд, в минимальном выщипывании. Большие глаза желали обводки и как бы вытягивания. Носик – теней. Без этой доработки она выглядела слишком домашней, слишком девственной.
ВНИМАНИЕ! Довольно сложная метафора, объясняющая мои чувства к Маше!
«Ещё на подлёте к ней снаряд ПЗРК в виде ракетообразного мужского достоинства оказывался в зоне действия её лазерного разбрызгивателя ложных целей, после чего всяческие греховные помыслы и решительные сексуальные действия сбивались с заданной траектории, попадали „в молоко”…»
Я часто мыслил такими вот авиационными образами.
Будучи «земляным червём», строителем, рождённым ползать, копил деньги на дельтаплан, бредил авиацией и всюду обнаруживал её аналогии, отчего часто попадал под огонь издёвок дяди Пети.
Наша с Машей любовь была чистой, как воздух стратосферы (опять, пардон, за сравнение).
Всё говорило о том, что «тепловая защита» у самолёта по имени Маша будет отключена только в брачную ночь.
Процесс, хоть и медленно, двигался в этом направлении.
В начале этого лета мы с ней уже объяснились. Дело оставалось за малым – поговорить с её папой, с вездесущим этим дядей Петей.
Я собирался с духом, ждал удобного случая. «Гнал волну». И вот, видимо, старый ревнивец почуял что-то недоброе, торкнуло где-то у него в сердце, и он уже «за шкирку» взял Машу – решил увезти её от греха подальше, на дачу, хотя я тоже одновременно с ней уходил в отпуск, и дядя Петя вполне бы мог использовать меня в качестве подсобного рабочего на его «вечной стройке» в значительном удалении от города, в районе Трёх озёр, как это уже бывало не раз.
Правда, надо заметить, всегда без Маши.
Видимо, дядя Петя не только в Шопенгауэров заглядывал, но и в наших русских классиков. Знал про дачные нравы молодых бездельников, полагал, что это распущенность, и, конечно, не желал сводить нас с Машей на природе.
И в прошлое, и в позапрошлое лето всегда мы вдвоём с ним на его даче копали, рубили, строгали с утра до вечера. Делали какую-то грубую, безрадостную работу.
А я как раз не любил современную дачную жизнь «кверху задницей», с вечным хождением по участку с топором в руке, лопатой, мотыгой. «Если у меня будет дача, – думал я, – то сооружу из брусьев стапель и заложу на нём фюзеляж легкомоторного самолёта с мотоциклетным мотором».
Самоделыциком в своём роде был и дядя Петя, скарабеем. Дача у него была, можно сказать, секонд-хендовая. Где в городе сносят дом – там обязательно увидишь и фургон с надписью «Виброустойчивость», и дядю Петю, таскающего в кузов деревянные брусья, оконные рамы, трубы и унитазы.
Его дача стояла на этих унитазах, раковинах, и, когда я помогал ему заваливать бросовыми сантехническими приборами фундаментную траншею, он восхищённо приговаривал:
– На века, Хрихорий! Фаянс нетленен! Базальт! Двойной обжиг!
Бетонные плиты с заброшенного аэродрома образовали стены его дачи. Рельсы узкоколейки сгодились на балки. Скрученные в пекле пожара кровельные листы выпрямлялись и покрывали крышу.
– Знаешь, во сколько мне обошёлся мой «дворец»? – спрашивал дядя Петя. И, насладившись моей озадаченностью, показывал дулю.
При этом большой палец у него был настолько толстый, что не пролезал между указательным и средним.
На даче среди деревенских он держал себя барином. Сам был горожанином в первом поколении, но столь глубоко презирал мужиков, что даже в сельский магазин не желал заходить. Продукты закупал в городе, забивал ими морозилки в трёх холодильниках, тоже доставшихся ему задаром от знакомых, заменявших их на новые.
Старинный самовар с медальной чеканкой был для дяди Пети как любимая игрушка для ребёнка. Место для самовара торжественно устроил он на помосте посреди дворика в окружении скамеек. Вечером растапливал эту священную водогрейку шишками, непременно еловыми, наслаждался смолистым дымком, как от затяжки «травкой», так же затем и чайным духом с блюдца, что заменяло и табачок, и водочку. (Рюмку выпьет, словно костью подавится, – кашляет, крутит головой, наливается кровью… Одно мучение было с ним выпивать. После этого он сразу спать уходил. А за самоваром мог долго просидеть.)
Домик в деревне построил он на отшибе, и, что самое странное, – окнами в лес. Объяснял эту причуду довольно старомодными выкладками в духе Генри Торо, но, когда я в попытке сближения с ним, заговаривал и о Вернадском, и о Коммонере, он негодующе замолкал, гринписовцев обзывал «засланцами Штатов», а самого Генри Торо, оказывается, не читал или умалчивал об этом, чтобы слыть свободным от западного влияния.
Всё он читал! Мне довелось побывать у него дома, правда, не в качестве друга Маши, а в качестве салаги в его хозяйстве. Наш шеф менял мебель и старую отдавал бессменному шофёру. Я таскал ящики и краем глаза оглядывал жилище дяди Пети. В двух книжных шкафах стояли издания от Платона до Сталина. Причём книги были старинные, тридцатых годов, издательства «Academia», доставшиеся ему от отца-крестьянина, революционного выдвиженца.
Тогда же я и его супругу рассмотрел. Обрюзгшая женщина с седыми космами, по виду немного не в своём уме, приближалась ко мне с безумной улыбкой, тянула руку к моему лицу и говорила:
– Как мне нравятся мужчины с бородой!
Она успела потрогать мою бороду, прежде чем дядя Петя утолкал любопытную в кухню посредством бухты грузчицких ремней. Он, похоже, не хотел прикасаться к ней.
По моим наблюдениям, его не то чтобы не тянуло к женщинам, но прямо-таки отталкивало физически. В очереди в столовой, будь перед ним хоть раскрасавица с открытыми плечами, он, что называется, воротил нос, «держал дистанцию», выражаясь по-шофёрски.
Скорее всего, он был вовсе лишён гормона окситоцина, и близость с женщиной должна была бы вызывать в нём или глубочайшее уныние, или ярость.
На даче во время перекуров, походя, за обедом или за его любимым самоваром он на эту тему часто «зондировал» меня. Пытался низвести мои мысли на непотребное, с его точки зрения, чтобы прорвались наконец во мне подлые намерения относительно Маши, – слишком подозрительной казалась ему наша с ней затянувшаяся дружба.
– Ну что, Хрихорий, хороша Маша?
– Да, она очень хороший человек.
Я был настороже и отделывался общими фразами.
Тогда дядя Петя заходил с другой стороны.
– Во время Московской олимпиады, Хрихорий, одну нашу сучку поимел ихний негр. Вроде бы ничего страшного. Палку кинул и уехал в свою Америку. Через три года эта баба вышла замуж за нашего и родила негритёнка. Вот так-то, Хрихорий.
Я попытался возражать, мол, эта евгенистическая теория не доказана. И её применяли гитлеровские расисты. Женщина, мол, защищена от подобных происшествий чисто физиологически. И не заметил, как попался на удочку. Дядя Петя смотрел на меня с прищуром народного мстителя, будто бы получив косвенные доказательства падения Маши, совращения её мной и был готов учинить расправу, хотя мы с Машей только целовались.
…Кроме крестьян и «баб», тотальное неприятие у дяди Пети, настоящую утробную ненависть, вызывали ещё и богатые люди.
– Они же обокрали нас, Хрихорий! Подчистую!
Обуянный духом противоречия, я опять принимался доказывать, что при мировом разделении труда деньги отчуждаются. Это не сообщающиеся сосуды, а, скорее, дождевые облака. Откуда польёт и на кого – никто не может угадать. Даже деньги, положенные в банк, нельзя считать своими, только кражу кошелька из кармана можно назвать кражей. Но дядя Петя был непреклонен.
– Вот был бы у меня автомат, пошёл бы я к ним и всех от груди «порезал».
У меня чесался язык ответно разобрать по косточкам его предпринимательство, страсть к собиранию отслуживших вещей, имеющих немалую остаточную стоимость. Присвоение её тоже в своём роде воровство (что плохо лежит). Мол, у него самого рыльце в пушку. Но, предвидя его снисходительные усмешки, прикусывал язык.
Вот с таким человеком (папой) суждено было Маше провести четыре недели отпуска тет-а-тет!
Перед отъездом мы с ней встретились, съездили на горы. Я делал там подлёты на дельтаплане с инструктором, она восхищалась и ужасалась – этот день помнится мне теперь, как самый счастливый за последнее время.
Несколько минут парения в воздухе на ремённой подвеске плавно перетекали в длительное состояние невесомости на хлипких стульчиках под красным тентом-парашютом кафешки аэроклуба.
На Маше, помнится, была блузка из белой парусины с рукавами-фонариками, смело расстёгнутая на три пуговицы, а на высокую грудь под ней как бы стыдливо были наброшены два хвостища чёрных волос.
Мартини возымел нужное действие, восполнил отсутствие макияжа – губы у Маши сделались ярче, сочнее, и когда она смешливо таращилась на меня, будто бы наводя резкость, то брови у неё разлетались вширь и становились тоньше. Она улыбалась с закрытыми глазами.
– М-м-м…
– Прекрати строить из себя пьянчужку!
– А что, ты думаешь, я трезвенькая?
Она улыбалась, и я целовал её ямочки в углах губ. Она в тот день была совершенно размягчённая. Теперь я думаю, было ошибкой с моей стороны не усадить её тотчас в машину и не увезти к себе домой. Кажется, тогда она была непрочь. Но мне не хотелось разрушать это восхитительное состояние окрылённости: из-под настила под нами то и дело стремительно выскальзывали дельтапланы, уносились вниз, быстро превращались там в бумажных голубей, и казалось, не они пикировали, а мы взлетали.
Я отвёз её в «берлогу».
Назавтра, в день их отъезда на дачу, с утра дядя Петя, что называется, «припахал» меня. Мы ездили на его фургоне по «точкам», набивали кузов всяким барахлом.
Из гаража-ракушки на Обводном канале перетаскали для дачи в машину около двухсот кирпичей б/у со следами извёстки и цемента. Потом поехали в квартал деревянных домов и там из сарая перенесли в фургон несколько рулонов старого линолеума. А в заброшенном бомбоубежище, практически в центре города, за горой ржавых стиральных машин, газовых плит и велосипедных рам я разглядел автомобиль «Победа» в консервационной смазке…
Думаю, что у дяди Пети и ещё были укромища.
– Ну, Хрихорий, выражаю тебе благодарность от лица командования!
Он пожал мне руку, словно подушечками обложив мою костлявую пясть, и встал так, что перекрыл ход к дверце фургона, к пассажирскому месту. То есть бесцеремонно высадил меня и уехал.
С Машей тогда я так и не попрощался.
Коротать разлуку помогала мне «летака»[36]. Дул сильный южный ветер, и парить можно было с утра до вечера. Я уже пересел на моторный, на бывшем колхозном поле доверено мне было разгоняться и подниматься до трёх метров. Через недельку инструктор обещал разрешение на «коробочку». Отпуск не пропадал даром. Каждый вечер я просиживал в дельта-клубе за пивом и мартини.
Звонков от Маши не ждал – в их деревне мобильник не подключался.
Однажды сижу в кафешке на холме, любуюсь закатом, и вдруг – её голос в трубке:
– Гриня, срочно приезжай! У папы – удар! Надо перевезти в город.
– Что, сердце?
– У нас дачу местные подожгли. Папа тушил. Перенервничал. Теперь не встаёт.
– Лечу! Лечу! Ты-то как?
– Только волосы немного обгорели.
Я сел в свой старенький «пассат» и помчался на юг по шоссе М-8 со скоростью (пардон) легкомоторного самолёта.
Из всего поместья дяди Пети уцелела только баня.
Оконные рамы в бетонных панелях выгорели дочерна, рельсы-балки прогнулись от жары, и крыша рухнула. Листы железа, которые мы с дядей Петей так тщательно выпрямляли киянками после их «родного» пожара, опять свернулись в «бутоны».
Даже самовар, хотя и стоял на своём пьедестале в отдалении от огня, и тот расплавился: носик отпал, труба повалилась набок.
По подобию самовара, и дядя Петя тоже лежал в жезлонге в виде текучей массы, словно бы тело его тоже размякло от огня, лишилось формы. В нём было что-то от контуженного зверя. Он смотрел на меня с бессильной яростью в плачущих глазах, словно в ожидании контрольного выстрела, и если бы у него сейчас хватило сил, то он растерзал бы меня.
Говорить он мог, хотя и «с кашей во рту». Мы загрузили его в мой «пассат», и скоро с заднего сиденья донеслось:
– Баба за у-уём, Хрихорий, – машина без о-одителя… Бойся – сразу перестройся…
Тут я вспомнил, что дядя Петя ненавидел ещё и женщин на шофёрском месте.
Едва живой сидел, а, заметив на остановке у светофора фемину за «баранкой», не смог не съязвить…
Неделю наш «патер» отлёживался в больнице.
Маша взяла отгулы и не отходила от него. Потом попросила меня привезти его домой. На пороге квартиры он рывком избавился от моей поддержки и даже оттолкнул довольно болезненно, давая понять, что я свободен.
Некоторое время я ещё возил им продукты. Пакеты тоже принимались у порога – тайно, чтобы не расстраивать папу.
Когда я попытался удержать Машу и обнять, то остановился перед её диким взглядом.
Пережив на даче народную злобу, смертельную опасность бытия, страх потери отца, она, видимо, решилась отдаться ему полностью и вдруг стала невидимой для радаров моего сердца (опять прошу прощения за техницизм), словно бы ослепла в несчастье.
С работы теперь она то и дело звонила отцу: «Папочка, папочка…» И целыми днями не поднимала глаз от стола.
Наконец шеф устроил ей фрилансерскую должность, и она стала работать дома.
Некоторое время оставался ещё в кабинете её запах, но и тот скоро исчез…
По выбытию из строя ветерана «Виброустойчивости» рулить машиной с соответствующей надписью доверено было мне. Я ездил в «поле», делал замеры. По Инету передавал их Маше. Она вычисляла и пересылала данные для дальнейшей обработки без всяких приписок-намёков для меня.
С каждой её почтой я как бы чувствовал тычок в спину кулаком дяди Пети в последний к ним приход после пожара, и в ушах стоял громкий хлопок двери.
«Попалась голубка в клетку», – думал я о Маше невесело.
Уже осенью однажды подкатило под сердце, и я «кликнул» её в Сети. Страничка открылась. Но что это была за страничка!
С горечью увидел я в аватарке не фото бегущей Маши, а иконку Богородицы. Девизом теперь у Маши значилось поучение святого Сирина: «Примирись с самим собой, и помирятся с тобой и земля, и Небо».
В раздел «видео» на страничку Маша скачала фильм «Русская Голгофа. Подвиг и служение женщины». Было скопировано несколько обеденных меню для инфарктников, и уточнение: пищу принимать четыре раза в день, небольшими порциями… И далее – бесконечные подборки фотографий разнообразнейших цветов.
Цветы, цветы…
Школота
Три девочки-пятиклассницы, три едва распустившихся бутона на тонких стебельках: голубенькая Ириска, розоватая Флоксия и жёлтенькая Настурция (по цвету их маечек) стояли в тени скульптуры на набережной, выглядывали время от времени из-за постамента и говорили одновременно:
– На каблуках классно! Вот только мышцы сводит…
– Помните, кино такое было – «Фактор внешности»? И там в губной помаде оказался яд…
– Ой, у меня голова кружится, и тошнит!..
А в другом конце берёзовой аллеи, у спуска на пляж, кучковались в это время три мальчика: Физрук, Сталкер и Кот (судя по надписям и картинкам на их футболках).
Сталкер и Кот были белокурыми близнецами. А Физрук – широколицым крепышом с жёстким «ёжиком» на голове.
– Тормоз! Школота! – внушал Физрук, агрессивно наскакивая на одного из близнецов. – Прикинь, они уже на подходе! Вперёд! Решимости не хватало и девочкам.
– …Ну что? Так и будем прятаться?
– Давай, ты первая.
– Ирка, давай ты. Ты – лучшая!
– А кто про меня слухи распускал, что я толстая!?
– Ты на меня думаешь? Это – Бочкова из параллельного!
– Ей мало не покажется!
– Она и про меня говорила, что я косолаплю.
– Меня сейчас стошнит!
– Ну, и что теперь?
– Ой, а Ванька – с цветами!
– Ага! Это мне!
– Губы не раскатывай. Ты вообще своего Ваньку от Даньки сможешь отличить?
– Он – с цветами! А у твоего Даньки только газировка.
– Газировка – Кирюхина! Он откупоривал, я видела.
– Бугугашенька!
– Он просто эльфик!..
У мальчиков были свои проблемы.
– Этот неловкий момент, когда ты забыл купить цветы… – задумчиво произнёс Кирилл.
Он скорчил смешную рожицу и принялся демонстративно хлестать себя по щекам.
– Слушай, Дэн! У тебя целых три цветка. Мы – друзья?
– Мопе-е-е-е… – только начал Даня, как Кирилл подхватил, и они закончили вместе, как заклинание, – мопе-е-е-е-е-е-е-ед!
И ударили кулак в кулак.
После чего у каждого из троицы оказалось по цветку.
– Вот это по-пацански! Ты, Дэн, самый великий пират, о которых я знаю!
– Парни, слава роботам! – прикрыв рот ладонью, сдавленным шёпотом сообщил Ваня. – Я видел! Видел! Они за памятником прячутся.
– Вперёд! – скомандовал Кирилл.
– Ну, ты «жжёшь»!
– А вдруг это не они?!..
– Они – не они… Сколько можно тут торчать?
Мужской подрост сделал первые шаги навстречу приключению.
Отнюдь не движением противника на этот раз было вызвано замешательство в девчоночьей команде.
Лада, отозвавшая Иру в сторонку, свистящим шёпотом выговаривала ей:
– Ты на Свету запала, потому что она новенькая! Так нечестно! Я знаю, на следующий год она с родаками в загранку уедет. Она бросит тебя, как ты меня.
– Ладушка, если у тебя «крышу сносит», я не виновата!
– Мы с тобой вместе с третьего класса! А Светка только зимой к нам перешла.
– Подруга! «Это всё твои игры»! – словами из набора банальных родительских упрёков попыталась Ира погасить накал страстей.
Разбирательство завершилось на полуслове, ибо «новенькая» Света паническим шёпотом возвестила:
– Идут!
Мальчикам было легче. Они знали, что делать: вручить каждой по хризантеме. Вроде бы просто, но без толчеи не обошлось. Неловко, будто слепцы, совали цветы. Девочки «тормозили», не сразу брали. Стояли потупившиеся и подурневшие. Даже самая смелая, Ира, не знала, как быть дальше.
Выручил Кирилл, опять же, прибегнув к расхожим словечкам из компьютерного приложения «Время приключений»:
– «Это неловкое молчание, когда…»
Все улыбнулись, каждый по-своему. Даже близнецы Сталкер и Кот. Один во весь рот. Другой – кривовато…
Оглушённые новизной положения, немного прогулялись по набережной, спустились на пляж и уселись в тени старой яхты.
Опять же, после некоторого замешательства в дело вступил основательный Кирилл. Начал декламировать страшилку – своё сочинение строго из пятидесяти слов.
В этом деле он был «продвинутый чел».
Публиковался на страничке в Инете.
Заговорил в мрачном, заупокойном тоне:
«С тех пор, как Свету жестоко убили, Ваня не отходил от окна. Никакого телевизора, чтения, переписки.
Жизнью Вани стало только то, что он видел через занавески. Ему было плевать, кто приносит еду, платит по счетам ЖЭКа, он не покидал комнаты.
Его занимали пробегающие физкультурники, смена времён года, проезжающие автомобили и – призрак Светы.
Ваня не понимал, что в обитых войлоком палатах нет окон…»
– Дурак! – обиженно воскликнула героиня шедевра Света и принялась барабанить кулачками по спине Кирилла так, что отвалилась головка у подаренного цветка.
Она заплакала от досады.
Её утешили.
После чего опять впали в молчание и, как по команде, взялись за мобильники.
Каждый включил свою игру.
Из кафе на пирсе доносилась музыка.
Тянуло дымком шашлычной.
– Пить хочется, – сказала Ира.
– Давайте закоктейлим! – предложил Кирилл.
– Кто тебе даст?
– Это мои проблемы.
Скинулись.
Кирилл в майке с картинкой из модного фильма об учителе физкультуры, зная, что за ним наблюдают друзья, красивым скоком по песку помчался к пирсу.
Видимо, он уже не первый раз обходил закон. Держался подальше от мамок, от которых жди только выговоров и угроз с вызовом полиции. Не подходил и к молодым парням – они разве что на подзатыльник способны. Не всякий крутой мужик войдёт в положение – много и среди них любителей читать нотации. К бомжеватым тоже лучше не соваться – деньги возьмут, а заказ не принесут.
После нескольких неудачных попыток в руках у Кирилла оказался виноградный «Винтаж».
Возвратился он с банкой коктейля в поднятой руке, как с олимпийским факелом.
Рассовали мобильники по карманам и пустили банку по кругу.
Кирилл принуждал ликовать по поводу приобретения веселящего пойла.
В подражание взрослым, восклицали и показывали большие пальцы.
Напиток начал действовать.
Трепетная Света-Флоксия наконец осуществила свою угрозу – на четвереньках уползла за корпус корабельной развалины, и оттуда послышались её гортанные завывания.
Второй жертвой коктейля стал Ваня-Сталкер. Он просто заснул.
Настурция-Лада затеяла чрезмерно жаркий спор с Ирой о победителе конкурса «Голос».
А Кирилл принялся насмехаться над оставшимся в строю двойняшкой.
– У меня двоится! – развязно горланил Кирилл, указывая на Даню. – Двоится! Ха-ха-ха!
И, совсем недавно клявшиеся в вечной мужской дружбе, они сцепились в драке.
Девочки растащили их. После чего компания уменьшилась ещё на двоих: близняшки убрели домой.
За ними вдогонку убежала и Лада, обиженная неразделённой любовью к кумиру телевизионного конкурса.
Только спортивный Кирилл выдержал роль до конца. Он проводил Иру до дома и у подъезда даже попытался поцеловать.
Ира вырвалась и застучала каблучками по ступенькам.
Он крикнул ей на прощание:
– До связи!..
Вечером во дворе одного из домов на набережной трое мальчиков заводили старенький мопед «Альфа». Поочерёдно били ногой по крючку стартёра и переговаривались.
– Обедни смесь! – советовал Кирилл.
– Просто закрой жиклёр! – предлагал Даня брату-близнецу.
– Под «свечой» пробивает. Прокладку надо новую, – солидно обобщал заводящий.
В далёком прошлом остались дарение хризантем, пир под дырявым корпусом яхты. Напрочь была забыта и ссора.
Вскоре на набережной можно было увидеть, как на этой старенькой «Альфе», дымящей и страшно рокочущей, ехала вся троица.
Один из мальчиков над головой держал стереосистему.
Сквозь треск двигателя слышалась кричалка:
Адреналин, бензин залил, скоростной режим, Только для этих мужчин, что не жалеют шин! То, что им нужно – это лишь байк, и вперед! Железный конь унесёт туда, где никто не найдёт!..А в это время в квартире «у Светки» три девочки возле компьютера пили зелёный чай и обсуждали коллективное свидание на пляже. Вспоминали все подробности и тонкости ощущений. Причёсывали друг друга. Маникюрили и рисовали на руках одноразовые татуировки.
– Он меня за руку, а я как дам!..
– Да, Ирка, ты популярная. А знаешь почему?
– Почему, интересно?
– Потому, что у тебя нет старших братьев. У меня их два. Ко мне парни близко подходить боятся.
– Ой, девочки, кажется, меня опять тошнит.
– Заткнись, пожалуйста!..
Из трёх подаренных хризантем целой осталась только одна – у Иры.
Она тайком от родителей пронесла её к себе в комнату и поставила в вазу на подоконнике.
Ночью мобильник на её тумбочке ожил, загудел, как шмель на стекле.
Пришла эсэмэска от Кирилла: «Я тя крч лю».
Ира крепко спала и не слышала.
Телефон погас.
А белая ночь за окном на набережной сияла в полный накал.
Река остановилась на приливе и во всю ширь зеркалила.
Цвела черёмуха.
Стояли те случайные тёплые дни и ночи, которые всегда заканчиваются неделями холодных дождей – перед летом настоящим.
Чи Ёка
Из-за тумана утро было прожито Зыковым сокращённо – без кофе и теленовостей.
Он долго тащился в пробке у моста в окружении расплывчатых красных тормозных фонарей, потом на ощупь по шоссе, прежде чем рейка шлагбаума авиабазы поднялась, но не скрылась в тумане (как будто стало светлее).
Вдобавок погасли прожекторы в конце рулёжной дорожки – значит и у метеослужбы хорошие новости.
Сильными хватами за перила по звонкой винтовой лестнице Зыков вознёс себя на вышку.
Было 7:45.
Капитан Грибов сидел в наушниках спиной к Зыкову.
– Погоду, погоду давай! – втолковывал он в микрофон.
– Туман инверсионный. Видимость – ноль-четыре, – донеслось из динамиков. – Температура – плюс два…
За своим столиком медсестра Дина Павловна уже расправляла манжету тонометра.
Зыков подсел к ней.
– Как приятно видеть счастливого мужчину!
Жамкая резиновую грушу, она откровенно любовалась им, как «своим», его короткой стрижкой-«британкой» со слегка подвинченной чёлкой. Рассматривала сначала слева (он это чувствовал), потом – справа, опять, наверное, удивляясь, как по-разному изогнуты его охряные брови. Пробежала добрыми глазами по лицу, блёклому, как у всех шатенов. Попыталась заглянуть в глаза. Зыков отвёл взгляд в сторону, но, опять же, не рассердился.
– Как поживает молоденькая красотка? – спросила Дина Павловна.
Зыков принялся рассказывать, как они вчера весь вечер играли «с ней» в шашки – и в «поддавки», и в «Чапаева». И у неё сломался ноготь. Как она потом лихо обрезала остальные. И кончики пальцев оказались у неё прозрачные!
Уже несколько ревнуя, Дина Павловна потрепала Зыкова по голове и удалилась.
Зыков настроил бинокль. Из тумана на бетонку выходили гуси.
«Команды на взлёт ожидаете? Сейчас будет вам…»
Он достал из железного шкафа старую «тулку», с балкона выстрелил холостым. Оранжевый огонёк из дула стал на мгновение единственным ярким пятнышком в бездонной серости мги.
Когда Зыков зашёл обратно в диспетчерскую, на часах было ровно восемь.
Капитан Грибов повернулся на кресле, с наслаждением изогнулся и вытолкнул себя с рабочего места.
– Привет самураям! – сказал капитан.
Их руки схлопнулись.
– Картечью надо было. Сейчас «борт» придёт из Центра. На день рождения к Крестовскому большие люди летят. Вот ты бы к ним и со свежатинкой на подносе…
«Самураи, значит. Ну-ну, подколол, господин офицер. Без этого мы не можем», – подумал Зыков. И будто по подсказке сменщика достал мобильный телефон, выбрал из списка строку, состоящую из двух иероглифов, и нажал «вызов».
На экранчике высветилось фото девушки-японки.
Теперь-то Зыков уже с одного взгляда мог определить среди нескольких азиаток японку. Сразу отмёл бы кореянок – наиболее кукольных и желтокожих. У китаянок – у тех лицо круглее и кожа бледнее. А у японок (точнее, теперь только у одной-единственной, очаровательной и незабвенной Чи Ёки) – нос длиннее, чем у всех вышеперечисленных наций, и повыше ноздрей, между косточкой и хрящиком, – сдавленность.
А глаза – выпуклые, как у дельфина, и такие же сизоватые, морские…
Теперь он моментально бы отличил японку от любой другой «узкоглазенькой», а тогда, в Москве, уже поговорив с Чи и даже спев с ней дуэтом «Туман яром…», наутро с горькой досадой обнаружил в холле гостиницы, что «все они на одно лицо» и он столь глупо может потерять её!
Тогда она первая улыбнулась…
Необъяснимая тяга японцев к русской мелодике привела её однажды в токийскую консерваторию, а через Интернет – и на этнический фестиваль в Москве.
Она неплохо изъяснялась фразами из русских песен. Зыков водил её по славным местам Москвы (от суши-бара она отказалась наотрез).
И перед её отлётом во Внуково они уже обнялись более чем по-товарищески.
Потом был бурный скайп-роман и её прилёт в этот город для совместных выступлений и записи диска…
– Минут через десять они будут в зоне нашей ответственности, – сказал капитан, расписываясь в журнале.
И на прощание только пошевелив с порога пальцами в воздухе, скрылся за дверью диспетчерской.
С Зыковым капитан общался неохотно. «Пиджак». Переучившийся на диспетчера (трое суток через трое – замечательный график) инженер лесозавода в коротком, намеренно тесном, каком-то клоунском пиджаке фиолетового цвета! И губы всегда у него какие-то подозрительно яркие. И вообще – рыжий.
Отталкивали строевика-законника от штатского коллеги и его слава как певца, «балалаешника», и пребывание Зыкова в разводе, и внимание женщин. А в последнее время – особо – слухи об «азиатской малолетке», обитавшей в его квартире…
«Хиросима-нагасака какая-то, блин», – думал капитан обо всём этом.
Кресло ещё было тёплым, когда в него опустился Зыков.
Вслед за гусиной стаей рванула и тройка мониторов перед глазами.
Под Зыковым, вопреки непроглядному туману за окном диспетчерской, потянулись отчётливо видимые в электронной голубизне посадочная и взлётная полосы.
Глазами Mony-А – коренника этой эфирной тройки, – была осмотрена Зыковым «паутина» воздушной обстановки аэродрома. А дальнозоркая, пристяжная, Mony-D позволила ему не только обозреть всё в радиусе ста километров, но и понаблюдать за движением чёрных точек – спугнутых гусей…
Напоследок Зыков глянул на «погодник».
В строке пропечаталось успокоительное NOSIG[37].
То есть изменения погоды не ожидается.
…На звонок не отзывались.
«Наверно, стоит под душем и «во всю глотку» (такое выражение ей нравилось больше всего) распевает свою «Любовь как сакура».
– Айрун чи, ейрен чи, – попытался и диспетчер Зыков исторгнуть из глубины гортани японоподобное звучание, но лишь закашлялся.
«А почему им легко петь в наших регистрах? – начал было думать Зыков, как вдруг вспыхнули недавно погашенные прожекторы на лётном поле.
Метеослужба сообщила о сгущении тумана. На мониторе пропечаталось: «Be ready to Change»[38].
Время было 8:07.
В окошке мобильника по-прежнему искрилась улыбкой Чи Ёка.
«Лолиткой» она лишь казалась. Особенно когда шла с ним по набережной мелкими шажками согласно национальной традиции. Зыкову она была чуть выше локтя. Никогда не брала его под руку. Ну, точно – школьница. Потому, наверно, на сцене так очаровывал их дуэт – русский молодец и восточная «стрекоза».
На людях скромничала. Дома у Зыкова преображалась. Едва захлопывалась за ней дверь, как крохотные туфельки летели в одну сторону, сумочка – в другую. И, послав воздушный поцелуй, она исчезала в ванной.
Зыков звал её «енот-полоскун». Она могла целый день не вылезать из воды, петь томительно-протяжно, без европейского пульса-ритма, лишь на интервале естественного дыхания праздного человека, дремлющего в позе лотоса.
Она звала его в Японию. «Зить и петь. Зить холосё».
Он стучал ей по голове, а потом – по шахматной доске.
Она смеялась…
Загремела металлическая лестница, и в «аквариум» ворвался полковник Крестовский – удивительно подвижный, даже бойкий, несмотря на выдающееся брюхо.
Он наклонился над Зыковым, всматриваясь в экраны и дыша чесноком.
Заметил фото Чи на мобильнике и осклабился в нечистой улыбке старого «ходока» и бабника.
– Слышь, Зыков, а как в постели эти узкоплёночные?
Они оба от природы, как говорится, были «заточены» на женщин, но если полковник всю жизнь прожил «леваком», меняя любовниц, то Зыков проблемы брака намеревался решать сменой жён.
– Как с ними, а? Есть разница?
Уже не раз Зыков втолковывал полковнику, что эта тема не обсуждается. Полковник никак не усваивал. Молчание теперь было единственно возможным ответом Зыкова. Тем более, что гостевой «ил» в виде крестика показался на мониторе в зоне авиабазы. И в динамиках послышалось:
– Доброе утро от экипажа. Курс сто сорок. Схема.
– «Семнадцатый», вас понял, – ответил Зыков. – Условия запишите. Магнитный курс – восемьдесят. Видимость – четыреста.
– Будем садиться.
– Вас понял. Прожекторы поставлены по полной.
На часах было 8:14…
Полковник умостился в кресле дублёра. А Зыков стал набирать эсэмэску.
«Люблю мою маленькую бродяжку…»
Она объехала весь мир.
У неё папа «много работа – много деньга».
Даже фамилия у неё была дорожная. Чи Ёка переводилась как «быстро летящая».
…Летит по комнате, вдруг – прыжок, и в ладоши – хлоп!.. Это она на моль охотится.
…Дверца шкафа всегда у неё немного раскрыта, чтобы, пробегая мимо, попутно полюбоваться новеньким платьицем.
…Прежде чем устроить чайную церемонию на полу, на коврике, белит лицо и глаза обводит тушью.
…По ночам эти глаза цвета морской волны вдруг становятся страшными, торжественными. И звуки тогда исторгаются из её груди и не японские, и не русские, а какие-то космические…
Наконец появилась эсэмэс от неё.
Слова не достигали сознания.
«Я уезаю, Зика. Со всем…» (Так было написано: «со всем».)
Полковник у него над ухом кричал в микрофон, а он словно оглох.
– «Семнадцатый!» Ты где пропал? Координаты давай! – орал полковник. – Откуда взялся туманище? Метео! Метео! Что там у вас?..
– Сгущение над озером сто процентов. Валит прямиком к вам.
– Зыков! Уводи на второй заход. Ни черта себе день рождения! Зыков! Оглох, что ли?!
«Я уезаю, Зика, со всем…»
Он ничего не понимал. Лицо его наливалось венозной кровью. Веснушки исчезали. А губы бледнели…
Вот уж истинно – завис. Казалось, даже курсоры на мониторах перестали пульсировать. Сердце остановилось. Вихрем духовным его вынесло из кресла в какой-то мрак, заложило уши…
«Я уезаю…»
Перед ним выплыли полные ужаса глаза полковника.
– Ты в порядке, Зыков?
Сердце завелось. На часах было 8:19.
– В норме.
– Давай, рули, парень.
– «Семнадцатый», сколько горючего? – не своим голосом выдавил диспетчер Зыков.
– Под завязку.
– Координаты?
– Прошли Лахту – шестьдесят. Магнитный курс – сто сорок.
– Готовьтесь к заходу на второй круг.
– Готовы к снижению в районе «Четвёртого…» Пойдём с первого захода. Иначе вообще на Вологду придётся лететь.
– Что вы там, охренели? – вырвалось у полковника Крестовского.
Голос экипажа изменился – генерал в самолёте дорвался до микрофона:
– Не мандражить, Крестовский!
Полковник прихлопнул ладонью рот:
– Он уже поддатый!
Туман стал настолько густым, что образовались потёки на окнах. Тряпкой полковник панически вытирал стёкла.
Заглянув в диспетчерскую, крикнул:
– Оно ещё хуже стало, Паш! – (Впервые полковник назвал его по имени.)
– Ты, Паш, главное – скомандуй ему на второй круг. А там пусть сам решает.
Зыков ткнул пальцем в Мони-Д.
– Вот он. Идёт на глиссаду, – сказал Зыков. – «Семнадцатый», удаление десять, вход в глиссаду. Полоса свободна.
– Я «Семнадцатый». Шасси, закрылки выпущены.
– Посадка сто двадцать и три. Фары включите!
– Включены.
– Ну, ничего же не видно! – стонал полковник за спиной Зыкова.
– Посадка два, на курсе глиссады.
– Куда он прёт! Япона мать! Ну, совсем же ничего не видно. Давай на второй круг!
«Со всем или совсем? – гвоздило в голове Зыкова. – Со всем записанным музыкальным материалом? Для доработки на студии в Токио?..»
– Ну, куда, ну, куда он валит, на хрен! – стонал полковник.
– Уход на второй круг! Уход на второй круг! – талдычил теперь уже и Зыков.
– Где он?
– «Семнадцатый!» Уход на второй круг!
– Где он?
– По-моему… «Семнадцатый!»
– …
– «Семнадцатый!»
– Давайте пожарную машину на полосу. И узнай, хотя бы до привода он долетел?
– «Семнадцатый!»
– …
– Совсем пропал…
«Со всем…»
В этот миг какой-то сгусток с рёвом пронёсся перед окном диспетчерской. Эпицентр тумана. Его ядро. Размытая туша самолётной громадины.
Полковник, плача от радости, убежал встречать дорогих гостей.
Зыков не сводил глаз с мобильника на ладони.
Жал на кнопку. Внутри телефона хрустело.
В ушах звучали ругательства полковника.
На подходе был следующий «борт».
…После смены Зыкову приказано было явиться в гостиницу, в номер «люкс».
Офицерская пьянка по высшему разряду (без баб) была в разгаре.
Гитара приплыла к Зыкову по волнам мясистых армейских ладоней.
Зыкова целовали и тискали.
– Рыжий, тебе по гроб жизни!.. По гроб жизни!.. Диспетчер от Бога! – ревел генерал.
Потом в одиночестве Зыков курил у открытого окна в туалете и бормотал с горькой усмешкой:
Чи ёка, Чи ёка, На аэродроме подскока…Дым сигареты сливался с туманом.
Падал с тополя жёлтый лист, в водяной взвеси опускался медленно – будто кто-то ладошкой махал на прощание…
Лида (Рассказ в стиле рэп)
1
АВТОР
У пляжа в летучем кафе «Пароход» Тусуется разный поморский народ: Егор – начинаюший рэпер, Студент музучилища Кремер, Звезда театральных массовок, Раздатчик рекламных листовок. Модельная девушка Лера, Ботаник из универа (У этого гения День рождения). Без шума и пыли Они полусладкое пили. Потом, заказав на всех По чашечке кофе глясе С мороженым, Высмеивали прохожих.ЕГОР
Гляди, вот это рожа!СТУДЕНТ
А нос, как у грача.АКТРИСА
Здесь доктор не поможет.БОТАНИК
Нос просит кирпича.ЛЕРА
Глядите, супертачка!ЕГОР
Не понял, в чём подначка?РАСКЛЕЙЩИК
В ней Нинка – Дальнобойщица!ЕГОР
И мне такую хочется.СТУДЕНТ
А эта «чешет», как фантом.ЕГОР
И фейсом классная притом.БОТАНИК
Сиськи, словно мячики.ЛЕРА
Прекратите, мальчики!ЕГОР
Она сошла с высоких гор, Где нет морей и нет озёр, Где сухость губ и неба жар, Базар и множество отар. И вот по городу идёт, Как самолёт идёт на взлёт. Асфальт буравит жгучий взгляд, «Глухое» платье – до пят. Она пластична, как пластид. В её крови огонь горит. За нею – смерч! За нею – шейх! За нею – месть и магмы шлейф! Мы на неё вперяем взор — Она не видит нас в упор. Внимание! Первая попытка!(Выскакивает из-за столика кафе и встаёт на пути девушки.)
Вы случайно не шахидка? Где хиджаб? Где паранджа?СТУДЕНТ
(кричит из кафе)
И дамасковый кинжал, Острый, словно бритва?БОТАНИК
Где пояс динамитный?ЛЕРА
Не «прикалывай», народ. Пусть своим путем идет.РАСКЛЕЙЩИК
Хоть срази её гроза — Ей нельзя поднять глаза.СТУДЕНТ
Сдай назад, уймись, Егор! Уважай законы гор.БОТАНИК
Ещё одно движение — Готовься к поражению.РАСКЛЕЙЩИК
Настоящая шахидка Бьёт наотмашь и навскидку.ЕГОР
(Возвращается к столику.)
Нет, эта гёрл реальная, Горянка идеальная. Вовсе не ломается. Даже улыбается. Бармен, дай ещё стакан.(Егор берёт девушку за руку и вводит в кафе.)
За Чечню! За Дагестан!РАСКЛЕЙЩИК
За новую знакомую!ЛЕРА
За погодку клёвую!СТУДЕНТ
За аулы, города…ЕГОР
Как зовут вас, Девушка в «глухом» платье?ЛИДА
Лида.ЕГОР
(недоверчиво)
Да???2
АВТОР
Над Архарой так же солнце сияло, Но вдруг, как под тучами, сумрачно стало. К кафе подрулили четверо горцев. Заглядывают в слюдяные оконца. Четыре чернявых в шузах остроносых. В глазах – по немому вопросу.ПЕРВЫЙ ГОРЕЦ
Только что впереди маячила. Куда подевалась? С кем законтачила?ВТОРОЙ ГОРЕЦ
Может, нырнула сюда Эта безбашенная Да-Лида?ТРЕТИЙ ГОРЕЦ
Нет, скорее она на взрыватель нажмёт, Чем в этот шайтанов вертеп зайдёт.АВТОР
Стоят, ушами хлопают, Подковами на каблуках цокают.3
ЕГОР
(Лиде, стоящей в центре тусовки.)
Вам вино нельзя по вере?СТУДЕНТ
Кофе?БОТАНИК
Кофе лишь в постели.ЛЕРА
(в сторону)
Довольно едкая издёвка.АКТРИСА
Она зажата, ей неловко.ЛЕРА
Но из окружения не вырывается.АКТРИСА
Наоборот, ещё тесней вжимается.ЛЕРА
Загнанно дышит.АКТРИСА
Шепчет едва слышно.ЛИДА
Спрячьте меня, пожалуйста!АВТОР
Егор сразу ну прямо тает от жалости. Ребятам по фигу, продолжают выпендриваться. А Егор сердится — Этих игиловцев[39] он сразу просёк: Сосредоточены, готовят бросок. В пылу благородства Егор хватает девчонку за руку, торопится. Мимо туалета, через подсобку — На байк, и – побоку автомобильную пробку. По тротуару. Рёвом мотора пугает прохожих, Сверкает на солнце проклёпанной кожей.ЕГОР
(за рулём мотоцикла, оборачиваясь к Лиде.)
Думаешь, прошу меня обнимать? Да ни в жизнь! Просто крепче держись! А чтобы тебе не наскучило — Вопросами помучаю. Во-первых, какие могут быть страхи у такой красавицы? Во-вторых, чего это там мне в поясницу упирается? Под платьем добыча в заначке? Евро и баксов пачки? А те четверо, что за нами чешут на джипе, Мафия? Совсем как в рэперском клипе?ЛИДА
Самой бы хотелось, чтобы это было кино. Чтобы в поясе были зашиты банкноты. Но… Там два брикета тротила.(Мотоцикл начинает вилять. Егор едва справляется с управлением.)
ЛИДА
Запал открутила. Волноваться не стоило.ЕГОР
Ничего себе, успокоила! Какой жесткач! Сдетонирует так, что не потребуется врач.ЛИДА
Запал у меня отдельно, в сумочке.ЕГОР
Прикидываешься или в самом деле дурочка? Сумка висит на боку Шарах – и мерси боку! Хороший подарок Ботанику на день рождения — Тротиловый фейерверк: дым – и никакого свечения.АВТОР
Егор срывает сумку с плеча пассажирки, Обзывает ее последней дебилкой. Скрипит зубами, от ярости стонет. Швыряет сумку в машину погони. Сумка, где был детонатор, Ударяется о радиатор. «Хонда» игиловцев задымилась И затормозила. По тротуару, тумбу с цветами сбив, Егор уходит в полный отрыв. Дворами и щелями до Обводного, Где он снимал квартиру недорого И ржавый гараж для своей «Ямахи». Нешуточными были страхи. У Егора даже подкашивались ноги. Но когда за ними захлопнулась дверь его холостяцкой берлоги, У него сразу возникло желание приобнять девчонку за талию. Руку словно ошпарило — Под чёрным платьем (не платье, а какая-то хламида) Было что-то твёрдое.ЕГОР
Кроме шуток? Пояс шахида?АВТОР
В ответ от девчонки – насмешливый излом брови.ЛИДА
Нет, это не пояс шахида. Это пояс любви!4
АВТОР
Попросила отвернуться — Скромница! И переступила через свой «патронташ» также легко, Как уличные девчонки переступают через свои колготки или трико.ЕГОР
Ты не похожа на девушку горской веры.ЛИДА
Мои предки – казаки и староверы. Вместе с горцами делили хлеб и судьбу И выступали во всех войнах. Дед у Краснова служил. Отец погиб как вайнах.ЕГОР
И внучке тоже неведом страх. Горянка, хотя и русских кровей. Крестик на шее. Азохен вей![40]АВТОР
Глядя на Егора с преданностью собаки, Она двигалась, будто к объекту атаки. Ещё мгновенье — И Егор ощутил лёгкое головокруженье. Сизых волос дурман лавандовый Так ему по мозгам ударил терпкостью адовой, Что весьма кстати оказался тут Полутораспальный батут. Затем, представьте, ноги девушки захватывают вас, Будто с одной стороны Северный, а с другой – Южный Кавказ. Вы теряете ориентацию, как если бы выпили спирту стакан А тут под вами ещё оживает спящий вулкан. Обладание выносливостью горноспасателя В этом случае весьма желательно. Прохождение курса молодого бойца МЧС – обязательно. …Спуском заканчивается штурм любой горы, Сдвигом пластов – колебания земной коры. За землетрясением Следует умиротворение. Душа покидает звёздную высь, И начинаются разговоры про жизнь.ЛИДА
Помню, была я ребёнком. Дождик весь день моросил. Шли федералы вдогонку: Горцев отряд отходил. На ночь родители взяли Бородачей на постой. Пел и играл на тимпане Стройный Ахмед молодой. Утром в суровом молчанье Тихо заплакала я. Он пошутил на прощанье: «Лида – невеста моя». Помню, весной многоцветной, Мне уж четырнадцать лет, К нам возвратились с победой Горцы, и с ними Ахмед. Взглядом по-прежнему нежен. Только в руках не тимпан — Тяжким оружьем обвешан. Богом спасённый от ран. Ночью совсем не случайно Встретились мы у ручья. Он прошептал на прощанье: «Лида – невеста моя». Помню, как сакля горела, Чёрные танки ползли. Помню, как в саванах белых Павших шахидов несли. Лиц мертвецов не открыли. Сон твой священен, джигит! Женщины всюду вопили… В дом наш пришли старики. Дали наказ аксакалы… Знала – обычай такой — Чтобы я в будущем стала Брату Ахмеда женой.ЕГОР
И ты, русская девка, живая бомба и бомба-секс, Не могла для стариков «замутить» какой-нибудь ненормативный текст? Мол, ваше дело – курить кальян…ЛИДА
За такое у нас камнями побьют и посадят в зиндан[41].ЕГОР
И ты пошла с ним?ЛИДА
Да.ЕГОР
И тебе не казалось, что это был полный бред?ЛИДА
Нет. Он говорил: «Клянусь! В раю окажусь – от сорока девственниц откажусь. Вот федералам отомстим — Вместе на небеса улетим. Даже тогда Одну тебя буду любить, Да-Лида». …Кроме меня, он, конечно, ещё Бога любил. Но мне не со Всевышним – с другой изменил. Все свои обещанья забыл. В чай мне подмешивал борный этил. В старуху меня превратил: Язык не шевелился, взгляд застыл… Но даже и это простить ему у меня хватило бы сил Им ведь не кто-нибудь, а сам Аллах руководил. Но он не со Всевышним, а с Другой изменил…ЕГОР
Подумаешь, мужик на сторону сходил!ЛИДА
Этого я ему простить не смогла, Тем более, что ещё не жена ему была, Боевая подруга. Нас ещё не благословил мулла. Недели две его «чай» не пила. В туалете из сливного бачка воду брала. И, как только силы почувствовала, — Ушла.ЕГОР
Тебе уважуха. Полный респект. Но если бы я решился в побег, То, во-первых, сменил бы прикид. Во-вторых, послал подальше всякий пластид.ЛИДА
А вдруг бы они меня схватили?ЕГОР
Понял! По полной программе бы получили.АВТОР
И вот после такой жести Стали они жить вместе. Без Библии и Корана День за днем – сплошная нирвана. Не паутина на потолке – сиянье небес. Не скрипучий паркет – поле чудес. Разных девчонок немало Здесь у Егора перебывало, Но чтобы каждый час – оргазм, Это в первый раз. А под пылкостью кроется Жуткая скромница: В постели, на кухне, на балконе — День и ночь в своём балахоне. То и дело Егор Дёргает её за подол И шутит не совсем прилично: «Лида, открой личико! В гаремах же у вас показывают пупок». Все уговоры не впрок. «Ну, не пупок, так хоть пупик. Поехали, – клянчит. – Какие-нибудь тебе шмотки купим». Уговорил на две кофточки И джинсовые порточки… Случались ночи Когда она мечтала о Сочи. Егор убеждал: «Отстой эти твои Сочи! Летим на Майорку, хочешь?» Она говорила: «Что я там забыла?» Потом оказалось — Просто самолётов боялась. Тогда они сели в машину — и скоро уже купались в море. Жили в «люксе» в «Астории». Заснув, она часто шептала о счастье. А утром спорила: «Чтобы я о чём-то бормотала во сне? Здрасьте!..» Одно было у них не как у людей — Её вечный платок до бровей. Она то ли боялась, то ли стеснялась, Но не раздевалась. Даже На диком пляже. Когда наконец искупаться решила, В мужской рубашке в море заходила. Егор кричал: «Паранджу забыла?» Курортной жизни глянец и лак Не приедался. Но – с деньгами напряг. Егор шутил: «Давай местным толкнём твой тротил». (Пояс был спрятан в запаске. Дома, в Архаре, оставлять опасно: Там, на «хате», студент музучилища с Лерой Могли оказаться любопытны не в меру) И вот настал день, когда заправившись под завязку, Они покинули черноморскую сказку Прощайте, бурные ласки, Кавказские краски. Тут и в нашей истории замаячила развязка.5
АВТОР
Если долго прёт счастье, — Жди напасти. Всякая дорога идёт по краю бездны, Куда вас отправляют отнюдь не гаишников жезлы. Даже если ты водила безупречный, — Неуловимый поворот руля, и вот она – вечность. Вдруг в шину вонзается гвоздь Или из лесу выскакивает лось. В дороге избежать неприятностей сложно… Предположить было невозможно, Что мотор в «мерсе» Заглохнет прямо на железнодорожном переезде. Машина встала поперёк рельс, И слева на неё летел поезд «Москва – Ейск». Для вежливости не было ни времени, ни причины: Егор пинком вытолкнул её из машины. Он не успевал. Ему уже было поздно. А ей только шаг отступить – и мимо поезд. Но она кинулась обратно, вопреки колёсному стуку, Протягивала в помощь руку. «Быстрее, Егор!» – молила. И тут он понял, что она его любила… (В стиле ЭМО много таких песен, Когда он и она погибают вместе Мгновенно, не мучаясь. Но это был не тот случай.) «Мерс» вдруг завёлся. И с бешеной силой Вынес Егора из-под удара. А Лида застыла, Осталась стоять на шпалах, Будто отлитая из того же металла, Что и лобовая броня локомотива, Пронёсшегося мимо. Как в фильме-ужастике, Поезд счистил девчонку, будто ластиком.6
АВТОР
Давно исчез из виду последний вагон, Но длился и длился этот жуткий сон, Какое-то дьявольское наваждение… Егор нашел её на полосе отчуждения. Она лежала в ромашках, Руки в распашку. Свободна, как птица. Что над нею кружится. Надо было как-то дальше жить. На закате Егор лопатой начал землю долбить. Вырыл шурф. Для взрыва не требовался бикфордов шнур. На всякий случай Лида его учила, Как распорядиться последним запалом и кусками тротила. На её мобиле он набрал семизначный номер. Нажал зелёную кнопку и устроил на безымянном переезде теракт (В сводках ФСБ не зарегистрирован данный факт). Когда рассеялись пыль и дым, Егор встал на колени перед тем, что ещё час назад было нежным и молодым. Как младенца, Запеленал в пляжные полотенца. Когда укладывал её на дно воронки, В ушах звучали какие-то гимны и зонги Да на берёзе овсянка вечернюю песню тенькала — напевала, Будто по тарелке тимпана клевала… Очередной поезд пролетел. Машинист свежую могилу заметил и долго гудел. Егор думал: «Это по мне переезд… И на памятнике будет православный крест».7
АВТОР
У пляжа в летучем кафе «Пароход» Тусуется разный свободный народ: Студентам, шутам, музыкантам, Поморской столицы талантам Здесь место «ботвы» и отрыва, Приёма коктейлей и пива. Обычное летнее утро… Вдруг с дрифтом паркуется круто Подержанный «мерс» ноль-шестёрка. Тусовка ревёт от восторга. По стилю вожденья Егора Узнала бездельников свора. К нему на шею бросается Из киномассовки красавица. Её подражает примеру Модельная девушка Лера. Расклейщик рекламных листовок Не жалеет кроссовок. А Кремер хип-хопа артиста Приветствует яростным свистом. Но постепенно стихает восторженный ор.КРЕМЕР
Быть не может, чтобы это – Егор.РАСКЛЕЙЩИК
За рулём – вроде был крутой чувак.АКТРИСА
А из машины вышел какой-то хиляк.СТУДЕНТ
Что-то ты, парень, совсем завис.КРЕМЕР
Держи тоник, взбодрись.АВТОР
Но у Егора припасена для оттяжки Коньячного пойла фляжка. Рухнул на стул И будто уснул.СТУДЕНТ
Тебя не видели с моей днюхи, Поползли разные слухи: Будто куда-то рванул с той нелегалкой, Горной фиалкой-давалкой.ЕГОР
Заткнись!АВТОР
И сна ни в одном глазу. Смахнул с ресниц непрошеную слезу. Одним махом прикончил фляжку, Рванул на груди рубашку. Начал с того, как «отжигал» на «Ямахе» со смертницей, Как потом она оказалась его пленницей. Сперва народ прикалывался по поводу русской шахидки и травил На тему сходства теракта и акта любви. Минуты две слышались всякие фигли-мигли. Потом все утихли. Про то, как на переезде заглох мотор, Уже в полной тишине говорил Егор.ЕГОР
И вдруг он завёлся!.. Короче, Рассказывать дальше нет мочи.(Немного времени спустя.)
О любви её эхо гор расскажет, Между скал орёл пролетит и вскрикнет. О любви её казак в черкеске спляшет, Ритм ей отобьёт барабан в лезгинке. О любви её на моей ладони Вдруг её мобильник вспыхнет среди ночи. Кто там вдалеке? Чьё там сердце стонет? Помнит её, ждёт. Что услышать хочет? Мама, мама звонит! Слушай же, родная! Ваша дочь в отъезде. Путь любви избрала. Нет ему на небе ни конца ни края. Хотела быть шахидкой – ангелом стала.8
СТУДЕНТ
Вот это ломка!КРЕМЕР
Знал бы, где упасть, – подложил бы соломки.ТАНЦОВЩИК
Думал, это у него «отходняк» после вчерашнего.СТУДЕНТ
Совсем у парня снесло башню.ЛЕРА
Капитально он с ней «замутил».АКТРИСА
Студент, чего «варежку» открыл? Твой ржавый «жигуль», где он? Терпеть не могу, когда плачут всяческие Ромео. Не поймёшь, что тут теперь – литургия или месса? Валим отсюда! Закончилась пьеса!Архангельский трамвай (Рассказ в стиле шансон)
В ту ночь трамвайной колокольной славе в старинной Архаре настал предел: от Кузнечихи и – до Переправы трамвай последним рейсом прогремел.
Промчал как жизнь между двумя мостами – трамвай друзей, трамвай былых времён, трамвай любви, трамвай воспоминаний – фонтаном искр трескучих озарён.
Здесь детство наше светлое осталось в толкучке «зайцем» и – на колбасе. Здесь девушка навеки повстречалась с косой пшеничной и во всей красе.
И место мы для старших уступали… Совсем немного времени прошло, когда впервые перед нами встали: «Садитесь, вам наверно, тяжело»…
О том трамвае славу разносили матросы с кораблей по всем краям: поляк из Лодзи, Педро из Бразилии, британец Генри и француз Боярд…
Я помню вас, и вижу лица чётко, – младых подруг, отчаянных парней. Вагон битком подобно лодке Лота, на выход не пробиться до дверей.
Как наяву – кинозвезда Бабетта из фильма, что «уходит на войну», гордячка Нелька, недотрога Светка и хулиганка Зинка Розенблюм.
В одном конце неуловимый Диксон – король Поморы и гроза дворов. Он скалит зубы и сверкает фиксой, – в другом конце зажат майор Чижов.
В вагон пробрался двухметровый Птаха! Он в «Воднике» велик и знаменит, на льду финтит и бьёт, не зная страха, но в давке он имеет жалкий вид.
А это кто – пижон в кашне шляпе? На яхте – европейский чемпион! Он галсами лавирует в регате, – в трамвае – беспощадно стиснут он.
Шестидесятых вольных знаменитость, свой сакс подняв над рыжей головой, солист, но растерявший всю солидность, стоит Вован, залюбленный толпой.
Отец родной для молодых актёров, а для кого-то попросту Витёк, как подобает супер-режиссёру, трамвая нравы наблюдает впрок.
Перебегают путь «Лесные братья» – студенты-лохмачи без тормозов. Для них ничто – научные понятия, для них наука – музыка Битлов.
С подножки скромным синеньким платочком всем машет Миля – песенно смела. Шизофрения в жизни ставит точку, но Миля очень милая была…
Он пережил салюты интервентов, разгром церквей, обрывы проводов, пожар на Смольном, смертные наветы лихих зубодробительных годов.
Он тыловую показал сноровку, когда в войну, носясь из края в край, забыв про сон и светомаскировку, искрил в ночи – Архангельский трамвай!..
И вот погиб, сражён расчётом голым. И вот убит – не пулей, не штыком, – бездушным канцелярским дыроколом, чиновничьим предательским пером!
Пришёл конец трамвайной звонкой славе. Двадцатый век остался не у дел, – по Млечному пути, по звёздной лаве трамвай куда-то в вечность улетел.
Там гаснут искры, рельсы тяжко стонут. На окнах иней в палец толщиной… Сновали по Архангельску вагоны, гремели взад-вперёд по кольцевой!..
Звонок с верёвочкой, то вбок, то с горочки, на остановочках народ – в навал.
Вагончик маленький, кондуктор в валенках билет на счастье всем отрывал…
Марья
1
Был конец мая. Весна стояла неоглядная, слегка зеленоватая в лесах, по самому низу – бурая, а на глинистых полевых дорогах – непролазная.
По одному из таких гиблых верхнетоемских просёлков пробирался вишневый «форд» с архангельскими номерами. Машина хватала грязь передними колёсами; подыхала, садясь брюхом на колдобины; скалилась клавишами синтезатора в заднем окне; дымя и стеная, докапывалась до твёрдого.
Водитель незнакомым себе, каким-то первобытным голосом вопил в страхе от неминуемой просадки машины, в ужасе вскидывал брови поверх золотой оправы очков, бил кулаком в руль, в педаль газа, в доску приборов. На его впалых небритых щеках, в коротком «ёжике» на темени сидело множество глиняных пулек, полученных из-под колёс при открывании дверей на ходу.
Ноги до колен были в грязи. Глина скрипела на зубах. Он отплёвывался и орал ещё и для облегчения боли, скопившейся в нём за эту зиму в городе.
Позади осталось тяжкое время развода, когда жена выбила наконец из него проклятья, вывалилась вся ненависть к ней, вскрылся нарыв, стало легко, счастливо, но потом был суд, когда «Галька» лгала на него прилюдно, а три бабы-судьи, железобетонные законницы, солидарно шипели и с любопытством рассматривали рок-звезду вблизи. Уламывали, чтобы он, Боев Дмитрий Михайлович, забрал заявление, подло отложили решение на полгода, сделали его скитальцем по квартирам друзей. Вдобавок, вернувшись на этой неделе с гастролей по югу области, по наивной провинции, с ничтожными сборами, он рассорился с группой, выгнал двоих. Клавишник запил ещё в поезде, приходилось отрабатывать концерты без него, не до каскадов было, не до выходов в зал к фанатам. Боев терял привычный образ воинственного лидера «ДМБ», публика чувствовала это, прощала в первый и в последний раз. Преследовали поломки аппаратуры. В Котласе отказал усилитель, вырубился микрофон на микшере. Надоели старые затасканные шлягеры. Тошнило, когда требовали из зала: «Губу!», написанную им ещё лет пять назад в ответ на известную «Самоволочку». Таким тупым поклонникам он ставил со сцены условие: «Если сейчас пою „Губу”, то сразу сваливаю». Обидно было, что толпа знать не хотела его новых песен, не пробивали они её. Он чувствовал – требовалось начать заново. Потому, бросив всё в городе, решил пожить в своём углу – в дедовском доме, пустующем после смерти стариков.
С ним ехало всё его имущество: замшевый полушубок валялся на днище машины вместе с новыми сплющенными кирзовыми сапогами сорок пятого размера, в багажнике – чемодан с одеждой и несколько тысяч наличными в кармане армейского жилета-выкладки на голом сильном теле. Сзади, на сиденьи, поскрипывали друг о дружку тугие целлофановые упаковки с пивом. Перекатывались по сиденью розовые окомёлыши с ветчиной. Коричневые колбасные дубинки. И пять буханок бородинского хлеба.
– Давай, давай, поехала-а-а!.. – изо всех сил уперевшись ногами и руками в железо машины, кричал Боев.
На песчаном взгорке, схватившись за сухое, «форд» мигом взлетел в сосновый лес и помчался высокой плотной дорогой.
За ручьём росла сосна с загнутой почти под прямым углом вершиной. «Поклонная», как называли её в деревне. Не сбавляя хода, Боев кивнул ей ответно и уже вполне узнаваемым густым голосом, с нутряной прокуренной натреснутостью, произнёс:
– Здравствуй, милая!
В конце лесного тоннеля белел угол шиферной крыши. Он поехал медленно, высунувшись из окошка. Здесь, на открытом пространстве деревни, его странно озадачили неизъяснимые полутона весны. В знакомом, родном месте открывался невиданный мир: сиреневый осинник, ржа молодого черёмухового листа, молочная зелень берёзы, чернь ели, завалы прошлогодней рыжей травы, умерщвлённой сперва зачумлённым, сбежавшим от земли мужиком, потом раздавленной тяжестью множества зим.
Но особенно поразило Боева отсутствие неба над деревней: вместо облаков и голубизны, зыбилась какая-то белесоватая пустота. Глядя туда, вверх, он останавил машину у дома, выключил зажигание и еще немного посидел в кабине, остывая после долгой дороги.
Наконец выскочил из этого батискафа прошлой жизни, наполненной автомобильными пробками, смогом городских улиц, концертным угаром и безлюбьем, в безвоздушное, беззвучное пространство деревни. Выскочил из кабины бодрячком, солдатом удачи, как выходил в ночном клубе «Капитан» перед зрителями. Взбежал на крыльцо, засыпанное листьями от прошедших здесь без него бурь и ураганов. Храбрился, беспечно насвистывал до тех пор, пока не заметил, что замок висит в пробое отдельно от проушины.
Дом был взломан.
Брезгуя прикоснуться руками, Боев толкнул дверь коленом.
Комнаты слоисто освещались сквозь щели между досок в наскоро заколоченных окнах. Пахло влажной золой из печей и льдом из-под пола.
Воровали, видимо, неспешно и уважительно – все ящики комода были вдвинуты обратно, подушки без умыкнутых наволочек – сложены горкой. В шкафу на разживу оставлены тарелки и ложки.
Спугнутая мышь загремела чем-то в шомуше[42]. Боев вздрогнул, отшатнулся и попал под зеркало, откуда на него глянул неизвестный человек, должно быть, тот самый вор, – так в первый миг показалось ему.
Низменным, постыдным страхом вышибло из души всякую робость. «И зеркало в брошенном доме хранит испуганный взгляд мародёра», – зазвучали вдруг под черепом две строчки, не иначе, как для песен нового цикла.
«И зеркало, и зеркало…» – прокручивал Боев на разные мотивы. Пальцы шевелились, будто погружались в клавиатуру, хотя он сейчас автомобильной монтировкой срывал доски с окон, и гвозди скрежетали голосами доисторических птиц. Он мельком оглядывал рыжие, гнилые окрестности, леса, обрызганные первой зеленью, реку цвета какао, и вдруг, будто додумавшись до чего-то главного, бросил ломик, завёл мотор у «форда» и задом загнал его в наземные ворота, на навоз, оставшийся после живших здесь коров, коз и овец, – с глаз долой. Нелепая блестящая «черепаха» перестала оскорблять окрестности, и душа Боева, наконец преодолев тоже какой-то свой барьер, проломилась в деревню.
А когда он сорвал дощатые повязки со стен и опять вошёл внутрь дома, то и комнаты тоже встречно озарились светом всех окон.
Печку в виде сапога, с чугунной плитой по низу, он набил поленьями так, что кружки конфорок подпёрло снизу. Сухие дрова под реактивной тягой загорелись без треска, мощно. Чугунный пласт раскалился докрасна, быстро высушил воздух в комнате.
К среднему, самому большому, окну на алюминиевой проволоке Боев подвесил синтезатор, как бы в продолжение подоконника со стоящим на нём пучком сухих прошлогодних цветов в гранёном стакане.
Отступив на шаг, оглядел «верстак» – так он называл этот звуковой агрегат. И почувствовал, что где-то в брюшине у него разживляются звуки, поднимаются, распирают пищевод и грудь. Вдруг конвульсией передёрнулись плечи, лицо Боева перекосилось. Сломило линию светлых бровей. Губы сжались. А серые глаза стали блуждать по потолку… Уже гармонией, кажется, ре-минорной, распространялась музыка где-то в горле.
Дрожащей рукой он втыкал вилку в электрическую розетку. «И зеркало в брошенном доме хранит…» – сыпалось нотами и устраивалось в душе ясной пронзительной мелодией. Палец нащупал кнопку «пуск». Тычок!.. И вместо лёгкого электронного фона, обычно исходящего из динамиков синтезатора, Боев услыхал лишь усилившееся с порывом ветра гудение огня в печи.
Так же он страдал, когда «ширялся» и его ломало, а под рукой не находилось ни «колёс», ни «марафета».
Он яростно раскачивал вилку в розетке, щёлкал тумблерами синтезатора, барабанил ладонями по клавиатуре – лампочка не загоралась.
Оказалось, провода на столбе оборваны…
Вместо музыки, тоска навалилась на Боева. Взбираясь на чердак, он думал, что если не найдёт там гитары, то вернётся в Архару.
Множество солнечных лучиков из дырок в крыше дома наполнились пылью из-под ног, сделались тугими золотыми струнами. Оказавшийся как бы внутри гигантской арфы, Боев рыскал по углам чердака, натыкался то на обглоданное мышами кавалерийское седло, то на связки старых газет.
Наконец нога гулко ударила в гитарный бок. Он нащупал гриф и взвопил: «Вау!» Струны были целы, хотя и протёрты до жил. Тут же, во тьме чердака, среди проволок-лучей он сел на брёвна переруба и настроил гитару.
Последний раз на ней играл дед, выщипывал простенькие романсы, плясовые – лет двадцать назад, уже больной – в своей боковушке у окна с видом на дорогу, по которой тогда ещё ездили почтовые дроги, а теперь вот внук подкатил на иномарке…
Сегодня старая семиструнка, перестроенная на шесть, гудела полными мажорными аккордами, нещадно отбиваемыми всей пятернёй великовозрастного внука, звучала глухо от набравшихся под деку песка и паутины.
За минуты непредвиденного метания по чердаку мелодия «Мародёра», такая ясная и единственно неповторимая, к сожалению, истаяла в душе, а слова, породившие её, вдруг показались пустоцветными.
Он добавил поленьев в печь. Вспорол армейским тесаком целлофановый пузырь пивной упаковки. Взял пару банок и вышел с гитарой на крыльцо.
Сел на ступеньки. Поставил ноги в высоких спецназовских берцах на круглый плоский камень, бывший когда-то жерновом на мельнице.
В отверстии жернова ядовитой желтизной сверкала капля мать-и-мачехи, как центр весенней округи.
Всматриваясь в землю кругом, Боев разглядел, как под жухлой травой, будто войско перед атакой, таилась молодая зелень.
«Грянет первый гром-артподготовка, – думал он, – и хлынет пехота по полям».
На тропинке у калитки прошлогодние листья подсохли, ветром переметались по лужайке. Солнце грело. Вместе с лёгким алкоголем и весна проникала в Боева.
По многолетней привычке к ежедневному труду, взамен сорвавшегося «Мародёра» он взялся взращивать одну идею предразводных времён. Четыре строки давно были готовы:
Сорок лет – такой уж возраст у мужчины, жизнь товарняком порожним мчит по рельсам. А на станции «Семейная кончина» бьёт тяжёлыми крылами демон секса…И здесь, на крыльце, у него сочинился припев:
Одинокий, вороной. В сильных крыльях – с сединой. В горле – клёкот с хрипотцой… Демон, демон, я не твой…В обнимку с гитарой, напевая и наигрывая, он не заметил, как повечерело. Майский бледный водянистый закат сгустился до кисельно-ягодной плоти. В тени крыльца стало холодно даже в толстом и длинном, чуть не до колен, водолазном свитере.
С устатку выпитое пиво разморило Боева. Жар печной свалил с ног. Он лёг на матрац, закрылся полушубком. Напоследок отметил, как густо запотели стёкла от выпаренной из дома зимней влаги, удостоверился, что задвижка в трубе открыта, угаром не пахло, и с радостью заснул на узкой железной кровати с литыми чугунными спинками и ножками в виде волчьих лап.
Из расслабленного тела душа Боева в ту же минуту схлынула по руслу обратно в город, слилась в клоаку прежнего – в табачный дым и винный чад попсовой тусовки в подвале «Двины».
Во сне Боев застонал от тоски и отчаяния, очутившись среди халявщиков на том самом фуршете, когда Торчинский обозвал его фанерщиком и выстрелил в потолок из пистолета в ответ на грубости Боева. Дыма от выстрела нанесло необычайно много. Словно концертного азота напустили на толпу.
Какие-то хари вдруг стали высовываться из этих облаков. Ктото голый в чёрном плаще пробежал. Пользуясь паникой, вдруг обвила Боева рукой за шею солистка из группы «Апрель», у которой он иногда ночевал. Вдруг кто-то шепнул ему на ухо: «Димыч, беги. Хватит нам одного Талькова».
Кто-то потащил его от опасности, а он упирался и кричал Торчинскому, что хрен ему обработать напев нищего «Мы, конечно, люди приезжие» и ни за что не написать хоть что-нибудь близкое к его циклу «Дно Архары».
(На этой кошмарной программе Боев чуть не надорвался. Едва ли не каждый день где-нибудь пел, и часто, в самом деле, под фонограмму, «зашибал» деньги на вишневый «форд».)
Боеву снилось, как он, стоя в дыму фуршетного застолья, задыхался и кашлял, доказывая двум телохранителям Торчинского, что давно бросил наркотики и ничего не пьёт крепче пива. А они, заломив ему руки, вливали коньяк в глотку. Он понимал, что вот-вот сдохнет; рыдал, уже не чуя ног, обвисал в захватах громил. Они разом выдернули свои клешни из-под его подмышек, он рухнул на пол, больно ударился головой и почувствовал, что его схватили за ноги, поволокли быстро, ходом…
Он открыл глаза. Дым контактными линзами обволок зрачки. Невозможно было сморгнуть эти серые нашлёпки. Чувствовал, что его перетащили через порог – деревянный, скруглённый подошвами и каблуками, какой-то родной даже по ощущениям спины и затылка. Далее голова заскакала по ступенькам сеней, и наконец перед глазами прояснилось.
Ещё проволочным шаром в каком-то шоу показалась снизу голая черёмуха, но жестяной флюгер на крыше, вырезанный Димочкой Боевым в детстве, был натуральным. Вполне правдоподобным казалось и утро серенького утробного дня с туманом и дождичком. И склонившаяся над Боевым молодая деревенская баба тоже была настоящая. Она сидела на корточках и лицо её плавало где-то далеко-далеко, размытое расстоянием и отравой обморока, а голос доносился отрывочно, будто через ревербератор:
– …Пошла на болото за прошлогодней клюквой-ой-ой. Из форточки – дым-ым-ым. Вчера никого не было, а сегодня – дым. Вхожу – не продохнуть. Никто не отзывается. Пошарила – наткнулась. Господи!..
– За чем, за чем ты пошла? За прошлогодним снегом? – едва ворочая языком, спросил Боев.
– За клюквой мёрзлой, пока болото не оттаяло.
Она возилась с ним грубовато, профессионально. Стянула свитер. Подсунула руку под шею. Перевернула на бок, кряхтя и напутствуя:
– Сейчас тебя рвать будет.
– Ты, что ли, врач? – спросил Боев.
– Се-естра-а-а…
И Боев опять уплыл на московскую тусовку – потерял сознание.
Когда он очнулся, лицо бабы оказалось на одном уровне с ним. Он обнаружил, что сидит, прислонившись к стене дома. А она, опять же, подпружинивала на корточках перед ним и без стеснения глядела в глаза, будто у слепого высматривала соринку на зрачке. Её глаза влажно светились, а большие сильные губы, сухие и потрескавшиеся, шептали:
– Давай, очухивайся, матросик. Давай, миленький.
– Чего ты заладила – «матросик, матросик»?
– А тельняшка у тебя.
Глянув вниз, на свой живот, на полосатую флотскую майку из комплекта сценической спецодежды, Боев сказал:
– Так я чего, угорел, что ли? Труба же была открыта.
– Перекалил печку – вот почему. Снизу плахи взялись. Тонкий под у печки, всего в два кирпича. Шутейный под.
– Ты, значит, уже следствие успела провести?..
Баба была молодая. Она лишь казалась бабой по спелёнутой платком голове, по ветхому детдомовскому пальто, застёгнутому на мужскую сторону, и резиновым сапогам с заплатой на сгибе, пришитой суровыми нитками. А лицо у неё было чистое, белое, прозрачное, и если бы не горестные чёрточки на концах губ, в самых улыбчивых местах, то она бы за девку сошла.
Боев поднялся на ноги. Покачиваясь и морщась от боли в темени, босой двинулся по мокрой траве, и дальше по сухим доскам сеней, печатал на половицах свои костистые ступни. Следы уменьшались с каждым шагом, подсыхали. Казалось, он становился легче и легче и взлетел наконец.
Вдохнув в комнате остатки угара, он опять отяжелел и покачнулся. Баба сзади поддержала его за руку. На мгновение оба увидели себя в зеркале. Боев изумился своей молочной бледности:
– Слушай, я как покойник.
А она засмеялась и сказала:
– В одно зеркало смотреть – это значит влюбиться. А если перед зеркалом целоваться, то навек приворожить.
– Давай попробуем, что ли?
– Ой, да какой из тебя сейчас целовальщик!
– Главное, ты не против, сестричка. А матросик чего? Матросик очухается маленько, в форму войдёт и тогда попробует. Ты ему жизнь спасла. Должник он по гроб, – говорил Боев, поглядывая на своё отражение и ухмыляясь ему, как какому-то презренному человеку.
Пережидая накат боли, он ещё постоял посреди комнаты с закрытыми глазами, а когда пришёл в себя, то женщины в доме не было.
Он высунулся в распахнутое окно и увидел её на перегибе дороги.
– Как звать-то тебя, сестричка? – крикнул он.
Ему послышалось «Марья».
«Хорошее опорное слово для припева», – подумал он.
2
Матовый подмороженный дождь беззвучно сыпался на землю. С улицы веяло как ото льда, а в комнате воняло пожарищем.
Печную подошву Боев разворотил ломом. Колуном в обогревательном стояке пробил дымоход на пять кирпичей выше. Уже размешанную готовую глину добывал на дороге в колее, когда Марья-спасительница стала вырастать из-за холма, возвращаясь с болота. Она порадовалась его выздоровлению, а он зазвал её отметить своё второе рождение. Она сказала: «Хорошо» – и, прежде чем уйти в своё село, помогла ему заволочь на крыльцо цинковую ванну с раствором.
К вечеру Боев грубо, косо, будто из валунов – сложил новый приступок, забил топку поленьями, сел перед дверкой и стал опять нагревать дом.
Темнело. Ветер заходил то справа, то слева, завивалось вокруг деревни что-то невесёлое. Тоской сжимало – русской, безграничной, выдавливало в цивилизацию. Думалось о смерти. Представлялось, как загорелись бы доски у печи, огонь побежал бы по жгутикам пакли в пазах, будто по бикфордовым шнурам, вспыхнули бы стены вокруг спящего Боева, и он сгорел бы в этом костре. Потом рванул бы бензобак «форда», и в столбе дыма прах рок-певца взметнулся бы к небу и развеялся по окрестностям…
«Видать, помру как-нибудь иначе, – думал он. – Как? В автокатастрофе? От водяры? Или кто-нибудь „пришьёт” за долги? Всяко может случиться. До старости ещё далеко».
3
Близилось девять. Он собрал стол на двоих. Вскоре Марья показалась за окном. Из тёмного нутра дома он незаметно для неё подсмотрел, как она на крыльце переменяла сапоги на туфли, с особой женской гибкостью наклонилась, почти сложилась. Потом, встав, перегнулась назад с зажатой в губах заколкой, растряхнула волосы по плечам, собрала в ладонь и сколола. Была спокойна, будто входила в дом больной старухи для очередного укола, а не на первое свидание к молодому одинокому мужику.
Одета теперь она была в красную вязаную кофту, туго подпоясанную, с карманчиком, из которого торчал белый платочек, и в шерстяную юбку в облипон, как говорят о таких. Сапоги поставила на крыльце и куда-то исчезла на минуту.
Потом раздался стук в дверь, и она переступила порог, серьёзно сказав «здравствуйте», будто и не было между ними ни «матросика», ни «сестрички». Вошла и задержалась у порога, выставив себя на обозрение для оценки, готовая исчезнуть по первому знаку.
Сшибая робость с бабы, Боев сказал грубовато:
– Марья, заходи!
И сам пошёл от окна к столу несколько вертляво, так что просторный водолазный свитер на плечах размашисто заколыхался вокруг его чресел. Она, как бы передразнивая, тоже слегка расхлябанным, преувеличенным шагом тронулась за ним, будто станцевала с ним в паре во время этого прохода до стола.
– Садись, Марья. Давай за знакомство по баночке.
Боев развалился на стуле, от волнения ломая из себя какого-то всесильного странника, повидавшего жизнь и женщин. Отпил из банки пару глотков и заметил, что гостья неуверенно ковыряет тонким, будто бумажным, ногтем алюминиевый язычок на крышке. Ему стало стыдно за свои позы, он открыл банку и придвинул к женщине.
– В стакан можно налить? – спросила гостья. – Или краем из неё пьют?
– Да ты откуда такая простая? Ни разу не пробовала, что ли?
– Беженка я.
– Ну! Не местная, выходит.
– Школу здесь закончила, а потом везде пришлось…
– Как пылинка на ветру, значит.
– Да я не одна. У меня сыну восемь.
– Безмужняя?
– Был, да сплыл. Нет подходящего, остаются только приходящие.
– И много таких было-приходило?
– Тебе, что ли, интересно? Мне – нет. Считала, да счёт потеряла. Вспоминать – сердца не хватит.
– Будто бы каждого любила?
– А как же иначе?
– Тогда ты, Марья, выходит, героическая женщина на любовном фронте. Тебе положена медаль и песня по заявке.
Она стеснительно улыбнулась, собрала на лбу упругие валики, и сначала её прозрачная тонкая кожа на лице порозовела, а потом накалилась, став пунцовой. Она, видимо, поняла, что сказала лишнее. Боева поразила эта способность взрослого человека пылко, по-детски, краснеть, в сочетании с самоубийственной искренностью.
Гитара лежала на кровати, оставалось только руку протянуть – и вот она уже на коленях Боева.
Вооруженный ею, он осмелел.
– Тогда я тебе, Марья, так прямо и скажу: «Что верно, то верно, – нельзя же силком бабёнку тащить в кровать. Её надо сначала угостить пивком, а потом ей на гитаре сыграть».
– Правильно! – вызывающе откликнулась она.
– Только предупреждаю: у меня все песни про войну.
И он, пощёлкивая ногтем по трём тонким струнам, тихо запел:
Я в Чечне отбыл и домой свалил, В Архаре гулял беспробудно. А он остался там: он войну любил. И она его – обоюдно… Я в «завязке» был и в «комке» сидел, лохов нагревал – не стеснялся. Он чечен мочил, это он умел. А орден получил – не зазнался… Я нырнул и всплыл – баксов раздобыл, бизнес-тур в Гонконг провернули. А он из «этих» был, он Россией жил, и за неё в горах лез под пули… Мне от «бабок» – кайф, третий день загул на колёсах «форда» – не хило! А ему лежать в роще на Быку, под крестом дубовым – могила…Она сокрушённо кивала, вздыхала и долго молчала, прежде чем произнести:
– А про любовь, значит, не можете?
– Во-первых, мы давно на «ты». Во-вторых, про любовь может всякий. В-третьих, про любовь лучше прозой.
Он переволок стул к ней, сел рядом и обнял.
– Ну вот, Марья, давай теперь про любовь. Как ты думаешь, получится у нас?
– Конечно получится.
– Гляди, какая самоуверенная!
Он касался губами её щеки, будто на вкус и мягкость пробовал, а она словно считала про себя эти прикосновения, и, насчитав известное только ей, нужное количество, повернулась и поцеловала его – сначала поверхностно, будто только пригласила в гости, а потом и в дом пустила.
Всё происходило молча, без слов. Спустя некоторое время у Боева опять была готова шуточка для Марьи, лежащей с ним под одеялом, уже на языке было: «Ты не только в реанимации, но и в этом деле тоже специалист, оказывается».
Но сказалось другое:
– Между прочим, на этой кровати я был зачат. Так что смотри, как бы и тебе не понести.
– Хорошая кроватка, – сказала она.
4
До утра в комнате мерцал ночной весенний свет – водянистый, дымчатый, без теней. В доме выстыло, и с рассветом на свежий взгляд вся убогость столетнего строения выперла наружу – давно не крашенные рамы, мутные стёкла, щелястый пол и, главное, уродливая печь, как в какой-нибудь охотничьей избушке.
Казалось бы, и женщина, Марья эта, должна была на утро после утоления желаний показаться Боеву под стать дому – бесхозной, подержанной, приблудной, в коих преображаются по утрам даже красавицы. Но неказистая Марья завораживала умопомрачительной подвижностью своей, какой-то пылкостью. Любопытно было Боеву из-под одеяла следить, как, сметав посуду со стола в таз, она быстро, с грохотом, помыла её, а разбив одну тарелку, страшно огорчилась. Как потом мощным кивком головы она закинула гриву вол ос за спину. Туго и беспощадно, как мешок с картошкой, затянула пояс на кофте. Всунула ноги в свои резиновые сапоги и так сильно притопнула каблуками, что песок с потолка посыпался.
А перед тем как исчезнуть, погляделась в зеркало и опять замерла у порога в ожидании сигнала: навсегда ей уходить или до следующего раза. Ей для этого хватило бы покашливания Боева, она бы поняла.
Он сказал:
– Погоди. Я провожу.
Марья ждала его на крыльце, собирая валиками кожу на лбу, обмысливая что-то для себя, – предстоящие дела, а может, погоду.
Такая же ущедшая в себя и весна была вокруг – давно настала, а зелени всё не выбрасывала.
Дождевые бурые космы распустила с небес в подсветке восхода. Вот-вот обрушится тяжёлый дождь сверху.
Боев хотя и обнял Марью по-дружески, но всё-таки поцеловал. И это, кажется, поразило и обнадёжило её.
А когда он окликнул её: «Эй, сестричка, ты не забывай нового пациента!», то она пошла скорее.
5
Теперь с утра до ночи Боев ходил в кирзовых сапогах. Запустил бороду и почти не бражничал. Приходящая Марья сказала, что у него больные почки, и поила настоем трав. Оставаясь ночевать, по утрам потчевала овсянкой.
Взялась возделать огород. Нашла лопату. Не разгибаясь, копала. Чтобы отбить у неё охотку к земледелию, Боев, сидя на завалинке с гитарой в руках, вышучивал её дурное трудолюбие, пел похабные частушки, а она неистово переворачивала заступом мягкий шоколад суглинка.
– Роешь, как на оборонных работах в виду наступающего противника, – кричал ей Боев.
А когда понял, что схватка бабы с землёй смертельна, разнял их и сам, один, продолжил пахоту.
В эти дни как-то неожиданно – с холодом и снежными пересыпами – утренние туманы вдруг стали зеленоватыми.
К Троице проклюнулась листва в дымчатых лесах, и будто вьюгами, стало наносить зелень – что ни утро, то гуще становилось на деревьях, глубже – на земле. Наконец листва сомкнулась, сделав чащи таинственными.
Вскоре в болотистой низинке у реки Боев сорвал купальницу. Зная, что не пахнет, всё равно понюхал, отдал почести первому настоящему цветку.
Печку Боев топил уже не каждый день. Сложил камелек во дворе под черёмухой и на нём кухарничал в отсутствие Марьи. А когда она была у него, то он праздным дачником – руки за спину – гулял по созревающим лугам или стоял за «верстаком» и «строгал».
Песни изготовлялись с виду просто – нащупывались пальцами в различных сочетаниях клавиш. При этом Боев и в самом деле был похож на слепца – стоял, зажмурившись или закатив глаза, и шарил руками по синтезатору. С упорством сумасшедшего напевал что-нибудь вроде: «Косточка черёмухи и веточка сирени…». В себе искал мелодию.
Найти и озвучить – вот и всё, что было нужно. Детская забава – не больше. Воображение, слух его производили при этом необъятную работу. В немоте мира здесь, перед деревенским оконцем, Боеву приходилось до умопомрачения играть в человека, вышедшего на сцену к микрофону за любовью публики, аплодисментами и заработком. Он терзал синтезатор до изнеможения.
С досадой думал, что непоправимо уклоняется от сверхзадачи. Жалел, что растрезвонил в интервью о программе будущего альбома. Чужими теперь казались собственные слова в газетах: «Это будет альбом о человеке нового столетия. Он примеряет различные социальные одежды, ищет любви, размышляет о стране, цивилизации, рае на земле и обретает лишь одиночество…»
Иногда в тяжёлой злобной тоске он заглатывал несколько «пузырей» пива и заваливался на кровать, ждал, когда прильёт свежая кровь к сердцу. Был страшен.
В такие минуты чуткая Марья исчезала из дому, корячилась на огороде или крутилась у очага под черёмухой, а если шёл дождь, то тихонько сидела в кухне и вязала ему свитер.
Весна заканчивалась.
И хотя по вечерам холод всё ещё полировал майские небеса, но уже выдались такие два дня, что Боев купался.
Наконец в первых числах июня сильный ветер с юга сорвал черёмуховый цвет. Пошёл тёплый дождь. И началось лето.
6
Однажды солнечным летним днём они с Марьей обедали у открытого окна за столом на белой скатерти из бабушкиного приданого, слишком неподражаемой, приметной, с вышитым вензелем «МБ», видимо, поэтому воры не позарились на неё.
Открытая створка окна поскрипывала и постукивала. Марлевая рамка парусила от ветерка. За окном шелестела полным листом черёмуха.
Духовитый борщ Боев хлебал размеренно, неспешно и краем глаза читал книгу. А Марья то и дело вскакивала, металась между печкой и столом, ела на ходу, размачивала в тарелке засохшие корочки и горбушки.
– Вот, Марья, слушай, что Бунин про тебя написал, – пережёвывая, комкая слова, сказал Боев. – Слушай: «Она была доброй, как большинство легкомысленных женщин».
– А что, тяжеломысленные лучше? – живо нашлась Марья.
Боев оставил чтение. Долго молча хлебал, прежде чем опять заговорил:
– Ну хорошо! А теперь классический вопрос: что такое любовь, Марья? Минута на размышление!
Слегка даже обиженная простотой задачки, она выпалила:
– Это когда долго и счастливо живёшь с одним человеком.
Некоторое время Боев опять ел молча. Весёлый дух в нём распалялся сильнее. Он отодвинул пустую тарелку и сказал:
– Марья, а вот, говорят, человек от обезьяны произошёл…
– Фу, как противно! – брезгливо скривившись, ответствовала она. – Я бы согласилась только от дельфина!
На черёмухе запела какая-то новая птаха. Только по голосам Боев различал птиц.
А с виду все они были похожи для него на воробьёв. Он стал вслушиваться в напев, прикидывая, как бы его приспособить в песню. Глубоко задумался.
И потом медленно, негромко выговорил, удивляясь тому, что получалось:
– Хм! У меня такое чувство, Марья, будто эта самая любовь както незаметно вкралась между нами.
– Это хорошо!
– Ты так думаешь?
– Тут и думать нечего. Хорошо – и всё!
Она умело сдерживала сотрясавшую её радость. Даже покраснеть себе не позволила.
7
После обеда Боев попытался вмонтировать кусочек подслушанной птичьей мелодии в новую песню, а Марья мыла баню, последний раз подкидывала дров в каменку, заламывала берёзку на веник.
Раздевшийся в предбаннике Боев перешагнул порог парной и увидел её голую, блестящую от пота, в шапке-ушанке. Лицо её было облеплено размокшими овсяными хлопьями. Только малахитовые глазки остались от привычной Марьи, сверкали и смеялись под маской.
Она сидела на лавке и изо всех сил рёбрами ладоней зачем-то лупила себя по бёдрам. До хруста выворачивала поочередно ступни поджатых ног. Беспощадно заламывала руки за голову.
Спасаясь от жара на корточках у порога, Боев с интересом глядел на неё. Потом сказал:
– Ты к своему телу относишься, ну, как к велосипеду.
– Это же мой слуга! – Она звонко шлёпнула себя по ляжке. – А слуг нельзя баловать. Живо сядут на шею и ножки свесят.
Она умело, хлёстко обрабатывала Боева на полке, втирала ему в спину какие-то отвары. Он пожаловался:
– Чего-то у меня, Марья, в последнее время пятка болит.
– Пищу перестанем солить – через неделю пройдёт.
– Не согласен я на такой подвиг, ты мне лучше таблеток каких-нибудь дай.
– Я любимого человека травить антибиотиками не собираюсь.
И вдруг впервые за всё время жизни с Марьей душу Боева обожгло ревностью. Баба охаживала его веником, урчала от удовольствия, старалась, а он думал о ней: «Любимый – который у тебя по счёту, интересно?»
Она стала ему близка, дорога, и теперь он, как археолог, вынужден был жизнь этой бабы раскапывать, под наслоениями лет обнаруживать культурные слои её первой влюблённости, первой любви, замужества и измены и ещё делать какие-то нелёгкие открытия. И не скажешь – всё, хватит! Дальше не хочу. Не переключишь на другую программу.
Пока, может статься, опять не побросаешь пожитки в машину – и по газам, куда глаза глядят, как от всех предыдущих…
Вечером, перед тем как лечь в постель, Марья сняла с себя бусы и передала ему, чтобы положил на подоконник. Жемчужины были тёплые, нагретые её телом, её сердцем, и это тепло перелилось в него – обдало его сердце великой радостью, которая искупает любую боль. Постыдными показались всякие укорливые мысли, терзавшие его час назад. «Эх ты, морячок-елабачок», – думал Боев, сливая бусы с ладони на подоконник.
Марья шептала, сверкая влажными глазами в полутьме летней ночи:
– Какое чудо, что мы встретились! С тобой я чувствую себя женщиной. Не подстилкой, а женщиной!
– Ну, если здраво рассуждать, то вероятность встречи одинокого мужчины и одинокой женщины очень велика, – все-таки тянул свою песню Боев.
– Нет, это чудо! – восклицала Марья.
– Давай спать, чудо, – поторопил он, чтобы каким-нибудь побочным разговором не замутить сияние в душе.
Положив руку ей на живот, он ощутил бесконечность, космос, Бога и дьявола – всю жизнь, и стал растворяться во всём этом.
Напоследок почувствовал, как она гладит его по щеке и говорит:
– У тебя щетина мягкая. А у некоторых бывает такая, что утром посмотришь в зеркало – всё лицо красное, воспалённое.
Сон отлетел. Оскорблённая душа Боева опять застонала. Он дождался, пока уснёт обидчица, перевернулся на спину, отодвинулся от неё, чтобы не прикасаться.
Было далеко за полночь. Светлое летнее небо зашторилось облаками. В доме стоял полумрак. Как звёздочка, горела на синтезаторе зелёная контролька.
Боев переживал приступ сомнений, а Марья спала невинно.
Через некоторое время он улыбнулся. Не вставая с постели, взял карандаш и тетрадку. Улыбка его стала такой широкой и лучистой, какой он никогда не позволял появляться на лице днём.
Лёжа, он стал писать, и скоро текст был готов.
Слез с постели и, чтобы не мешать Марье, вышел на крыльцо, прихватив гитару. Ночной холодок пронимал, нервы были расстроены, и Боева знобило. Отирая комаров с голеней поочередно пятками голых ног, он тихонько спел:
Ты уснула со мной на рассвете. На челе – ни теней, ни морщин. Будто не было вовсе на свете всех твоих предыдущих мужчин. Будто их никогда не ласкала, и они не касались тебя. Не теряла их, вновь не искала, и любя, и совсем не любя. Будто ты в чистоте подвенечной, в первой девичьей свежей весне. Будто я не на вечер – на вечность… Улыбнулась чему-то во сне…Умолкнув, и сам улыбнулся, вздохнул и подумал: «Ничего себе, конечно, вальсок. Только куда я с ним? Кто его купит?»
Он был опустошён и спокоен, благодарен Марье за песню. За эту ночь окреп духом и был уверен, что теперь его не сразят никакие откровения этой женщины о её прошлой жизни.
В доме послышался стук босых ног. Шутовство взыграло в Боеве. В темных сенях он спрятался за дверь, и, когда Марья в поисках пропавшего «любимого человека» шагнула через порог, он зарычал и схватил ее сзади в охапку.
Неподдельный ужас прозвучал в её пронзительном горловом крике. Виноватясь, он стал ей выговаривать:
– Ты чего это верещишь? Ведь ежу понятно, что нас здесь только двое. И это могу быть только я, и никто другой.
– Да? Знаешь, как страшно, – прошептала она с детской обидчивостью.
Он обнял её жалостливо, расчувствовавшись до слёз. В постели самозабвенно излюбил её, тёплую, отзывчивую, тонкокожую, упреждающе говорившую о себе: «У меня всё тело – сплошная эротическая зона».
А когда проснулся, то как бы попал на представление маленького театрика одной актрисы. Незамеченный, подсматривал из-под одеяла, как она металась по дому с тряпкой – от ведра и по всем углам. Успевала выскакивать во двор к очагу и накрывать стол. Напевала какой-то неведомый Боеву советский шлягер, бездарный, забытый всеми, а в ней живущий, – вот бы порадовался неизвестный композитор, услыхав сейчас Марью. «А колечко круглое, катится и катится», – чудовищно фальшивя, напевала Марья слабеньким вибрирующим голоском. Слуха у неё совсем не было. Но она так самозабвенно вытягивала своим козлетоном, такие трогательные гримасы строила и так серьёзно морщила лоб, что лучшего сольного номера Боеву видеть не доводилось. Именно видеть. Слушать-то её было невозможно, но смотреть – загляденье.
Скорость передвижения её «по сцене» была такая, что она то натыкалась на угол стола и сшибала тарелку, то ударялась головой о низкую притолоку, но всё-таки дважды – туда и обратно – успевала проскочить в медленно затворяющуюся дверь. Такое складывалось впечатление, что душа её жила отдельно от тела, летала всегда немного впереди, а синяки сажались на бесчувственную плоть.
За завтраком он вдруг невзначай назвал её именем своей бывшей жены. Прикусил язык, стыдясь оплошности, думая, что огорчил Марью.
Она обрадовалась:
– Это значит, Димочка, что я тебе стала тоже как жена!
8
В Духов день они сходили на кладбище и зашли на заброшенном погосте в деревянную церковь, стерегущую безбожный околоток под горой. Строение серебрилось обновлёнными осиновыми лемехами на куполах. Все пять крестов были сколочены из наскоро струганых брусков.
В пустой церкви стояла прохлада. Несколько невзрачных икон висело у Царских врат. Единственная лампадка горела у Казанской. В углу на скамейке сидела старуха с коробкой свечей на коленях.
Они с Марьей запалили свои фитильки, воткнули свечи в ящичек с песком и стали молиться. Марья кланялась истово, слова молитвы прорывались у неё свистящим шёпотом.
А Боев остолбенел, ошеломлённый сошедшим вдруг на него здесь, в храме, образом своей несчастной брошенной жены. Это было так неожиданно, что он ни одной молитвы не мог вспомнить. Беспомощно шевелил губами и содрогался от ужаса нахлынувшего прошлого с семейными скандалами и драками, от собственной мерзости, от жалости к оставленной Гальке.
Он поспешил вон из церкви. Морщась, страдая, уклончиво, чтобы не обидеть Марью, залепетал ей что-то, пытаясь объяснить странное своё настроение. Она будто бы всё поняла.
– Пойду сынишку навещу.
В воспалённом сознании Боева превратно отозвались эти слова. Болезненной подозрительностью обожгло душу. Казалось, Марья бросает его. И он торопливо, заискивающе стал просить её прийти к ужину.
– Я зайду ещё хлеба куплю – и сразу назад.
– Да, да! Купи! Вот тебе деньги. Возьми. Купи что-нибудь сыну. Себе тоже что-нибудь…
Впервые он давал ей деньги, и так некрасиво, суетливо получилось. Сунул комком ей в руку и ушёл.
Солнечные перелески не радовали. Он в один миг как бы пресытился жизнью, сгорел.
У крыльца под навесом стал плескать водой в лицо из рукомойника. Взгляд упал на зубную щётку Марьи, единственную её вещь в доме.
И ему как-то сразу полегчало от вида этой истёртой щетинки, пластмассовой лазурной рукоятки, замутнённой от долгого пользования.
Встав за синтезатор, нагретый солнцем, Боев собрал звуки в замысловатый аккорд, выжал и долго держал его. Привиделся какой-то католический храм, наверно, оттого, что тон был включен органный. Он не любил органов.
Но их обожала Галька. С этого аккорда само собой стала наращиваться песня «Про Гальку».
Ждёшь… Разрыдаться готова… Взгляд отведу, отстранюсь… Ты… ещё встретишь другого… А я – за тебя помолюсь… Встану лицом к аналою… Так уготовила жизнь… И обвенчаюсь с другою… Ты – за меня помолись…Припев был такой.
Батюшка крест свой поднимет. Звякнет кадилом дьячок. Нищий копеечку примет, Спляшет хромой дурачок…Остаток дня он упорно ждал Марью. Всё заключалось в этом ожидании – и отдых, и работа, и жизнь. Полулежал на ступеньках крыльца, дремал, почёсывался и – ждал. Давно уже он не позволял себе такого расслабления, за одну только мысль о безделье клеймил себя, взнуздывал и пришпоривал. А сегодня вдруг закаменел в единственном желании – поскорее увидеть Марью.
Как только показался её платок из-за кустов и она стала вырастать на холме, Боев сорвался с места, побежал навстречу, тяжело ударяя сапогами по обожжённой глине. Стал махать руками и кричать:
– Стой. Идём в луга гулять.
– У нас ещё ужин не готов.
– Выкинь ты из головы свои тарелки, чашки, ложки! Вверх посмотри, вверх!
– Ой, я как на небо гляну, так вся слезами ульюсь. Глаза у меня слабые.
Тогда он взял её за голову под жёсткими, проволочными волосами, – круглую, крепкую, «вумную», и стал целовать эти слабые глаза. Она нерешительно выворачивалась, смущалась, будто в покинутой деревне с единственным жилым домом Боева кто-то мог увидеть их и укорить за нескромность…
…Ноги несло, как по футбольному полю. Боев подбегал и подпрыгивал, хватая ветки деревьев.
– Когда я тебя встретил, Марья, то ко всем женщинам стал добрее относиться.
– Ура!.. – Она тоже подпрыгнула. – Ура! Значит, и я сделала для женщин что-то хорошее!
– …И одновременно все они вдруг стали мне неинтересны.
– Нет. На женщин надо смотреть, – со строгой убежденностью сказала Марья. – Они красивые.
– А для меня теперь красивая – значит добрая, как ты. Вот именно, такой критерий у меня к настоящим женщинам теперь: работящая и добрая!
Восторженный Боев не заметил, что сделал больно Марье, отказав ей в праве на красоту.
– Нет, много разных хороших женщин, – упорно твердила она, – а ты – вольный конь, Димочка.
– Вольный-то вольный, конечно. Спасибо. Но, знаешь, далеко не мустанг. По сути, Марья, я – крестьянская лошадка в эстрадном прикиде. Я из тех, кому хомут шею не трёт.
Тут Боев хотел сказать: «Выходи за меня замуж», но осекся от нахлынувшей грусти. Он присел у реки, кинул несколько камешков на стремнину и глухо, огорчённо заговорил:
– Первым тебя поцеловал не я. «Распечатал» тоже не я. Мужем первым тоже не я был. Понимаешь, хочется быть хоть в чём-то первым.
– Ты жалеешь о щенячьих радостях, да? Но ты реши раз и навсегда: тебе целенькая нужна или человек? Подумай, девушку ещё воспитывать надо, делать из неё женщину. Вдруг не получится? Ведь ты уже пробовал. А я готовая. Я стану твоими руками и твоими глазами. Вот у тебя две руки, а будет четыре…
– Ну ты, Марья, крутая! Ты только представь – я тогда как паук буду.
Она не захотела смеяться над его кривляньем, когда он попытался изобразить щупальца и напугать её.
– Ты в два раза дальше по жизни уйдёшь, Димочка. В два раза больше песен напишешь!..
То, что она говорила, было тяжело для неё, хоть давно обдумано и решено. Всё-таки уязвлённая его мелочными страданиями, она сорвалась:
– Конечно, я – грязная! Грязная!
Швырнув горсть камней в реку и вскочив на ноги, теперь уже он её успокаивал:
– Не наговаривай! Ты золотая баба! Из чистого золота! Это я слабак – мужик.
Солнце скрылось за лесом, и от непрогретой земли сразу потянуло холодком. Возвращаться домой им пришлось по колено в тумане.
9
На ночь Марья заваривала и пила мяту. Объясняла это так:
– Я очень возбуждаюсь от чая.
Но и мята, как успокоительное, не действовала на неё. Она вся вибрировала от любви, готова была до утра тешить ласками – только тронь. Но если, как сегодня, Боеву не хотелось, то и она решительно отказывалась:
– Это совсем не обязательно.
Целовала его в плечо, крестила в спину и что-нибудь рассказывала перед сном.
– Сегодня Петьку встретила. Он, дурак, приставать вздумал. Я говорю: «Всё! Я другому отдана и буду век ему верна».
– Опять ты меня обижаешь, – со вздохом отозвался Боев. – Ну, подумай ты, голова садовая. Ведь пушкинская Татьяна отдана была полковнику, а любила-то Онегина, то есть Петьку.
– Завтра в библиотеке возьму и обязательно перечитаю! – вдохновенно воскликнула она.
А на следующий день, пока она со шприцами в чемоданчике мерила волость своими скорыми шагами от одной старухи до другой, а потом читала в библиотеке роман в стихах, Боеву пришлось лицом к лицу столкнуться с Петькой, пришедшим на жестокий бой в меру пьяным, когда вино ещё красит мужика, разогревает его душу, острит глаз и раззуживает плечо.
Оказался этот Петька компактным, жилистым, с тяжёлыми кулаками на длинных руках. Марья говорила, что он тюремщик: ненароком застрелил товарища на охоте. Боев всматривался в его лицо, чтобы обнаружить приметы урки, но лицо было чисто функциональным: нос – для того, чтобы нюхать; рот – чтобы есть и пить; глаза – чтобы видеть. А порченный зоной нрав обнаруживался только в движениях упругого тела, в боковом ходе, в подкидывании пиджака, надетого, видимо, по важному случаю, то одним плечом, то другим.
Он стоял у крыльца одной ногой на жернове, другой – на ступеньке, и кричал в запертые двери:
– Эй, певец, выходи! Разговор есть!
После чего Боев изменил взгляд на него, глянул, как воин из укрытия, оценивающе: брать кочергу или нет? Решил, что вооружаться не стоит. Поднапряг память, ощутил в мышцах давние наработки самбо и, готовый к отпору, появился перед Петькой в дверях.
– Ага, звезда экрана! Видали мы таких по телевизору штучно и пачками! В кирзачах, в тельняшке, глядика-ка! Ты чего, охрип? Какого хрена в крестьянина заделался? Чтобы завтра твоего духу тут не было. И Марья чтобы больше сюда ни ногой! Понял, мля? Иначе «петушок» живо прокукарекает. Знаешь, такой красненький. И тебя по телевизору покажут в чёрной рамке.
– Это ты у меня сейчас закукарекаешь, – сказал Боев. – Вот я тебя сейчас поймаю, на цепь посажу и опохмелиться не дам.
Из кармана брюк Петька выхватил кухонный нож. Всякий юмор мигом отлетел от Боева. Вспомнился пистолет Торчинского, неотомщённое «фанерщик», бабы-судьи на бракоразводном процессе, провальные гастроли, все мужики Марьи. И вся эта соединённая злость последнего года жизни Боева обрушилась на Петьку. Одного удара сапога достаточно было, чтобы ревнивец разметался по земле, будто с черёмухи упал. Ржавый тупой его нож Боев не сразу нашёл в траве. Он поднял оружие и услыхал Петькин голос:
– Ладно, хрен с ней. Забирай её, певец. Ставь «пузырь» – обмоем такое дело.
– Нет, сперва я тебе голову наголо обрею этим ножом, – сказал Боев, – потом пуговицы у штанов отпорю и твоего «петуха» на волю выпущу. А тебя кукарекать заставлю вон на той горе.
– Шуток не понимаешь, звезда экрана? Да?
В землю по рукоять нож вошёл легко. Боев наступил на него ногой и вогнал заподлицо.
– Вот и тебя сейчас так же, – сказал Боев. – Просто рас-топ-чу.
– В общем, по рукам, певец. Всё путём. Можешь считать, что договорились.
Петька ушёл с достоинством, будто у него рёбра не болели, а приворачивал он к хорошему знакомому для беседы и теперь пора было восвояси.
Спустя полчаса в селе у магазина он бахвалился, будто «маленько поучил певца». Слух мигом долетел до Марьи и она тотчас бегом кинулась к милому на выручку. Увидев Боева под капотом «форда», она ещё смеялась над хвастовством Петьки, говорила, что Ленский ей больше нравится. Доказывала, что Татьяна тоже по-своему любила и полковника, но уже в уголках её губ от дурного предчувствия залегли горестные морщинки, какие были у неё до встречи с Боевым.
10
Удар по Петьке унизил Боева. Купол счастья вокруг дома рассыпался. Обнажился в Боеве холодный одиночка. Внутренний городской голос сказал ему, что жизнь в деревне – временна, деньги скоро кончатся, надо спешно выпускать сингл[43] или альбом. Искать музыкантов, сколачивать новую группу Ожесточённое сердце Боева просилось в путь, в яростную жизнь города.
Подрегулировав зажигание и захлопнув капот, он предложил Марье проехаться. Она отказалась.
– Нет, Димочка, ты уж один покатайся, а я тем временем ужин сготовлю.
Чуть было чёрт не дёрнул его за язык и он не брякнул, что на такой машине Марье проехаться больше, может быть, случая не представится. Болезненная весёлость, как в первые дни пребывания в деревне, опять обуяла Боева. С кривой усмешкой на губах он промчался по пыльному просёлку до асфальтового большака и, вернувшись, уже не стал загонять машину под крышу.
Вошёл в дом и остановился у порога. Марья гляделась в зеркало.
– Сегодня зарплату дали за март. Я из твоих денег немного добавила и вот платье себе купила.
Она разглядывала вырез – не велик ли?
– Смелый вырез, – сказал Боев.
– Нет, не так.
– Решительный.
– Вряд ли.
– Откровенный.
– Это вообще далеко.
Весь вечер она, казалось, была озабочена подыскиванием определения этому вырезу на новом платье.
– Что с тобой? Где песни, где пляски? – спрашивал Боев.
– Не обращай внимания. Это полнолуние меня мучает. Крутит, вертит, с души воротит. Дня через три всё пройдёт.
«Ну и хорошо, – подумал он, – Все решается естественным путём. Полнолуние. Потом новый месяц народится, новая жизнь и у неё, и у меня».
Утром, когда Марья, по обыкновению их месячной совместной жизни, металась по дому, собирая завтрак, он с сожалением подумал, что таких утр у него может больше не быть. Попив кофе, распрощался с Марьей, как всегда, будто бы ненадолго, до вечера. А только она за порог – сорвал с проволок синтезатор, сунул в кабину.
Запер дом. Немного подумав, ключ повесил на известный только им с Марьей гвоздик под наличником. Сел и поехал.
Трава шуршала по бортам. Постукивали по бамперу уже затвердевшие головки татарника и пижмы. В боковом зеркале мелькнули напоследок крыши изб. За ручьём Поклонная сосна, свесив вершину, покачивалась от ветра. «Прощай!» – сказал ей Боев и, сжав зубы, прибавил скорости, всю душу отдал дороге.
11
Ранним утром в городе трещали косилки в аллеях и парках. Стригли газоны. Пахло сеном.
В этот туманный час бродили по тропинкам у реки только обречённые собачники, буксируемые псами, да рыбаки с раздвижными удилищами пытались вытащить ерша или камбалу.
Боев бежал вдоль этой славной реки в кроссовках, в просторном спортивном костюме и в бейсболке козырьком назад.
Прошла неделя с тех пор, как он загнал «форда» на платную стоянку, с удовольствием дал на чай охраннику и решил, что созрел для битв. После деревенской тишины и семейной жизни с Марьей он жаждал испытать уколы льстивой зависти, провокации соперников, весь напряг закулисной жизни музыкантов. Забылись изматывающие записи в студии, концерты до крови в мокроте…
После пробежки, облившись под душем, голый, с полотенцем на шее, как бы из засады стал подбираться к «верстаку», выпуская когти, как к жертве. Последовало движение, похожее на прыжок, и пальцы вонзились в клавиатуру. Боев принялся терзать, потрошить электронику, добираясь до сердцевины мелодии.
За годы общения с синтезатором он забыл, что такое «восьмушки» и «четверти», «лиги» и «флажолеты». Вместо линеек нотоносца мерцал перед ним экран дисплея.
Только что сработанная на клавишах партия виолончели сразу проигрывалась от кнопки, и он слушал, «в жилу» пошло или нет. Стирал. И писал другой вариант.
– Я ждал тебя, я плакал по ночам, – негромко напевал он в этом дешёвом гостиничном номере с совмещённым санузлом и встроенным шкафом для одежды, тесном настолько, что синтезатору нашлось место лишь на столе. – Ты снизошла как реквием былому!..
На протяжении этих нескольких слов песни должны были успеть сказать своё слово и бас, и клавесин, и гитара с виолончелью уже и следующая фраза наплывала:
– Безбожнику открыла двери в храм и свет зажгла божественный – слепому..
Неостановимо движущийся смысл подхватывали подпевки струнных. Что-то бубнил басок. И все остальные инструменты тоже прочувствованно высказывали своё:
– Теперь опять я плачу по ночам!..
Он переключал кнопки на пульте, возился со звуками, как театральный режиссер в мизансцене с живыми людьми, – уговаривал, негодовал, кричал, иногда грубо ругался. Синтетическое музыкальное время шло само по себе, отдельно от времени с маятниками и часовыми стрелками. Когда фонограмма «Ожидания» была сведена и Боев, развалясь на кресле, остался доволен прослушанным, – пробило четыре. А в пять у него была заказана студия.
Сунув диск в карман ветровки, он в белых широких брюкаах и в чёрных очках спустился на автостоянку и, дымя непрогретым мотором, ринулся пробивать «фордом» пиковые пробки на улицах.
В длинной очереди у светофора перед Троицким проспектом его узнали парни в соседней машине. Повысовывались из окон – плечистые, могучие и какие-то мелкоголовые оттого, что были наголо пострижены. Они кричали ему, как своему корешу:
– Бой, ты не пропадай, поал? Мы на концерт подвалим – в натуре.
– Поехали с «чёрными» разбираться, Димыч! Потом в кабак – до отпаду.
– Димыч, «я в Чечне отбыл и домой свалил…». Димыч, клёво, поал?
Видно было, как один из них спешно перезаряжал магнитофон в машине. На полную мощность грянула в салоне «Губа». Парни скалились, что-то поощрительное орали ему, по-детски восторгались фокусом раздвоения Боева – на магнитофонного, записанного, и живого – только руку протяни и потрогай. А Боеву было совестно за примитивную песенку, не хотелось следом за ней проваливаться в проклятое прошлое с ненавистной Галькой. Но никуда не деться – в капкане автомобильной пробки он вынужден был подыгрывать поклонникам в «мерседесе». Двигал плечом на сильную долю песни, одаривал зрителей фирменными ухмылками, как свой в доску.
Выдавленный наконец на проспект, как паста из тюбика, его «форд» промахнул до клуба единым духом, но всё равно опоздал на полчаса. Молодой «упёртый» оператор отказался продлить сеанс. И за укороченный срок надо было успеть «прогнать» все десять песен. Не медля, Боев спустил с темечка очки на нос, а вместо них напялил на голову громоздкие полушария наушников и сделал отмашку «упертому», сидевшему за толстым, непроницаемым для звука стеклом. В наушниках зазвучало вступление «Прощания». Зажмурившись, погрузившись в темноту своего космоса, Боев запел, почти касаясь микрофона. Попал в тон лишь на втором куплете. Сложил руки крестом, остановил звук и снова махнул: начинай! На этот раз он ошибся в интонации концовки. Опять пришлось гнать поновой.
С каждой песней собственная работа всё больше разочаровывала. Он продолжал озвучивание только потому, что было заплачено, а сам уже решил снять аппаратную ещё раз.
Твоя любовь от злобы корчится, Среди берёз столбом торчит. Ты – окаянная законница, Квартирный мой иезуит…На этой шутливой песенке «Про Гальку» Боев заметил за стеклом рядом с оператором продюсера Полевого – высокого, сухого, немножко даже шелудивого, с ранней лысиной и остатками длинных волос. Лет десять назад они вместе начинали в «Крейсерах». Полевой неплохо «чесал» ритм, но лучше всего умел договариваться с администраторами. На записи первого диска «ДМБ» вёл финансовые дела. И вскоре решил, что ему нет смысла горбатиться на сцене, припухать в студиях, оставаясь в тени Боева, когда можно на нём делать деньги.
Время истекло, выключился свет в студии. Боев собирал с полу рассыпанные листки с текстами, когда вошёл Полевой.
– Привет, Димыч!
– Привет.
– Неплохо, конечно. Только вот зауми больше, чем надо. Избыток интеллекта так и прёт. Откуда это у тебя? Что-то раньше не замечал.
– От долгого общения с тобой.
– Ты хочешь стать камерным, элитным? У тебя деньги лишние?
– Просто старьё надоело.
– Не плюй в колодец, Димыч. Ну а если всё-таки хочешь рискнуть, приходи сегодня в «Пушку». У Есаула день рождения. В качестве презента поднеси ему что-нибудь из этого. – Полевой кивнул на листки в руках Боева. – Спой. Покажи. Посмотрим реакцию публики. Если «пробьёт» – я возьмусь. По старой дружбе. За символический процент. Подваливай. Оттянемся. Заодно расскажешь, где пропадал.
– О’кей! Сейчас за гитарой смотаюсь. К антракту подскочу.
12
От студии до гостиницы за сценической одеждой и обратно Боев ехал в летней метели из тополиного пуха, завиваемой потоками машин над городом. «Сирень облетела, шиповник зацвёл. Пылят и пылят тополя…» – твердил он только что пришедшие строки.
– Пароль – «Пылят тополя», – сказал он и охраннику ночного клуба.
Польщённый шуткой знаменитости молодой вохровец пропустил Боева.
Немного попетляв по служебным лестницам, Боев добрался до грязных мрачноватых кулис. Глухо и мощно гремело в зале. Сквозь щели в черновом рабочем занавесе сиял свет рампы и прокачивался бутафорский дым. Фабрика песен под названием «Есаул» работала на полную мощь, так что пол дрожал.
Одновременно с Боевым с другой стороны сцены за задник стал выходить хор пограничников. Солдаты выстроились и, когда перед ними взлетел занавес, грянули славянский марш.
В ту же минуту за кулисами появились музыканты Есаула и сам потный, измученный Купцов – в казачьей папахе и бурке, с глазами, полными ужаса от усталости. Как подкошенный, он повалился на потёртый диван, полежал с закрытыми глазами, потом поманил Боева и шёпотом, будто перед смертью, заговорил:
– Выручай, Димыч. У меня температура под сорок. После хора поработай минут десять. До антракта дотяни, Димыч.
Боев согласился и в один миг сделался таким же беспощадным и бессердечным, как перед побитием деревенского забияки. Сам Бог велел ему петь, собрав в зале всю попсовую прессу города и множество телекамер.
Только он успел переодеться в дальнем глухом углу кулис, в завале из сломанных стульев, как послышался грохот сотен армейских ботинок. Хор дисциплинированно ушёл к своим автобусам. А под огонь аплодисментов, на расстрел, на затоптанную, истёртую сцену выскочил Боев – в жилете-выкладке на голом теле. В камуфлированных брюках и спецназовских ботинках.
Опять он словно выпал из времени, из жизни. Чувствовал, что как бы надувал шар невиданных размеров, находясь в его центре. За десять минут надо было распространить свою душу как можно шире.
Двум первым песням – «Молитве» и «Ожиданию» – хлопали из вежливости, слишком разнились они с разлитым по залу настроением «Есаула», отторгались. Но уже к середине «Марьи» Боев почувствовал, что его голос достигает самых дальних уголков зала, прорывается на балкон и в фойе к грубоватым тёткам-дежурным, на Троицкий, и дальше.
Допевая рефрен, он уже был уверен, что завтра эту «Марью» запоют в ресторанах. Стараясь не запутаться ногами в корневищах проводов и кабелей, раскинутых по сцене, не сшибить частокол микрофонных стоек, он пятился, кланялся, стуча гитарой по доскам пола. На выходе со сцены расцеловался с Купцовым и, схватив с дивана гитарный чехол, спустился по служебной лестнице на улицу.
Полевой догнал его.
– Ты куда так рванул, Димыч? Надо обмыть такое дело. Постой. Скажи хотя бы, счёт на твоё имя открывать, или опять будет подстава?
– Сделай пока временное поручительство, – говорил Боев, засовывая гитару на заднее сиденье своего «форда». – Сейчас смотаюсь в одно место и потом тебе фамилию сообщу.
– Опять баба! Слушай, Бой! Только бледнолицые дважды наступают на грабли.
Уже с переднего сиденья, проворачивая ключ зажигания и выжимая газ, Боев сказал:
– Завтра начнём ритм-секцию писать. Арендуй студию на сутки.
Стартующая машина уже вжимала его в сиденье, а левое колесо ловило осевую линию, захватывало пространство между встречными потоками…
13
Длился и длился дивный тропический вечер. Гудел, рокотал горячий ветер за окном машины. За городом тоже было парно и непрозрачно. Казалось, весь тополиный пух земли, весь одуванчиковый цвет свалило здесь в громадную кучу, и солнце продавливало вершину этого хребта, прожигало.
– Пылят тополя!..
За Кеницей быстро потемнело, и он въехал в ливень. «Дворники» не успевали сбривать водяную пену со стекла. Едва видать было вскипевшую дорогу впереди.
Он гнал, не сбавляя скорости, пока идущая навстречу колонна грузовиков не залила его глиной с колёс. Щётки на стеклах только размазывали раствор. Вслепую Боев не управился, передние колёса поволокло по жиже. Он слишком резко крутанул влево и подумал: «Всё!»
Машину ударило снизу, сбоку. Вспучилась перед глазами надувная подушка. Что-то захрустело под днищем, забарабанили ветки по кабине, и «форд» остановился.
«Жив, – подумал он и, выскользнув из-под спасительного пузыря, робко отворил дверцу. – Интересно, где я?»
Оказалось, он перелетел через неглубокий кювет и днищем сел на придорожный ивняк.
Ничего страшного не произошло. Оставалось только дождаться, когда кончится дождь, взять топор, подсечь пружины стеблей, опуститься вместе с машиной на грешную землю и мчать дальше.
Сидя в кабине, под шум летнего ливня он представил, как часа через два проедет мимо Поклонной сосны, мимо дома, где он месяц прожил с простецкой бабёнкой. Потом он минует деревянную церковь и остановится у общежития беженцев.
Посигналит. Наверняка Марья, хотя и ни разу не слышавшая голоса его «форда», поймёт, что гудят по её душу. Выскочит на крыльцо в неизменных резиновых сапогах, непричёсанная, обязательно с какой-нибудь кастрюлей в руках, с тряпкой или половиком.
– Марья, ты сына на время у сестры оставь, – распорядится тогда Боев. – И садись. Поехали.
– Мне же на работу надо. Фельдшер заболела.
– С этого дня ты у меня работаешь. Менеджером, Марья! Кассиром и бухгалтером. Кухаркой, уборщицей, а также лечащим врачом и личным массажистом. Замуж за меня выходишь. Хотя, должен предупредить, конечно, со мной не пропадёшь, но горя хватишь.
– Ой, да у меня со всеми так. Всю жизнь!
– Опять ты мне про всех, Марья.
– Ну, дура я! Ну – такая!
– Ладно. Вполне подходящая. Садись. Поехали. В гостинице пока поживём. Дальше – видно будет…
Оставалось только дождаться, когда кончится дождь. Помахать топором до упаду. Погазовать, метр за метром пригибая передком кусты, и выехать на ровную дорогу…
Часть III Игрушка
Крестный ход в Заостровье
Тяжёлый рубленый крест на четверых, множество хоругвей после молебна разом дрогнули и поплыли по лугу.
Носильщики – пятидесятилетние мужчины, красивые своей статью, сединами и неутомимостью, все, как на подбор, видные, плечистые, были мотором крестного хода. Лица у всех – бородатые – скоро стали красными от спорой ходьбы и боренья духа.
Следом за ними вдогонку гурьбой шагали монахи в долгополых одеяниях: совсем молодые, худенькие, и постарше. Только один с брюшком. Остальные – жилистые, прямостойные. Возглавлял их священник отец Александр в веригах, напоминающих латы старинного воина.
За этим чёрным небесным воинством семенил хор скромных девушек в белых платочках.
Ну а далее, растянувшись на километр, – ходоки, паломники, миряне.
В летние дали вдвигалась колонна – истовые впереди, звенящие, сияющие.
Солнце палило весь день, и уже присело на край западного облачного наволока, как Жар-птица на насест. Ждали: ещё немного – и станет прохладнее.
Но солнце, опускаясь, всем своим июльским пылом как бы прожигало пелену и сверкало по-прежнему неутомимо.
С высокого берега Двины спускался крестный ход на заливной луг, к мостику через приток. Купальщики лежали на берегу. Загорали, пили пиво, радио слушали, магнитофоны, и вот вдруг откуда-то сверху на них под золотом хоругвей и с многоголосым пением повалили сотни людей. Скатывалась процессия на луг, и певчие, а вместе и все голосистые поддали от восторга лицезрения красоты земной и желания достичь ушей легкомысленных.
Достигли!
Полуголые девчонки спешно запахивались в простыни, напяливали халатики, ужимались стыдливо. Кого крестный ход застал в воде, те сидели по горло в реке, как лягушки, хлопали глазами в испуге. Вёсла в лодке замерли, несло лодку на мель – не замечали.
А из деревни навстречу бежала баба с полным пакетом огурцов.
– В прошлом годе прозевала я вас, дура! Корову доила. А нынче Бог дал встретиться! Милые вы мои, покушайте за ради Христа!
Тут через висячий тросовый мосток путь лежал однорядный.
Семь сотен, как через игольное ушко, целый час проходили. Отцы монастырские, дабы времени зря не терять, у сходен начали второй молебен.
Из раструба заливного луга пение ударило в небо. Ласточки, только что носившиеся в выси чёрной пылью, – врассыпную. Не было видно ни одной, пока правилась литургия. Словно бы взрывной волной разметало стаю.
Опять иконы наподхват – и вперёд спорым маршем. Теперь по заброшенному шоссе от поворота до поворота, от края до края сплошным потоком и с мерным хоровым восклицанием:
– Святый Николае, моли Бога за нас!
Студент семинарии шагал босой.
Он был высок, тонок. Чёрные кудрявые волосы схвачены на затылке резинкой. Суконная скатка на ремешке через плечо, и внутри этой скатки – эмалированная кружка, – вот и всё снаряжение на три дня пути. Сначала идущие рядом с ним братья и сёстры полагали, что он по молодости и из спортивного интереса скинул обувь: вот минует поворот, раскровенит подошвы – и обуется. Шоссе с выгоревшим, испарившимся гудроном щерилось острым гравием. Но километр за километром протаскивался под ногами этот наждак, а босоногий шагал всё так же бойко.
За студентом, заговаривая с ним время от времени, поспевала маймаксанская богомолка Устрикова с дочкой. Нынче на Пасху она в Холмогоры пешком ходила, на Богоявление – в Сию, а теперь на Илью навострилась до онежских скитов. Она шагала в белой кофте и в длинной синей юбке, из-под которой выбивались задники рваных матерчатых тапочек.
А дочка её, толстушка Оля, в косыночке, словно коза, едва ли не вприпрыжку покрывала расстояние. Как и студента, словно на воздусях, её несло по трудному пути, белобрысую, с глазами цвета чистой бирюзы.
– Пошто ты ноги-то нарушаешь, слышь, сынок? Мозоль, ссадина, – и всё будет не в радость. Поберёгся бы. Ночью только короста успеет нарасти, – опять срывать.
Студент великодушно улыбнулся неразумным речам богомолки. Не переставая глядеть вперёд по-над колышущейся толпой сквозь частокол хоругвей на флагманский крест, сказал:
– В Евангелии у Иоанна говорится: Христос на Голгофу сам нёс свой крест. А знаете, какая жара в Иудее? И дорога каменистая. Километра четыре от Претории до Голгофы, – и всё в гору. Солдаты издевались. Тернии венка кожу на голове раздирали. А он только шептал: «Элои! Элои!» То есть по-еврейски будет: «Боже мой! Боже мой!»
От этих слов студента тётка Устрикова слезливо сморщилась и долго обмахивалась крестным знамением.
А у Оли глаза испуганно расширились, и она уже не голубкой порхала, а как бы летела тяжёлой ночной птицей.
– Крест был из орехового дерева. Большой, – продолжал студент, – хотя не такой высокий, как изображают на иконах. В Евангелии говорится: Христу на трости ко рту подносили губку, смоченную в уксусе. Метра три, значит, от основания был крест, если учесть, что в землю ещё надо углубить. Да перекладина метра два. И всё это лежало у Него на плече.
Студент облизнул сухие потрескавшиеся губы.
Устрикова шепнула дочке, чтобы воды раздобыла.
Опять юной чистотой облило глаза толстушки, печали как не бывало. Помчалась девушка косогором вдоль шоссе, забирая всё выше, – летящим лёгким скоком, в развевающемся длинном платье напоказ всем, к водовозной тележке на велосипедных колёсах.
Быстро вернулась с полной бутылкой из-под кока-колы.
– Попей, сынок, водички, – потчевала студента Устрикова. – Либо хоть умойся. Легче станет.
– Спасибо. До заката – ни капли. Обет дал.
– Господи! Зачем же так себя изводить-то?!
– Это мне в радость.
И женщина с дочкой опять сделались строгими, обернулась у них душа тёмной, ночной, стороной, нагрузилась неясными и тяжкими размышлениями о людской злобе. Они ещё старательнее стали держаться студента, боясь отстать, потерять его в этой огромной, жарко дышащей толпе.
Пыль в безветрии окутывала крестный ход и золотилась на солнце, будто от самого народа сияние исходило. А между тем процессия втягивались в село.
Собаки цепные только урчали, не смели лаять. Одна гавкнула с перепугу, но деревенская девчонка кинулась на неё, пасть ей зажала, – так и держала всё время прохождения.
Подвыпившие парни на мотоциклах у магазина окликнули студента.
– Эй, мужик, чего это такое?
– Крестный ход.
– Чего, чего?
– Во славу Христа.
– Ё-моё, так это они Бога славят! И далеко это вы?
– Три дня ходу.
Парни были потрясены и подавлены.
– И пацанята с вами? Блин! Сколько же их тута?!..
Шли, пылили главной улицей села. Почти у каждой избы, поперёд палисадника, по мужику стояло, одна рука по шву, а другая – кресты на себя накладывает: местные активисты. Изо всех окон глядели, бежали из дальних концов села – как бы праздника не пропустить.
Трепетало тяжёлое полотнище золотого плетения с ликом Спаса. Высоко на шесте был поднят фонарь с неугасимой лампадой, щиты икон с наклоном одолевали напор ветра с примесью дыма от лесных пожаров.
Солнце на склоне уже растеклось в зарю.
– А вон и Павлово!
За лесом виднелся шпиль колокольни, место ночлега…
Поздним вечером на обширной поляне в густом лесу люди укладывались в потёмках кто в спальный мешок, кто на пляжную поролоновую подстилку, кто прямо на сухую ломкую траву. Негромким говором гудела поляна.
На опушке леса под берёзой сидел семинарист. В ногах у него – Устрикова с дочкой. Студент отпивал по глотку из кружки и говорил:
– При кресте Иисуса, при распятии, стояла Матерь Его и ученик любимый. И Христос сказал матери своей: «Жено! Се будет сын твой». А потом ученику: «Се будет матерь твоя!» И с этого времени ученик взял её к себе, печаловал до смерти.
В темноте было слышно, как Устрикова швыркала носом, тонко скулила, охала и тихонько плакала.
– Ну, ну! Что это вы! – сказал студент. – Все слёзы он за нас пролил. Нам радоваться завещано.
Быстро унялась богомолка, и скоро они с дочкой заснули в ногах студента под одним тонким байковым одеялом.
Студент сидел, привалившись спиной к скользкому стволу и думал, что если баба заплакала – значит всё то, что случилось двадцать веков назад, как бы с ними самими случилось – с ним, студентом, с богомолкой и её дочкой. И значит это и в самом деле не легенда, а сама жизнь, текущая в каждом из нас, сиюминутная жизнь души нашей.
Это он давно постиг в семинарской келье, в молитвах и бдениях монастырских, но здесь, среди деревьев и звёзд, среди случайного люда, это понималось глубже и представлялось несомненным…
Мечты
В отделе игрушек огромного металлического балагана на Троицком проспекте всегда толпится народ. Начинённые электроникой кораблики, танки, самолёты продаются по такой цене, что мальчики даже не просят купить. Вспоминая своё детство, застаиваются здесь отцы. Им позволяется покрутить игрушку в руках, изучая устройство, запустить в ход.
Нилов, безработный инженер, замер перед моделью радиоуправляемого самолёта. Мужчина покачивался, переступал в стоптанных полуботинках с пяток на носки. С силой вдавливал руки в карманы пальто, словно пробовал на прочность.
Вентилятор над головой трепал его седоватые запущенные волосы неопределённой стрижки, с завитками и косицами. Из хомутика второго подбородка выглядывало мягкое, плохо выбритое лицо. Глаза под длинноволосыми бровями мечтательно жмурились, когда он немного отстранённо, искоса глядел на игрушечный самолётик, представлял его в небе и прикидывал, можно ли было добиться такой же гладкости крыльев во времена увлечения авиамоделизмом, когда его мальчишеский мир составляли фанера, рейки, бальса, китайская длинноволокнистая бумага – и запах эпохи – запах клея эмалита! Эмалитовая короста на пальцах, сдираемая вместе с кожей!.. Когда перед соревнованиями он ночевал в авиамодельном кружке на полу под верстаком. Питался булками с лимонадом. Испортил желудок с тех пор. А зимой на замёрзшей реке заводил мотор, в кровь разбивая пальцы о винт.
Страсть самоделыцика принесла ему много радости в младые лета, а теперь помогала выживать. Когда завод остановился и перестали платить деньги, инженер Нилов придумал станок для вальцевания алюминия. В своей квартире, в кухне, гнул обручи, обтягивал сеткой – получались отличные сита, бидончики, лопатки, черпаки. Партиями сдавал продукцию на рынок в посудные ряды – тем и вносил свою лепту в семейный бюджет.
Крылья самолётика были в размах рук Нилова. Приглядевшись, он увидел кукольного пилота в кабине. Отступил на пару шагов, издали прикинул, как модель будет смотреться в воздухе. Как элероны в вираже станут наперекосяк, хвостовые рули слегка поднимутся, и белая, сверкающая эмалью птица взмоет в небо, в то время как он, сегодняшний, или тот, давнишний, из детства будет стоять на земле с повешенной на грудь коробочкой радиопередатчика и щёлкать тумблерами.
Он до сих пор жаждал пережить это волшебство превращения, уменьшения до мышки, до гнома, сидящего в кабине модельки. Или увеличения крылатой игрушки до настоящего самолёта с туго поддающейся ручкой управления между колен и с сектором газа под левой ладонью. В этих превращениях могло осуществиться, казалось Нилову, несбывшееся, величайшее счастье его отроческих снов с захватывающим парением над прекрасной землёй… Лет двадцать пять назад он уже было построил радиоуправляемую копию, но перестраховщики из КГБ не разрешили пользоваться передатчиком.
Его модель так и не взлетела…
Нилова слегка толкнули, грубовато попросили подвинуться, и чьи-то сильные руки как бы взяли и поставили впереди него к прилавку мальчика лет двенадцати, одетого в дорогую замшевую курточку и кроссовки с гирляндой точечных огоньков по ранту.
– Папка, вот он, – сказал мальчик, запрокинув голову и показав Нилову лицо со странными для ребёнка нездоровыми коричневыми подглазьями.
Подошедший отец ещё дальше оттеснил Нилова от прилавка. С его приближением продавец-кореец стал кланяться:
– Садараствуй, садаравствуй! Как садаровие?
– Нормально, Цой. Покажи-ка этот бомбовоз. У моего шпендыря день рождения сегодня.
Человек, покусившийся на мечту Нилова, был невысок, щупловат и лыс. Остатки рыжих волос на висках сострижены были наголо. Полы длинного кожаного пальто сзади забрызганы свежей грязью с высоких наборных каблуков. Особенно невзрачным выглядел он в сравнении со своим телохранителем – накачанным штангистом с длинной косицей на затылке.
Лицо властительного покупателя напоминало перепечённый зажаристый корж – не в пример белому и сдобному у Нилова.
По всему было видно, что этот низкорослый господин с остатками рыжины на маленькой, словно засушенной, голове принадлежал к выносливой породе. Нилов заметил, как исходящая от него внутренняя сила заставила продавца торопливо разгрести игрушки, резво вскочить на прилавок и с помощью зубов отвязать самолётик от каркаса. Модель испуганно трепетала, совсем как живая, пойманная решительной рукой. Птица счастья уводилась из-под носа Нилова. Совершалось нечто важное, и потому, наверно, его память стала так стремительно нагружаться этим господином в кожаном пальто. После того, как тот, закашлявшись, сплюнул чуть ли не себе под мышку, словно в карман спрятал плевок, Нилов с ужасом подумал: «Боже мой! Да ведь это Борька Шурыгин!»
Искрой пробило через десятилетия – в тот поздний осенний вечер. Дождь гноил опавшие листья на деревянном тротуаре. Редкие огни ламп в жестяных фонарях перемежались слоями тьмы. В пальто с поднятым воротником Нилов возвращался домой из кружка, и вдруг кто-то сзади ударил его по шее.
Нилов отскочил, рукой успел загородиться от следующего удара, и в эту секунду узнал в нападавшем своего одноклассника, Шурыгина. Маленький, пьяный, злой, он тоже узнал его. Показал перочинный нож и пригрозил: «Если матери скажешь – убью!» И ушёл своей дорогой, поблёскивая в свете фонаря хромированным лезвием. Только тогда Нилов почувствовал боль в шее и запястье: словно дождь вдруг посыпался подогретый, и одна из тёплых струек проникла за воротник, потекла по спине.
Пригрело и правую кисть.
Дома он что-то наврал матери про торчавшие гвозди и собственную неосторожность. Раны оказались неглубокими, неопасными, только обидными. Они давно уже заросли на Нилове бесследно, и унижение рассеялось во времени. Сам Шурыгин для Нилова давно помер, приговорённый, по его понятиям, такой своей хулиганской молодостью на погибель в лагерях. А теперь их свела жизнь в обратной пропорции: увлечённый, способный, порядочный Нилов оказался пропащим человеком в тисках нужды, а разбойный Шурыгин – богатым и свободным…
Белая невесомая копия самолёта стояла на прилавке среди игрушек обречённо. Кореец подзаряжал её от аккумулятора. Поджимал гаечку на пропеллере. Обходился без горючей жидкости. Не так, как во времена моделиста Нилова, когда из клизмочки приходилось впрыскивать пахучую смесь в оконца мотора… При этих воспоминаниях опять накатило на Нилова наркотическим счастьем авиамодельных времён, запахом медицинского эфира из коричневой бутылочки с сургучной пробкой, холодком разлитого на ладони эфира; его можно было поджечь и не опалить кожу – так быстро он горел.
Электрический моторчик взвопил стократно усиленной пчелой, совсем как бензиновый. Продавец испробовал действие радиосигналов, выключил мотор и сказал:
– Пасалуста, мальсик!
Возбуждённый ребёнок начал яростно чавкать жвачкой во рту.
– Ну и как мы его потараним? – спросил Шурыгин-старший, рассчитавшись с продавцом.
– Шеф, а если на крышу привязать? – высказал мысль громила-телохранитель.
Презирая совещательный голос слуги, Шурыгин опять сплюнул себе под руку.
И тут Нилов, внутренне участвующий в покупке, переживающий вместе с мальчишкой таинство обретения модели, не удержался.
– Крылья разборные, – подсказал он. – При ударе просто выпадают из гнёзд. У корневой нервюры самое слабое место.
– Ты чего, братан, сечёшь, что ли, в этом деле? – довольно дружелюбно спросил Шурыгин, не глядя на Нилова, но, казалось, из уважения к нему задержав очередной плевок-впрыск.
– Первый разряд, – ответил Нилов.
– Тогда вот что, братан, мой амбал подкинет вас с пацаном до стадиона. Покажешь мальцу, то да сё. В общем, не обижу.
– Папка, а ты?
– Во! Щас всё брошу и пойду шмалять с тобой!
Поехать в одной машине с Шурыгиным, пожалуй, Нилов бы не смог. Ему хотелось отойти подальше от него, как от дурно пахнущего, хотя Шурыгин распространял вокруг себя терпкий приятный дух недавно выпитого коньяка. Но как только властительный одноклассник сказал охраннику: «Я к друганам загляну Туда подскочишь» и, фирменно сплюнув, ушёл, Нилов, волнуясь от близкого счастья, раскраснелся. Двумя короткими движениями из потайных гнёзд вытащил крылья, торжественно вручил их парнишке, а сам ухватил под мышку фюзеляж.
Доехали мигом. Когда вышли на резиновую дорожку, окружавшую футбольное поле, Нилов спросил у мальчишки имя.
– Боб, – нехотя, будто перед надоевшим педагогом, отчитался малец и потребовал: – Ты только дай мне первому порулить!
– Естественно!
– Кури!
– Спасибо. Знаешь, я уже лет двадцать, как бросил. Можно сказать, забыл, с какого конца она поджигается.
Из мальчика выпирала отроческая порча, переходящая в юношеский порок.
Он зверски сжимал в зубах дымящую сигарету, щёлкал тумблерами управления, нетерпеливо ждал, когда стоящий на коленях перед моделью добровольный его механик включит мотор.
Над стадионом было много весеннего неба. Кружили брачными стаями утки с реки. Полицейский вертолёт, задрав хвост, прострекотал в сторону Морвокзала. И модель самолёта после короткого разбега легко, смело выскочила в небо из рук Нилова. Совсем как настоящий самолётик, стала набирать высоту. Слегка качнулась от порыва ветра из-за макушек тополей, выправилась и опять потянулась вверх по горке.
Юный курильщик Боб «выстрелил» сигаретой изо рта и только затем решился «надломить» рычажок на пульте. Сразу модель завалилась набок, показалась во всю ширь и стала стремительно соскальзывать по воздушной стенке вниз. Страх парализовал мальчишку, вышиб из него напускную наглость.
Мелькнули перед Ниловым его умоляющие глаза. Одним прыжком механик достиг пульта и, прежде чем самолётик свалился в пике, Нилов успел щёлкнуть тумблером левого элерона. Теперь опять модель неслась ровно и быстро, прямиком на своих пилотов, метрах в десяти над стадионом. Кукольному лётчику в ней должны быть отчётливо видны два лица – пожилое и молодое, одинаково ужасающиеся обвалом неземной радости. Как бы для усиления впечатления, самолётик, жизнерадостно жужжа, просел почти до газона, набрал скорость и, словно с отскока, опять устремился к солнцу.
Будто по команде с какого-то высшего пульта, и Нилов с мальчишкой враз повернулись следом за ним.
Нилов представил, как под крыльями самолёта расширялся вид города в охвате мощной реки и в кольце молодой бирюзовой зелени лесов. Вместе с игрушечным лётчиком Нилов крепко сжимал рукоятку управления. Обнаружив в себе повадки голубей, кружащих неподалёку, Нилов (или крошечный пилот?) лёгким движением руки завалил летательный аппарат вправо и, развернувшись, опять нацелился пугнуть мальчишку на беговой дорожке.
– Ну, ты, дай мне-то порулить! Мне-то дай! – кричал Боб ломающимся баском.
– Боренька, только не делай резких движений! – вопил Нилов. – Умоляю, Боренька! Плавно! Плавно!
И снова, прошив пространство, радиоуправляемая модель унеслась вверх, за пределы стадиона.
– Клёво! Сейчас я его в самую вышину!
Щупальцами электромагнитных волн парень наконец проник в самолёт, почувствовал его, заразился птичьей волей до самозабвения. Теперь никто бы не смог отнять у него пульт. Нилов рассчитывал всё-таки уговорить его передать управление на посадке, когда закончится зарядка, самолёт превратится в планер и в неумелых руках обязательно зависнет, нырнёт в штопор и разобьётся.
Но пока что модель забиралась по спирали всё выше. До хруста в шее задрав голову, Нилов, казалось, достиг невесомости – как бы опять сам поднялся на высоту метров в двести и даже ощутил покалывание бездны в пятках.
Настала минута, когда восторг переполнил его, и сердце защемило от нехорошего предчувствия.
– Давай, Боренька, на базу возвращайся. Лучше мы ещё раз слетаем.
– Нет! Я – выше!
– Сигнал может ослабеть, Борис. Поверь старому авиамоделисту.
– Отвали!
И через минуту, в подтверждение опасений Нилова, невидимая электромагнитная спираль распустилась в прямую проволоку, по которой самолётик и заскользил в сторону реки. Зарвавшийся пилот запоздало стучал по коробочке с радиоаппаратурой, словно по игровому автомату, бессовестно сожравшему последний жетон.
– Ну ты, блин, сделай что-нибудь!
С этими словами мальчишка всучил Нилову ящичек с антенной. Не спуская слезящихся глаз с неба, Нилов схватил пульт, стал судорожно накидывать на шею ремень, но так и не смог. Присел на колено и, морщась, как от боли, стал отчаянно раскачивать торчащие рычажки, будто выдирал занозы из собственного тела.
Самолётик уменьшился до размера стрижа и вольно летел в сторону яхт-клуба.
– Ну, поворачивай же его, поворачивай! – требовал мальчик.
Прежде чем модель скрылась в высотной дымке над рекой, Нилов успел-таки обнаружить неисправность – соскочивший с клеммы аккумулятора проводок, и подсоединил его. Передатчик ожил, запищал, застрелял вдогонку самолёту всеми своими амперами и герцами, но импульс гасился помехами множества автомобильных генераторов, сотовых телефонов, радиои телеканалов.
Тёплый воздух с горячих асфальтовых противней подбивал под крылья модели. Казалось, город, как неразумный великан, забавлялся редкой игрушкой, перекидывал с одного восходящего потока на другой.
Над рекой самолётик попал в холодный нисходящий стрим и канул в холодные воды.
Шурыгин-младший долго бился в истерике на свежем газоне футбольного поля, корчился, как травмированный игрок, кричал Нилову: «Гад! Гад!» Страдал до невменяемости. Пришлось звать охранника, загружать в машину орущего Боба, втолковывать телохранителю о катастрофе, о своей невиновности, убеждать, что и он, Нилов, тоже расстроен, ему тоже очень жаль ускользнувшего летуна.
Оправдательная речь длилась до тех пор, пока из иномарки не донёсся голос Боба:
– Пошёл он!.. Мне папка новый купит.
После чего они уехали.
Нилов остался один, долго ещё сидел на трибуне пустующего стадиона, глядел на стрижей и думал, что некоторым мечтам человека лучше и не сбываться…
Маманя (Рассказ односельчанина)
…Полина пойло свинкам месила, когда сын её, Миша, с первой чеченской домой пришёл. Увидела его – и всем корытом с пойлом в парня шваркнула. Корыто в овраг укатилось, а Гриша укрылся за углом дома. И говорит оттуда:
– Что же ты, маманя, так неприветливо встречаешь? Что я такого сделал? Или не признала? Я сын твой, Михаил.
– Нет у меня никакого сына. Знать не знаю! Мой сын на войну ушёл и с победой должен вернуться. А тут кто такой нарисовался? Это беженец в военной форме.
– Генералы, мама, виноваты, – оправдывался Миша. – Они замиренье подписали. Будь моя воля, так я бы и до победного конца воевал. Дисциплина, мама. Сама меня учила отцов-командиров за родных почитать.
В ответ Полина в его сторону ещё одно корыто опружила. Собака подвернулась – она ей пинка дала. Схватила топор и стала дрова рубить, чтобы успокоиться.
Под горячую руку Миша к матери соваться опасался. Он – к свинкам. На колени упал посреди двора – и давай играть с ними, как с котятами. Боровы к нему ластятся, визжат, в лицо мордами тычутся, а солдат демобилизованный заливается детским смехом.
Десятка два голов лионской породы они с матерью держали. На племя и на мясо. Какое-то особое, нерусское, блюдо готовили для зарубежных приёмов у губернатора (деревня наша в черте города). И жили мать с сыном неплохо, тракторишко имели, легковушку, только уж больно колготно. Парня иной раз и пожалеешь. Как бы грызь не заработал. Жилы-то мужицкой ещё не нарастил. А Полину чего жалеть? Она век за двоих ворочала. Ей я давно не удивляюсь. Вся жизнь на моих глазах прошла. Соседствуем.
Кажинное утро зарядку делает. Бабы ещё потягиваются, пастух глаза продирает, а она уже по улице бежит – в штанах и в лифчике, зимой и летом одинаково. Полина пробежала – значит вставать пора.
Раньше её папаша бегал, на турнике у реки крутился. Тоже был физкультурник. А когда у него Полька родилась, он её сыном назначил. Ещё от груди была не оторвана, а уж подъём с переворотом выполняла. Колесом ходила по деревне. Глянешь в окно – только ноги взлягивают.
В юбке да с длинными волосами её не помнят. Всё в штанах да стрижена. За главного тренера с ребятами в футбол играла. По мячу-то как даст, так потом до вечера его в кустах ищут.
Когда в девушку развилась, стала палкой парней по горбу охаживать.
Парни в клуб на танцы идут – и она посередь них.
Окончила курсы трактористов. Много лет ездила на «Беларусе». Колесо тяговое в рост человека она сама поддомкратит, сама снимет, сама и разбортует.
И всё холостячила.
Однако лет в тридцать забрюхатела. Никто не знал, от кого, даже и не догадывались. Уж как бабы ни высчитывали, а ничего не сходилось. Ну, ихняя сестра ведь на это дело злая. Стали говорить, что Полька под трактором лежала, – так, значит, от трактора и понесла.
Родился Миша и тоже сразу в оборот попал. Она с ним еще маховитее, чем отец с ней, обращалась. Парнишке неделя исполнилась, с пупа короста не опала, а она уже его за руки держит, подъёму с переворотом учит. Опосля его тоже кликать стали: «Мишка Беларус».
Ходовой, ядрёный вырос парень.
Время в армию идти подвигалось. Полина в овраге выгородила стрельбище. Из дедовой «мелкашки» Миша с матерью не одну фанерку на щепу извели. Гильзами стреляными ручей запрудило.
Призыв подоспел – три дня наша Полина перед военкомом глотку драла, чтобы Мишу в Чечню направили, хотя его судьба выходила на комендантский взвод в большом городе. А Полина кричит: «Не для того сына растила, чтобы он мостовые подметал». Он, мол, девяносто девять из ста выбивает во всех трёх положениях.
И взяли Мишу в снайперы.
Когда новобранцев в армию повезли, так Полина баб стыдила, которые ревели. Переживала, конечно, и она за своего Мишу. Не каменная.
– Ох, дедушка, как сына отправила на войну, так места себе не нахожу. Ведь вот какая привычка у меня, дедушка, от разлуки с ним образовалась: если сто грамм конфет в день не съем, так до тех пор очень плохо себя чувствую.
Женщина, известное дело.
Ну вот, значит, пришёл Миша с фронта. Со свинками играет. С досады Полина ещё поленьями пошвырялась да и простила сына. Куда денешься? Только сейчас же потребовала снять военную форму, чтобы матери не расстраиваться. И отправила за зерном на элеватор.
Беларус на «Беларусе» исполняет приказание.
Зажили по-старому.
Но ведь, кажись, и двух лет не прошло, как вторая-то чеченская война началась. Гриша к матери приступил:
– Мама, хочу свою вину искупить. В контрактники благослови.
На этот раз Полина упёрлась. Сказала, как отрезала:
– Теперь дальше огорода тебе дороги нет. Доверия не оправдал. Со свинками играй до старости. Теперь я белые колготки себе куплю и сама в снайперы запишусь.
И ведь, что же ты думаешь, добилась своего!
До стрелкового дела её, правда, не допустили, хотя она у военкома по столу книжкой про женщин-снайперов стучала. Её взяли за дизелями следить. Действующую армию обеспечивать энергией.
«А там, – говорит, – дедушка, и до передовой рукой подать. Смену у дизелей отстою, винтовку куплю и в свободное от службы время на позиции в схороне буду лежать».
«Ты, – говорю, – девка, вот что, – послушай старого солдата. Первое правило: овцой не будь, не лезь в кучу. Поведут по вам огонь – молодые по инстинкту плотнее друг к дружке сбиваться начнут. А ты инстинкта не слушай. В поле отбегай. Укрытие ищи индивидуальное. В одиночку труднее попасть.
«Ну а второе, – спрашивает, – какое правило, дедушка?»
«Во-вторых, – говорю, – ты ничего из вражеского обихода не подбирай: ни булавки, ни тряпочки.
«Ну а третье?» – спрашивает.
«А третье, – говорю, – к тебе не относится».
Она возмущаться стала. Обидные слова произносить насчёт неуважения к ней как к воину.
«Почему это ко мне не относится? Чем я хуже других?»
«Наоборот, – говорю, – ты в этом третьем правиле очень стойкая от природы. Потому как третье правило гласит: верность супругу храни до победного конца».
«Наоборот, – говорит, – дедушка, это правило для меня самое невыносимое. И если встречу там хорошего человека, то сдерживать себя ни в чем не стану».
«А как же, – спрашиваю, – ты двадцать лет сдерживала себя в деревне? У меня перед глазами вся жизнь твоя прошла, и ни одного мужика не было замечено поблизости».
«Да какие тут мужики! Ни одного подходящего. Все настоящие мужики на войне».
«Тогда, – говорю, – с Богом. Осторожнее там. Горец – он коварный».
Ну, купила Полина себе белые колготки и в Чечню уехала.
Однажды её в телевизоре вижу. Лицо-то было мельтешением прикрыто, а голос-то всяк узнает. Двенадцать, говорит, бандитов уничтожила. И засечки на прикладе показала. Дальше генерал стал за неё докладывать. В пример другим ставить.
А вскоре и победу объявили.
Миша пойло свинкам готовил, когда Полина с войны-то пришла.
На ней пятнистые штаны и тельняшка с обрезанными рукавами. Нашивки за ранение на одной груди, медали – на другой. Сверху красный берет.
На радостях Гриша за корыто запнулся, перевернул. Ведро с обратом тоже кувырком пошло. На матери виснет. А она ему строго выговаривает: «Почему прясло повалено?! Стены у свинарника не побелены?! Мост через ручей не починен?!»
Остаток дня Полина мирную жизнь в своём дворе налаживала, а вечером ко мне приходит.
«Спасибо, – говорит, – за солдатскую науку. Десять раз на дню, – говорит, – дедушка, твои слова вспоминала. Может, через то и живая вернулась.
«Ну так и радуйся, девка, кровь свою недаром проливала. Теперь родина спокойно заживёт. А ты нашим героем навек останешься. В музее фотографию повесят. В газете пропишут. Куда ранило-то?»
Она зарделась вся от смущения. Конфетку из кармана достаёт, бумажку раскручивает, а руки, гляжу, трясутся.
«Куда ранило, и сказать стесняюсь. В самое мягкое место, дедушка, вот куда!».
Вижу, обида на врагов так и гложет нашу Полину. Не согласна она, что попортили её малость. По-женски ей это очень горько осознавать.
Компенсацию, однако, неплохую получила за частичную потерю привлекательности. Полковник к ней на постоянное жительство приехал – хромой, без глаза, тоже весь в Чечне израненный. Полину женой называет, а Мишу – сыном. Такое боевое семейство образовалось…
Стрижка наголо
Было это в августе 1968 года.
Ночью по Двине шёл колёсный пароход. Весь нос его сверкал алмазными гранями ресторана. В этом «алмазе» на одном из столиков стояли тарелки с бефстроганов и магнитофон новейшей марки «Дзинтарас» в деревянном корпусе, обтянутом дерматином.
Вращались две бобины размерами с конфорку газовой плиты, на которой словно бы только что и сготовили эти бефстроганов. А под столом предательски звенели порожние бутылки – «сухой» закон свирепствовал.
Из магнитофона неслось:
I’ll follow the sun!.Плечистый, рукастый Влад, держа на весу рюмку тёмного вермута, переводил синхронно:
Однажды на закате, Знаешь, Я почувствую себя таким одиноким, Что уйду следом за солнцем…Всем было по двадцать.
Чернявый костистый барабанщик Лозовой мастеровито ковырял отвёрткой в педали ударной установки с надписью «Лесные братья», не сданной в трюм вместе с ящиками усилителей по причине хрупкости.
Узколицый тонкий соло-гитарист Боб курил, развалясь на стуле, зажмурившись от удовольствия.
Я, будучи тогда лопоухим неуклюжим басистом Саней, гримасничал от нетерпения, позванивал своей рюмкой в такт о рюмку лидера и вопил в подпеве на срыв:
Some day I’ll know I was the one. But tomorrow may rain, so! I’ll follow the sun…He вытерпев напряжения песни, я плеснул вино в рот, сморщился, будто от нестерпимой боли, и, стуча кулаком по столешнице, дико заорал в припеве.
Кроме нас, в зале сидел ещё один человек – в костюме и галстуке, с орденскими планками. Он был лет на двадцать пять старше, но почему-то нельзя было сказать, что годился нам в отцы. Чтя закон, он пил водку из бутылки «минералки». Где-то на двухсотом грамме встал, прогрёб двумя пятернями волосы со лба на затылок и твёрдым военным шагом приблизился к нам:
– Старший кто будет?
– Ты, ты старший, дядя! Доволен? Ну и отвали! – выпалил я нетерпеливо.
– Повторяю: кто руководитель?
– КПСС! Стыдно не знать!
– Требую прекратить исполнение песен на английском языке!
– I’ll follow the sun!
– Из таких и получаются предатели Родины!
– Что ты сказал?! – вскочив из-за стола, крикнул я. – Да за такие слова!.. Понял?
– Я «лесных братьев» собственноручно к стенке ставил.
Тут и остальные, поднявшись со своих мест, окружили орденоносца.
– Ты Родиной в нас не тычь!
– Родина – отдельно, Битлы – отдельно!
– Мы в лесотехническом институте учимся, потому и «лесные».
– Не нравится песня – иди в кормовой кабак.
– We’ll find that you nave!..
Влад перевёл:
– «Однажды мы обнаружим, что ты исчез!..»
Хором грянули на мотив в лицо неприятеля, переиначивая слова согласно моменту:
– Иди-ка ты, дядя, вслед за солнцем!
И захохотали.
Он тоже улыбнулся и, как бы простив нам артистизм и молодость, сел за свой столик, налил в стакан водки и выпил.
Вторя финальным аккордам магнитофонной записи, загудел колёсник сложным мажорным трезвучием, пуская пар в органные трубы.
В путешествии было заведено выходить на всякой пристани, хоть за полночь. С криками и хохотом мы покинули ресторан.
Множество круглых иллюминаторов, как рампу, освещали дебаркадер. С берега на «сцену» выходила девушка с чемоданчиком. Мама и бабушка провожали её, напоследок хватали за руку, целовали.
Наконец она ступила на хлипкий трап.
– Моя будет! Замётано! – бросив сигарету в воду, вожделенно произнес Боб.
– Ты же официантку «склеил», забыл?
– Саня, официантка на тебя глаз положила.
– Какие широкие жесты! – крикнул я вслед ему, сбегавшему по медной винтовой лестнице на нижнюю палубу.
Хозяйственного барабанщика девчонка ничуть не интересовала. Он в задумчивости шептал: «Паяльник где бы достать?»
Мы с Владом долго обсмеивали это его словечко, «паяльник», со всех концов переиначивая до неприличия.
И скоро в нашей каюте первого класса оказались и новенькая робкая пассажирка – медсестра, и положившая на меня глаз ушлая подавальщица Нелька.
– Ой, мальчики, спойте что-нибудь! – просила она.
Официантка, бывалая, тёртая, торопилась, как я теперь понимаю, изведать романтики, прежде чем её потащат в постель, а Тоня (как звали девочку), похоже, ещё и не подозревала о подобных сценариях, скромничала, обтягивала юбкой коленки.
Стол ломился от вина и закуски.
– Вы такие богатые, мальчики! – восхищалась Нелька.
– Мы сами себя сделали! – хвастался я, обнимая официантку. – Нам на всех плевать! Гитары – сами склепали. Усилители – подпольные. За зиму на танцах кучу «башлей» заработали. Мы – свободные люди! Понимаешь? Может быть, первые такие в нашем городе!
– Ой, мальчики, давайте не будем об этом. Спойте лучше что-нибудь.
Она погладила меня по руке, как сейчас помню, крепко и благодарно, непонятно за что.
Исцарапанная гитара Влада, на которой сочинялись все наши песни, вместе с моим полуакустическим басом, вполне прилично подзвучивала песенку:
…Маленькая, худенькая, скромная, — как же пассажирам не дивиться ей?! Едет медицинскою сестрой она в самую заштатную провинцию…Такие песни пел я тогда на танцах в рабочих и студенческих клубах, не в пример Битлам, жалостливым российским тенорком, воздевая брови шалашиком, несколько даже страша слушателей своим наивным состраданием.
Глухо ухали толстые струны моего баса, тренькал аккомпанемент, старый пароход вибрировал и скрипел, кренясь на повороте.
– «Едет девочка в цветастом платьице, в город свой заранее влюблённая…» – дотягивал я последний куплет, когда в опущенном окне блеснули орденские планки, и в темноте за окном я увидел тусклый глаз – око человека из ресторана, его зализанные волосы.
Полтора такта ми-бемоля впереди были и без того нелёгкими для моей вокальной самодеятельности, а у меня и вовсе связки отключились, голос задрожал.
Концовка непоправимо смазывалась, пока этот тип проходил по палубе мимо окна, сцепив руки за спиной, неспешно и значительно.
Несмотря ни на что, Нелька захлопала, стала меня целовать. Для любого нормального парня этого достаточно, чтобы отключился рассудок и чувство опасности испарилось.
Настоятельно прижимая к груди, Нелька как бы втискивала меня в свой мир, в свою жизнь и судьбу, где не было ни бас-гитары, ни барабанов, а была лишь отдельная каюта в кубрике обслуги с букетиком ромашек на откидном столике.
Мы целовались с Нелькой в углу, недалеко от окна.
Тогда с девчонками мне нравилось более всего целоваться, и я проделывал это со вкусом, скорее всего, слишком долго. Но официантка терпеливо сносила телячьи нежности, впрочем сама кое-что предпринимая для развития ситуации.
Я плавно въезжал в следующий этап Нелькиной судьбы и уже приближался к её эпицентру, как вдруг, словно неслышным взрывом, был неожиданно мягко выкинут обратно на периферию.
Сел на койку по-йоговски, спиной к окну, и с удивлением глядел на хозяйку каюты, которая спешно влезала в юбку. Она как-то неестественно дёргала головой.
Я оглянулся. И на этот раз успел увидеть в иллюминаторе исчезающего человека в костюме с орденскими планками. Ярость захлестнула меня, не до спущенных брюк было. Почти нагишом высунулся из каюты и крикнул ему вслед:
– Ура КПСС! We’ll find you nave!..
Оказалось, в пустоту изощрялся. Никого не было на палубе. Только рифлёная сталь серебрилась в лунном свете, обрываясь у клюза[44], переходя дальше в лунную дорожку на реке.
– Он подглядывал? – спросил я Нельку.
– Прошёл, даже головы не повернул.
– Чего тогда испугалась?
– Он уже второй рейс с нами.
– Давай жалюзи поднимем.
– Нет, Санечка, я чего-то не могу..
С досадой покинул я официантку.
Всю ночь на рундуке со спасательными жилетами мы с Владом, сублимируя, сочиняли новую песню.
Помнится, что-то вроде «лето жарким шумом отзвенело, лето насладить нас не успело…».
Не хватало пары эффектных строк, как в считалочке, чтобы сверлили мозг слушателей, – без этого в песне нельзя.
Сияющий огнями пароход плавил ночь, становилось светлее. Сначала стал видимым туман.
Потом утренним ветерком в этом смутном мареве стали буравиться белые прозрачные пещеры, под своды которых, казалось, и целил рулевой, поминутно дёргая за проволоку гудка.
Мы с Владом допивали последнюю бутылку вермута.
Ты крикнешь: лето! Но нет ответа!– Не то, Саня! – в сотый раз браковал Влад. Я предлагал:
Проявишь фотку — И вспомнишь лодку!Влад ехидничал:
А в лодке – тётку!Я добавлял:
У тётки – попку!Приложившись к горлышку по очереди, прикончив вермут, мы поняли, что песне нынче не бывать.
Бутылка смачно булькнула в убегающей реке. А впереди уже вырисовывались трубы лесопильных заводов.
Город приближался.
Конец гастролям.
Мы побрели в каюту укладываться и за поворотом палубы, образованным скулой корпуса парохода, увидели сидящего в деревянном шезлонге человека из ресторана в надвинутой на глаза большой чёрной шляпе.
– «Это была ночь после тяжёлого дня!» – пропел я, кривляясь.
И он опять усмехнулся, как бы оценив шутку и прощая нашу задиристость.
Причалили.
Лозовой с Бобом ушли нанимать грузовик в порту, а мы с Владом принялись выволакивать из трюма громоздкие ящики акустики.
Упарились. Присели отдохнуть на один из усилителей.
На пристань въезжала машина. Издалека в тумане я принял этот чёрный «воронок» за ожидаемый транспорт. Автобус затормозил передо мной, из двери выскочили два милиционера и ловко наклонили меня до земли, заломив руки назад. Не успел я опомниться, как уже влетел головой вперед в задние дверцы, в арестантский отсек.
Всю дорогу барабанил кулаками в стенку и выкрикивал проклятия.
Когда автобус остановился и двери распахнулись, я увидел какие-то кирпичные задворки. Не обращая внимания на мой ор, милиционеры протащили меня узкими сводчатыми коридорами. После того, как мне позволили распрямиться, я увидел перед собой человека в белом халате.
Меня толкнули на привинченный к полу стул, опять заломили руки за спинку. В этот момент перед глазами у меня сверкнула никелированная сталь. Я почувствовал, как профессионально намотали на кулак мои длинные вьющиеся волосы, холодный металл ткнулся в череп и, жужжа, двинулся по голове, будто в поисках слабого места, чтобы углубиться, войти внутрь меня. Небольшие мохнатые зверьки между тем стали прыгать на пол, мне под ноги. Я не сразу понял, что это мои волосы, что меня стригут, как барана.
Еще немного подергался, поорал, а потом элементарно заплакал, тихо, с подвывом, шепча:
– За каждый волосок ответите! За каждый волосок!
Когда горка волос передо мной выросла до размеров спящей собачки, я уже взял себя в руки.
– Ура КПСС!
Локти за спиной сдавили ещё крепче.
– Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
Кость хрустнула в суставе. Теряя сознание от боли, я выкрикнул:
– Верной дорогой идёте, товарищи!
Ударили чем-то тяжёлым по голове…
О, наша юность!
По дневникам 1994 года (Клочки)
1
Перелётной птицей снимался я из города в деревню. Срывало течением, потоком каким-то духовным.
Как всякое наваждение, побывка в лесах скоро заканчивалась унынием, разочарованием, тоской зелёной от избытка трав и листьев. Я убегал в город, где уже через день скука деревенская освещалась поэзией, красотой, и я опять летел на этот свет.
Нынче, как всегда в деревне, я встал до восхода, в голубоватой серости сумерек, и пока на кособокой печке мезонина вскипал чайник, занырнул под туманную шубу реки, в кипяток ключевых струй.
Мокрый забрался с повети по лесенке и сел за стол перед растворённым окошком.
День начался с того, что солнце брызнуло на заречные сосны – взошло, просквозило березняк, отлило чугунные тени в чаще, остригло пар с реки.
Всё стихло. Птицы тоже умолкли, казалось, зажмурились от неожиданно яркого света и потом опять закричали.
«Что такое счастье? – думал я, востря глаз и ухо на происходящее за окном. – Это чашка кофе на рассвете. Огонь в печке. Покашливание матери внизу, в светёлке».
Пикирование трясогузки с «конька» на картофельную грядку для прокорма своих свистунков под охлупнем[45].
Толчок этой птахи под локоть: работай!..
Я принялся писать, зная, что от этого принуждения выйдет легковесно, придётся выбросить начало, но разминочные строки вытянут, напружинят текст далее страниц на семь (так щепки в золу превращаются, согревая мезонин), и родится очередной «клочок».
На столе передо мной стояла чернильница из доисторического пластика с надписью: «Книгу – в массы». Мамина, учительская.
На ногах были тапки, наскоро сшитые тонкой медной проволокой, из старых дедовских валенок.
Полосатая пижамная куртка накинута на плечи – от отца, нетленная какая-то, ей лет сорок, а всё не расползалась по швам.
Штаны – широченные растянутые трико из моей молодости.
Всегда было приятно облачаться в деревне в эти обноски, в эту родовую кожу.
И писал я на жухлом тетрадном листке с совершенно выцветшей разлиновкой, всю зиму пролежавшем на подоконнике.
Обгрызенным карандашом писал – «выдаивал» слова из немоты мира, испытывая коровье удовольствие от опорожнения, или вдруг морщился, оттягивал верхнюю губу за ус и часто, остервенело тёр вспотевшие ладони о штаны.
Короче говоря, в трудах добывал хлеб насущный для семейного пропитанья.
В тусклом зеркале на деревянной стене лицо моё щетинилось до крайности укороченной бородой, а возле уха белела проплешина, выхваченная в волосах от излишнего усердия начинающей парикмахершей-женой.
Поглядывая в зеркало, я зевал и наблюдал при этом, как веки косыми шторками расправлялись, позволяли высоко вскинуться чёрным бровям. Зевок выявлял в лице тонкую кость переносицы, плоскость скул породы венгерцев – так зовутся здесь метисы угорских племён в отличие от брацковатеньких – с тюркской примесью, и от тоймяков, чьи предки ушли когда-то в нынешнюю Финляндию.
Двойник в зеркале немного озадачивал, но не раздражал.
2
Незаметно отснял блистательный рассвет.
Странички рукописи сдуло со стола первым порывом тёплого ветерка.
и в этот миг, будто гигантский контрабас, разживился лёгкой дробью дом внутри. Всё строение слегка ознобило, изба стряхнула сон с венцов и перерубов. Чувственное это дрожание пронизало меня насквозь, и опять, как на рассвете, высоко и радостно вознёсся дух.
Это Сашенька проснулся.
Сразу послышались шаги, голоса, хлопки дверей внизу – весь дом покончил с ночёвкой.
Я отбросил карандаш, зачарованно по двум отполированным жердям-поручням соскользнул на поветь. С трёхступенчатой лесенки – в сени.
За толстой, обитой войлоком дверью в кухне сидело, сгорбившись, вялое со сна, зажав ручки между колен, это существо, называемое Сашенькой.
Все жаждали обладать мальчиком. Мать, Татьяна, застилавшая в горнице его маленькую кроватку, великодушно делилась своим сокровищем.
То, что дозволялось бабушке, схвачено было цепко. Когда я зашёл в кухню, то заметил, как гордо взглянула старая на мальчика, будто там, на скамье, стояла полная корзина грибов, набранная ею собственноручно, неожиданно для всех, и она хвалилась ею.
Я тоже поспешил взять своё, «подключиться» к ангельской душе.
В мятой, скрученной ночной рубашке мальчишка мечтательно смотрел на огонь под сводом старой русской печи.
– Доброе утро, Александр!
– Доброе утро, папочка.
От этого нежного полусонного лепета у меня перехватило дыхание и голос.
– Ну что, идём купаться?
– Идём, папочка, – не шевелясь и не отрывая взгляда от пламени, чирикнул мальчик.
Теперь я уже не насыщался этим существом, а насаждал ребёнку самого себя, кажется, желанно для него. По крайней мере неизбежно, привычно для малыша – как здесь, в баньке, вынырнул он в мои руки из утробы матери три года назад – родился, так каждое утро и «мял» я его, «вылепливал». Кидал теперь это тельце под черёмухой вместо гири – тоже работа для родителя, потому что всякая физкультура была мне до крайности чужда, а парня хотелось «выделать».
Я сжимал хрупкие, ледяные после купанья лодыжки мальчика и как колуном взмахивал им над головой, поднимая стоячего под самые ветви, и опять обрушивал между ног, так что ручонками он шутя хлопал меня по заднице, смеясь и воркуя в этих жутких для постороннего взгляда взлётах-паденьях.
– А клещ на черёмухе живёт? – спрашивал ребенок, летая по дуге книзу головой.
– Не бойся. Я тебя на ночь осмотрю. И этого зверя мы к ногтю. Давай-ка с подкруточкой.
И мальчик, мелькнув высоко над моей головой голым блестящим тельцем, остался на миг в свободном полёте, успел вывернуться, пасть на меня животом. Соскользнул в мои объятия и оказался стоящим на траве.
Теперь ещё более хрупкие и тонкие косточки запястий были зажаты в моих руках. Ни с каким другим ребёнком я не решился бы творить подобное, но Сашенька каждый день кувыркался на кольцах, сделанных из клинового тракторного ремня, корчился на турнике-ломе, положенном на крестовины из кольев, вбитых в землю.
На ладошках ребёнка от этого наросли мозольки, остренькие, ороговевшие, щекотавшие мои мягкие ладони.
За эти мозольки я уважал его.
3
Перед накрытым столом, перед четырьмя тарелками горячей манной каши с жёлтыми озёрцами растаявшего масла, стоя, молились четверо. Одним указательным пальцем крестилась моя мать – как, научая, ткнул в неё пальцем поп в детстве (на лобик, на пупик и на плечики), так она и поняла, а вспомнив о Боге в конце жизни, так стала и в себя тыкать, более умиляясь молящемуся внуку, чем Создателю.
Истово, красиво клала поклоны Татьяна.
Натасканный ею в московских церквах, Сашенька, взобравшись на стул, крестился ловко, бездумно – к чему ему, непорочному, думы? Он и меня тоже отвлекал, наводил на мысли о том, что когда-то детская вера мальчика рухнет, а хватит ли сил на взрослую? Не рано ли втянул человека? И какие безбожники выходили из самых праведных семей!
Отвлекало меня и дребезжащее на утреннем ветерке стекло в раме: в следующий приезд надо будет подмазать пластилином. И очерк: вставить фразу о том, как по вечерам темнеющий восток отливает цветом иван-чая.
Вспомнился мотоцикл, который три года назад в соседней деревне кинул старший сын Денис – от первого брака с Л аркой, и пора бы машину как-то возвернуть.
Мирское, земное довлело, но на словах «и не введи во искушение, но избави от лукавого» коснулась-таки моего сердца вечная человеческая просветлённость, открыв сию минуту бесценной этой жизни.
– С Богом! – сказал я, и все сели за стол.
Время поджимало.
Я наскоро похватал горячую манку, встал, поправил сумку на плече и опять сел.
Все помолчали на дорогу.
Теперь я поднялся решительно, перекрестился на иконостас и быстро ушёл – от слез жены, от поскуливаний сына, от материнских наставлений, – как оторвал.
Хорошо было здесь, в деревне, хорошо будет и в Москве: в любви семьи, подпорченной бабьими разборками, в любви редакции с соперничеством мужских самолюбий.
4
За околицей оглянулся, попрощался с сизыми избами и зашлёпал по лужам и ручьям, на суше прыская из дырочек у подошв кроссовок.
Хватаясь за кусты, полез в гору, на которую ещё во времена моего детства вздымались подводы, кони горбились, выволакивали тяжести наверх, возницы взбегали рядом, подбадривали тягловую скотину яростным матюгом. Давно уже эта легендарная Русь отслоилась, вознеслась на самое небо с тележным скрипом и воплями, в чертоги памяти, туда – за грандиозные храмины облаков с корневищами дождей. Давно я распрощался с этой Русью, выплакал по ней все слёзы, а всё одно: как вспомню старых людей, их говор, сенокосные дни, становится больно.
С горы открылась акварельная синь овсяного поля, за ним кособочились кубики изб, подрезанные жирной чертой шоссе, и на эту придорожную деревеньку капустно-белый вал облаков в полнеба, вращаясь, натягивал дождевую муть.
Где-то в толще туч урчало-громыхало, но нутряные молнии были слабы, не прорывали брюха морока; он дымился от перегрева.
Когда я вышел на шоссе, лес вдруг зашумел так, что я не расслышал настигшего меня автобуса, болидом, пахнущим бензином, пронёсшегося слева.
Я отчаянно замахал! Нагнал автобус, кинул в открывшуюся дверь сумку и вскочил внутрь, когда железная крыша «икаруса» уже звенела от дождя.
Автобус разогнался в ливне до скорости ветра.
Впереди просвечивало солнце.
Водитель поднажал ещё, и туча отстала.
5
Вокзалы сносили и перестраивали. Вагоны из дощатых превращались в металлические, пластмассовые. А рельсы оставались неизменными, будто они вечно лежали.
По-разному пахла железная дорога.
Давно выветрился с насыпей сладковатый перегар паровозов.
Уже и тепловоз редко дохнёт нефтяным удушьем.
Горячим озоном обвевают ныне бесшумные электровозы.
А рельсы… Рельсы всё те же лежат.
«Шпалы под ними были деревянные, стали бетонные, – думал я. – Все изменилось, только рельсы – вечны. И как сто лет назад, отзываются на стыках сдвоенным стуком, в путанице стрелок заставляют паниковать колёса. Мера земли обетованной – рельсы. Тяжёлые, звонкие, блестящие – они вибрируют, гудят колоколами в соборах наших лесов».
Я сидел в вагоне, расслабленно навалившись на столик. Скособоченное лицо не соскальзывало с ладони, кажется, только благодаря щетине на щеке.
Я упивался колёсным стуком, мельканьем полей и перелесков за жёлтым немытым стеклом.
Такой же лёгкой обморочности достигал я мальчишкой, когда, покружившись, останавливался и обретал невесомость, меня несло куда-то, я плыл и больно ударялся оземь, но вскакивал и снова, раскинув руки, «завинчивал» себя до умопомрачения.
Дорожное кружение за окном переворачивало душу. И как дальние леса завивались вокруг меня, дремлющего за столиком, так и видения моей жизни – некие туманности, летающие города, миры проплывали по своим орбитам над станциями и полустанками.
Вдруг, словно игрой оптических преломлений, накладывалось на берёзы лицо дедушки – усатого, хромого, подстреленного на Русско-японской войне. Десятилетним я так любил его, что тоже хромал, а мама тревожилась: не ушиб ли мальчик ножку?
Или вдруг мелькала у безвестной речки под насыпью белая кепочка покойного отца и слышалось щелканье поплавка об удилище на его плече. Или вдруг Татьяна, беременная Сашенькой, начинала плясать в воздушных вихрях за вагонным стеклом, уперевшись ладонями в спину и выворотив из распахнутого плаща живот. Потом долго смеялась над собой – оторвой, с ужимками приседала передо мной.
– И в гробу ногой дрыгнешь, Татьяна? – кричал я, бацая на гитаре в три аккорда.
– Дрыгну!..
Подступила карусельная тошнота, как от морской болезни.
Я оторвался от заоконья, скользнул задом по дерматину скамьи на другой край, окунулся в душу плацкартного вагона.
Здесь, внутри, ритм рельс крошился на мелкие доли спальных отсеков с никелем подкосин и алюминием подножек, с лаковыми блёстками на переборках, с концами белых простыней, свисавших в проход; перемежался чьими-то голыми пятками, торчавшими доверчиво, как среди родни.
Я любил ездить вторым классом – без маеты общего вагона и чинности купейного. Как в «хрущобах» за тонкими стенками, так и здесь, на колёсах плацкартного, привычно жилось русским людям. Они пили воду из общего краника в углублении стенки, носили кипяток в банках, расстилали на столиках газеты, жевали хлеб с чайком, а иной и курочку грыз.
Разорванный пространством народ желанно сходился в плацкартном вагоне, ехал сутки, а то и больше в плотном общении и, не надоев друг дружке, опять рассыпался по станциям, оседал человеческой пылью на родной земле. «Поездами, – думал я, – народ перемешивается, как зерно в элеваторе, чтобы не задохлось».
6
Я встал и, хватаясь за блестящие трубы, пошёл по качающемуся вагону.
В туалет завернул только для того, чтобы постоять там у опущенного окна, сунуть голову в ураган, метнуть взгляд по излучине состава до крохотного электровоза и дальше – вперед и выше, где чистые июньские небеса наливались раковой опухолью градобойного морока. Плотный ядовитый сгусток туч напоминал и выброс химкомбината, и пожар в хранилище мазута, и гигантский холм шахтной выработки.
В разгар лета несло оттуда талым льдом, как из морозильной камеры.
Дистиллированный холодный ветер ударял в моё лицо. Я закрыл глаза и будто очутился в апрельской деревне трехлетней давности, в днях, когда зима уже вытаяла из снегов, когда душа её, зимы, не удерживалась больше коркой наста, а крупитчатые плоские снега лежали, словно сброшенная шкура.
И пахло так же на стремнине речки, где всю зиму билась жилка переката, зияла открытая глубокая рана и на лёд из промоины плескало чёрной кровью.
Не забыть той весны, когда, рванув по живому, я прошёл унижения суда, отказ в разводе, пережидание «срока примирения», жизни по углам у знакомых. И вот наконец освободился и, нищий, счастливый, привёз в деревню Татьяну.
Брёл по снегу от дома к промоине, становился на колени, зачерпывал ведром и с ладони пил первый чистый глоток после смрадной нервной зимовки.
Над снегом уже порхали трясогузки.
Над лесом – вороньё.
Дальше к небу летели гуси.
Выше всех белую высь «стригли» журавли.
А в старом моём родовом доме щебетала, смеялась и пела моя «птица» – Татьяна. Из Москвы кинулась за мной в необитаемую деревню с удалой мечтой зрелой беременной бабы – родить сыночка «на природе». С убеждённостью сумасшедшей доказывала: «Да никакая я не смелая, что ты! Это в роддоме рожать – вот где смелость нужна. Столько там заразы, хамства…»
У неё, видите ли, такое чувство осталось после рождения там дочки, нынешней моей падчерицы, как после группового изнасилования.
«Роды и зачатие, – говорила она, – это одно и то же, только растянутое во времени, правда ведь? Вот скажи, кто у Евы детей принимал?»
Выходило, что Адам…
Я шёл с ведром речной воды, блаженствовал, наглядеться не мог на чашечки у электрических столбов. Они были алые – там, в пяти метрах надо мной, горел ещё весенний день, а снег под ногами уже посинел к ночи. В пустынной тишине деревни раздался щелчок – это Татьяна включила лампочку в доме, и окна тотчас зажглись лимонным, каким-то театральным, рамповым светом.
Интродукция пьесы забродила в моей голове. Подходя к крыльцу, я бормотал: «На сцене – облупленная русская печь. Молодая беременная хозяйка озабоченно снуёт из угла в угол – она собирает ужин. Слышится стук в окно. Женщина резко оборачивается…»
Из кухни, увидев меня на улице, Татьяна обеими ладонями стала как бы нагонять на себя ветерок, зазывать. А когда я зашел, она кочергой опять уже ворочала поленья в топке. Лицо у неё было тоже алое, закатное. Я поцеловал её в лоб и уловил запах палёной шерсти.
– Какой-то бесище тут побывал без меня? Чую нечистый дух.
– Ой, да что ты! Просто чёлку прижгла.
Я погладил её по упругому животу.
– Себя не жалеешь – его побереги. Совсем он там скорчился. Испечёшь мальчишку.
– А как же твоя бабушка могла? И вообще, в беби-йоге говорится, что…
Мы, оба бывалые, пожившие и порожавшие, решили произвести ребёнка по-старинному, в баньке, и в то же время несколько модерно – в воду: из околоплодной сразу в речную.
7
Поужинав, я встал с портняжным метром посреди кухни и приказал Татьяне:
– Садись на пол.
Она долго устраивалась на расстеленном пальто. Наконец сокрытое обыкновенно в бёдрах женское чрево доверительно распахнулось передо мной. Трикотаж обтянул телеса во всех подробностях: живот (плод, яйцо) лежал как бы в чаше-утице.
Я нагнулся и намерил от колена до колена восемьдесят сантиметров. От упёртых в пол рук до пяток – метр двадцать сантиметров. От пола до подмышек – сорок сантиметров. Таковы оказались размеры дощатой ванны (Господи, только бы не гроба!), которую я намеревался изнутри выложить парниковой плёнкой.
8
Мы ждали срока, жили, радовались весне, безлюдью, друг другу.
Хотя до обвального тепла было ещё далеко, но каждое утро Татьяна выскакивала из избы на снег делать зарядку Через окно я смотрел, как она, корявая от беременности, «кидала» физкультурные поклоны: босые ноги на снегу расскальзывались вширь, соски налитых грудей касались наста.
Татьяна обтиралась снегом, обливалась из ведра, – всё мало.
Попросила вырубить полынью, потому что, видите ли, купание мамочки очень полезно для ребёночка. Он ещё в животике должен закаляться, ведь он уже большой, ему почти девять месяцев.
Я пошёл к промоине на перекате (лёд на реке уже всплыл, оторвался от берегов), бросил под ноги ставень и, опустившись на колени, начал рубить.
Топор увязал во льду. Куски его уныривали по течению под иссосанную острую кромку. Низко склонившись над водой, я понял тогда, что весна приходит не с неба, куда я так часто смотрел в последнее время, а снизу, из потаённых глубин, – я видел, чувствовал в ледяной утробе под собой эту бродившую молодую силу, подпиравшую покров и меня вместе с ним.
Вечернюю зарядку Татьяна делала уже у этой полыньи. Я удивлялся, как не мешало ей беремя. Приседает, ноги задирает выше головы, а ребёнок в животе перекатывается, будто язык за щекой.
С жадным любопытством глядел я на этот огромный орех, на пуп – «бычий глаз», прикрытый сверху веком кожи.
Молча восхищался Татьяной: «Вот, оказывается, какие бабы бывают!» Радовался, что она – моя и что такую отчаянную, наверно, не достанет проклятие брошенной жены.
А Татьяна в это время, разгорячённая, изнемогшая от зарядки, усаживалась на край проруби, спустив ноги в воду.
И вдруг соскользнула в воду вся, вмиг скрылась с головой.
Я только подумал: «Не может быть!» А вода уже горкой взбилась над провалившейся Татьяной. Густые длинные волосы распустились по поверхности проруби.
Затем эта волосяная коврига вспучилась, облитая «хрусталём» голова выскочила на воздух. Татьяна успела ухватиться за кромку полыньи и, вытянутая течением, прижатая животом к изнанке льда, фыркала, смеялась и кричала себе в укор:
– Ведь не хотела же голову мочить!
От страха я пальцем не шевельнул, тупо глядел, как лёд под её руками становился бурым от крови.
Я выволок её.
Она слизывала кровь, сплёвывала на снег и возбуждённо говорила, что ничего не поняла, слишком быстро всё произошло, надо снова в воду лезть, чтобы ощутить всю прелесть купания.
Стараясь не глядеть на неё, я сводил разговор на пустяки, на цену рубероида, на спирт трактористу. Всячески забалтывал пережитый ужас, вёл её в дом.
И в этот вечер мы тоже пили чай из старинного самовара, с ржаными лепёшками и вареньем, и вроде бы всё было как обычно, если не считать того, что у меня несколько раз кряду зажимало сердце и приходилось заводить его резкими вдохами.
Я представлял её тонущей, бьющейся подо льдом, представлял, как горло её распирается водой, потом грудь взрывается от боли, в глазах – вспышка, и конец. «Нырнул бы за ней? – пытал я себя. – Нет. Слабо. Метался бы по льду в то время, когда она гдето под ногами у меня уже плыла бездыханная. И тела бы не добыть до весны. Запил бы. Ушёл к бомжам. И сдох бы, вшивый, где-нибудь на вокзале».
9
Ночью на полатях я ругал её торопыгой, тайком утирал свои слёзы, покашливанием сбивал спазмы.
Заснули мы, как всегда, едино и вмиг разлетелись каждый в своё одиночество.
Мне приснилась в ту ночь слепая женщина на обочине тротуара. Она кутала голову в платок, манила рукой. Я перевёл её через дорогу и распрощался, а она вдруг схватила меня сзади за пиджак. Я оглянулся – о, дьявол! Это была Ларка!
Видимо, я застонал тогда, потому что проснулся от шёпота Татьяны:
– Тебе плохо?
– Опять она…
– Знаешь, милый, у меня, кажется, началось…
Татьяна слезла с полатей, встала перед Иверской – аршинной доской без оклада, и только произнесла: «Радуйся, дева», как прикусила язык, вся сжалась, вышла из дома в ночь, принялась быстро, загнанно ходить по тропинке от крыльца до реки и обратно с низко склонённой головой, с заложенными за спину руками, будто в глубоком размышлении, как заведённая.
А я кинулся раскочегаривать баню.
10
В кромешной мгле слепо и сильно дуло с юга, и на рассвете с реки донёсся оглушительный шорох – пошёл лед.
Татьяна стояла на берегу и дрожала от возбуждения:
– Ни разу не видела ледохода.
Лавина из-за поворота с разгону врезалась в песчаную кручу противоположного берега.
Белые плиты наползали на выступающую землю, «скусывали» дёрн с кромки.
Татьяну терзали рези и корчи. Она терпела до тех пор, пока под ногами у неё вдруг не сделалось мокро и не подтаял снег – это из неё пролились воды и соединились с речными.
– Больше не могу.
Она прибежала в баню. Голая и виноватая полезла в едва нагретую воду. Села в ванну, и ей сразу полегчало.
– Тебе, милый, столько хлопот.
Опёрлась локтями о грубые неструганые доски, закусила губу и потужилась.
Расселась поудобнее, сунула руку между колен и по-птичьи беззащитно пропищала:
– Ой, уже головка.
Я развёл ей колени и увидел внизу живота какой-то посторонний чёрный пузырь. Не засучив рукава, погрузил руку в воду, ладонью обхватил этот пузырь, оказавшийся на ощупь горячим, склизким камнем, пальцами сдвинул обруч материнской кожи.
Головка выскочила по горло личиком вбок и сразу заволоклась мутью.
Я нащупал плечико, потянул – ребёнок вытолкнулся из утробы быстро и сильно.
– Не давай ему всплывать, – шепнула Татьяна, силясь разглядеть то, что она носила и что теперь отделилось от неё. – Подержи его под водой.
Мальчик глядел со дна ванны, из розового становясь голубеньким, а Татьяна всё шептала: «Не бойся, он должен закаляться».
Но я уже не мог терпеть этой пытки. Поднял ребёнка. Раздался крик: «Ляа-а-а…»
Стала вылезать из воды и мать.
Метровый жгут пуповины позволил ей свободно перешагнуть через борт, сесть на краешек лавки.
Кулаками она сильно надавила на живот, и кровяная медуза плаценты плюхнулась в таз.
Я всё это время сидел на корточках с кричащим сыном на ладонях, ждал, когда помоется Татьяна и накинет пальто.
Завёрнутого в одеяло мальчика взяла мать, а таз с плацентой – я. Теперь пуповина как бы соединяла и нас с Татьяной.
Чтобы случайно не дёрнуть её, мы двигались шаг в шаг, теснясь в узких дверях баньки, и наконец выбрались на свет Божий.
11
Низкое солнце сияло на свежих изломах мчащихся торосов. На черёмухе изумлённо орала ворона.
Бешено жужжал деревянный самолётик на крыше. И пел свою песню новорожденный: «Ляа-а-а…».
Пока малыш спал, Татьяна обрезала пуповину.
Я закопал плаценту под черёмухой, по поверью, навек привязав сына к этому месту на земле.
А потом, хмельной от бессонной ночи, посреди двора крушил топором старый бабушкин сундук, готовя дощечки для колыбели. Лезвие сверкало на солнце, и треск пересохшей вековой древесины сливался со скрежетом льдин на реке…
12
Град ударил по железу вагона, будто охотничью дробь высыпали на чашечки весов. Я инстинктивно втянул голову внутрь. Несколько ледышек щёлкнули по туалетному зеркалу.
Я задвинул раму и в полутёмной кабинке стал перед зеркалом приглаживать колтуном взбившиеся волосы, плескать на голову воду из кнопочного краника. Ширил покрасневшие от ветра глаза, оценивал дряблость подглазий, глубину морщин у переносицы, частоту седого волоса в бороде и прикидывал, сколько ещё до старческой немощи осталось желанно скитаться мне по милой земле на автобусах и поездах.
Выходило, что, когда я стану пенсионером, Сашеньке стукнет пятнадцать. Уже будет из семьи, из гнезда глядеть, отрываться от сердца, – больно будет. «Милый, не спеши…»
Дверь туалета дёрнулась. Рукоятка нетерпеливо вращалась со стороны коридора.
Я откинул щеколду и вышел.
Гордая в своём стеснении молодая женщина стояла перед дверью, будто бы просто так в окошко глядела, наблюдала грозное явление природы, хотя на самом деле, наверно, терпела из последних сил и пылала ко мне ненавистью.
«Да, пожалуй, если и есть что-то неприятное в поездах, так это общие туалеты», – подумал я, влезая на свою верхнюю полку.
Опять славно было мне, подбив подушку под голову, глядеть на льдистый обвал за окном вагона, на речки, кипящие под градом, на побелевшие, засыпанные льдом тропинки. Дремать в люлечном покачивании и в одинаковости вагонной езды, как в одинаковости рельс, мерности стука чувствовать остановку времени, рывки его вспять и в стороны.
Вдруг вспомнить – увидеть яркий свет на какой-то маленькой станции, услышать скрип в чугуне тормозов, шептать какое-то девичье имя, внимать благим нотациям, для любви будто ты, мальчик, ещё не готов. Твоя женщина, мол, ещё где-то впереди. Вспоминать, может быть, теперь в последний раз это давнее дорожное знакомство, когда строгая и уже непоправимо отчуждённая спутница, которая только что позволяла целовать себя в тамбуре, уходила в темноту вокзальных переулков, в запах сирени, а я на подножке уезжал дальше…
Или увидеть себя сидящим в вагоне-ресторане за графинчиком вермута среди неугомонных крикливых русских спорщиков, мотать на ус вольные беседы и краем глаза всё время отмечать, как столбы электролиний отсекают мгновения твоей жизни.
Или везти в Москву месячного сосунка, на вагонном столике помогать Татьяне перепелёнывать его и ревностно следить за поддатым воркутинским шахтёром, который всё порывался подержать Сашеньку, упрашивал меня: «Понимаешь, мужик, я молочников люблю. Обожаю молочников»…
13
Москва ощетинилась передо мной спицами сломанных зонтиков. Яркие «медузы» хлюпали, пузырились по всей Остоженке, и промокший, я тоже мог бы показаться каким-то донным жителем, крабиком, моллюском, если бы перед пряничным храмом Николы не осенил себя крестом.
По асфальтовой горке-пандусу взбежал под крышу старинного жёлто-белого особняка с тремя колоннами по фасаду. Пробив головой занавес струй, нырнул в уютную сухость под портик, будто в иной мир.
У лакированных дубовых дверей курили Карманов с Васильевым.
– Привет, «дядя»!
Этот худой, лобастый иллюстратор Карманов, скаля в улыбке прокуренные зубы, ехидно напомнил мне мою привычку лукаво поплакаться о своих преклонных сорока пяти.
Азиатски чернобровый верстальщик Васильев, наоборот, чрезмерно уважительно поклонился.
Перед тем как подать им руку, я потёр её о рубашку за пазухой – сам не любил потных влажных ладоней.
– С тебя привальная, «дядюшка», – хохотал Карманов.
Я дал деньги. Он, как самый молодой, строго, торжественно соблюдая иерархию питейного дела, накрылся моей штормовкой, кинулся сквозь струйчатый стеклярус.
И скоро под кирпичным сводом подвала в писательском буфете мы откупорили шампанское. Из бутылки лилось и пенилось, как из водосточных труб.
Я вздохнул глубоко: то хорошее холостяцкое, московское, к чему ехал от хорошего семейного деревенского, наступило.
– За газету! – любое застолье начиналось в тот год с этих слов.
Шары бокалов со звоном сдвинулись, с отскока покатились каждый в свою лузу.
– Ну, как тут у вас?
– На Липецк пятый отдел «наехал», – сказал Васильев. – Они отказались печатать.
У меня сердце сжалось, душа напряглась, но я лихо, отважно разлил остатки шампанского и поднял бокал:
– Мало, что ли, вольных городов на Руси?
Выпили за моё возвращение и пошли на планёрку.
14
Человек десять сидело в бывшей швейцарской дворянского особняка на корточках, на кипах газет, на столе.
Узкое сводчатое окно было, как всегда, плотно закрыто шторами, будто в КГБ, куда однажды в рок-н-рольской юности семидесятых я попал «для беседы».
Через открытую форточку слышался стук дождевых капель по жести подоконника.
Ко мне подсунулась для поцелуя женская мордашка, потянулись мужские руки.
Сам Варламов просиял лицом и вскинул свою лопатистую мясистую ладонь.
Его редакторский стол был не шире журнального, низенький, колченогий, хлипкий. Не стол – подставка для рук.
Варламов – в подтяжках, в просторной полосатой рубахе – тяжело наваливался локтями на полировку, вывернув назад плечи с мощными лопатками, и, словно взмахнув ими, обрушивался на спинку скрипучего стула.
Он корчился под пыткой автора – бородавчатого пенсионера с белым пухом на розовом черепе, мокром от дождя, а может быть, потном, разгорячённом спором.
– Это капитальное исследование! – доказывал автор. – Я расщепил ядро нашего времени! А вы и десяти строк не прочитали.
– Дружище! Старина! В одной фразе проецируется вся книга. Для того чтобы почуять зверя, не обязательно видеть его. В капле воды – весь мировой океан!..
– У меня здесь ключ к пониманию эпохи. А вы – как слепые котята. Вас раздолбали в октябре и ещё раздолбают. А в этой рукописи – наша победа…
Такие люди в прошлые времена ходили по редакциям с проектами «вечных двигателей», с критикой первого закона Ньютона. Теперь они носились с трудами по спасению Отечества. В газете их звали «чайниками»: пыхтят, шипят, горячатся, – и только. В отличие от паровозов, которые, выделяя пар, ещё и тянут.
По мягкосердию своему Варламов не мог дать пинка пожилому «другу редакции», хотя не останавливал себя, имея дело с более молодыми и наглыми. Сейчас, доводя «чайника» до форсажа, он лишь оттеснял его к дверям.
Зато секретарь Онегин и политолог Шайтанов грубо, невежливо, не стесняясь возраста, решительно толкали назойливого старика, подавляли в два голоса.
Когда дверь за «пророком» захлопнулась, Варламов сказал:
– Внимание, друзья! Нас опять вынуждают сменить базу На выпуск текущего номера прошу мобилизовать все силы. Итак, пройдёмся по полосам.
Ни строчки моей не было в номере, не надо было ждать ни кнута, ни пряника. Сиди себе, блаженствуй, обсыхай, входи в курс и лишь по резким приказным замечаниям Варламова, по напускной строгости шароподобного, наголо бритого Онегина представляй вид будущих газетных полос и прислушивайся, как в стекло плещутся последние пригоршни дождя, клейко шелестят шины на асфальте.
Удивляйся, что ты, пышущий праздной созерцательностью, не стесняешься разгорячённых идейных «коренников», как это бывало после отпуска в советских редакциях, когда такие, как я, вынуждены были вести двойную писательскую жизнь: днём – в газете, по ночам – на себя. В редакции «ЛЕФа» удавалось жить нерасщеплённо. И в деревне, в тысяче километров от Москвы, сохранять, лелеять дух газеты, ухитряться говорить из своего мезонина с публикой мегаполиса.
И здесь, в центре столицы, оставаться провинциалом, деревенщиной, самим собой.
Я сидел на корточках у дверей, вспоминал лимонно-желтый закат в деревне перед торжественным снегопадом в июне, жаркий огонь в печи – в противовес, и нежно скучал по сынишке (вот уж никак не думал, что в сорок пять запечалюсь слёзной радостью о каком-то младенчике).
– Пока ты у нас никуда не задействован, Александр? Съездишь на выпуск? – вырвал меня из сельских бдений голос Варламова.
По породистому носатому лицу «командира» со лба прошла волна чувств: от зубоскрипящей суровости до болезненной застенчивости и словно бы вины передо мной.
– Я с удовольствием, Андрей Андреевич. Только куда теперь?
– Договорились с владимирской типографией. Тираж – девяносто две тысячи. Оплата – наличкой. Так что возьми на всякой случай «зажигалку» у Васильева (так называли в редакции травматический пистолет).
– Понял!
15
Когда все поднялись и опять стало тесно, продолжилось моё купание в любви: ввалившийся прозаик Царицын троекратно общекотал своей бородой. Пхнул в бок второй после Онегина кругляк в редакции, публицист-модернист Ценципер. Огнедышащая торговка Тамара, не щадя помады, присосалась где-то за ухом.
Коммерческий директор Коля Пикин, и зимой и летом одетый по-фашистски в чёрное с головы до пят, играющий какого-то штурмбаннфюрера, крутого политика, а на самом деле крайне добродушный и простоватый, даже в своей коммерции, брянский мужик, вытащил из-под стула полиэтиленовый пакет, полный денежных пачек.
– Тут около двадцати «лимонов», плюс-минус тысяч сто. Девки вручную считали, наверняка ошиблись.
Из своей дорожной сумки мне пришлось сперва вывалить на пол все пожитки и загрузить на дно влажные деньги, ворохами натасканные в редакцию газетными торговцами-тележечниками.
С трудом сведя молнию на сумке, я выбрался из давки на улицу и стал поджидать друзей для похода в Клуб писателей.
Голубая дымчатая Остоженка сияла чистотой. Сверкали отлакированные водой главки церкви. Москва представала передо мной в своём лучшем виде. Но отпускная беспечность уже сменилась осторожностью подпольщика, включилась звериная хитрость, обострилось чутьё, расширился обзор.
Тревога нагрузила душу, пистолет – карман.
Нетяжка была служба экспедитора, но угнетала этими двадцатью общественными миллионами и макетами газетных полос следующего номера.
Неказистая сумка моя вобрала в себя всю энергию душ и простеньких плотских устремлений – поесть, заплатить за квартиру, приодеться – двадцати человек редакции.
И главное было сейчас – не снимать сумку с плеча даже в туалете.
16
На следующее утро я проснулся от звона церкви под окном.
«Рень-рень-рень», – скромно отбивал маточный колокол. Детками щебетали подголоски: «Сили-дили, тень-тень».
И железный мостик через Яузу звенел под каблуками прихожан.
Я радостно скинул простыню, сел на диван, отдуваясь не столько от похмелья, сколько от кошмарного сна – привиделось, будто падчерица соблазняла. Тряс головой, мял лицо, с ужасом разбирал сон. Думал: не исключено, что когда-нибудь по пьянке он и сбудется. «Спаси и сохрани!»
Я перекрестился и только теперь хватился сумки с деньгами. И опять перекрестился – сумка лежала под подушкой.
В кухню прошёл в трусах мимо комнаты падчерицы, поморщился от запаха перегоревших духов и помады, как морщился от запаха грешной молодости в прежней семье – от перегара окурков в карманах Дениса.
Глянул в зеркало.
Под глазами слегка припухло после вчерашнего «праздника возвращения». За границами бороды на щеках и на шее наросла щетина.
Босые ноги на полу покалывало песком. Квартира без Татьяны была запущена. Шарики пыли мышатами сновали по длинному коридору вдоль книжных стеллажей.
В засорённой раковине на кухне стояла жирная вода.
Я сначала разгневался, а потом подумал, что именно эта нечистоплотность девчонки – лучшее лекарство от вожделения. И, обнаружив в подсознании столь надёжную защиту от соблазна, вдохновился на уборку.
Кверху задом, широкими махами, три раза меняя воду в ведре, вымыл квартиру.
Пробил засор в кухне и сварил кофе.
Сел с чашечкой боком к окну, с пятнадцатого этажа оглядывая старинные кирпичные корпуса камвольного комбината, липовую аллею у пруда, речку, стремящуюся под мост.
Далее бетонными надолбами громоздилось Свиблово.
Низкие, крутого снежного замеса облака выстреливались из-за Лосиного Острова, перелетали спальный район, «бомбили» Бескудниково.
«Как мало неба над Москвой, – думал я, – и всё-то оно или в экране окна, или в расщелине улицы. Даже с „чёртова колеса” на Выставке – оно сквозь прутья кабины».
И вспомнил, как полно виделось небо в деревне, с любой лесной полянки – куполом, а если взбежать на холм, то тверди остаётся совсем мало, ты становишься неземным жителем, ходишь на цыпочках в небесных подвалах под сводами облаков. Купаешься в грозе, которая кружит над тобой, поливая дождём то справа, то слева; плутаешь в дымах дождевых туч, вьющихся между землёй и небом зыбкими столбами – подпорками высотных сухих облаков, и всё время там, вверху, что-то строится, создаётся…
– С приездом. А где мама с Сашей?
Падчерица появилась из своей комнаты в мятом, затасканном халате, но со свежими приклеенными ресницами. Таращила глаза от их тяжести – глупая, запутавшаяся, несчастная.
– Здравствуй, здравствуй.
– А я вас завтра ждала. Давайте яичницу поджарю.
– Спасибо. Я сейчас в командировку на пару дней. Чего гляделками хлопаешь? А если бы на месяц? Песку на полу, как на пляже. Двери от грязи не открываются.
– Я убиралась! – искренне возмутилась девчонка.
– Ладно, садись кофе пить.
– А мама с Сашей когда приедут?
– Хочешь, чтобы ещё и мама тебе втык сделала?
– Нет, серьёзно.
– Через недельку я к ним в деревню опять смотаюсь – тогда ясно будет…
Спустя полчаса у метро «Ботанический сад» я купил новые батарейки для диктофона. А ещё через час уже мчался в кабине грузовика с полным возом редакционной бумаги – в типографию.
17
Как упоительна была вчерашняя дорога из деревни! Дорога – перенесение плоти в железе «икаруса», потом – на поезде, когда душа летела за окном, кувыркалась по вершинам ельников, выстреливала за облака, ныряла с мостов в реки и пела.
Сегодня же на Владимирку в МАЗе я въехал – нервы в комке, сумка с деньгами в охапке, перед глазами – вывороченный наизнанку мир в зеркале заднего вида, и жерло шоссе из-за горизонта целится прямо в сердце.
И хотя уже вырвались за пределы Московии и давно уже не порхал сзади красный жигулёнок пятого отдела ФСБ, на который работали все дворники Москвы, но отчего-то никак не отпускало душу, тревожило сзади, со спины. Слишком плотно, что ли, были сдвинуты ситцевые шторки за сиденьем?
Я открыл банку пива, глотнул, заливая беспокойство, а шофёр, не оборачиваясь, сказал:
– Люсь, дай-ка человеку бутербродик.
Из-за занавески высунулась тонкая девичья рука с гамбургером. Я взял, успел заметить родинку выше запястья – вот и всё, что узнал о попутчице.
Парня рассмотрел подробнее.
Что-то сержантское (в стрижке, что ли, боксёрской) было в нём от недавней армии, ненасытное, дембельское. Он ещё наслаждался машиной, играл с ней, как ребёнок педальным автомобильчиком, ему ещё нравилось её урчание, шипение и бибикание.
Для каждой скорости у парня было своё лицо: он страшно скалился, когда МАЗ надрывался, болезненно морщился от ударов на выбоинах, мечтательно светлел на ровной дороге.
– Жена или так, подруга? – спросил я.
– Всё в одном лице.
Я отхлебнул «Хольстена» и стал рассуждать, какая это удача – в одном лице и жена, и подруга, как надо дорожить этим, ведь счастье зависит от женщины, а развод тяжёл и долго замаливается.
Парень слушал несерьёзно, посмеиваясь.
За Покровом въехали в ремонтную узь с долгими остановками.
В кювете стали различимы головки клевера, капли желудей на ветках, а в кустарнике – крупные мохнатые ягоды малины под пыльными листьями.
В отрыве от слежки я успокоился и даже разыгрался. Стал соблазнять малиной шофёра, его молодую жену. Двусмысленно доказывал, какой это подарок судьбы, какая это «сладкая ягода».
Парень скалился в нечистой улыбке.
18
Машина встала в пробке намертво. Я выскочил из кабины. На обочине в кустах под ногами затрещал сушняк, ожгло крапивой. Я сдаивал нежную розовую плоть и горстями отправлял в рот. Ягода была пустоватой, словно водой разбавленная, не то что северная, деревенская, – та говорливо рассыпалась по столу, не пачкала клеёнку соком и в варенье оставалась целой.
Заметив движение колонны, с набитым ртом я вылез на асфальт, вспрыгнул на подножку, дёрнул ручку – дверца оказалась запертой. Глянул в кабину – ни шофёра, ни его жены, ни сумки с двадцатью миллионами не было там.
Всю кровь сердце бросило в голову, ослабли мышцы, и сила гравитации усадила меня на ступеньку машины.
Малина подкатывала к горлу, я едва сдерживал рвоту, подвывал и тупо твердил:
– Как бездарно!
Бледным немощным мужиком сидел на ступеньке грузовика, и борода моя наверняка сделалась пошлой, и седина – позорной, подумалось: «Застрелиться. Ха! Застрелиться из пугача?»
Сердце наконец протолкнуло кровь к ногам. Я вскочил, кинулся на шоссе. Какой-то высокий грязный бампер ударил меня в живот, чуть не опрокинув. Шофёр из кабины матерился.
А я уже хватался за борт другой машины, подтягивался, заглядывал в кузов. Бегал взад-вперед в распахнутой штормовке, жалкий, потерянный человек, вскакивал на подножки самосвалов, заглядывал в кабины легковых.
– Не видели парня с девкой? Чёрная сумка у них такая, кожаная, потёртая?
Хорошо, что машины едва двигались, а то лежать бы мне в луже собственной крови.
Опять тяжко уселся на подножку брошенного МАЗа. Теперь я понимал, как произошло непоправимое.
Конечно же, этот парень был обыкновенным московским кобелем. Ночевал с девкой в грузовике, а я по указке диспетчера нашёл в шеренге эту машину по номеру, принял парня за шофёра, сразу заговорил о задатке, чтобы задобрить, ускорить отправку, распахнул у него на виду сумку, полную денег, и ему оставалось только ковырнуть проволокой в замке зажигания.
Как же я не догадался, что штатный шофёр не будет орудовать проволокой!
– Позорище!
«Командир», конечно, простит, насшибает у своих богатых покровителей аванс на номер, и газета выйдет. Но я-то себя никогда не прощу!
Навеки заткнусь со своими претензиями на столичную жизнь человека свободной профессии. Морально издохну. Попрошусь в корректоры и до пенсии буду гнуть спину за компьютером, отрабатывать долг.
Сердце билось так мощно, что меня покачивало на ступеньке. Казалось, даже кабина расходилась от столь сильных толчков, мерно поскрипывала на рессорах.
«Так и мотор можно сорвать». Я попытался успокоиться, стал давить, тереть грудь под рубашкой, вслушиваться в себя и вдруг уловил несовпадение колебаний. Кабина жила своими, отдельными, страстями и скрипела не в резонанс с моим сердцем!
Я вскочил на подножку и через стекло увидел, как ситцевые шторки за спинкой водительского сиденья колышутся от возни за ними.
Перебежал на другую сторону грузовика и разглядел теперь свою сумку с деньгами под отопителем.
Я рассиялся в улыбке, устало прикрыл глаза и так, вслепую, блаженствуя, спрыгнул – спланировал с подножки на асфальт.
«А ты и в самом деле – дядя, – думал я о себе. – С лекцией про любовь. По кустикам за ягодкой! А у парня целая плантация за занавеской».
19
Автомобильная пробка не рассасывалась.
Я снова спрыгнул в кювет, вломился в кустарник. Двигался от ветки к ветке, обсасывал малинник и вспоминал, как горела, пылала и наша с Татьяной плоть, когда мы зачинали Сашеньку, и как всё получилось на полатях, в узком пространстве под потолком.
Я потом написал об этом рассказ. Татьяна прочитала в журнале, помолчала и вдруг решительно вывалила свою грудь из лифчика, а другой рукой подсунула мою ладонь под эту грудь, будто для взвешивания. «Это же груша! – доказывала она и волновалась чрезвычайно. – А у тебя там написано…»
Она полистала журнал, нашла сцену, где женщина в постели склоняется над спящим мужчиной, и прочитала: «Мешочки грудей свесились набок».
– Но это же груша!..
В ягоднике я жмурился в дрёме воспоминаний. Если бы видел себя со стороны, то эту улыбку назвал бы дурацкой, мальчишеской, позорной для мужика, напустил бы строгость в усы и брови.
Щёлкнул замок в кабине МАЗа, и выглянул взъерошенный, раскрасневшийся парень:
– Ну что, начальник, у нас там дальше по программе?..
МАЗ долго выползал из пробки. На уширении дороги стряхнул застоялость, резво побежал.
Молодка по-прежнему ехала в «гнезде», ещё тщательней сдвинув шторки.
А машина теперь казалась живее водителя. Парень потух, больше не вкладывал душу в «железо».
Наступили те несколько свободных часов в его жизни, когда он был способен не думать о женщине, трепался, рассказывал о своём бытовании в общаге, полной злых детских выходок и пьянок.
Через полчаса мы въехали в раздвижные железные ворота издательской фирмы города Владимира, в молочно-белый на солнце бетон грузовой площадки, под глянцевые стены типографии.
Ворота сзади, скрежеща, сдвинулись.
20
Здесь, в ста шестидесяти километрах от редакции, мне можно было бы почувствовать себя хозяином своей жизни и прикончить ещё банку пива, но я не позволил себе и пяти минут оттяжки.
Завтра в полдень выкроенные из двухтонных бумажных рулонов газеты должны быть сгружены в московском дворике на Остоженке, растащены по городу, а к вечеру – собраны как выручка для покупки бумаги следующего номера и для прокорма редакционной братии.
Поднявшись на второй этаж конторы, я подходил уже к директору типографии с поклоном и с протянутой для пожатия рукой.
Упорно, пронизывающе глядел ему в глаза.
Этот директор типографии – партийный дедушка в теперешней своей унизительной должности номенклатурного вахтёра, до смерти обиженный на «несправедливость» демократов, пьющий с тех пор и фрондирующий, – печатал наш гонимый «ЛЕФ» в отместку какому-то врагу из своих здешних начальников.
Ледяная душа мерцала в прозрачных дедушкиных глазах. Множество необъяснимых морщин народилось на лице – оно было как бы прищипано. А советский, купленный впрок костюм, письменный прибор из мрамора и чай в мельхиоровом подстаканнике напоминали о благословенных дореформенных временах.
– Так-так, оппозиционная печать, значит, к нам пожаловала. Ну, что новенького в столице?
Бывало, я располагал желанными конфиденциальными сведениями от Варламова и угощал ими таких вот «дедушек» в Твери, Калуге, Липецке. Но что я мог выловить в Москве нынче за сутки, тем более, что весь ещё жил деревней, сенокосом, рытьём погреба под старой лиственницей.
Скованность от вынужденного лицедейства, от игры в бывалого дельца, которому взятку дать – что высморкаться, тоже не располагала к трёпу.
Преувеличенно-небрежно и оттого неуклюже я выставил пред директором типографии бутылку «Распутина», купленную по пути. Дрожащей рукой, как взведённую гранату, сунул под газету на столе брикетик денег, схваченный резинкой.
– Это вам на закуску ещё… шоколадка, так сказать…
Директор по-отечески великодушно и поощрительно заворковал, подпустил откровенности.
– На меня ведь, ребятки, из-за вас такой накат сразу пошёл! И пятый отдел, и глава администрации: не печатать, – и всё тут! Но я ещё при старой системе их подальше посылал, а теперь вашей наличкой по мордам их, по мордам. Для них что такое «ЛЕФ»? Вражеская пропаганда. А для меня – выживание предприятия!
Он свинтил на бутылке головку и налил в рюмки.
Изнасилованная душа моя не приняла веселящего зелья. Выпитая водка свернулась в желудке. Застолье вышло поминальным, после чего гулкие коридоры типографии увиделись особенно мрачными, а пустота цехов за стенами – бездонной.
Казалось, падшая душа когда-то шумного, весёлого производства таилась грязной нищенкой в немытых углах, в разорённых пожарных постах, скрипела какой-то чердачной дверью на сквозняке, вставала на моём пути дополнительными стенами, а за поворотами возводила тупики с замурованными дверными проёмами.
Долго я плутал в поисках кассира. Нашёл по запаху парфюмерии.
Аквариумный дамский мирок благоухал за дверью.
Маслилась мордашка модного певца на плакате.
Воланы штор опадали на подоконник.
Ершился кактус.
Я расплылся перед кассиршей в улыбке, усы по-котячьи расползлись до ушей, в глазах засигналили живчики. Меня понесло в рассуждения об особенной природе местных женщин, об их неповторимой русскости, и лично – о кассирше.
Могло показаться, что эта молодая игривая тётя в броне замужества возбудила меня до влюблённости. Хотя на улице я бы её через пять минут не признал.
Просто я праздновал избавление от мешка налички, душой уже влетал в первый попавшийся владимирский кабачок.
Глядя, как пачка за пачкой деньги вставлялись в счётчик, предвкушал дивный вечерок у древней крепости и едва дождался, пока последняя дощечка рассечётся на тончайшие шпоны.
21
Беспечный поход по владимирским забегаловкам удался. Желанно посидел я с банкой пива в траве на боевом валу у Золотых ворот, наслушался сабельных сечей, насмотрелся княжеских выездов.
Весь этот художественно-писательский бред пресёкся только на пути к Успенскому собору, когда я случайно наткнулся на афишу о встрече со знаменитым эмигрантским писателем.
Сработала многолетняя журналистская натаска.
Как на запах дичи, пошёл я по указанному адресу, на ходу прокручивая плёнку в диктофоне, взводя его – эту первую крохотную машину на газетном комбинате, накопитель голосов и шумов, мыслей и криков сердца – самой жизни, в то время как валики огромной типографской машины сейчас уже припечатывали, «шлёпали», как говорил Варламов, на бумагу буквы, запятые и дефисы текущего номера. А печатники промывочным спиртом вспрыскивали первую тысячу тиража.
22
С приложенным к уху диктофоном я шёл за новой порцией жизни по длинной прогнутой улице Владимира и думал: «Чем дальше в провинцию, тем больше неба».
Параболой огромного радара эта зелёная тенистая улица, казалось, всю высь собирала в фокусе моих глаз.
На одном её конце-взлёте гроздья раскалённых облаков замерли по-вечернему. На другом, за моей спиной, облака растеклись белопенным соком.
В штормовке и джинсах случайным дачником-огородником втиснулся я в толпу нарядных владимирцев у Дворца культуры.
«Комоды» усилителей с крыльца оглушали русскими песнями в экспортно-матрёшечном исполнении. У стеклянных дверей стояли омоновцы с автоматами. Несколько сыщиков в штатском отследил я намётанным глазом и понял, что сам тоже попал под прицел оперативников.
По мраморным ступеням входила в грандиозную бетонную коробку бывшая обкомовская знать, переодетая из серых узких однобортных костюмов в двубортные и широкие, словно купленные на вырост.
С достоинством шли на встречу с новейшим литературным пророком трезвые мужики-грамотеи из ячеек местных партий.
Нахально пёрли пьяненькие курящие девицы.
Ковыляли въедливые скандальные старики с орденскими планками на чёрных смертных пиджаках.
Крутился и подпрыгивал в толпе восторженный дурачок, какие есть в каждом городе.
Весь этот люд спрессовывался в стенах фойе и дальше – в большом наклонном зале.
Спуски в амфитеатре между рядами были забиты любопытными, но в проходах партера оставалась пустота, ибо скромному, вежливому русскому человеку всегда неловко слишком близко к «начальству» – лукавому, битому русскому человеку спокойней с барином на расстоянии.
На этой-то, нейтральной полосе, я и обосновался.
Стоял у самой сцены, одной ногой на ступеньке, облокотившись на колено, и разглядывал пьяненького конферансье из неудавшихся провинциальных актёров, который, наверно, в последний раз дорвался до аншлага.
Растопыренными пальцами конферансье шаманил над лохматой головой, а администратор из-за кулис, приседая и ощериваясь, ладонью прикрывая рот со стороны публики, шипел: «Серёжа, кончай!»
Разбитной малый со сцены не слышал, продолжал травить байки.
Тогда в усилителях взвизгнуло, заклокотало, ударило по ушам вибрацией, – и всё стихло: это администратор предательски вырубил микрофон, голос «солиста» потонул в гуле зала, и Серёжа удалился, победно вскинув кулак над хмельной головой.
23
И тотчас из противоположной кулисы выскочил писатель-пророк – в джинсах и сталинском кителе с накладными карманами, с шотландской шкиперской бородой и длинными битловскими волосами. Всё было смешано на нём, отдавало ряженостью, эстрадностью, заботой об имидже, – русское слово «облик» отскакивало от него. Престарелый опытный шоумен разложил блокноты на столе и повис на микрофоне, трепеща всем своим сухим жилистым телом.
Он налегал на микрофон со страстью спортивного комментатора, заводил публику, ритмично проклиная коммунизм, как эстрадный певец делает это прихлопами и притопами для возбуждения аплодисментов. «Предположим, он действительно русский классик, – подумал я. – Но как-то всё нескромно. Гоголь в конце жизни жёг рукописи. Толстой бежал в Оптину пустынь. Здесь же празднуется личная победа».
Мимо меня, едва не сшибив костылём диктофон, взобрался на сцену по лесенке крепкий невысокий старик без ноги – седой, воинственный, заводной красноармеец Осташов, как он представился.
Ему было плевать на микрофон, на публику. Он шёл в атаку на миф, прорывался из этого, 1994 гда, в 1943-й, к этому престарелому теперь, капитану-писателю бравым сержантом с двумя орденами Славы, выкрикивал ему в лицо, в глаза обвинения в предательств. Это хорошо было слышно мне. А публика требовала: «В микрофон! В микрофон!» Пророк наивно пожимал плечами, изумлённо разводил руками. А когда красноармеец Осташов плюнул ему под ноги и, грохоча костылём, пошёл со сцены, то знаменитый летописец, будто бы выполняя требование публики, заговорил через усилитель об обманутом поколении, об отраве сталинской пропаганды, о жестокости лагерных охранников – в спину ветерана, побеждённого и гонимого, расталкивающего людей.
За этим стариком и я протиснулся на улицу.
24
Только два омоновца стояли теперь у дверей, да местный дурачок самозабвенно прыгал по плиткам перед Дворцом культуры, стараясь не ступить на затравенелые щели.
Голос «вещуна» из динамиков сотрясал тёплый розовый вечер русской провинции, подталкивал в спину.
Я спускался с горки по седловине тихой улочки, уже налитой вечерним холодком.
«Где больше одного человека, – думал я о людях в зале, – там и надсада, ложь, тьма. Там вместо неба – перекрытия, вместо эха – реверберация, вместо поэзии и красоты – публицистика и дизайн…»
В густом тёплом воздухе пряничного губернского города быстро рассеивались политические колкости великого литератора.
Чуден был закатный Владимир в своей русскости и старине!
Жёлтым подсолнуховым цветом пылали монументы присутственных зданий, ярко белели их колонны и портики.
Пунцово мерцали кирпичом неостывающего обжига купеческие особняки. Матовые соборы с бледным золотом главок никак не исчезали из виду: один заслонялся, другой показывался.
Я с радостью, надеждой поглядывал и выше – на небесный град, на буро-бордовые слитки туч: не под такими ли облаками и Мономах своих коней здесь поил?
И ответил сам себе: «Нет, небо всегда остросовременно».
Как маринист всматривается в море, так и я готов был часами глядеть на перьевую пряжу над головой, вихревые завитки, ворохи из облаков и валы.
Шагал рассеянным прохожим, сцепив руки за спиной, задрав голову, и думал, что как химия облаков неповторима, так и лепка их, краска, свет и тени – сиюминутны.
Воздушные моря, океаны так же полны очарования и драматизма, как и земные, водные, но несут в себе гораздо больше смысла. И если бы я был художником кисти, то рисовал бы исключительно жизнь неба.
Есть маринисты, а я бы стал облакистом.
25
Шоссе было узкое, затенённое старыми дубами и липами.
Километрах в тридцати от Владимира быстро стемнело, словно крышу навели над стенами леса.
Асфальтовой черноты морок обрушился серыми, свинченными потоками дождя, капли били в капот, взрывались и пылили.
От долгого смотрения в зеркало заднего вида у меня закружилась голова. Каждая обгоняющая в облаке брызг легковая несла с собой крах рейса.
Ожидание высунутого из кабины жезла, мегафонного приказа – изводило.
Я напрягался, настраивался на борьбу, изощрялся в придумывании уловок, понимая при этом, что сила солому всё равно сломит, что если догонят, то машину остановят и груз арестуют под любым предлогом. И мой плейбойский шофёр будет так же верен милицейским начальникам, как сейчас мне.
Предаст без вопросов.
Но пока что мы с полным грузом газет неслись в Москву свободно, и я самодовольно улыбался, вспоминая прорыв из склада, когда полчаса назад с поднятым флажком пропуска вбежал в будку охранника типографии и, не дожидаясь, пока бумажка наколется на гвоздь в стене, выскочил обратно.
– Отворяй, батя! – крикнул я стражнику уже с подножки машины.
Висящий на роликах железный щит лязгнул и сдвинулся в сторону. Как раз в это время за брючину меня дёрнул посыльный директора.
– Вас просят задержаться. Просят к Василию Игнатьевичу. В кабинет к нему идите…
Теперь, вдали от Владимира, я разобрал эту фразу, рассудочно вылущил из неё, что не сам директор просил зайти, а кто-то в его кабинете выше его и властительнее.
Конечно же, какой-нибудь мужик спортивного вида из пятого отдела славного провинциального города.
Сейчас мне это было абсолютно ясно, и я хвалил себя за интуицию. Но тогда лишь предчувствовал погоню, видел расширяющуюся щель в воротах, дальше за ней – свободу, поворот на московское шоссе, летящие по нему машины. И отчаянно врал посыльному, истово «пудрил мозги»:
– Передайте Василию Игнатьевичу – сию минуту буду! Вот только выедем, поставим машину в тень, чтобы краска на газетах не выгорела, – и сразу приду. Краска на газетах выгорает на солнце. Понимаешь? Краска!!!
Хотя кузов был под тентом.
– Вас приказано не выпускать, – простодушно настаивал посыльный.
– Ты что, офонарел? Да мне пропуск сам Василий Игнатьевич подписал! – лгал я. – Сейчас припаркуемся в тенёчке, я с тобой разберусь!
Проём ворот всё ширился. МАЗ втискивался, готовый боднуть напоследок углы и выскочить на волю. Посыльный, героически пятясь перед капотом, кричал вахтёру:
– Не выпускать!
По-стариковски обстоятельно служака в будке соображал, чему подчиняться – «документу» или слову не пришитому.
Помог мне дембель, он за ночь належался в кабине с подругой и теперь рвался на волю.
Нос грузовика до бортов уже втиснулся в расщелину ворот, и хотя вахтёр всё-таки включил обратный ход и проём начал смыкаться, МАЗ, только слегка ободрав тент, выскочил с территории.
– Гони на Суздаль! – приказал я.
– Это же в обратную сторону, начальник!
– Я сказал – на Суздаль!..
26
Дождь словно отмыл, отмолил нас у погони.
Я с удовольствием вдыхал опустившуюся на землю с ливнем свежесть неба, смотрел на остывающий желтоватый расплав облачных бугров. Когда поехали по кромке заливного луга Ворсклы, где не пролило, я опустил стекло, высунулся и, жмурясь от ветра, стал дышать сенокосом.
Два трактора закатывали траву в рулоны на безлюдном лугу.
Усилием памяти через свою душу пустил я на этот луг обросших щетиной сенной трухи метальщиков с длинными вилами – фронтовиков. Раскидал по «площадям» галдящих баб – вдов с машинно снующими в мозолистых руках гладкими черенками лёгоньких граблей. Усадил на унылых колхозных лошадок босоногих мальчишек. И среди них – себя.
Склонил солнце к лесу и поскакал от сенных храмов в деревню на изработавшейся коняге: вица в руке вместо плётки, под голыми пятками – шлея, железное седёлко бьёт в промежности, хомут мотается на тощей лошадиной шее, глупо машет ушами гужей…
Старый Борька споткнулся о глинистую колдобину, и я нырнул с коня вперёд, ударился оземь по касательной, небольно. Лежал на горячей дороге лицом к небу. А конь подошёл, встал надо мной, и с ободранного носа животины капнуло на мою белую рубашку кровью…
Я посильнее ухватил локтем дверцу машины. Глазами стал выцеливать каждую кулижку на лугу, каждый холмик. Увидел, почуял, услышал, как душа того Борьки с сонмом других конских душ витает здесь, над всеми другими русскими лугами, настоем высохшего в валках клевера, журчанием холодного ручья, дымом дешёвого мужицкого курева.
Лошадиная душа жила и в этом ревущем на шоссе МАЗе, из которого выглядывал какой-то бородатый мужик.
В выставленном на обдув локте покалывало, несмотря на жару, от переохлаждения. Чёрная сыпь дорожной копоти покрыла руку. Фурчал ветер в лицо, проветривал душу от страхов.
Шофёр грузовика привычно на каждом толчке ругался. Занавески за спинками сидений трепало сквознячком, и в зеркале было видно, как подруга дембеля в одном купальнике возлежит на сбитых простынях.
27
Карта местности оказалась приблизительной. Проскочили через какую-то необозначенную речку, долго гнали вдоль болота, не существующего на бумаге. Мелькнула надпись на щите: «Черноголовка». Я подался вплотную к стеклу, рыскнул взглядом по обочине.
Околица посёлка начиналась сараями, погребами, одинокими новостройками. Внизу у реки полыхнул свежей желтизной наполовину сложенный банный сруб, закиданный от дождя тёсом.
– Стой!
МАЗ пал на передок, девчонка сзади перекатилась набок и взвизгнула вместе с тормозами – за двое суток первый раз при мне подала голос, скромница.
Грузовик задом подобрался к срубу, намяв в цветах две глубокие колеи.
Оглушённый гонкой, я, спрыгнув в траву, услыхал, как овсянка в черёмухе на берегу высвистнула: «Удивительно видеть вас здесь».
Мне нравилось переводить с птичьего языка.
Заброшенный сруб подступал под днище грузовика.
Первые пачки газет легли на фундамент из щепы, и закипело «строительство. Шофёр подавал, а я вёл кладку по всем правилам – со связями и подбивкой. Комары донимали, сладостно впивались в лопатки, в плечи, легко прокалывали влажную от пота майку.
Я терпел, поторапливал напарника: обидно было бы попасться на последних минутах.
Помог шофёру закрыть борт, дал положенные двадцать тысяч.
– Жене на конфеты.
– Да какая она мне жена, что вы! – неунывающий водила закурил на дорожку. – Вчера познакомился, сегодня ручкой сделаю. Я ещё молодой, погулять надо.
Его МАЗ дунул вбок сизым дымом и вылез на шоссе.
Напоследок я увидел, как девчонка перебралась на моё место в кабине, повернула зеркало на себя и стала причёсываться. «Сойдёт где-нибудь на „Соколе”, наврёт с три короба родителям. Тоже гуляет, нагуливается. Живёт полноценной половой жизнью. Другой не знает. И не желает знать. Тёлка. Бикса. Или как их там зовут?».
28
Я разделся до трусов и сел на брёвна – остыть.
Змейкой пролетели луговые бабочки-желтушки. Овод закружил, принюхиваясь к сдобному интеллигентскому телу.
Тишина вокруг стояла деревенская.
С одеждой в охапке (не хватало еще, чтобы украли) я спустился к реке, уложил тряпьё на спуске и повалился в воду.
Прокалённое тело долго не остужалось. Руки впереди в гребке казались жёлтыми, покойницкими. Неведомая угрюмая глубина настораживала. Когда в загривок впивалось слишком много комаров, я нырял, открывал глаза в бирюзе и рывком выгребал наверх.
Лёжа на спине, смотрел, как промытые дождём облака опять пузырятся мыльной пеной, взбухают по всему окоёму, словно восполняют недостаток, торопятся занять место тех, которые только что ливнем обрушились на землю, истаяли.
Накупавшись, позвонил в редакцию, сообщил свои координаты и стал поджидать на обочине шоссе.
29
Дул тёплый сильный ветер. Тени молодых низких облаков так ритмично и часто накрывали меня, что, казалось, солнце моргало.
Я стоял на обочине шоссе с травинкой в зубах не меньше часа, пока издалека не просигналила голубая «шестёрка» Варламова.
«Командир» затормозил передо мной и вырос из кабины – великоватый в сравнении со своей машиной, в белом тропическом костюме, не хватало только пробкового шлема.
С размаху в своей ладони согрел мою руку.
За ним остановилась побитая и ржавая «Волга» Онегина. Круглый хохол-казачок, выйдя из неё, подтянул джинсы на животе и пошёл ко мне с готовой на языке и в глазах швейковской шуточкой (два года журналистка в Чехии и разыгрывал в тамошних пивных бравого солдата).
Далее приткнулись облезлые «жигули», из которых вышел чёрный, моджахедистый Васильев в армейском жилете на голом смуглом теле. Он издали почтительно поклонился.
В зелёной «Ниве» подъехал татарин Шайтанов и тоже направился ко мне на своих кривых ногах и с язвительной улыбочкой на рыжем лице.
Опять, как день назад, после возвращения из деревни, мне жали руку, били в плечо, обнимали и тискали. А большой белый человек в центре этой странной группы на девяносто седьмом километре Ленинградского шоссе командовал:
– Через час номер должен быть «впрыснут» в Москву. Сане – благодарность и двойной оклад. Быстро в цепочку!
Я залез в сруб, принялся выкидывать пачки.
С рук на руки они кувыркались в багажники легковушек.
30
От усталости, от вони автомобильных пробок я временами впадал в забытье и для взбадривания поминутно отхлёбывал джина с тоником – в последнее время подсел на это пойло, а Варламов неутомимо, легко, казалось, одной тяжестью своих больших рук поворачивал руль вправо-влево и дышал полной грудью.
Эпическая его душа, по-медвежьи громоздкая в берлоге жигулёвского салона, зажимала в угол мою лирическую птичью душу.
Он таранил поток машин, будто танком. А меня – своей оголтелой разбойничьей вольностью.
Я блаженствовал от езды и алкоголя.
Он, сын погибшего на войне, пребывал с детства в святой истерии безотцовщины, в себе нёс смерть отца, готовность к гибели по его подобию.
Обласканный выжившим на войне папой, залюбленный в полноценной семье, я нёс в себе ленивую радость бытия.
В узких губах на безбородом лице Варламова была стиснута жажда убийственной самоотдачи – строками собственных книг, горячими фразами митингов, передовыми «ЛЕФа».
Мне в деревню уже хотелось, с удочкой опять посидеть, в бороде почесать. А Варламов кричал:
– Сейчас я тебя познакомлю с неким Истриным! Он из новых, из состоятельных. С ним крутая разборка намечается. Пахнет кровью. Надо упредить публикацией. «Раскрути» на полполосы.
А я думал в это время о счастливом своём схождении с Татьяной.
И как там Сашенька?
Варламов уже изворачивался на сиденье, загонял машину задом под портик особняка писательской конторы, приютившей «ЛЕФ». Без слов вышел, захлопнул дверцу, – только успевай догоняй.
Оптовая торговля свежим номером уже вовсю шла через распахнутое окно редакции. Варламов пробирался сквозь толпу распространителей, звенел тяжёлой связкой ключей на пальце, перешагивал через тележки, рюкзаки, баулы, подбадривал войско.
– Здравствуйте, друзья! Рад видеть. Спешу. Так держать. Извините, времени в обрез.
Толпа курлыкала в ответ. Бедные пожилые люди, по-пионерски пылкие и чистосердечные, любовным взглядом обласкивали Варламова, являвшегося для них и знаменитым героем митингов, и работодателем-хозяином.
Я едва поспевал за командиром безвестным порученцем.
31
В толстых термосных стенах особняка держалась прохлада. Единственный редакторский стол в кабинете ломился от вина и закусок. Как все, я сел на стопу газет, потеснив в угол за шкафом первого друга моего московского – худощавого Карманова, стриженного «под Чернышевского», в очках, похожих на пенсне.
– «Дядя», с пива кое-что будет стоять криво.
– Да это джин, «племянничек».
– Всё равно, дай глотнуть.
Я отдал банку и завалился в нишу за шкафом. После всех передряг командировки блаженствовал в гомоне знакомых голосов, в мелькании приветливых лиц. Не думал не гадал, что в третьей молодости заведу новых друзей и полюблю их, как в первой. До сих пор считал, что настоящая дружба кончается лет в восемнадцать.
Тут был весь «штаб» редакции.
Военкор Булыгин потряхивал чересчур русскими пшеничными кудрями, морщился, вытягивая ногу, покалеченную в октябре у Белого дома. Что-то по-декадентски путано вещал милый еврей Ценципер, надувался для солидности, раскатисто басил. Бритый наголо, страшноватый абрек Шайтанов грубо шутил с девчонками. Тоже стриженный под «ноль», но совсем не страшный Швейк – Онегин насыпал себе в горсть таблеток против астмы. Долговязый «чёрный директор» Коля Пикин, непоседливый, вечно топчущийся в боксёрской позе и всегда готовый куда-то сорваться, то и дело выходил из комнаты и, курнув оставленный на пожарном ящике неугасаемый чинарик, тотчас возвращался.
Суперинтеллектуальный Саша Парыгин сидел смиренным монахом-послушником. Ему втолковывал расценки на ремонт жилья горластый поэт Воронин, бросивший стихи после удачной женитьбы, толстевший и богатевший теперь на продаже квартир.
Васильев чистил газовый пистолет. Какой-то отрывок читал на память художественный юноша Алёша Фарфоров с узелком кашне в распахнутом вороте рубашки.
Его слушали Витя Саенко – чувствительный драматург с глазами «на мокром месте», и поразительно ясноглазая заведующая отделом писем Филипповна. Галка-самопалка и целомудренная лобастенькая Зоенька тупыми ножами кромсали закуски. А распоряжалась застольем в роли мамки-старшухи торговка Тамара, вся в золотых перстнях и брошках.
Когда Варламов пришёл, сел и стал говорить по телефону, она, пользуясь минутным отлётом его души к абоненту, ухватила его за голову, едва ли не за уши, и принялась целовать, пришептывая: «Как я его люблю!»
Положив трубку, Варламов, будто бы удивлённо, спросил у окружающих:
– Кто это меня сейчас облизал?
– Это я, Андрюшенька. Как тебе моя новая причёсочка?
– Теперь ты похожа на киллера.
– Ну, Андрю-юшенька, – укоризненно, с пожизненной любовью, простонала Тамара.
Чужим здесь был только человек лёгкой служебной конструкции в твидовой «тройке». Хотя он и пытался вести себя вольно, под стать редакционной братии, но губы его в улыбке растягивались странно прямоугольно, а из раструба глотки вырывался неестественно сильный и резкий смех.
«Наверно, это и есть Истрин», – подумал я.
Рюмку негде было поставить – так была забита комната людьми и газетами.
В руках держал кто чашку, кто гранёный стакан, кто баночку из-под майонеза. Единственный редакционный фужер был у Варламова, произносившего свой фирменный тост.
Он водил этим фужером из стороны в сторону, как исполнитель романсов у фортепияно, и с лицейской пылкостью импровизировал о выходе очередного номера, о горстке верных борцов, о русских витязях и об упырях демократии.
Героические мотивы перемежались шуточками. Но в конце концов он опять возносился к высотам патетики.
А в завершение, как всегда, обругал себя деспотом и попросил прощения у всех.
– Аллах милостив, – насмешливо подытожил Шайтанов. – Молитесь, Андрей Андреевич, и будете прощены.
Ревнивая Тамара накинулась на него:
– Бес! Бесище! Сатана! Иди в своей мечети распоряжайся! Андрюшенька, дай я тебя поцелую.
Выпили и загомонили, заговорили одновременно, каждый о своём.
Мне из ниши отрывочно, раскадрованно открывался Варламов в постоянных затемнениях тел, рук и голов. Его упросили спеть. Он зажмурился, упёрся руками в колени, кругляки плеч вздулись под рубахой, и без кривляний, сразу затянул хрипловатым тенором:
Как у нашего хоромного строеньица, Как у этого столба, да у точёного, Уж подогнаны ступистые лошадушки Под меня-да под несчастна добра молодца…Спел от сердца, от живого. Навеял глубокую печаль. «Откуда могла взяться эта жалость у прожжённого, столичного тёртого дельца?» – думал я.
И захмелевший Карманов насмехался над «несчастным добрым молодцем».
– Прямо страсть, какой несчастный! – шептал он мне. – Такая хорошая жена! Девки на шею вешаются. А туда же, несчастный.
– А ты хоть знаешь, «племянничек», что такое «хорошая жена» и девки на шее?
– Ну, приколол, «дядя», приколол. Куда уж нам, холостякам.
– Нет, ты помнишь, как он из Ингушетии приехал, с той первой заварухи на Кавказе, и сказал: «Опять надо тупо жить дальше». Понимаешь, он ведь смерти там искал. А помнишь, как говорил: «Напишу роман о том, как я стал алкоголиком». Не помнишь? А я и без его романа знаю, как становятся алкоголиками, если решают до конца жить с «хорошей женой». И потом ищут смерти, чтобы поскорее отбыть срок. А ну, налей, «племяш». Давай выпьем. А то я что-то разгорячился. Могу тебе сейчас какую-нибудь грубость сказать.
– А если ты, «дядя», тоже пьёшь, так что это значит? Что и вторая жена у тебя «хорошая»?
– Татьяну не тронь! Ибо я теперь не пью. Я теперь – гуляю. Тут разница, как между хорошей женой и любимой. Тебе не понять. Наливай.
– Всё равно ты пьяница, «дядя».
– Нет, я гуляка. Гульнуть – люблю.
Говорила вся редакция, все десять человек одновременно.
Одна Тамара не забывала о деле – спускала пачки газет за окно и принимала взамен деньги из рук мелких торговцев. Набирала пятьсот тысяч и тут же оборачивала их недельной зарплатой кому-нибудь из пирующих, без всякой расписки, на веру.
Такой стоял крик, шум и хохот, что Варламову пришлось кинуть в меня комком бумаги и только затем поманить. Боком пробираясь к «командирскому» столу, я проверил ладонь – не потная ли?
Рука Истрина оказалась маленькой, холодной и костлявой.
– Читал, читал, как же! – уверял Истрин. Хотя я точно знал, что читают мои акварельные «клочки» и знают меня только самые буйные поэты из пёстрого зала Клуба литераторов.
Не мог я быть по вкусу этому человеку с удлинённым, словно слегка надрезанным ртом. Таких интересуют драчливые политические заметки на первых полосах, скандалы и разоблачения.
Даже если бы этот плотоядный рот был замаскирован усами с интеллигентской бородкой, то и тогда бы не прибавилось в нём душевной тонкости. Оставалось ещё бледное, шелушистое лицо, в розоватых веках острые глаза, вонзившиеся мне в душу.
Истрин вдруг, не прощаясь, вышел из комнаты.
Резким выбросом пальцев Варламов приказал мне идти следом. Вот так нынче давались редакционные задания – о командировочных удостоверениях и суточных не мечтай. Скажи «спасибо», что подкидывали и тебе удочку, – забрасывай и лови. Клиент платит редактору. Возможно, и корреспонденту «отстегнёт».
Истрин сам сел за руль «кадиллака», впустил меня и молча резко погнал машину с места на красный. Огонь светофора зловеще блеснул в его глазах. От неестественной четырёхугольной улыбки и следа не осталось. Человек был захвачен яростной одержимостью. Из щели на потолке он достал папку с золотым тиснением «Евротранс» и передал мне.
– Ночное чтиво тебе. Здесь на них убойные материалы.
– Я – с удовольствием.
Истрин мрачно ухмыльнулся.
– Удовольствие ниже среднего.
Машина юлила в переулках Китай-города, доставала светом фар до балясин на балконах старинных дворянских особняков, просвечивала кованые церковные ограды, ныряла под наклонные стволы древних тополей.
На Садовом кольце огни «кадиллака» обрезало, подавило сиянием рекламы. За Сущёвским Валом фары опять заиграли на «рубинах» впереди идущих машин.
От папки пахло кожевенной фабрикой. Справки, газетные вырезки, фотографии были рассованы за резинки, в кармашки, под прозрачные окошечки. Мельком просматривая бумаги, я успел понять, что этот Истрин – бывший деревенский пастушок, сельский киномеханик, лимитчик (как он о себе только что в редакции рассказывал) и затем «специалист в сфере транспорта» – разбогател пять лет назад на еврейской эмиграции, когда люди ломанулись из России в Землю обетованную, устроили очереди на год вперёд, а Истрин «поставил капкан на тропу, ведущую к водопою» – спроворил свой собственный таможенный терминал. Стал лакомой добычей для рэкетиров. Вникать глубже было бессмысленно. По опыту я знал, что всё прояснится в действии.
Пока я рассматривал фотографию, сделанную через прибор ночного видения, на ней в сине-голубых могильных тонах какой-то грузовик, какие-то ящики с воинской маркировкой, грузчиков в кожаных куртках, пока вертел в руках ксерокопию статьи с арабским шрифтом, читал медицинское заключение «о насильственной смерти» какого-то Аслана Загитова, машина с проспекта по серпантину задворок уже съехала вниз к Яузе и остановилась.
Незаметно, ловко Истрин вытащил откуда-то стодолларовую бумажку и подал мне:
– На поддержку.
– О, весьма, весьма кстати, Александр Степанович.
Вот тебе и первая «рыбка», выловленная на «удочку» Варламова.
Ещё и строчки не написал, а уже в кармане захрустело. Было приятно, не скрою. Я махнул на прощание Истрину, но вышло, что расшаркался перед «железом»: за тёмными стёклами человека за рулём было не видать.
Машина вкрадчиво растворилась во тьме.
32
После ванны, обмотанный по чреслам полотенцем, я вышел на балкон. Передо мной на Выставке гигантским глобусом вращалось колесо обозрения. Вдали в пожарище вечерних огней Москва шуршала, гудела миллионами моторов и колёс.
В абсолютной тишине деревни так же шелестел жизненной суетой муравейник, за зиму возводимый в старенькой баньке, так же шипел от деятельности невесомых тварей. И жутко утихал после того, как я прыскал на него «Дэтой» и потом лопатами выносил в крапиву. Но к следующему лету муравейник опять выстраивался выше лавки: уничтожалась только земная, сотканная в воздухе его половина. Нетронутым оставался пещеристый двойник под землёй с логовищем матки.
Так же и Москва сверху, зримая, представлявшаяся мне градом света и музыки, чистых юношеских порывов, городом любви и бессмертия, разорённая очередной революцией, снесённая в крапиву, опять народилась, потому что потаённая и катакомбная, она была вечна…
В комнате зазвонил телефон. Не снимая трубки, я вынес аппарат на балкон, чувствуя, как что-то живое бьётся под рукой в пластмассовой коробочке, – так в деревенском детстве по пути на рыбалку в спичечном коробке бились оводы.
Звонил Царицын – бывший актёр, теперь прозаик и друг редакции, всегда полный театральной закулисной ласки, немалая доля которой предназначалась для моей поддержки прохождения его рассказов в «ЛЭФе».
Год назад эту расчётливость я старался не замечать. Разбитый бракоразводным процессом, угнетённый враждебной новизной столицы, одиночеством, я дорожил добрым словом любого собутыльника. Но благодаря репортёрской беготне, быстро познал настоящую Москву. С энтузиазмом падшего и восставшего к новой жизни проникся её исконной прелестью, и теперь все фальшивые ноты резали слух.
Я сел на стул и закинул голые ноги на балконные перила.
– Дорогой, рад слышать твой голос, – говорил Царицын. – Как отдохнул в родных пределах? Запас впечатлений пополнил? Отеческим могилам поклонился?
– Да я уже в командировку во Владимир смотался.
Между своими ступнями, как в прорезь прицела, я поймал «мушку» высотного дома на площади Трёх вокзалов, откуда со мной говорил Царицын.
Оптикой воображения приблизил сталинскую высотку, нашёл в фокусе разбойное русское лицо Царицына со следами азиатчины в яйцевидных скулах, с сочными любострастными губами. В крупном плане различил насмешливость в маслинах его глаз, некоторую духовную неопрятность, как в одежде играющего перед микрофоном в радиотеатре.
– Как я тебе завидую, Саня! Командировки! Поездки! – поставленным голосом говорил Царицын. – А твои последние вещи в газете?! Это же ты прямо какой-то новый жанр изобрёл. Свой, фирменный. Это же как бы рассказ, стилизованный под очерк. Грань неуловима. Ты здорово играешь на понижение. Я просто восхищён!
В ответ на такие любезности требовалось что-нибудь приятное сказать о последнем романе Царицына, об этом лаковом томике, лежащем на развалах вместе с другими страшными сказками для взрослых.
Я подкручивал ус, щурился, глядя на высотное здание в дымке близорукости и вечернего смога.
– Ну, что сказать, я в деревне одолел твоего «Истязателя». Одолел…
– Ну хотя бы что-нибудь скажи, Саня, будь другом. Твоё слово для меня – золото.
Роман был мне чужд, враждебен, но более всего меня отталкивал теперь сам Царицын-человек, который мог на десяти страницах действительно мастерски описать совращение мальчика учительницей, чавкающие соки соития, запахи женского мяса, вонь нестираных подростковых трусов, засаленный чайник на газовой горелке, московский пейзаж, и опять – вспоротые тела каких-то несчастных, синие лица удушенных…
Высокохудожественная эта «хирургия», «урология» и «гинекология» вроде бы должна была символизировать разложение советской империи. Всё правильно. Но для Царицына одна лишь правда зла, ужаса, порока была настоящей и конечной. Это вызывало досаду.
– А ты знаешь, – сказал я в трубку, – кажется, я разгадал код твоего творения. У Петрония нашёл аналогию в его «Сатириконе».
– Саня, дорогой, пока что ты – единственный, кто так глубоко копнул. Ты просто гений!
– И эта фраза у тебя в предисловии: «Роман не рекомендуется господам, которые не научились думать сердцем». Ты-то считываешь только с сердца, так что для тебя мысль о грехе, позыв порока явственнее его проявления. И по-твоему, выходит, если я только подумал об убийстве, то я уже убийца. Если с вожделением посмотрел на женщину, то сразу – насильник. Хотя я и не убью никогда, и не изнасилую.
– Ну, ты молодчина! Я просто поражён! Спасибо за понимание!
– Ты как бы выдираешь сокровенное из человека и лепишь из этого образ.
– Говори, Саня, говори. Мне страшно интересно твоё прочтение.
– Но это же кошмарно! Ты же за самого дьявола работаешь. Человек только вознамерился убить, украсть, изнасиловать. Утром, а может, через час, через минуту он одумается, а ты ему не даёшь ни единого шанса. Зло ещё в зародыше, ещё мутация может быть или выкидыш, менингит или автокатастрофа, а у тебя уже готов громила, истязатель.
– Ну, ты, старик, проникся глубже, чем я сам!
Мне хотелось ещё сказать ему, что есть в сердце и светлые порывы и они тоже правда, но за эту правду сейчас никто копейки не даст, потому и Царицын отмахнулся от неё, ухватился за правду-матку, голую и бесстыдную, мстительную и узколобую. Талантливо «режет правду в глаза», чтобы люди корчились от боли. Гордится, что сдирает «коросту с человеческих душ», не замечая, что там, под коростой, кровоточит и что короста – спасение для человека.
Но Царицын чутьём опередил огорчительное для него продолжение телефонного разговора.
– За такую рецензию, старик, с меня коньяк. Давай сейчас в Клубе законтачим. Подъезжай. Угощаю.
– Надо немного очухаться. Утром – в Тулу.
– Как я тебе завидую, Саня! А я из-за стола – в Клуб, оттуда – опять за стол. Новый роман кропаю.
– А я тебе завидую.
– Нет, всё-таки ты, Саня, гигант малой формы. Ты молодец. Ну, покедова. Приедешь – брякни. За мной должок.
«А и хорошо, что не сказал всё, что хотел, – подумал я. – Тоже получилась бы правда-матка».
Держа телефон на животе, я закинул руки за голову и, глядя на пульсирующий свет Москвы, представил, как одновременно говорят сейчас по телефону миллионы, услышал гул их голосов, путаницу мыслей, электрический разряд эмоций – бестолковый «базар» под мудрыми звёздами – и решил, что суть этого города и его бессмыслие более всего проявляются как раз в телефонной страсти, которая сначала раздражала меня в москвичах, потом смешила, а теперь и самого заразила.
Падчерица заглянула на балкон, спросила, стараясь не глядеть на мои голые волосатые ноги:
– Дядя Саша, вы уже поговорили?
– Звони, наяривай. Желательно до утра, чтобы ко мне никто не прорвался. Надо выспаться перед дорогой.
Девчонка ужаснулась:
– Что, вы опять уезжаете?
– Радуйся.
– Ой, да мне уже, знаете, как надоело одной!
– Конечно, я приезжаю – пол, посуду мою.
– Да ну вас! Мне и вправду скучно.
– Ничего, скоро тебя замуж отдадим. Пора.
– Ну, дядя Саша!
Провод поволокся за юной телефономанкой, и котёнок бросился на него, как мангуст на змею.
Я прошёл в свой кабинет, поплотнее запер обе двери, не в силах слушать бестолковое токование созревающей самочки.
Вставил сетку в открытое окно, чтобы не налетели на свет безголосые коварные московские комары. Штор, тюля – не терпел, полагая, что лучшая занавеска – небо с облаками.
И сел за свой громоздкий стол, собранный из двух бросовых и собственноручно, со всеми тумбочками и пристольями, обтянутый тёмно-вишнёвым дерматином.
С широченной фанерной полки на верёвочной подвеске, как с качелей, снял подшивку «ЛЕФа» и плюхнул перед собой, так что сладковатая пыль тления ударила в нос.
Каждую среду вечером я наращивал подшивку свежим номером, дырявил корешок острым карандашом и пришнуровывал. При этом думал всегда примерно одно и то же: со временем этой подшивке цены не будет, потому что «нежелательная газета» не попадала ни в Книжную палату, ни в Центральную библиотеку. Даже в редакции не осталось архива после нескольких переездов-побегов секретариата с квартиры на квартиру.
«Для истории неплохой будет материал, – думал я, захватом пальцев измеряя толщину укладки.
Благоговейно думал также, что когда Сашенька вырастет и закончит, к примеру, филфак, то эту подшивку сможет использовать для кандидатской.
Наивные отцовские чаяния перемежались с авторскими.
«Листая газеты через двадцать лет, повзрослевший сын заодно прочтёт и мои „клочки”, – думал я. – Конечно, лучше бы из них книжку сделать, да кому теперь нужны эти мои прозаические картинки в духе передвижников!»
Одна надежда на сына. Я ему ещё помогу разобрать этот материал и вылущить главное.
«Сколько же мне тогда будет? – подумал я. – Ого, семьдесят! Старичок в расцвете сил. Только пить надо к тому времени бросить. Пьяный старик – это мерзко».
Мечтая о чистой старости, о высоком торжестве последних лет жизни перед смертью, о недолгой той, земной, осознанной, ощутимой приобщённости к величию вечности на переходе к ней, об умном, чутком сыне, остающемся жить вместо меня, я завернулся в простыню на узком диване и – благо ещё в машине успел пробежать «ночное чтиво» Истрина – выключил свет.
Луна мерцала сталью на чёрном пианино.
Стучал товарный поезд по окружной дороге за Яузой.
Вдруг этот рельсовый обруч Москвы встал и покатился по звёздной мостовой, вознося меня на орбиту, даже во сне мча куда-то по русским путям-дорогам.
33
Это была не езда, а попирание пространства, пожирание расстояния: слишком быстро проворачивалась утренняя земля под колёсами, что-то авиационное было в подскоках «кадиллака» на изгибах шоссе и в мирке кабины с множеством приборов, так что я даже не пытался пропускать дорогу через душу.
Я дремотно наблюдал, как переночевавшие на макушке неба облака во все стороны соскальзывают за горизонт, обнажая сиятельный свод, а шоссе чёрными жирными дугами перекидывается с поля на поле.
Истрин постоянно обгонял по разделительной линии, атаковал в лоб и всегда побеждал: встречные отворачивали первыми.
Сколько проклятий набиралось в шлейфе! Злоба откинутых к обочине будто прожигала курившийся выхлопом багажник «кадиллака», припекала прозрачные волосы на затылке Истрина.
– Жаль, что в нашем «штурмовике» туалета нет, – сказал я на мосту через Оку.
– Сейчас в лесочке отольём.
Долго и нехотя останавливалась разогнанная машина.
Наконец мы вылезли на обочину, оба встали спиной к дверцам, оба выполнили одну и ту же команду.
– Окропим святой водицей землю заклятого врага, – проговорил Истрин.
– Не понял…
– Это уже территория оружейного завода. Директор двести эрпэдэ сплавил чеченцам. И мы с тобой сегодня об этом по местному телевидению скажем, в прямом эфире, с документиками. Прикончим конкурента одним сталинским ударом. Торговый центр в Туле будет наш!..
Холодок страха при упоминании про пулемёты сократил мышцы, и мою струю будто отсекло. Пропал для меня вид неба, ощущение спасительной выси над головой. Душу больно и горько сплюснуло – так было со мной при вести о смерти отца, о гнусном проступке сына или при собственной жестокой оплошности в ужасном сне с погонями и стрельбой.
«Вляпался», – только и мог я подумать.
Поехали дальше. Было такое ощущение, что я пересёк черту мира и войны, отметив её по-кобелиному. Опротивело пиво, ненавистна стала роскошь салона, раздражало лихачество Истрина, дурная его устремленность в драку, под трассы этих двадцати «стволов».
«Он за свои капиталы борется, за коттедж в Ясной Поляне, за торговый центр, – думаля. – А мне, нищему, в этих драных кроссовках, в застиранной брезентухе, зачем под пули? Кинуть ему его несчастные даровые сто долларов, выйти из машины – и на попутных в Белокаменную. Сесть в метро, подняться на «Ботанической» – самой зелёной станции Москвы, посидеть в траве у пруда, где Карамзин писал «Бедную Лизу». Потом завалиться на диван в своём кабинете с томиком Чехова. И пускай они себе перегрызают глотки. Они сами своей страстью к бытовым удобствам, красивым вещам и строениям загнали себя в тёмный угол, а у меня жизнь – в лазоревом свете Божием, в лирике. И с этим светом и отречением от излишеств благ земных ладно бы погибать за русскую державу, за отечество, а то из-за хапка какого-то тупого сдыхать за сотню зеленых…»
С досады мне подумалось даже, что Варламов предательски использовал мою любовь к нему и что я сам себя сковал желанием нравиться ему и поехал на «мокрое» дело. А как легко было отказаться! «Я в этой жизни „новых русских”, Андрей Андреевич, невпротык. Богатые для меня, как заразные. Нет, нет, я не могу».
Упереться, а лучше всего психануть, чтобы Варламов ещё и устыдился своего администрирования и ещё себя бы обвинил в промахе, в долгу оказался передо мной за то, что не смог разобраться в извивах утончённой личности.
И я спокойно писал бы в каждый номер «ЛЕФа» свои жанровые сценки, свои «клочки».
«Отчего я не могу задавить в себе это долбаное чувство долга? – спрашивал я себя, покачиваясь в кресле „кадиллака”. – Отчего рвусь под князем ходить и не могу стать сам себе князем? Отчего в богемной редакции живу по боевому уставу, будучи сам-то от рождения совершенным созерцателем? Стервозную жену смог ведь бросить, смог растоптать устав единобрачия. А ведь тогда тоже и от смерти убегал. Даром, что ли, у кухонных ножей плоскогубцами обламывал острые концы и закруглял на камне: Л арка в ярости способна была пырнуть. Не хотелось помирать, – и послал подальше. И в одних штанах, в одной рубахе ушёл к Татьяне. Много хороших баб, много и редакций хороших, побогаче, посолиднее. Меня везде возьмут. И возраст ещё не предпенсионный, и писать могу всё что угодно. Отчего же я не тормозну сейчас Истрина и не сделаю ручкой Варламову? Да оттого, тьфу, чёрт возьми, что Варламов – это как раз и есть „жена любимая”, попробуй брось…»
Теплота разлилась по душе.
Истрин из капризного нувориша превратился в отчаянного русского мужика, и мне даже весело стало ехать с ним на схватку, на приключение.
34
Снисходительно, степенно «кадиллак» на малой скорости миновал Тулу и опять дико рванул по просторам безгаишных полей.
Взлетал на холмы, падал в низины, затем в крутом вираже, так что я, навалившись на Истрина, продавил глубокую пустоту костюма на его узком плече, свернул на свежую бетонку и остановился перед глухими железными воротами. За оградой высился кирпичный замок с четырьмя башенками по углам, покрытыми тентом, под которым блестели гнутые никелированные поручни высотного бассейна.
Вдалеке от этого чудного строения, под склоном, пульсировала порожистая речка. Волна следующего холма заросла лесом, и там, в чащобе, стоял белый дом Льва Толстого.
Со словами «Гадство!», «Мерзавцы!», «Сволочи!» Истрин выскочил из машины. Тут только я заметил, что стёкла второго этажа коттеджа выбиты, жалюзи погнуты, а кирпичные стены «поклёваны» пулями.
Навстречу хозяину с крыльца сбегал охранник с ярко-жёлтой кобурой на поясе.
– Что такое?! Откуда?! Кто посмел?! – приседая от натуги, выкрикивал Истрин.
Стриженый крепыш в белой рубашке встал перед ним неестественно прямо, вытянувшись и закинув голову назад.
– Ночью с шоссе полоснули, Александр Степанович.
Истрин заорал:
– Проспал, сука! Ответный огонь! За что деньги получаешь?!
Орал так, что, казалось, всего две жилы скрепляли его тело – от голосовых связок до пят. Жилы эти натягивались, синели, пытались разжать обруч битловки на шее.
Умолкнув, он стал бросать взгляды то на гребень холма с мелькавшими там на шоссе машинами, то на вышибленные окна – видимо, восстанавливал траекторию стрельбы. И до меня теперь доносилось:
– Господствующая высота. Нужна броня на ставни…
Совсем как обстрелянный фронтовик, в конце концов Истрин лишь огорчился из-за порчи имущества. Дал подзатыльник охраннику, будто тот футбольным мячом попортил фасад, и приказал ему вызвать из Тулы стекольщика.
Причесался, продул расчёску от перхоти и набрал номер на мобильнике.
– Роберт? Можешь прославиться, – рекламно облокотившись о дверцу машины, заговорил Истрин. – Убойный сюжет. Первому каналу продашь за хорошие деньги. Я им аванс подкину. И нужно, чтобы он вышел сегодня в новостях после нашей передачи. Совершенно неожиданно для «самовара»… По таксе – и твоему шефу, и главному. Сюжет: «Пиф-паф!» Понял?
Работал и я. В левой руке я держал банку пива. А в правой блокнот был зажат между мизинцем и безымянным, а в трёх остальных пальцах – дешёвый ученический пастик. То есть в одной руке, как инвалид или иллюзионист, я удерживал и крохотный столик с бумагой, и карандаш. Так я мог писать на ходу, при любой тряске, даже, наверно, вверх ногами, – профессия научила.
Вывел понятное лишь мне одному: «Русская морда в Голливуде».
А прототип этого портретного наброска, бросив телефон на сиденье машины, уже рассуждал:
– Это дело чечей. У них ума только на стрельбу хватает. А мы рикошетом пустим по «умнику». Он у них мозговой центр. Позорник! Два торговых дома имеет, миллионер, а всё ходит в «красных директорах». Пойдём поглядим, чего они ещё там накрошили.
Кирпичные осколки на мраморе крыльца прохрустели под дорогими туфлями Истрина марки «Фонта», под моими рваными кроссовками. Прошуршала бумага, застилавшая паркет в огромном недостроенном холле. Оттуда одна металлическая лестница вела в подвал, в котельную, а другая, ковровая, с неохватными лакированными перилами, – наверх, мимо огромной китайской вазы, из которой торчали ветви, обсыпанные пенопластовой крошкой на клею.
На втором этаже, в гостиной, «жабры» жалюзи были разодраны пулями, очередью прошито кожаное лежбище дивана. От сквозняка люстра качалась на золотой цепи и позванивала хрусталём.
– Жену теперь сюда не затащишь.
Истрин повалился на диван и засунул палец в свежую прореху.
– Придётся продавать домик.
Возле кресла, в которое я сел, оказался бар. Такая жизнь пошла – вино на каждом шагу. Оставалось только с позволения хозяина открыть крышку серванта и налить на выбор, ну хотя бы портвейнчику для начала. Затасканный блокнот приспособить теперь ещё и как подставку для стакана. Отхлебнуть и присмотреться к резкой перемене в Истрине: только что в пути душа гениального таможенника была зажата зубоскрипящей злобой, а тут вдруг её отпустило сразу до слезливости. Губы вывалились из тонкого бритвенного надреза рта, заслюнявились, задрожали.
Делец вещал о вечном:
– …Отец при смерти был, залез на печь, – стонет, кашляет, задыхается. И тихо так говорит: «А помирать-то, мать, неохота…»
Истрин поперхнулся и часто заморгал, сбивая слезу:
– А немного погодя опять слышно с печи: «Ну так ведь, мать, не я первый, не я последний…»
Только что звучала в тонком прозрачном горле Истрина пастушья дудка, как вдруг его плоскую грудь поколебал медный альт:
– И угадай, Александр, о чём подумала мама, когда умер отец?
– Трудно предположить. Это настолько личное…
– А мама подумала: «Какая же весть завтра облетит моих детей!»
– Это Шекспир, Александр Степанович! – тоже заразившись надрывностью хозяина особняка, воскликнул я.
Вино быстро зашторило в моём воображении видения ночной стрельбы, звон стёкол, судороги жалюзи.
Теперь пространство ограничилось для меня паркетом и гобеленами, инкрустацией и шёлком. Я впал в то самое состояние, ради которого Истрин вложил в это строение массу денег: мне хорошо было тут, красиво, удобно, как, может быть, хорошо будет тем, кто теперь купит этот дом.
А Истрин уже оплакивал расстрелянный уют, вспоминал себя в прошлом, жалел. Докапывался до каких-то решающих поворотов своей судьбы, откуда можно было бы вырулить счастливо, да ему не дали «сволочи» вроде проклятого «красного директора», какого-то Василия Сергеевича.
Хозяин коттеджа пребывал будто в полусне, губы плаксиво кривились. Руки вскидывались и вяло опадали на диван.
– Они, гады, коммунисты, тогда бросили меня на борьбу с нетрудовыми доходами. В райкоме заставили поклясться, что покончу со взятками на вверенном мне участке. Я зарплату грузчикам поднял вдвое, а этим говнюкам – плевать. Они с чаевых в десять раз больше имели. А я поклялся перед райкомом! Дело чести! А они за эти взятки – крест мне на повышении. Я такой стресс пережил! И вдруг они, эти самые, ум, честь и совесть, этот бартер разрешают. Договорные формы. Фонд зарплаты без контроля. А я был просто дурной коммунист… Поз-зорники!.. Но я не застрелился, нет. Я выжил и им вот чего показал, – Истрин ударил ребром ладони по сгибу руки. – «Евротранс» им!.. Всё своим горбом. Сам – один. Квартира. «Кадило». Этот хаус. Курить бросил. С восемьдесят пятого не курю. Сам кузнец своего счастья. А теперь – эти чечи с автоматами…
В моей хмельной голове стрельнуло: «Драма русского служилого человека, вышедшего из гоголевской шинели». Но схватить и пришпилить эту мысль, как бабочку, к страничке блокнота запала не хватило. Не всякое насекомое годилось под стекло моей коллекции. Пускай порхает мотылёк. Ну не волновали меня, вечного лирика, большого любителя облаков, беды пылкого администратора семидесятых годов и крутого хвата девяностых! Жаль было человека, – и только.
Донышком порожнего стакана я выдавливал круги на корочке блокнота и решал – наливать ещё портвейна или подождать до вечера. «Если выпить ещё, то уже не остановишься, – думал я, – потребуется постоянный подогрев. Не лучше ли тормознуть в расчёте на вечернее застолье, но где гарантия, что с этим сентиментальным, некурящим, берегущим своё здоровье дельцом не ляжешь спать трезвым как младенец?»
Истрин всё «шаманил» на диване, толковал что-то о разнице между честностью и порядочностью, иронией и юмором. Он пьянел без вина, и я тоже почувствовал себя вправе немного взбодриться. Наполнил стакан густым заморским пойлом, ощутил приятную тяжесть ёмкости и не спеша стал переливать портвейн в себя, думая о том, что материала у меня с избытком и я напишу так, что понравится и Варламову, и Истрину, но сам забуду и об очерке, и о герое, как только сдам статью в набор.
Отходы есть в любом производстве.
А уже и добавочный «материал» нетерпеливо повизгивал тормозами на спуске и сигналил у ворот.
Опять взведённой тетивой натянулись две жилы у горла Истрина, тело его напряглось и распрямилось – стрелой пустилось к балконной двери. С вытянутыми вперёд руками Истрин нырнул в шёлк штор, одним гребком вырвался на свет и прогорнил прямоугольным ртом с балкона:
– Не заперто, Роберт!
Затем неистовым героем в кольчуге модного костюма пронёсся мимо, кивком головы поднял меня с кресла, увлёк за собой.
«Москвич» с хвастливой надписью «ТВ» уже остановился с другой стороны клумбы. Из него выбрался высокий, спортивного вида оператор, один из племени камероголовых, развившихся из робких советских фотокоров, внаклонку шкодливо пробегавших у авансцен партийных конференций.
Телеоператор встал на широко расставленных ногах, как спецназовец с гранатомётом, и повёл камерой, повторяя трассы пуль, как велел ему вылезающий из машины очкарик в кожаной куртке, хиловатый и невзрачный, но, что называется, телегеничный, – тот самый Роберт. От наводимой волоокой камеры я отшатнулся за колонну, а Истрин стремительно сбежал с крыльца, желанно впрыгнул в зону действия оптики, с ходу заговорил «крупняком», от волнения выхватывая микрофон из руки Роберта.
Не стесняясь полей вокруг, речки и высокого ненаглядного моего божественного неба, Истрин принялся рассказывать будто бы окружающей его публике, народу (!), откуда стреляли, куда попали. Назвал день и час, когда это случилось. Он умело играл сам себя, создавал документальный сюжет, который по его желанию прокрутит в студии откупленная режиссура с редактурой.
Память моя наполнялась жестами, ужимками, словечками Истрина. Телевизионщики, неведая того, работали на меня, как подмастерья. Натура сама изливалась передо мной.
Киношного плоского Истрина в роли борца с мафией сматывали на телебобину, а перед моим отстранённым оком он представал как облупленный, человек стада, теперь богатеющий так же пылко, как когда-то изгонял искусителя взяток из душ советских грузчиков.
Блокнот был лишним. «Штрихи к портрету» ложились прямо на душу Так что я мог показаться совершенно свободным от какой-либо работы, как самолёт на автопилоте кажется свободным от человека.
Командир корабля тоже тогда может выпить и захмелеть, тоже может присесть перед клумбой и понюхать голубые флоксы. Это только на посадке – за письменным столом – нужна трезвость. Тамто и подстерегают «муки творчества», аварии и катастрофы и напрочь исчезают все завидные преимущества свободной профессии.
Будет посадка мягкой – только тогда летай дальше.
Хорошо напишешь – лишь после этого снова поезжай в командировку на «кадиллаке», срывай пломбы с даровых банок пива и принимай «баксы» из кошелька загребущих…
Хорошо умея писать, даже купленный за сто долларов, ты, в рамках своего искусства, можешь легко пренебречь нанимателем, который совсем ошалел от многолетней драчливой заведённости, от собственного хвастовства и от множества зеркал в артистической уборной местной телестудии. Можешь оставить его там прихорашиваться и, выйдя в коридор, проскользнуть в притворе двух тяжёлых звуконепроницаемых дверей, оказаться в съёмочном павильоне. Тихонько забраться на площадку осветителя и глядеть себе в угол под софитами с бутафорской мебелью. Думать о чуде телевидения – об этом волшебном зеркальце из русской сказки, завидовать праздничной профессии ведущих и жалеть о том, что чудо сворачивается и мутнеет, когда здесь начинают обличать и лгать.
Записать в блокнот: «Изобретения гениев развиваются у посредственностей до пошлости». И зачеркнуть. Мысль неновая…
В тёмном углу павильона я был неразличим, хотя сам отчётливо видел в ярком свете софитов даже перхоть на пиджаке Истрина и прожилки на щеках «красного директора», похожего в своём светлом мятом пиджаке на деда-пасечника из передачи «Наш сад».
Они сидели друг против друга под прицелами катающихся на колёсиках телекамер, а с возвышения, как ударник в рок-группе, согласно режиссёрскому замыслу, стравливал их редактор Роберт, теперь уже в клоунском пёстром пиджаке.
Живым эфиром несло на Истрина из объективов, шло его прославление, и он трепетал, захлёбывался от восторга. Желая поразить публику, вдруг пообещал учредить стипендию своего имени десяти лучшим тульским студентам.
– Пускай мне позвонит ректор, – говорил он в камеру – Вот моя визитка, вот мой телефон. Пускай назовёт расчетный счёт, – и все дела!
С удовольствием наблюдал я, как этот затюканный советский работник сервиса, начётчик, ловкий таможенник вырастал перед камерами до интеллектуала. Ах, он бы и всю жизнь свою вам в роман перевёл! Тонул в клокотании эмоций, как косач на токовище, – исполнял боевой танец перед седеньким оружейным мафиози, который говорил очень тихо и вкрадчиво:
– Дорогой Александр Степанович, хочу вас уведомить, что наш завод уже содержит триста юных дарований, и это называется просто втуз.
Роберт ударил молотком по деревяшке и воскликнул:
– Продано!
И указал молотком на Истрина.
– Ваш втуз – это чистый расчёт. Нет, вы дайте стипендию десяти художникам, музыкантам, артистам! Нет, вы хор создайте, хотя бы камерный, какой-нибудь струнный оркестрик!
Опять раздался удар молотка и выкрик: «Продано!»
– Мы сделаем больше, Александр Степанович, – со змеиным коварством промямлил старичок. – Мы построим торговый центр в Туле. Мегамаркет!
Худая бледная рука Истрина так резко вскинулась вверх, что почти по локоть выпросталась из рукава. Он нетерпеливо, по-школярски, умолял, просил, требовал предоставить ему слово. Ему разрешили, и он выпалил:
– Вы, оружейник, построите торговый центр только при одном условии – если на Кавказе начнётся война, – оттягивая куда-то к виску угол рта, взвопил разгневанный Истрин. – А мои деньги абсолютно не пахнут кровью!
– Ваши деньги, Александр Степанович, попахивают, и очень сильно, предательством русских национальных интересов. Ваш торговый центр будет филиалом Макдоналдса.
Пока в Истрине перекипало негодование, я думал о нём с досадой: «Ну чего ты психуешь?! Перед тобой скала. Раздавит».
Я почувствовал близость краха Истрина, и опять, как на обочине дороги, при въезде на земли «красного» оружейного магната, сжалось тело, собралось в боевую стойку. Смертельной опасностью пахнуло на меня из раскрытой перед телекамерами папки Истрина. Зловеще сверкнул в свете прожекторов глянец на таинственных фотографиях. Одна из камер тупым рылом ткнулась в тот самый снимок, сделанный ночью в инфракрасных лучах, где отчётливо были видны номера на грузовике, лица людей и ровный ряд оружия в кузове. На другом снимке это оружие было уже завалено сеном, и люди отдыхали, опершись на вилы.
Тыча пальцем в фотографии, Истрин вопрошал:
– Это кто же патриот? Это вы – патриот? И это вы говорите о русских интересах? Вы, тульский оружейник, из-под полы продающий оружие чеченцам. Вы, который прекрасно знает, где сделаны эти фотографии, – всего в пятидесяти километрах отсюда, в Чернавке. А это – ваш подчинённый, начальник седьмого цеха Сажин. А это – Хадженов, чеченец, между прочим, и ваш личный егерь. Так что если вы и построите торговый центр, то только на свежей русской кровушке…
В разоблачительном раже Истрин поднёс фотографию так близко к лицу директора, что тот вынужден был отвести рукой снимок в сторону. А Истрин мстительно расхохотался.
Поднятый молоток ведущего завис над столиком – Роберт продлевал проплаченную паузу.
– Продано, господа! – наконец скомандовал он и дирижёрским жестом-ударом «включил» Василия Сергеевича.
– Вам лучше было бы с девочками в постели меня смонтировать. С вашим-то качеством негативов я бы с моим брюхом сошёл за Алена Делона.
Истрин ёрзал в кресле, ликовал, наслаждался смятением соперника, был оглушён и ослеплён собственной отчаянностью.
Всех ассистентов, помрежев, операторов захватил редкий для провинциального телевидения скандал, и, кажется, один только я заметил движение за кадром человека в тесноватом костюме, то ли охранника, то ли шофёра «красного директора», который «выломился» из общего оцепенения, ускользнул из студии задним ходом – через помещение рабочих-оформителей. В его исчезновении я усмотрел вполне сценическое продолжение действия, и авторское чутьё подняло меня со ступенек, вывело через толщу тамбура в коридор, где я почти в упор столкнулся с этим двухметровым битюгом, с трудом сгибавшим руку в локте из-за тесноты рукава и гневно шепчущим в редкий тогда ещё мобильный телефон:
– Отставить – «канавка»! Отставить! «Чернавка»! Я говорю «Чернавка»!
Вынужденный замолчать, он полоснул меня ненавидящим взглядом – надолго бы запомнившимся, если бы не игровое начало телевидения, облёкшее некоей искусственностью и всё произошедшее под софитами, и здесь, в коридоре.
Следом за этим мясистым, крайне озлобленным громилой, как бы игравшим роль злодея в телеспектакле, я, попивая свое пивцо, с лёгкой душой вышел из студии.
Толстяк умчался на джипе, а меня опять, как и в славном граде Владимире, обволокло тягучее время моей любимой русской провинции. Пыльные клёны млели в жаре. Герань пылилась в окнах деревянных домиков. С перекрёстка из всей музыки в коммерческом ларьке доносился только бой ударника. Ветхий, побитый трамвай проволокся по кривым рельсам.
Двумя пальцами я сжал переносицу, пытаясь сосредоточиться и если не понять, то хотя бы понадёжнее вдавить в память эти прекрасные мгновения. Посторонился, услыхав за спиной кашляющий смех Истрина, мурлыкающий говорок директора. Они выходили из двери-вертушки телецентра на крыльцо.
– …Уж в следующий раз вы с девочками меня, с девочками.
– Уборщицу пришлите ко мне, Василий Сергеевич. Пульки вымести. Намусорили, набезобразничали, – нехорошо!
Такими клубными остряками они и расстались.
35
Ехали обмывать «экшин», как сказал Истрин.
На поворотах он стремительно крутил руль вправо-влево, бил по нему ладонями, будто играя на тамтаме.
– Запустили лягушку за воротник. Должно сработать. А? И вообще, ребята, как это со стороны смотрелось?
– Они, кажется, всполошились, – сказал я.
– Что и требовалось доказать. Вот так вот! Да!
Всю дорогу от студии до своей «хаты» Истрин обнажал зубы в алчной улыбке, так что видна была даже фиолетовая жила на нижней десне.
– Роберт, надо их добить. Сегодня же вечером прикончить, – умолял он и кровожадно стучал кулаком по рулю.
– Ноу проблем, мистер Истрин! – отвечал Роберт, опять напяливший на себя «кожу» и чёрные очки и потому вряд ли что-то видевший за дымчатыми стёклами машины. – На всякий случай я ребятам сказал, чтобы копию «откатали».
– Откатай, Роберт, дорогой! Ох, откатай! – стенал Истрин.
Вылезли из машины у клумбы с дивными голубыми цветами.
Охраннику велено было готовить ужин, а прежде принести наверх виски со льдом и телевизор.
Стекольщик обмазывал рамы шпаклёвкой. А когда мы все трое поднялись по спиральной лестнице на крышу, его «Запорожец» уже улепётывал по шоссе в Тулу, мелькая за кустами, из которых ночью стреляли по дому.
Солнце садилось в седловину между склонами, и здесь, в низине, было особенно светло и жарко.
Нержавеющая сталь бассейна пускала подводных зайчиков.
Я присел и ладонями попытался вычерпнуть одну из этих зверушек. Мне захотелось погрузиться в пятнистую воду только потому, что я ни разу не купался на крыше, хотя вообще-то не признавал плавание в бассейнах и немного даже брезговал после отпуска, избалованный собственной банькой и деревенской речкой.
Вместе с подносами охранник принёс каждому из нас по махровому халату.
Первым разделся Истрин, обнажив восковое тело, подсушенное неправильным обменом веществ. По ширине кости, по длине рук без труда угадывался в нём мужицкий выродок.
Роберт тоже был худ, к тому же сутул, и у него почти совсем отсутствовали ягодицы. Телеса его представляли известную чумную, прокуренную и пропитую породу губернских журналистов. Он решил купаться в тёплых, чуть ли не шерстяных трусах, хотя я доказывал ему, что лучше потом, обсохнув в халате, влезть в сухое.
Но Роберт стеснялся.
А я аккуратно повесил пёстрые трусы на крючок под тентом и голым повернулся к солнцу (думаю, что во мне с некоторым даже перебором возмещались все недостатки остальных двоих).
Мы спускались в бассейн одновременно, каждый по своей лесенке, обжигаясь артезианской водой, и я подумал, что купание сближает, уравнивает: в воду входят одинаково голые и банкир, и бомж.
Не умеющий плавать Истрин держался за поручень, приседал, плескал в лицо водой и приговаривал:
– Вот сейчас ещё рюмку – и…
Роберт плавал боком, стараясь не замочить тёмных очков.
Мелькнув на солнце белым задом, нырнул и я.
В воде комочки бликов распустились, и было похоже, что плывёшь в облаках.
Я погрузился вглубь над отверстием в днище, почувствовал бьющую в живот струю насоса, перестал загребать и был вынесен ею на поверхность.
Я парил в восходящем потоке на спине бесстыдно и так смотрел телевизор, в то время как Истрин с Робертом уже вылезли на сушу и уселись в шезлонги.
Оба, как дамы перед зеркалом, неотрывно изучали себя в отражении начавшегося репортажа, тыкали пальцами, оценивали, дублировали, вторично переживали собственное действо на экране возле расстрелянного коттеджа Истрина, и забавлялись. А я так же, как на съёмке, отстранённо и независимо, видел их и живых, и отснятых и теперь ещё сильнее осознавал крайнюю опасность всей затеи. Пожалев, что разрушилось моё блаженство в бассейне, скрываясь от телепугала, нырнул, залёг на дно.
На полированном дне из нержавейки я углядел какой-то жёлтый камешек и подумал, что для пущего шика надо было бы Истрину насыпать в бассейн черноморской гальки, как в аквариуме: ему, богатенькому, ничего не стоило привезти пару тонн с сочинской Ривьеры. Сквозь пузырьки воздуха изо рта я рассматривал находку. Камешек был похож на пулю. Всплыв и отерев воду с глаз, увидел: точно, пуля со сплющенной головкой. Будет чем похвалиться в редакции, не зря мотался по тульской земле. Я засунул находку за щёку и лёг спиной на воду, подгребая ладонями, глядел на экран телевизора и слушал Истрина, кричавшего кому-то по телефону:
– А копия сегодня же будет в прокуратуре!..
Вечерело. Облака ссыхались в голубизне, распалялся июльский закат, но сейчас краски неба не волновали меня – так всегда случалось, когда я выпивал, терялась связь с высью, красотой, с Богом.
Душа заземлялась вином. И уже для кого-то другого, девственного, в голубой раствор неба впитывались последние капли белизны и на западе прорастала из чернозёма дождевой тучи алая роза высотного облака, и мрак заливал овраг.
Я нырял, обследовал бассейн, ощупывал слизистую поверхность и скоро наткнулся на вмятину в борту возле сварного шва почти у поверхности воды.
Всплыл так, что глаз оказался на воображаемой линии между этим углублением и урезом борта, и увидел, что стреляли от комля громадной липы, в тени которой ещё Толстой мог отдыхать.
«Молчок! Скрывайся и таи. На этом весь очерк и построим».
Халат впитал на мне влагу, как огромный подгузник, оставшись сухим.
Прохлада подбиралась снизу – от далёкой речки, от клумбы, – холодила мои голые лодыжки сквозь парусину деревянного кресла.
Давно перестали мелькать на экране лица Роберта и Истрина – души их сгорели между анодами и катодами в корпусе телеящика, и теперь пожарища эти заливались крепким заморским пойлом.
Купание отрезвило меня нежеланно.
Но весомая порция виски быстро вернула радость бытия.
Пить так, враскачку, я любил и умел, каждый раз увеличивая дозу, чтобы потом опять «просесть» и опять взбодриться.
Несокрушимого мужика изображал из себя шелудивый Роберт. Пластилиновое кольцо его губ складывалось в самые причудливые фигуры.
Как всякий очкарик, он опьянел незаметно: глаза под стёклами долго не выдавали его. Только что вроде бы эта «звезда» местного телевидения глубокомысленно возлежала в кресле, как вдруг вскочила на ноги и, взмахнув широким махровым рукавом, запела, излишне сильно, но умело вибрируя. Сразу проступило в нём пионерское горновое прошлое, детские хоры и вокально-инструментальные ансамбли.
В приступе нездорового артистизма Роберт влез на тумбу для ныряния. Оказавшись выше всех, первым заметил подъехавший джип и вышедшего из него человека в шляпе, со щетиной усов под кавказским носом.
Не переставая петь, Роберт отчаянными жестами заставил подняться на ноги нас с Истриным.
И мы увидели, как охранник, хватаясь одной рукой за рукоять пистолета, пытался сдержать напор гостя. А тот, обнажив бритый череп, шляпой взывал к людям на крыше дома, к нам, что-то грозно требовал от нас.
– «Наверх вы, товарищи, все по местам…» – грянул в ответ Роберт со своей эстрады. К нему на тумбу взобрался Истрин, обнял его и подхватил:
– «Последний парад наступает…»
Пели они, как и положено поддатым русским мужикам, с чувством. Оба тискали друг друга. Халаты располовинились, обнажили их тощие, вовсе не героические тела, пупки и коленки. А кавказец снизу кричал:
– Пойдём выйдем, слушай! Разберёмся, а? Тебе говорят – нет?
– Пошел на х..! – проорал Роберт в паузе и продолжил песню: – «Пощады никто не желает…»
Тульский охранник воевал с чужаком по-настоящему, выталкивал воплями за ворота и, как казалось нам, возбуждённым солистам, побеждал в грандиозной битве, не меньше той, о которой мы пели. И мы ещё прибавили чувства и пафоса:
– «Все вымпелы вьются и цепи гремят!..»
Так что даже во мне, в принципе буддисте, взбурлила воинственность. Вскочив на соседнюю тумбу, я подхватил марш на словах: «В предсмертных мученьях трепещут тела…». Размахнулся и метнул пульку в неприятеля.
Жёлтый «шмель», сверкнув в воздухе, ударился о стекло заезжего джипа. Бойцы завопили «ура», стали прыгать на тумбе, не удержались и свалились в воду.
За компанию я тоже прыгнул в бассейн…
Мы выбрались из воды в набрякших, вытянутых халатах, проволокли их немного за собой мокрыми тряпками и потом оставили на кафеле жидкими кучками дряни.
Одевались кое-как, косо заправляя рубашки в брюки.
У Роберта осталась незастёгнутой ширинка.
В холл спустились босые.
Истрин решительно запретил садиться на простреленный диван. Он затолкал три кресла под защиту кирпичной стены и там, в углу, устроил дорогих гостей.
– Нет, вы видели, а? У этого Ахмета сто чеченцев под ружьём. Но я – с прибором на него, видали? Он здесь директор совхоза. Мужики! Ну что мы за народ, ёлки-палки! Кто бы нами ни правил, лишь бы не мы. А они – нам в спину из «калаша». Нет, об меня они зубы обломают!
Мы стали пить, есть, много, путано говорить.
И только изредка остатками художнического сознания я схватывал теперь пурпур фальшивого огонька в камине, малахитовый свет в окнах, выходящих на восток, глубокий, овчинный, греющий ворс ковра под ступнями.
Намеренное, расчётливое ублажение гостей выбраживало в Истрине под действием вина до хвастливого хлебосольства, и в моей хмельной, развинченной душе мелким бесом выскочила подленькая мысль: попросить у него денег на сборник своих рассказов. Мне казалось, что сам хозяин намекал об этом, рассуждая о природе честно нажитого капитала.
– Я гордый человек, понимаешь, Александр? – говорил он, перекашивая белесые брови. – Я не могу просить или там – выслуживаться (хотя он всю жизнь выслуживался в транспортной конторе). Я как Эдисон! («Почему вдруг Эдисон?» – думал я.) Нет, я как Чебышев! («Кто такой был Чебышев? Кажется, математик?») Я как Рябушинский. У отца ни копейки на образование не взял. Мог у дяди жить в Москве, но в общаге мыкался. Я гордый! Я с лимитчика начал. С сантехника! А теперь свободно могу позволить себе заняться созданием хора григорианцев или проблемами квантовой физики. Я целую школу создал по проблемам пространства и времени. В моём семинаре двадцать один профессор! Вот зачем мне деньги, дорогой ты мой.
Под наркозом виски совесть уснула, и я безболезненно, ловко переключил на себя великодушие Истрина. Ввернул сначала, что Савва Морозов помогал писателям и художникам. И, выждав, пока Истрин пробурлит, прокипит восхищением перед Морозовым, сказал:
– Александр Степанович, дайте мне денег. Книгу хочу издать. В рассрочку. По мере сбыта буду возвращать.
Такой стремительной реакции позавидовал бы и абсолютный трезвенник. В продолжение начатого взмаха руки, с тем же вывертом ладони, Истрин выпалил так, что с губ брызнуло:
– Я – диктую. Ты – расшифровываешь. К выборам делаешь мою биографию. Я – президент России!
– Замётано!
Мы долго жали руки друг дружке, и насколько я ликовал от своей находчивости, настолько Истрин восхищался своей сообразительностью.
Затем мы пили за успех, перекладывали уснувшего Роберта в нишу на кушетку. Опять пили и говорили о величии России.
А дальше была ночь с грозой и ливнем. Мёртвый сон в мансарде. Многократное пробуждение с поглощением «минералки» из холодильника. Возрастание стыда пропорционально отрезвлению.
«Денег на книгу просил! Кому нужна такая книга? Зачем?»
…На рассвете я неслышно на носочках спустился в холл, шёпотом распрощался с охранником и зашагал в Тулу по дороге, по которой ещё Толстой ходил.
36
В полдень я уже был в Москве. Шёл от метро по руинам дворянского гнезда Леоново, вдоль зелёной бурливой Яузы, мимо церкви у пруда.
Записная книжка охотничьей добычей билась в кармане куртки.
Семнадцатиэтажный дом сверкнул передо мной эмалью кафельных плит. Командировка была позади, оставалось самое захватывающее – сочинительство.
– Дядя Саша, а вам яичницу поджарить?
Падчерица была смешна в роли хозяйки, словно девчонка в маминых туфлях.
– Меня нет. Исчезаю. Утром в набор сдавать.
Я запер за собой обе двери, стандартную, вмазанную в стенку на комбинате крупнопанельного домостроения, и вторую, грубо сколоченную собственноручно из досок, – гордость мою, предел моих достижений в борьбе с бытовым шумом.
На письменный стол бросил блокнот, на спинку стула – одежду и ничком повалился на диван.
Сквознячок из растворённого окна змеился по разгорячённой спине, по ступням, распаренным в кроссовках. А шёлковая подушка-думка холодила висок.
Прежде чем я погрузился в сон, фразы стали наплывать, требовать, проситься на бумагу, укорять, как охотничьи собаки, чуя близкого зверя, лают на уморившегося хозяина, дремлющего у костра, уверенного, что в этих местах много живности, кого-нибудь да подстрелим…
Лишь около полуночи, когда я, проснувшись, уселся за стол, сорвались с цепи первые слова.
Небритое лицо моё к этой минуте уже собралось в страдальческую мину, лоб сморщился, рот приоткрылся и затвердел в беззвучном крике, точно я и в самом деле погнал вепря по тропе.
Комары на свет лампы поднимались с пруда в восходящем потоке, звенели за марлевой сеткой в окне. Небо за окном было зелёным, с розовым разливом по горизонту, цветным, а деревья в парке и дома в Свиблово уже «перевелись» в чёрно-белую графику, и в нефтяном пятне пруда каплей молока отражалась луна.
На бумаге под моей рукой строчки мелкими пружинками шерстяных ниток из распущенной варежки натягивались от кромки до кромки листа. Плотность их была такова, что любая статья у меня умещалась на двух рукописных страничках.
Листая записную книжку с набросками об Истрине, я мял глаза и думал, что в ночной Москве ещё сотни таких же, как я, сидят сейчас в своих углах и строчат. На полную мощь работает по ночам вся российская говорильня, трепальня, писальня, а немотствующая толпа, как гигантский младенец, каждое утро начинает заново учиться говорить по азбуке газет, пожирает слова и фразы, вторит и выкладывает рубли в благодарность за науку.
Родовой спазм опять скорчил меня за столом. На этот раз лицо мое вытянулось, вскинулись брови так, будто я запел что-то ямщицкое, «распуская вязаную варежку по листу»…
Заканчивал я статью совсем другим человеком, текст выходил всё более мрачным. Всё те же петельки стебались по бумажному листу, но в пряже появилась невидимая стальная нить ожесточённости, металлическая спора, которая вонзится в душу каждого, кто в свежем номере «ЛЕФа» прочтёт этот очерк о разухабистом русском дельце Истрине, и мир, подхватив эту бациллу, ожесточится уже стотысячекратно – по размеру тиража…
На рассвете в истоме бессонницы я начал перепечатывать рукопись, сбивчиво «клевал» пальцами по клавишам и на третьей странице едва не уснул, ткнувшись лбом в холодный металл отцовской трофейной «Олимпии», под музыку которой засыпал ещё в детстве.
Пришлось прибегнуть к испытанному средству – включить в ванной холодную воду и поочерёдно из двух вёдер медленно облить себя с головы до пят, смыть сонную одурь в канализацию.
Сердце, спасая тело от обманного охлаждения, заодно прокачало и застоявшуюся кровь в мозгу. Обсыхал я, сидя возле окна, отбивая беспрерывную чечетку на машинке.
Вот и произвёл я эти семь листков текста, семь листков тлена, семь листков чуда, заковав образы мира в закорючки, точки и палочки и угробив на это три дня своей жизни.
Можно было теперь выставить сетку из окна и, навалившись на подоконник, окунуться в рассвет.
За трубами камвольного комбината, за зелёным бархатом Лосиного Острова небо светилось первозданно, угнетая чистотой и розовостью. Разве что вечно ликующая душа трёхлетнего ребёнка могла отозваться на этот нежный свет, но дети спят в такой час. «Для кого же благоухает восход?» – думал я.
Чистота начинающегося дня попирала мою грешную душу, мучила, корёжила, вынуждала молиться. Отпрянув от подоконника, я перекрестился на золочёную главку храма, словно сцеженную специально для этого перстами Бога на кроны дубов у пруда.
37
– Хорошо бы там ещё этих местных чеченцев поглубже пощупать, – мечтательно произнёс Варламов, прочитав мой очерк.
– Вряд ли они пустят к себе, Андрей Андреевич. Да пока они в Туле, они вроде бы и не чеченцы, а, как говорится, россияне. По нам палить, может, и не будут, а в суд подадут – за клевету. Повернётся против них – в горы уйдут. Это в лучшем случае.
– Из текста можно понять, что у Истрина просто истерика.
– Ну, смешной он, конечно. Хотя и рисковый. Но всё-таки это ему выгодно – убрать «красного директора». Вот кто сволочь, так сволочь. Напрямую гонит «стволы» чеченцам. А Истрин когда ещё свои инвестиции получит! Вообще, с этим торговым центром он, по-моему, просто блефует.
– Ладно. Как версия принимается. Давай в набор, а там поглядим…
До поезда в деревню оставалось часов пять, и я решил прогуляться по Москве в прохладе её набережных.
По Смоленской вышел к Белому дому, сел в скверике у Горбатого моста. С горечью обречённого вспомнил, как после сорокалетней провинциальной жизни меня выбросило в Москву, словно кита на сушу, эмигрантом со знанием языка. Я не владел тогда даже техникой жизни в этом городе, не различал людских потоков в метро. Меня толкали – учили окриками, дрессировали мою растерянную душу, как при клинической смерти бьют ударами тока, чтобы завести сердце.
В этих самых штормовке и джинсах, худой, почерневший от пьянки и скитаний по чужим квартирам, – таким я приехал сюда, к Татьяне, после бегства от Ларки.
Из тьмы – к свету. Из холода – в тепло. Из застенка – на свободу. В противоположную сторону никто по своей воле не ходит.
Проснулся утром в окраинной московской развалюхе под снос. С потолка свисал пласт штукатурки, готовый рухнуть. Отопление в заброшенном доме было уже отключено, обогревались газовой плитой. Унитаз выворочен из гнезда. Ванна ржавая.
Я ополоснул лицо, посмотрел на себя в зеркало и подумал, что упал на самое дно.
Татьяна уже улетела на свой фармацевтический заводик, «яишница» была в школе.
Я сел перед разбитым, замотанным скотчем телефоном и отважно позвонил в редакцию «ЛЕФа». Решил начать поиск работы, как мне казалось, с недосягаемых высот и потом спускаться вниз до первого согласия на встречу. А Варламов расспросил про мою бытность на северах, про общих знакомых, неожиданно сразу предложил что-нибудь написать на пробу, и через неделю я был уже зачислен в штат.
Пришёл на планёрку – первый раз в первый класс, робко иду по коридору к редакторскому кабинету, а оттуда вырывается Варламов, с одеколонным ветерком проносится мимо и – прямо в лоб:
– Чего это ты тут фланируешь? Государственный переворот в стране! Все на улицу!
Ему было хорошо. Он шёл на подвиг и был готов к нему.
А мне стало так тоскливо, даже противно. Мне хотя бы с сотрудниками познакомиться. Какой-нибудь авансик попросить – денег ни копейки. Узнать бы хоть, что за переворот: телевизор у Татьяны был сломан. А тут – вперед куда-то, в атаку!
В том октябре политические кобели опять сшиблись в очередной схватке за отцовство. Мне, щенку приблудному, сорокалетнему Сане, ощипанному, истерзанному разводом, было дико, тоскливо лицезреть низость столичной жизни. А требовалось ещё и подлаивать.
Под стенами Белого дома я оказался среди голи московской, работяг, мелкого служилого люда – по сути, в той же провинции, вологодской, тамбовской, архангельской. Эй, Москва моя любимая, где ты? Всё разрушено, загажено.
У баррикад стояло несколько кроватей с пружинными сетками. Вместо матрацев на них толстым слоем лежали номера «ЛЕФа».
Камни-булыжники и обломки асфальта складывались в пирамидки вдоль «линии обороны».
Воинство готово было к битве и нетерпеливо выкрикивало хором, как на матче: «Гуц-ков! Гуц-ков!» На балкон, чем-то напоминающий мавзолейный, выскакивали проворные порученцы главного путчиста для успокоения и обещаний.
Что-то потное и похотливое было в колыхании толпы, в её стоне-вопле. Толпа подвиливала, пульсировала и сокращалась, как общенародная матка. Жаждала семени, беременности и мощным вакуумом втягивала в себя так необходимые ей кличи жалкого, обречённого Гуцкова, хотела его, играла им, требовала от него. И управляла всеми балконными говорунами, пока очередным оратором к барьеру не выдвинулся Варламов в расстёгнутой армейской плащ-накидке, под которой виднелся чёрный сатин бронежилета.
Поэт мятежный проступил в знаменитом писателе – лорд Байрон, Лермонтов. Длинные волосы развевались на осеннем свистодуе, лицо римского патриция поражало родовитостью – в сравнении с крестьянскими физиономиями полковников из окружения Гуцкова, с лицами заматеревших «комсомольских работников», с мордами двухметровых телохранителей путчистов.
Варламов вскинул левую руку, призывая к вниманию, и под мышкой у него глянцевой черепашкой мелькнула кобура.
Помню, как предчувствие неминуемой гибели Варламова пронзило тогда меня. Где-то в грудине вибрацией рыдания отозвался горн командирского горла с изысканным аристократическим тембром, изощрённым строем фраз и неимоверно сгущёнными образами. Он знал рецепт изготовления политических хитов и не брезговал ораторской попсой. Он сразу загипнотизировал толпу, овладел её душой и стал своей фирменной татарской скороговоркой мять, взбивать и перетирать эту глину – умело и беспощадно, как немолодой, уставший, но всё ещё могучий ваятель.
Он говорил сильно, умудрялся запустить руку на самое дно, в холодок сокровенного у русского человека. Сравнил стояние у Белого дома с сражением под Смоленском. Власть назвал оккупантами. Родину – несчастной. И я увидел, как притихли крикливые панки. Старушенция перестала верещать и потуже затянула пионерский галстук. От лексически близкой речи высоко поднял голову хмурый интеллигент.
Пылкие фразы Варламова трагически сплотили людей.
Гуцков только указал цель – на Останкино, на телецентр. А силы и решимость сообщил толпе Варламов. Единое сердце толпы возликовало после его слов, и хотя каждый по отдельности потом устыдился этого вопля в себе, этой потери себя, но тогда, соединённый общей кровеносной системой, счёл для себя смертью отрыв от биологической массы единомышленников.
И я в своих старомодных расклешённых брюках из вечного лавсана, обтрёпанных сзади, в несокрушимой штормовке, в найденных среди мусора милицейских ботинках, из-за которых меня принимали за шпика проницательные бунтовщики, тощий и бородатый, тоже был вполне под стать тискавшим меня особям, тоже что-то кричал, свистел и вскоре, желанно подхваченный тысячами тел и душ, тоже обезумевший, побежал по Грузинской, Лесной и Шереметьевской.
Оказался возле телебашни, когда грузовик уже протаранил вестибюль, а над толпой, как цирковая булава, закувыркалась чушка, выпущенная из гранатомета. Она ударила в стекло и взорвалась внутри. Я видел, как из пролома вылетел стул. Обрывок ковровой дорожки, дымя и кружась, упал на головы безумных людей. И в этот самый миг ранних осенних сумерек с изумлением заметил, как меня вдруг вместе со всей толпой накрыло сетью светящихся пулевых трасс. Обворожительный, новый на слух большинства треск заглушил первые стоны.
Только потом люди бросились врассыпную.
Я споткнулся о чью-то упавшую на асфальт телекамеру, едва не наступил на женскую руку.
Побежал через улицу Королёва в дубовую рощу. Заскочил за первое же дерево спиной к стволу.
Вверху надо мной трещали сучья и кучно, будто иней от сотрясения, опадали жёлтые листья. Это пулемётная очередь прошивала крону спасительного дуба.
Ещё дурное героическое веселье теплилось в моей душе, и я будто в прятки играл, вжимаясь в дерево, но под сердцем уже завязался какой-то узел, что-то вроде неизлечимой опухоли свило гнездо в душе.
Я был жив, но смертельно, пожизненно унижен.
Я был опозорен навек потерей собственной особости, превращением в животное, в толпу.
Не помню, как добрался до дому. Испугал Татьяну своим видом. Заперся в ванной, сел на крышку унитаза и единым махом, уложив блокнот на колено, написал свой первый «лефовский» репортаж о такой позорной, непростительной потере человеческого…
38
В деревне был тот всплеск лета, когда земля, казалось, вспухла, вздулась зеленью – травой, листьями. А небо – облаками.
И в этой тучности терялся человек на земле. Только по плечи были видны в траве мы с Татьяной, а сынишка зайцем скакал в зарослях.
Всё семейство толкало мотоцикл по луговому пути.
Этот «рыжий», похожий здесь, среди цветов, на громадную божью коровку, был найден мной порядком общипанным – ни приборов, ни инструментов, ни насоса – в сарае дальних родственников. Денис прошлым летом бросил его, заглохшего, в соседней деревне. Хорошо, что затащили добрые люди под навес от снегов и дождей.
Мотор не заводился, а на спущенных колёсах до Синицыны двести килограммов железа переть – не по асфальту.
Но Татьяна не пожелала бросать «семейное добро», вызвалась толкать. Ее хозяйская прибористость заразила меня, и мы на одном дыхании километра два бурлачили по просёлку, усадив на бензобак сынишку.
Сбоку, упираясь в руль, я бычил шею и косил глазом на жену. Видел, как она руками и грудью вжималась в багажник, как круглился и двигался под лёгким ситцем её мускулистый зад спортсменки-байдарочницы. Наверно, небольшой крестьянской лошадке равнялась Татьяна по ширине и мощи своего «тазобедренного сустава» и самой легконравной колхозной кобылке – по самозабвенной старательности.
Самое трудное было впереди – загнать мёртвую машину на холм по крутому глинистому косогору. А оттуда до самой Синицыны под гору мотоцикл только придерживай.
Требовался отдых перед штурмом.
Тысячи сочных стеблей хрустнули подо мной, когда я навзничь, как в пух снега, упал в траву.
Я лежал, отдыхал и глядел в небо.
Солнце уже выжгло холодок, и облака в белесой голубизне стали розоватыми от зноя.
Кажется, наконец наступили они – эти томительно-однообразные, знойные, прекрасные дни июля, когда заканчивается бурная жизнь там, над землёй, остаётся только пустынная лазурь днём и огненные перья на закате.
– Сашенька, голубчик, ты будь сейчас мужчиной, – наставлял я мальчика, забравшегося ко мне на грудь верхом. – Сам, один потихоньку в эту горку поднимайся следом за нами с мамочкой, ладно?
– Нет, я вам помогать буду.
– Ты нам тем поможешь, что сам, один будешь взбираться за нами. Понял? – втолковывал я.
– Понял, папочка.
Я снял сынишку с себя, поставил на тропинку, тяжело поднялся и подолом старой выцветшей рубахи отёр пот с лица.
– Ну что, Татьяна Григорьевна, с песнями?
– С песнями, Александр Павлович!
«Золотая баба», – подумал я и стал отдирать от земли тяжёлый мотоцикл.
Мы опять впряглись в никелированную двуколку и с разгону взяли гору до половины.
– Ещё дёрнем, ещё! – хрипел я, наваливаясь всем телом на руль.
И вспоминал, как легко взбегал когда-то в эту самую гору мотоцикл, как весело он трещал под Денисом, под его деревенскими девками, обнимавшими поджарого парня за крепкий костяной живот. Сколько молодости, смеха носилось по этой дороге с дымом и треском мотора, – сама чистая, непорочная юность.
Да и я любил напялить на голову шар каски, опустить прозрачное забрало и кинуться по просёлкам, прыгая через колдобины, разбрызгивая лужи. Любил на шоссе разогнаться в попутном сильном ветре, сравняться с ним в скорости и приметить бабочку, как бы порхающую перед козырьком шлема, попытаться схватить её за крылышки, будто происходило всё в неподвижности, а не на разогнанном мотоцикле.
Всласть поносился я на этом моторном коньке, но ржаветь бы ему в крапиве, если бы не Татьяна.
«Это мы с ней не сломанный „Восход” выволакиваем в гору, а саму мою жизнь», – думал я в то время, когда сухая, прокалённая солнцем глина под моими ступнями скатывалась в шарики.
– Татьяна, ну его, бросим?
– Как скажешь, папочка.
– Тогда не обессудь, мать.
И я опять налёг на руль мотоцикла.
…Из какой ямы вытолкала, вытащила меня Татьяна! Из какого ада!
Последние десять лет я жил с Л аркой, чтобы «воспитывать сына», а когда Денис подрос, уехал и поступил в Бауманский, словно подпорку вышибло у семейной треноги: всё повалилось и рассыпалось.
Чтобы удержаться в доме, я стал тогда голодать: покупал на рынке у узбеков неочищенный рис, варил кашицу и ел по пять ложек в день. Занялся йогой. Утром, перед тем как идти в редакцию «Правды Севера», по полчаса делал поклонения солнцу. Читал мантры. Вечером ложился в шавасану, бредил, галлюцинировал, изнемогал, казалось, до предела. Щёки втягивались, как у покойника, даже волосы поредели. Но наступала ночь, и словно неисправимый алкоголик, знающий, что в холодильнике стоит початая бутылка, приканчивает её, так и я возле жены опять одним махом опоражнивал стакан. и, что самое страшное, не взбадривался, а скисал. Не «забирало», как говорится. И порция была мала, и вино неядрёно.
Бросил йогу – пошёл в церковь.
Робко, неумело молился, просил духовной укрепы. И однажды в проповеди услыхал, что медитации – происки князя тьмы.
Так вот почему йога не помогла! Вот почему не достиг я желанного освобождения от власти плоти.
Тогда я стал уже по наставлениям Иоанна Златоуста покорно «имать жену кийждо». Она становилась ещё преснее и вскоре отвратила окончательно, так что даже когда желание оживало, изводило бессонницей – меня не тянуло к ней.
«Но что же делать? – думал я в своих одиноких ночах. – Найти женщину? Одна, вторая откажется, но в конце концов какая-нибудь согласится. Но ведь тогда вся душа – в распыл. Даже если взять чисто математически, то получится, если не одна-единственная, то и не две. Вот что ужасно! Не две и не три, а сразу бесконечное количество вырисовывается. И они потом будут думать: сколько же нас имело его. Это так унизительно! Я не хочу!»
Однажды, заснув один на диване, я в одурении полусна перебежал в спальню и кинулся на жену, как на куклу из секс-шопа. Она разрыдалась подо мной. А я – о ужас! – придавил ей горло, почувствовал податливую мякоть и с трудом остановил себя.
Она хоть и не видела в темноте моего осклабленного лица, но ненависть почувствовала и, убитая горем, казалось, готова была покорно умереть.
Тихо матерясь, я ушёл на диван, сел, голый, разбитый, обхватил голову руками и плюнул прямо на ковёр.
Она подошла в просторной долгополой сорочке и стала кричать:
– Грязный извращенец! Завтра же иди к сексопатологу!
Тогда я поднялся и ударил её.
Первый раз в жизни.
Куда-то в лицо.
Она вскрикнула, вцепилась одной рукой мне в волосы, другой – в бороду так, что, казалось, сейчас вырвет клок мяса или челюсть выворотит.
Драться она умела.
Вывернув голову, страдая больше от унижения, чем от боли, я увидел тогда в свете уличного фонаря её лицо, скрученное злобой, дикой страстью, и подумал, что она меня когда-нибудь убьёт. После чего безжалостно стиснул её запястье и с хрустом перекрутил.
Она вскрикнула, расслабленно села на ковёр и зарыдала.
«Господи, дай мне любви», – молил я ночью на диване.
Сердце колотилось, мутило, накатывало тёмными волнами. Усилием воли я возвращался к свету, ширил глаза, скрипел зубами – боялся обморока, паралича и инвалидности, но не смерти.
В ту пору я давно уже завидовал временам, когда мужики в среднем жили до сорока. И действительно, зачем дольше? Дети выращены. Прощай, жена.
На вторую времени не отпущено самой природой. Хочешь-не хочешь, а брак будет честен и ложе не скверно.
А я обречен был жить дальше.
Дома стал невыносим и для жены, и более всего – для самого себя. Никакая её истерика не пробивала. Я видел, что от моего молчания корчилась она, как от боли, меркла, старела, запускала квартиру, демонстративно глотала какие-то таблетки и рыдала на кухне.
Теперь уже она боялась меня. В зарёванных её глазах застыл ужас. Теперь уже она прятала кухонные ножи, утюги и гантели. Сидела в углу по вечерам загнанной, замордованной собакой, готовой защищаться и кричать. И мне льстил этот страх.
Как-то я решил позвонить художнику, справиться насчёт рисунков для издаваемой книжки. Снял трубку и услыхал голос жены по параллельному. Она говорила со своей матерью.
– …Когда бабы мне талдычили, что все мужики бл…ны, я горло готова была им перегрызть: мой не такой! Теперь точно знаю, что всем им свеженькую подавай. И это как болезнь. Я, слава Богу, медик всё-таки. Все симптомы налицо. У него обыкновенный психоз. Как кобель мечется по квартире. Иной раз думаю: «Господи, да хоть бы ты к проститутке сходил». Так душу выматывает – сил нет.
И эти слова жены «хоть бы к проститутке сходил» засели у меня в голове. Как будто бы я получил неофициальный развод.
Три года затем я безрадостно шастал по бабам, пока в московской командировке не встретил Татьяну.
Взял билеты в театр Пушкина на «Бесов» и наши места оказались рядом.
…Бензин плескался и хлюпал в баке «Восхода». Надсада разрывала грудь.
– Поберегись! – прохрипел я и бросил мотоцикл.
Рукоять вонзилась в землю, мотоцикл взбрыкнул, как подстреленный, переднее колесо вывернулось, закрутилось в воздухе.
Опять повалился я в траву, опять надо мной закачались от ветра седые колоски осоки, мохнатые пуговки сростохвостика.
Личико сынишки, испуганное, любопытное, подсолнуховой головкой склонилось надо мной.
– Молодец, Саша, – подбодрил и успокоил я его. – Одолел горку. Мужчина. Хвалю.
Татьяна лежала по другую сторону дороги. Мы перекликались.
Затем я перевернулся на бок и стал высматривать, вынюхивать мотор. Неожиданно свеча в цилиндре подалась, и я отвернул её.
Я подлил бензина в цилиндр, завернул свечу и, поставив машину на колёса, ударил ногой по стартеру.
«Зверь» взревел, окутался дымом. Сашенька с плачем бросился к матери.
Надрывно закричал я, чтобы садилась. Оторвал от Татьяны ребёнка, водрузил на бак перед собой.
Мальчик от испуга извернулся, уткнулся лицом мне в живот. Он вопил, а я гоготал, подпевая мотору.
Шевельнул крючок у подножки – воткнул первую скорость, стал разжимать пальцы на рычаге, и дымящий, грохочущий, очнувшийся от долгой спячки мотоцикл вдруг шало рванулся, и на спущенных колёсах, елозя по сторонам, звеня ободьями по камням, пошёл, пошёл по просёлку.
Пыль вперемежку с дымом сиреневой скирдой наращивалась за нами. На острие этого воздушного строения среди задичавшего луга, в непроходимых травяных зарослях мелькали головы трех насмерть сцепившихся человеков: чёрная, бородатая, белеющая оскалом оперного тенора на фортиссимо, – моя, с трепещущей полуметровой дымчатой гривой – Татьянина, и выжженная солнцем головка мальчика.
Это трёхглавое орущее, визжащее существо проехало по луговой дороге до крыльца родного дома.
Я ещё погазовал, подымил во дворе, пугая мать в окошке. А когда выключил зажигание, то наклонился и в полной тишине звонким поцелуем в железо переднего крыла отблагодарил «коня».
– Ещё покатаемся, Татьяна!
По тропинке к реке теперь передо мной замелькали ножки сына – колесом без обода, одни спицы долбали мураву.
Когда я достиг берега, сынишка, уже голенький, сидел на корточках, что-то напевал и бросал песок в воду.
– Папочка, весёлый «бултых»! Ну, пожалуйста, папочка!
От усталости хотелось просто упасть, остыть, полежать в струе, заякорив обе пятерни в песчаное дно, но как откажешь безотказному?
Трусы громадной бабочкой перепорхнули на куст ивняка, и я – большой, красный, распалённый, голый – побежал по отмели, прорывая борозду в воде, взбивая водяную пыль выше головы, и бежал, пока не завяз, не рухнул (вот и весь весёлый «бултых»), и долго плыл трупом, лицом вниз, отдыхая, глядя через прозрачный чай на живые песчаные дюнки, на белые камешки, на солнечные донные пятна.
На том месте, где в проруби тонула Татьяна в апреле три года назад, река вдруг огорчила меня своим коварством и ознобила цветом разжиженной крови. Жутко стало под водой, хотя в июле, выныривая, не ударишься темечком об лёд и не надо судорожно шарить руками по скользкому потолку в поисках выхода и выскакивать ракетой с предсмертной немотой в расширенных глазах, какие были тогда у Татьяны…
Я вынырнул и вскочил на ноги. На меня уже накатывал брызговой смерч с двумя голыми телами в эпицентре.
Я сцапал, раскрутил сынишку, пятками стал чертить круги на воде и примечать, как с крайней женской осторожностью, всегда скрытой в маховитой Татьяне, она разводила ладонями волны, будто простыни разглаживала и ладила подушки перед тем, как лечь.
Наконец пискнула, погрузилась и поплыла, мощно, умело, старательно загребая руками.
Бёдра раскидывала вширь и резко сводила колени.
Я чувствовал, видел, какая там заключалась родильная сила, которой весь свет напитан. Вода бурунами выдавливалась из-под этих хватов ног Татьяны: так же и Сашенька был легко, в одну минуту вытолкнут из чрева животной мощью матери.
Сидя на горячем песке с накинутым на шею белым, пахнущим йодом полотенцем, я травинкой гонял муравьёв у ног и думал, что всё это было здесь и раньше, с Ларкой и Денисом: жаркий июльский день, медовые воды Пуи, брызги купальные. Но тогда я совсем не так глядел на женщину с ребёнком. Можно сказать, даже не видел ни того, ни другого.
Тогда я не чувствовал теперешней свободы и силы в себе, богоподобия своего не осознавал, а в женщине и сыне не ощущал рабов своих, коих бы поил, кормил и коими владел. И внешне был тогда, соответственно, не похож – безбородый, икры ног слабые и в плечах нетяжёл. А теперь я сидел на этом песке заматеревшим хозяином семейства, его творцом.
…И после купания застолье обеденное тоже бывало уже такое – с картошкой и солёными грибами. Клеёнка та же выцветшая лежала под блюдами. И тарелки были те же. Даже киот с чёрными невнятными иконами нависал над столом тот же. Но теперь перед этим киотом ещё и молились, прежде чем трапезничать, а не как прежде – молча.
Намокро причёсанная после купания семья стояла, и Сашенька запевал:
– Святый Бо-оже…
Сильный от природы, поставленный его нежный голосок пронизывал сердце, колебал душу.
«Как хорошо! – думал я, крестясь. – Чудо! В родовом доме, среди лесов, в деревне, от которой осталось одно название, мальчик поёт перед иконой».
Я с любопытством косился на большую волосатую головку сына внизу, из-за которой, как под зонтиком, почти не видать было тельца, а только взмахивающая ручонка с прозрачным розовым трёхперстием заученно, почти вкруговую вращалась, и голосок пронзительно возвышался:
– Святый бессме-е-ертный…
Моргая повлажневшими глазами, я решил, что выше этой высоты мне в жизни уже не взлететь.
Расстроенный и расслабленный, усевшись за стол, я несколько капризно спросил у Татьяны водки. Она покорно поднесла полстакана. И когда я, в попытке подскочить духом ещё выше, поднёс питие к губам, запрокинул голову, то боковым зрением увидел, как пристально смотрит на меня сынишка и на его глаза наворачиваются слёзы.
Я выпил, стал закусывать пучком зелени и подмигнул ему.
– Кушай, Сашенька. Давай, силёнок набирайся.
– Я что-то не хочу, папочка.
Ротик у мальчика перекосился, губка задрожала. Он сполз со скамьи и убежал в горницу, залез под кровать – в свой «уголок страданий».
Бабушка, старая учительница, кинулась призывать внука к дисциплине. Мы с Татьяной остались за столом с глазу на глаз, оба сидели, опустив головы и стараясь не глядеть друг на друга. Татьяна – от того, что не смела укорять мужа стопкой, а я – оттого, что был поражён открытием совершенного мной только что оскорбления святой души.
«Да ведь это моё возлияние так огорчило его!»
39
…Утром – уезжать, и я проснулся рано.
Марлевые рамки в окнах колыхались: дом как бы дышал.
На черёмухе свистела овсянка. «Ты в Москву, что ли, опять? – легло на её мелодию. И я улыбнулся, приподнялся на локте, глянул в застеклённую половинку окна.
Ночью лил дождь. Пузырь облаков, видимо, только что лопнул, плёнка на небе быстро утягивалась к западу, и ярый восход полыхал, как огонь в печи.
«Ещё рано, поспи, Александр!» – уговаривала овсянка.
Пока я соображал, не прилечь ли в самом деле, Татьяна испуганно вскинулась, заткнула будильник и бесшумно скрылась в кухне.
Я желанно упал на подушку. Прислушался к себе. Да, совсем улетучился у меня страх первого брака: «Жена проснулась! Жена идёт!»
Теперь-то я не вскакивал, если хотел полежать. Не притворялся, что работаю, если ленился. Дремал, сколько требовалось, и не ждал тычка локтем, помыкания.
Наконец я спустил ноги на пол, напялил чёрную разношенную майку, влез в обтёрханные джинсы, всё время глядя на сынишку в маленькой кроватке, собранной из дощечек старинного бабушкиного сундука.
«Спит… А что это такое? Где он сейчас? Откуда его вчерашние слёзы за обедом?»
Я приподнял невесомую ручку мальчика, поцеловал сжатый кулачок и вышел на кухню.
В углу за буфетом на электрической плитке пыхтела каша. Под руками Татьяны брякала старая разнокалиберная посуда.
Из своей половины вышла мать, помятая после сна, но уже «прошедшая через зеркало», подкрашенная и причёсанная. Двадцать лет её гнала первая невестка, Ларка, забирая власть, унижала, обзывала воровкой, старой дурой, и теперь она запоздало, в отместку, напускала на себя свекровскую холодность, желанно тиранила добрейшую Татьяну.
– С добрым утром, Саша! С добрым утром, сыночек дорогой. Как спалось? – кланялась она мне с преувеличенной лаской.
И, не дожидаясь ответа, по старинной учительской привычке «работать с классом», въедливо, с недоверием, бросила Татьяне:
– Кашу опять, что ли, варишь? На дорогу мужику что-нибудь покрепче надо.
У нас с Татьяной это называлось – «пришпорила».
– Татьяна Григорьевна знает, что надо, – сказал я, и мать послушно переменилась. С напускной слезой в голосе запричитала:
– Вот, Танечка, остаёмся мы опять одни. Уезжает наш хозяин дорогой.
Тогда я ещё не верил, что обрекаю Татьяну на муку и пытку. В понятии «мама» заключалось для меня мировое милосердие.
– Через недельку ждите, – бодро пообещал я.
40
Тело моё ещё глотало кашу, наполнялось чаем.
Потом долго волочилось от деревни сначала по травяной сырости, сквозь комариные жалящие туманности, потом тряслось в автобусе и покачивалось в поезде, прело в духоте метро. А душа давно уже была в этой прохладной расщелине старинного барского дома на Остоженке, в бывшей швейцарской, заваленной глыбами газетных пачек.
На каждой кипе восседал кто-то из деятелей «ЛЕФа».
После объятий, поцелуев и похлопываний я втиснулся в самый дальний и тёмный угол – на свое место.
Карманов, в круглых очках, стриженный народником-бомбистом, пояснил мне, что нынче Истрин угощает.
Этот человек, вдохновлённый прочитанным моим очерком о нём, о его борьбе за торговый центр в Туле, сверкал своей прямоугольной американской улыбкой, громко, с рыдательным подголоском, декламировал, взмахивая тонкой бледной рукой:
Я забыл, как лошадь запрягают, и хочу её позапрягать. Хоть они неопытных лягают и до смерти могут залягать…В комнату зашёл Варламов, подкидывая связку ключей на своей молотобойной ладони. Сел на трон из подшивок. Брюхо, молодое, крепкое, как орех, устроил на колени поудобнее. Дождавшись конца стихотворения, крикнул мне:
– У тебя водительские права есть, Александр?
– Где-то валяются ещё с института.
– Вот тебе ключи от моей «шестёрки». Оформляй доверенность на своё имя.
Стальной сверкающей бабочкой ключи перепорхнули ко мне. Я поймал связку и недоуменно уставился на неё.
– Друзья! Ударим автомобилизацией по алкоголизации! – возвышаясь над всеми с бокалом в руке, продолжил далее Варламов. – Принимаю решение – всех посадить на колёса. Естественно, автомобильные. Кто не сдаст на права – лишается премии. У газеты появились кое-какие накопления. Каждому – по три тысячи баксов…
Благословенные девяностые!
Затёртые ключики на брелке в виде дуэльного пистолета ещё хранили тепло горячей руки Варламова, они грели мою холодную влажноватую ладонь.
Тепло это просачивалось в душу, наполняло её изумлением. Словно бы вливалась в мои жилы кровь новой эпохи. Я ушёл от Парки в одном пальто, даже традиционного в таких случаях чемодана не было у меня. Одно пальто, одни штаны, одни носки – и вот у меня уже машина, прямо из воздуха, свалилась сверху, как от самого Господа Бога.
– «Дядя», похлопочи за меня у шефа, чтобы он мне эти три «штуки» премиальных наличными дал, – теребил меня за колено Карманов. – Не хочу я машину Боюсь я их. Хотите, чтобы я разбился на первом повороте? Смерти моей хотите, да?
– Ты думаешь, я имею на шефа какое-то влияние?
– Но он же тебе такой подарок сделал.
– Это ничего не значит. Я такая же «шестёрка», как и ты.
– Ну, «дядя», не ожидал я от тебя такой черствости.
Широкий автомобильный жест Варламова возбудил мечтания поэта Воронина, похожего на перезрелого пионервожатого своими голыми волосатыми ногами, торчащими из цветастых шорт. Громовым эстрадным голосом он вещал, что добавит ещё десяток тысяч и купит джип.
– Серёга, да зачем тебе в редакции кантоваться? – кричал ему военкор Булыгин. – Ты же квартирный спекулянт. «Бабок» у тебя немеряно. Плюнь на газету. Садись сразу на «линкольн».
– А я и в газете на него сяду.
Счастливо расползающуюся мальчишескую улыбку спешно остановил на своём инквизиторском лице Коля Пикин – сутуловатый боксёр-чернорубашечник.
Он заткнул рот сигаретой и вышел в коридор – пережить основательно потрясшее его известие о премиальных авто.
– Самое время выпить, «дядя». Хотя ведь ты теперь у нас «за рулём», ты теперь у нас белый человек.
Водка в чашке, поднесённая мне Кармановым, назойливо плескалась перед глазами.
– Знаешь, Димка, я уже самостоятельно «ударил» по алкоголизму. Вчера в деревне последнюю рюмку выпил.
– Ха-ха! Просто анекдот! Ты – и без водки.
– Нет, я серьёзно.
– А что так? Сердечко прихватило?
– Сердечко, да. Только не в том смысле. Сынишке мои «поддачи» стали невмочь. Понимаешь, он меня только радует. А я его огорчаю. Нехорошо получается.
– Пацан он! Ни фига не понимает! Чего раскис? Пей! Или знаешь что, поедем с понтом в Клуб и там вспрыснем.
– Поехали. Но я буду только бензинчик впрыскивать в карбюратор. И учти, «племянничек», я двадцать лет за рулём не сидел. Не боишься?
– Ты особо-то, конечно, «дядя», не гони…
Остоженку пронизывали блестящие разноцветные челноки машин. Выхлопные газы улетучивались с шипящей сковороды асфальта вместе с горячим воздухом, кислород подсасывался из ближайших лесов, отрава улиц была не смертельной, и оттого не злили эти тысячи капотов, крыльев и бамперов, а, наоборот, втягивали, заманивали в свою бурную кривошипно-шатунную жизнь.
Будь я один, поритуальнее бы сел в «шестёрку». По крайней мере не забыл бы перекреститься, обратиться к Богу с короткой молитвой. Но Карманов искушал своей московской показушностью, заражал лихачеством.
Заныл стартёр, двигатель «схватился». Руки и ноги стали действовать бездумно, я удивился, что не растерял шофёрской ухватки, – память мышц включилась вместе с мотором. «Спасибо», – мысленно сказал я грубияну-инструктору, вволю поиздевавшемуся когда-то над неуклюжестью студентов за рулём.
– «Дядя», я всё-таки пристегнусь на всякий случай, – донеслось до меня как бы издалека.
Во мне уже нарастало давление потока машин, взгляд схватывал ближайшие подфарники, белые линии на дороге, огни светофоров вдалеке, я встраивал всё это себе в душу, взращивал в себе водилу.
Только на Садовом кольце немного расслабился и сориентировался: уже Смоленку прокатил, а казалось, только тронулся с места.
Я был весь потный от напряжения. Правая нога одеревенела на «газе», спину ломило, а на счётчике «новой жизни» добавилось лишь три километра. Не удовольствием, а наказанием стали для меня эти первые километры по Москве. Я так устал, будто толкал машину, и проклинал подарочек, вспоминая, с каким наслаждением пролетал эти же самые километры под землёй с книжкой перед глазами, не в духоте тоннелей метро, а в мирах русских классиков.
Но одновременно возбуждалась во мне и забытая страсть к езде, когда ступни жаждут педалей, а руки – руля, когда ломает от мёртвого сидения на стуле, кресле, диване, когда мотор становится биостимулятором, – без него человек чахнет.
Уже через двадцать минут за чашечкой кофе в Доме литераторов я тосковал по машине, тем более что прелесть пьянства в кругу известных московских скандалистов давно была изжита во мне одинаковостью ощущений: выпил, забалдел, похулиганил, уснул, пережил похмелье. Снова выпил…
Это умопомрачительное вращение давно не выводило меня на орбиту восторга. В последний год требовалось больше бутылки заглотнуть, чтобы хоть на краткий миг приподняться над бренностью жизни, – смертельная доза.
Хватит! Было пето – было пито. Мои губы из-под усов тянулись к кукольной чашечке с кофе, в то время как буйные, задиристые и обидчивые поэты вокруг меня чокались водкой.
Был тут и Царицын, громадный сильный сибиряк с диковато сросшимися бровями. Отставной актёр, он теперь, после выхода своего «Истязателя», играл автора-параноика, свихнувшегося на собственном писании, пучил глаза, свирепел не в меру.
Высококлассная реклама получилась бы творцу, если бы, как в прежние времена, литераторы интересовали публику и клубные слухи распространялись хоть немного дальше этого прокуренного подвальчика.
– Мужики! – трубил Царицын, как на сцене. – Поглядите на этого человека! – и указывал на меня. – Он так глубоко копнул в моём романе! Но ты знаешь, Саня, остерегись. Там у меня такая бездна!..
41
Улучив момент, я улизнул из Клуба. Тянуло к машине.
Чтобы узнать её природный цвет, пришлось плюнуть на капот, потереть и поскрести – столько наслоилось на ней копоти и пыли.
Пробоина от пули на лобовом стекле была залеплена скотчем. Белое мясо поролона торчало из вспоротого сиденья.
На этой машине в октябре девяносто третьего подвозили продукты в Белый дом со складов таможни Истрина, а потом переодетый мужиком Варламов убегал от тюрьмы, прорывался на ней из-под танков в рязанскую деревню, где пересидел опасные дни.
Старенький, побитый, поцарапанный жигулёнок просел под тяжестью нового владельца, тоже потрёпанного и немолодого.
Машина слилась с водителем, и они покатились по булыжникам Баррикадной.
Уже настолько освоился я за рулём, что теперь намеренно позволил себе покапризничать: то ли дело, мол, на мотоцикле – всем существом своим прорываешь пространство, ветер в ушах свистит, будто на дельтаплане под облаками.
А здесь над тобой вечный железный зонтик, отсекающий от живительной высоты…
Перед зоопарком у светофора, пережидая поток встречных, я оказался как раз напротив ворот краснопресненского вытрезвителя, вблизи увидел узкие окна в решётках, милицейский фургон во дворе.
Всего минуту ждал зелёного света, а в памяти промелькнула целая эпоха, когда этот вытрезвитель служил мне едва ли не вторым домом.
Сейчас-то уже и я был в «завязке», и народ московский, кажется, отпал от этой «соски», пьяных на улицах почти не видать, а ещё прошлым летом всюду мелькали бутылки – круглые, гранёные, конические, стеклянные и пластмассовые, красные, синие, жёлтые, – истинно бутылочное было лето.
Будто дубинками взмахивали на улицах бутылками, откупоренными и непочатыми. Пили на ходу, сидя, лёжа. На земле и под землёй – в метро. Нищие выцеливали взглядом бутылки, почтительно кланялись дарящим, дрались за бесхозную тару.
Бутылками калечили и убивали, спаивали и наживали капитал и, кажется, наконец, нажили (хотя процесс этот вечен).
Я пригнулся за рулём, чтобы рассмотреть свою родную рюмочную на другой стороне улицы, где, наверно, бармен Витя по-прежнему обольщает мужиков, в душе глубоко презирая их.
Сколько профессиональной любезности было и в его повадках!
На Вите всегда – белоснежная рубашка, в глазах – участие. Только на самом донце – безжалостный холодок. Он насквозь видел меня. Но ошибался, что я конченый!
Дикаря, индейца видел во мне этот бармен Витя и был вежлив только потому, что желал заполучить жалкие мои сотни.
Противно было вспоминать, как я заискивал перед этим барменом: «Витюш, давай рванём!» И Витюша выходил из-за стойки, подсаживался, с подкупающей доверительностью иносказательно выражался:
– Понимаете, Александр Павлович, есть такой закон: кто торгует наркотиками, тот, типа, ими не балуется.
Жаловался на рэкетиров, а я сочувствовал, зная, что уже третий раз на стеклянной витрине этой бывшей пельменной бандиты писали «козёл», напоминая бармену о зоне, морально подавляли перед очередным набегом. (У Вити, конечно же, было несчастное воровское прошлое и полное трудов праведных настоящее.) Ему нехорошие люди ствол к рёбрам приставляли, и размягчённый вином, я жалел его. А Витя как бы в награду за участие предлагал: «Повторить?» И собственноручно приносил фирменные сто пятьдесят. Какая честь!
Я расплачивался, пил за здоровье бармена.
И мгновенно «вырубался».
Проспавшись, с тяжёлой головой разбирая клочки воспоминаний, понимал, что вместо водки Витя подсунул самого гнусного разбавленного спирта: отрыгивалось жжёной резиной. Я гневался. Но, обнаружив пропажу кейса – подарок на последнем съезде писателей, шёл в бар виноватый, будто к батюшке на исповедь.
Увидав пропавшй кейс в Витиных руках, готов был упасть на колени перед благодетелем.
Лепетал что-то в оправдание, бормотал о чести фирмы. Извинялся, будто это я несчастного Витю опоил.
И в скверике у зоопарка, раскрыв кейс, ничего в нём не обнаруживал – ни зонта, ни денег, ни даже пачки писчей бумаги, она сгодилась бармену на обёртку…
Хорошо ещё, что «автопилот» доводил меня до дому после очередного сидения в Клубе писателей и продолжения в этом баре.
А если вдруг оставляли силы посреди тротуара, то несло бедолагу бочком-бочком к деревьям и навзничь кидало на голую московскую землю. И тогда очухивался я ночью в чистом божественном мире, в необычной тишине столицы, с окровавленной головой, застуженными почками, и, не найдя нигде тёплого угла, шагал через всю Москву, усохшим разумом не в состоянии ещё прозреть всей меры собственного падения, только радовался, что, слава Богу, жив…
«Если и есть что-то хорошее в ужасе пьянки, – думал я, поглядывая из кабины даровой „шестёрки” на светофор, – так это, конечно, даже не первая стопка, но жестокое похмелье. В горниле мук человек как бы рождается заново, силой покаяния проникает до сокровенных высот, младенчески невинной душой стремясь к Создателю, начинает существовать в следующем своем воплощении».
…Вспомнилось октябрьское утро, необычайно холодное. Тогда, после выпивки у баррикад, я долго пробирался к дому, весь продрог, плутал, видимо, ходил кругами и, наткнувшись на этот краснопресненский вытрезвитель, зашёл к дежурному: «Возьмите меня, пожалуйста…» – «Топай отсюда, шутник, – сказал уставший майор. – Когда надо будет – возьмём. Ну! А то – по шеям».
И через неделю, «когда стало надо», я действительно проснулся здесь за решёткой, и майор выплыл надо мной со словами: «Ну, что я говорил? Всему своё время».
Тогда я уселся на казённой кровати голый и за эти час-два до освобождения накоротко сошёлся с такими же обнажёнными соседями по несчастью. Они ругали милицию, «вытрезвяк», а я мудро рассуждал, какое это великое дело – «вытрезвяк»: «Вот я недавно на земле спал и весь простыл. Если бы и сегодня так – загнулся бы. Но повезло – подобрали».
Тогда я два месяца пил, думал, что уже не «завязать». В квартирке Татьяны, как говорится, по-чёрному глушил. До полной «отключки» успевал разве что на диван упасть. И вот однажды днём проснулся в комнате с дырявым потолком, с оборванными обоями, с вонью канализации из разбитого унитаза и почувствовал – всё! Не выбраться из этой клоаки. Варламов выгонит за прогулы, а от Татьяны я сам уйду, чтобы не позориться перед Сашенькой.
Подошёл я тогда к окну, встал на колени, глянул на небо и сказал:
– Господи! Если ты есть, то дай знать. Я уверую и «завяжу».
И такое произошло, что меня даже сейчас, за рулём, пробрало дрожью. Я тогда почувствовал, как кто-то сзади мне руку на плечо положил.
Кошмар!
Такое нервное напряжение с похмелья, – хоть головой в Яузу, и вдруг после призыва к Богу сзади рука на плечо ложится!
Мистики, конечно, никакой не было. Это моя терпеливая Татьяна неслышно отперла дверь и вошла.
И я тогда уверовал, принял крещение. И полтора года не пил.
Но однажды поехал в командировку, там позволил себе в ресторане посидеть с коньячком и опять опустился.
И опять «завязывал», а на третьи сутки вполне восстанавливался. Свечку Спасу ставил. Ежеутренне читал длинные молитвы. Сопротивлялся. Но свет желанный так и не разливался в душе. По-прежнему было плохо, глодала тоска. «ЛЕФ» был запрещён. Печатали подпольно. Ларка приходила во сне, звала, дралась. Ничего не писалось. Уныние одолевало, и я опять задыхался в московском воздухе.
В недолгие дни трезвости размышлял, и меня поражало, до чего же изощрён бес пьянства, как всякая нечисть. Вспоминал, как одна «мудрая» торговка в винном ларьке говорила какому-то мужику: «Ну зачем до поросячьего-то визга?! Выпил – заиграло – и хватит».
«Вот она, молитва! Вот оно, спасенье! – восхищенно подумал я тогда. – Главное, не забывать этого правила: „Выпил – заиграло – и хватит”, – и не заведёшься».
И снова уходил в недельный запой. Схватывал воспаление лёгких. После больницы опять боролся с бутылочным наваждением, опять терпел поражение. Опять меня заносило сперва в Клуб писателей, а потом – в рюмочную к Вите с шоколадкой – глупейшим презентом для уборщицы.
Снова вокруг меня вставали бутылки с этикетками. Я разглядывал их, будто молился. И опять обиженная душа моя покидала своё отравленное вместилище, где-то на небе пережидала до утра моё преступление и вселялась обратно, когда я обнаруживал себя рыдающим на койке этого вытрезвителя.
Майор возвращал мне редакционное удостоверение и утешал: «Ничего, не расстраивайтесь. Здесь сам Варламов бывал».
Отпущенный на волю, опять я шёл по этому тротуару без копейки в карманах, а сбоку по широкой улице неслись «мерседесы», «порше», «мицубиси».
А я предпочитал тогда менее престижные марки: цирроз, инсульт, склероз.
42
До вечера во дворе своей многоэтажки я мыл коврики, чистил сиденья в салоне даровой «шестёрки».
Оставалось сверху кузов ополоснуть.
Я пошёл по воду к пруду, зачерпнул ведром воды и остановился, глядя на закат поверх толстых сигар камышей.
Солнце слепило, и сзади свет, отражённый от кафеля бетонной громадины, вдруг тоже упал на воду и бесстыдно осветил то, что уходило в тень, просилось в сон. Извратила красоту мира Божия эта студийная подсветка, – утки тревожно заголосили, снялись и улетели.
И Яичница в эту же минуту прокричала, прокрякала с балкона:
– Дядя Саша! Вас к телефону!
– Спроси – кто. Скажи – перезвоню, – ответил я в рупор ладоней.
– Какой-то Варламов. Говорит, чтобы срочно.
Выплеснув воду, я поднялся в квартиру и подошёл к телефону.
– Слушаю, Андрей Андреевич.
– Только что убили Истрина. На даче. Прямо в бассейне. Надо ехать.
Приглушённо, по-отцовски сострадательно звучал голос Варламова. Дух мой взвился ответно пылко. Я звонко отрапортовал:
– Знаю, откуда стреляли, Андрей Андреевич! Там липа такая столетняя. Из-под неё.
– Ну ты… Уже всё знаешь… Ты вот что – не горячись. Спокойно. Прояви звериную осторожность…
– Выезжаю, Андрей Андреевич.
– С Богом!
Прощай, акварельный вечерок! Чья-то другая душа будет томиться в этом меркнущем летнем свете, а моя ушла в пятки. Длительно, неслышно застонало внутри: «Убили, убили…» А могли бы заодно там, в бассейне, и меня.
В опустошённом сознании опять стало складываться что-то вроде проклятий газете и профессии.
Я повалился ничком на диван, лицом в подушку, пытаясь повернуть мысли в обратный путь: «Ничего не поделаешь. Сказано – в поте лица добывай хлеб свой. С лотка торговать не пойдёшь.
В вахтёры очередь даже среди отставных полковников. Ну вот и не хнычь. Постой, что за трудности у тебя? Только и нужно, что сесть в машину и прокатиться по тульским холмам. Потом здесь, у открытого окна, чудной московской ночью написать „клочок”. Гонорар получить и в свободные до очередной „летучки” дни смотаться к милую Синицыну, в свой мезонин, к Татьяне и Сашеньке. Матушкины ворчания послушать. На поплавок поглядеть. Так чем же ты не доволен? Да не будет тебя никто убивать! Кому ты нужен? Ну, может, припугнут для начала, ты поймёшь – и дальше просто не сунешься. С диктофоном против пистолета – глупо».
Я вскочил на ноги, сел за стол и раскрыл папку с золотым тиснением «Евротранс».
Перед поездкой с Истриным я лишь мельком просмотрел эти документы, как всегда, доверяясь в своей журналистике только глазу и уху, памяти художника. Теперь же, после убийства, никуда не деться – нужно по-милицейски внюхиваться в опись упаковок ящиков со снайперскими винтовками ЯМ-07, отметить в памяти дату изготовления: апрель. Свеженькие.
Рассмотреть на чернильной тонированной фотографии, сделанной в инфракрасных лучах, номер грузовика, а главное – лица людей.
Одно явно русское, мордоворотное, – у могучего человека, телеса которого распирали плащ и в плечах, и в поясе, так что каждая пуговица натягивала поперечную складку на груди и животе.
В две другие физиономии, чеченские, требовалось вглядеться пристально: кавказцы, как японцы, казались мне все на одно лицо.
Первый, в кузове, был мал и худ, щёки впалы и нос горбат, чем и отпечатался в памяти. В другом, рассматривавшем винтовку, я вдруг обнаружил сходство с собой – такая же коротко подбитая борода, нос без излишеств и взгляд отнюдь не орлиный.
И это лицо запомнилось.
Я засунул папку в сумку, уже собрав волю в кулак и молодея перед опасностью.
Пришло в голову – найти ту пульку, которую я по пьянке швырнул в горца с бассейна на крыше, и тогда я, зачуханный репортёришка, окажусь весьма полезным для следствия, в обмен выторгую добавочную информацию у оперативников, и очерк выйдет взрывной.
Как только я застегнул сумку и перекрестился на дорожку, затемнение душевное улетучилось, опять открылся за окном высокий мир: чистое небо, разливающийся закат морковным соком обрызгивает деревья в парке, звонницу и мои пальцы на белом подоконнике.
Внизу, на земле, было уже гораздо темнее, чем у меня, на пятнадцатом этаже. Ещё ниже, у пруда, бездымно мерцал огонёк костра. А всегда белый дым из труб камвольного комбината был фиолетовым…
43
…С Ярославского шоссе я свернул на Кольцевую и погнал на юг.
Не любил радио в пути, слушал мотор, временами начинал сам петь. «Дремлют плакучие ивы», – не дальше этой, первой, строки, и глядел по сторонам.
Дорога двумя своими скользящими друг по другу кольцами машин напоминала огромный подшипник, на котором, шелестя, вращалась Россия, с туманностью далёкой Архары, со звёздочкой неведомой никому моей Синицыны и с тысячами других русских поселений.
Столица и провинция, как два инородных тела, как ось и колесо, соединялись, сживлялись через такие «шарики», как я, через людей двух русских начал – городского и деревенского, двух стихий, которые любили одинаково и столицу, и провинцию, принадлежали им обеим: одним боком к городу, другим – к деревне, смягчали трение в месте соединения, не допускали возгорания, расплавления, пожара…
За Битцей я повернул и поехал по неосвещённому Симферопольскому шоссе. В кабине тлели огоньки приборов. Воздушные сгустки от встречных грузовиков подбивали лёгкую «шестёрку» под бока.
Сзади то и дело сигналили, моргали фарами, требовали уступить дорогу люди в иномарках.
Я вслушивался в мотор и разбирал свои ощущения.
К сожалению, вовсе не испытывал я сейчас того усыпляющего блаженства дороги, когда пассажиром праздно сидел, стоял, лежал в поездах и автобусах. Езда неожиданно превратилась в работу. И пробуждался во мне после многолетней спячки технарь. Опять, как в молодости, располагалась в душе кинематика – все поршни и шатуны, шестерни и тяги, диски и клапаны «жигуля» подключились к нервам.
Словно к нелюбимой брошенной жене, возвращался я во времена, когда в рабочем посёлке под Архарой служил механиком в цехе, где рубили лес на щепу для целлюлозы и где я чертил эскизы запчастей, без вкуса к командной должности руководил слесарями и пил с начальником цеха технический спирт.
Инженерные знания и навыки, казалось, навек забытые, стали опять мучить меня здесь, в машине, – все эти допуски и посадки, пределы напряжения на срез и слом, вспоминались диаграммы и таблицы сопромата, законы гидравлики.
Я ехал и страдал от того, что не знал машину. Техник во мне оказался сильнее водителя. Я не мог дикарём «кататься». Только после того, как обползаю её, ощупаю каждую деталь, дожму каждую гайку, может быть, отпустит меня страх, похожий на угрызения совести перед этой конструкцией из железа, скованность моя ослабеет, и тогда я за рулём тоже буду упиваться дорогой.
А пока ехал я не быстрее восьмидесяти километров в час, обернув руль тряпочкой под потевшими ладонями.
Ехал, чуя впереди отменный газетный материал, и ужасался азарту писательства в себе: убили человека, – интересно!
Я вспомнил, как геройствовал Истрин на краю бассейна, как пел «Варяга» и как обречённо толкался эмбрион кадыка под тонкой кожей его горла.
Я ехал не спеша, и заря всю ночь тлела в зеркале заднего вида молочной розовостью.
В полях после спящей Тулы – города ненужных мигающих жёлтых светофоров – заметно рассвело.
Миновав поворот на Ясную Поляну, я свернул на песчаную обочину, выключил зажигание.
Эту липу приметил я с двух точек – с крыши дома Истрина, плавая в бассейне и совмещая вмятину от предупредительной пули в стенке с кромкой борта, и потом отсюда, с шоссе, добираясь до Тулы таким же ранним утром после вечеринки с богатым, а ныне покойным, бывшим таможенником.
Белела роса на траве в кювете. Несколько шагов до старого дерева – и джинсы намокли до пояса.
Баллистические расчёты оказались верными: под липой была оборудована лёжка. Я словно в берлогу заглянул, ещё тёплую от зверя. Осторожно ступил на кусок парниковой плёнки, присел и поднял винтовочную гильзу, уже холодную и мокрую.
Затем прилёг на полиэтилен и, глядя вдоль по свежей вырубке в кустах, увидел угол коттеджа Истрина, трубу ограждения в бассейне и встретился взглядом с собой, плавающим недавно там, в конце траектории пули, вылетающей из гильзы, которая теперь была зажата у меня в руке и воняла горелым порохом.
Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы избавиться от жути воображаемого выстрела, от ощущения проломленного черепа – и ещё чего? Последнего бесконечного изумления? Страдания от неготовности к уходу?
Комар зудел возле уха, обещал укусить. Можетбыть, этотже комар минувшим вечером кружил здесь и над жестоким стрелком, а от хлопка и запаха гари испуганно юркнул в траву, пересидел и вот льнул теперь ко мне? Вмятины от локтей убийцы ещё не расправились на плёнке, и различимы были следы от мысков его ботинок в траве за подстилкой.
Я примерился. Локти установил во вмятины, оглянулся назад: мои кроссовки не доставали до отметин сантиметров десять. Стрелок был ростом под два метра и тяжёлый – подстилка в одном месте под локтем лопнула.
Добытые знания взволновали меня, как замысловатый кроссворд, когда после первого угаданного слова уже нет сил остановиться, весь ты устремляешься в лабиринт, долго петляешь там, изводя память до умопомрачения.
Я вскочил на ноги и, проскальзывая по мокрой плёнке, вышел к шоссе.
«Жигуль» запотел, как бутылка пива, вынутая из холодильника. С кузова накапало, на сухом песке обочины остались очертания машины.
Я немного прокатил вниз по склону, по узкой бетонной дороге, обсаженной молодыми акациями (наверно, Истрин мечтал годика через два аккуратно подстричь кусты, сделать зелёный бордюр), и на площадке у ворот остановился.
В тишине утра висячий металл завибрировал, под нажимом заскрежетал в петлях.
Во дворе, поднявшись по знакомым мраморным ступенькам к дубовым дверям, я позвонил.
Открыл охранник с ковбойской кобурой на растяжках.
– Привет, – сказал я. – Узнаёшь? Я к Александру Степановичу с телевизионщиками на прошлой неделе приезжал. Соболезную, как говорится.
– Заходите.
– Так просто? Ага, понимаю! Всех впускать – никого не выпускать. Оперативники за шторами в засаде прячутся?
– Он наверху, – сказал охранник.
Металлические ступени не скрипели.
На лестничном переходе я миновал гигантскую вазу, тронул в ней ветки с пенопластовым снегом и по ковру неслышно зашёл в зал.
Только тогда спавший на диване оперативник вскочил, словно от выстрела. В курточке из тонкой серой плащовки, в узких брюках на кривоватых ногах, с бандитским «ёжиком» на голове, этот человек кинулся в мою сторону, будто на сшибку, остановился, подойдя ко мне почти вплотную, и ткнул мне в живот острым кулаком, засунутым в карман куртки.
– Из какой организации?!
Такие невысокие щуплые мужики бывают сильны характером и живут с обнажённым нравом, как с включённой сиреной.
Для начала я подал ему паспорт и назвался знакомым Истрина.
Как заядлый книгочей у прилавка в каком-нибудь случайном сборнике стихов между строк пытается прозреть истинные достоинства автора, так и этот прыткий мент пролистывал паспорт.
– Семью, значит, бросили? Как же это так? Нехорошо. На молоденьких, значит, потянуло? А заодно, конечно, и столичная прописочка появилась. Штампик заветный.
– Так уж вышло по судьбе, – сказал я.
– Не пудрите мозги! Судьба! Трезвый расчёт – и больше ничего. Сыну восемнадцать лет исполнилось, – и шасть к молоденькой, чтобы, значит, без алиментов, чистенький.
– Интерпретация, однако…
Милицейская метода восхитила меня. Я увидел перед собой родственную душу художника.
Создатель моего мгновенного словесного портрета, этот уличный рисовальщик с пистолетом под курткой, наконец и сам назвался:
– Капитан Пронь!
Ну до чего весёлый попался сыщик! Пронь!
Я не переставал улыбаться, представив ребус в какой-нибудь бульварной газетке: «Добавь суффикс „ин”, повысь в звании на звездочку, – и получится знаменитый советский Мегрэ».
– Что надо? – спросил капитан.
– Узнал о трагедии и вот – заехал по пути. Слухи слухами, а лучше, полагаю, самому убедиться.
Как на завоеванной территории вёл себя капитан, будто на отдыхе между боями. Бросился на диван, прямо на дыры от пуль. А я пристроился на знакомое место у бара с откидной крышкой. Там, наверно, ещё стояла бутылка испанского портвейна, из которой наливал я себе неделю назад.
Некоторых усилий стоило мне, чтобы тоже не прикинуться, в свою очередь, завсегдатаем этого дома и не наполнить бокальчик. Но вспомнился удручённый Сашенька в деревне, его тихий плач под кроваткой после того, как папочка опрокидывал стопку в горло, и я вырулил на крутом повороте, справился с заносом.
– Как же это его, товарищ капитан? – с преувеличенным состраданием спросил я.
Благородства маленького тирана хватило только на то, чтобы не вскочить на ноги и не дать мне зуботычину.
– Вопросы я задаю!
Он весь трепетал гневом.
– Ваше место работы?
– Свободный художник.
– Точнее!
– Прозу пишу Повести. Романы.
– На какой почве, при каких обстоятельствах познакомились с убитым?
– Можно сказать, на почве бытовой пьянки. Почти случайно. Александр Степанович мою книжку обещал издать. Обсуждали.
– Когда?
– В прошлую среду.
– Где?
– Да вот здесь, в этой самой обстановке.
– Странностей каких-нибудь в поведении гражданина Истрина не замечали?
Грозный вид и замашки приблатнённого в капитане никак не совмещались с этими вопросами «зелёного» выпускника милицейской школы.
Я чувствовал, что противен ему до зубовного скрежета, а при таком настроении партнёра не играют в замысловатые игры и не вступают в красивые сделки по обмену информацией.
– Извините за беспокойство, товарищ капитан. Я, в общем-то, по пути. Вчера по телевизору услыхал про несчастье и вот решил привернуть. Пора ехать. Кланяюсь, как говорится. Дела!
Капитан зло смотрел в сторону, из последних сил терпя моё присутствие, и не успел я спуститься к вазе с искусственным снегом на ветках, как суровый служака уже упал на диван вдогонку своему сну.
Внизу, в холле, веснушчатый охранник, пожухлый после смерти хозяина, с большой охотой (будто бы за то снималась с него часть вины) стал объяснять мне, как доехать до Чернавки, и так же горячо уговаривать не ездить в это «осиное гнездо».
Я вышел на крыльцо.
Солнце поднималось не колесом, не кругом, а огненной горой воздвигалось между двумя холмами.
Ещё не вполне сформировавшееся, как в первые дни творения, и необычайно горячее, оно должно бы прижигать здесь, на мраморном крыльце, не меня, а Истрина – по трудам его да по жажде таких вот летних радостей на природе.
Теперь где-то в морге стыло тело Истрина.
А душа неистового борца за торговый центр, наверно, тут вверху где-то трепетала в потоке электромагнитных волн одного из каналов национального телевидения, создавая помехи в кадре своим политическим противникам.
Впрочем, какие могут быть телепередачи в четыре утра!
Тогда, скорее всего, она, душа Александра Степановича Истрина, втиснулась в мою грудину – иначе бы отчего у меня поджало сердце, стало покалывать. Хотя и это можно было объяснить долгой бессонной ездой неопытного шофёра.
С крыльца взглядом я определил, где стояла машина кавказца, в которую неделю назад я угодил пулькой.
Подошёл к цветнику и наклонился. В поисках трофея стал разводить руками нежные раструбы вьюнков, кулёчки гладиолусов. Засмотрелся, как лягушка, суча лапками, протискивалась меж стеблей, хоронясь от любопытного человеческого глаза.
Чёрная бабочка выпорхнула из клумбы и сожжённой бумажкой закувыркалась в воздухе.
Из бутона выползла пчела, совсем как Пронь, сразу бросилась на непрошеного следопыта.
Тут и голос самого капитана раздался из окна:
– Эй, что вы там ищете?
Я выпрямился, платком отёр росу с ладоней.
– Цветы прекрасные. И вообще, утро замечательное.
– Вернитесь!
Не иначе как охранник, слышавший недомолвки в моём разговоре с капитаном, бдительно растормошил сыщика и возбудил его подозрения. Да и сон, видать, не подчинялся офицерскому приказу.
Пронь курил, стряхивал пепел на ковёр с презрением к окружающей роскоши, и особенно к дивану, на котором сидел.
В укор грубости капитана, я встал перед ним смиренно.
– Почему умолчали о газете? Предъявите удостоверение!
– Мне показалось, вы не были расположены к беседе.
– Статья в «ЛЕФе» ваша?
– Моя.
– Под ней же подпись – Синцов?
– Это псевдоним.
– А чего, страшно своей-то фамилией? Жена, дети, – да?
– Псевдоним был использован, скорее, из соображений художественного уровня, товарищ капитан.
– Не пудрите мне мозги. Садитесь. Вы обязаны помогать следствию.
– В общем-то, я не против.
– Что-то не похоже. Опять статейку какую-нибудь сочините. На этот раз про «органы» что-нибудь непотребное.
– Ну, почему же. Мы «органы» уважаем.
– Здесь у вас сказано… – Капитан достал из кармана «ЛЕФ» и стал читать цитату из моего «клочка». – «…Некий кроткий, мудрый с виду старец, оказавшийся директором оружейного завода, продаёт чеченским боевикам продукцию через подставных лиц в обмен на их „огневую поддержку” в штурме за право строительства торгового центра в Туле… Чеченская диаспора взращена здесь до размеров нацменьшинства отеческим усердием этого „красного директора” с обликом Санта-Клауса…»
Отшвырнув газету на диван, Пронь спросил сквозь зубы:
– Что это ещё за намёки? Какие у вас доказательства имеются?
– Вот вы, пожалуйста, сами посудите, товарищ капитан, как юрист. У меня есть копия протокола техконтроля на партию винтовок. Фотографии погрузки есть с номерами ящиков. Лица там очень хорошо видны. И главное, у меня есть гильза. И ещё я знаю рост убийцы. Примерный вес. И моя версия такая: Истрина убили, чтобы избавиться от конкурента.
– А не пошли бы вы со своими версиями, господин писатель! Я на таких насмотрелся. Ну, скажите честно, сколько вам за эту версию Истрин заплатил?
– Предположим, сто долларов.
– Дешёвка!
– Ну а вы тогда, товарищ капитан, просто хам. Тоже пошли бы вы, знаете куда… – вовсе не сердито произнёс я, чувствуя лишь необходимость психотерапии для человека, раздёрганного надвигающейся кавказской заварухой. Листая мой паспорт, капитан, наверно, тоже не просто так нервничал: может быть, тоже довела его какая-нибудь бабёнка, а бросить сил нету.
Трудно было мне злиться ещё и потому, что передо мной был один из тех русских грубиянов и крикунов, про которых говорят: дурной характер без боли болезнь. Доброе сердце человека подавлялось гордыней, внутренний запрет был наложен на любое тихое словцо.
– Вещдоки и всю документацию по делу попрошу сдать!
Только в крайней сгорбленности капитана можно было разобрать просьбу о прощении. И ещё – рассматривая пульку, он сказал:
– Соваться никуда не советую.
– Но у меня профессия такая – соваться. Семья кормится от моего сования.
– Повторяю: ехайте домой!
Вся простота и душевная топорность обнажилась в этом «ехайте». Ну не владел капитан никаким другим стилем выражения, кроме крика и приказа. И, будучи совестливым, далее разговаривать со мной не стал – опять ничего не получилось бы у него, кроме мата-перемата.
44
Даже в такой глуши, в пятидесяти километрах от Тулы, дорога лежала асфальтовая – на зависть мне, приученному к родным северным зыбким просёлкам.
К Чернавке, осмелев, я будто подлетал: проваливался в воздушные ямы, поднимался в восходящих потоках – на склонах и холмах…
На очередной горке тёмный ельник вдруг распался на две стороны, и мой «самолёт» словно из облачности выскочил. Широкое поле открылось вокруг и покато вниз, к реке, к голубой часовне в пене сахарного крема, как на новогодней пряничной козуле.
За рекой, на другом склоне, прихотливо рассыпались несколько богатых домов – кирпичных, оштукатуренных, деревянных.
Под гору машина сама скатилась – только притормаживай. А за мостом я повернул на «набережную» – иначе не назвать было эту дачную дорогу со столбами на цепях, с шарами и коваными воротами, с каменными львами и живыми борзыми за решётками.
Вниз, к церкви, стоящей у подземного источника, вела лестница с мраморными ступенями, вилась «жила» поручня – медная, блестящая, будто корабельная.
Коттеджи оставались позади. Приближался последний в ряду, собранный из лакированных кругляков. Точь-в-точь наложилось на оттиск в моей памяти шатровое крыльцо этого терема, особенно балясины с тонкими шейками и тремя дисками на брюшках. По ракурсу не сложно было вывести, что человек с фотоаппаратом, сделавший здесь съёмку в инфракрасных лучах, целился из-за толстой кирпичной тумбы забора этого особняка со стороны леса.
Я ехал неспешно, всем видом своей «шестёрки» пытался изобразить случайность нахождения здесь.
Спрыгнул колёсами с асфальта на красную крошащуюся глину полевой дороги, въехал на холм и прямо перед собой увидел старую конюшню в два крыла с большими воротами посередине, набранными из вагонки и расшитыми поржавевшим швеллером.
Вылез из машины у этого кладбища славной колхозной техники. Походя, тронул у конной грабилки сиденье с отверстиями, как в дуршлаге, и с лужицами росы в ложбинках у болтов. Вспомнилось такое же сиденье, накалённое солнцем так, что в трусах не сядешь, обожжёшься, надо обязательно подложить клок травы, как делал я в деревенском детстве, зарабатывая трудодни.
В конюшне держался ночной мрак и холодок.
Лошадьми уже и не пахло.
Изъеденный мышами хомут валялся в углу… Седёлко с оборванной подпругой… Расщеплённая на сгибе дуга с медным кольцом для бубенца…
В одном крыле под дырявой крышей громоздилась гора слежавшегося сена, раздёрганная вилами, будто клыками кабаньей стаи. Не нужно было даже сличать с фотографией: это сено, эта притолока у ворот, обглоданная когда-то молодыми злыми жеребцами, на кадрах, переданных мне покойным Истриным, была отпечатана с запоминающимися подробностями.
Я прошёл конюшню насквозь и остановился перед бывшим жильём конюха, пристроенным со двора.
Заменяющий двери брезентовый навес хрупко надломился под моей рукой.
На столе, на подстеленной газете, лежала нарезанная буханка.
Хлеб оказался мягким.
Я отдёрнул руку от краюхи, испугался, запаниковал, выскочил из сторожки в конюшню.
И попал в окружение трёх смуглых молодых мужчин в кожаных куртках и широких спортивных штанах. На миг остолбенел от схожести лица одного из них с портретным, бывшим на снимке в папке «Евротранс». Передо мной стоял тот самый – маленький жилистый злой чеченец, державший на фотографии снайперскую винтовку с показным устрашением и сладострастием. Физиономия второго тоже казалась знакомой. И убойная сила исходила от них – настоящая, а не отвлечённая, витавшая надо мной у засады под липой. Эта сила здесь приобрела запах, очеловечилась и одной только своей близостью сковала мою душу как раз в той её половине, где гнездились радость и любовь.
Смуглость моя, хотя вовсе и не азиатская, а угорская, лесная, всё же оказалась спасительной, на первых порах смутила чеченцев – они были плохими физиономистами, в отличие от милиционеров московского метро, которые никогда не останавливали меня для проверки. Я вспомнил и теперь точно знал, что рядом с маленьким злым чеченцем стоял тот, в которого пулькой кинул я с крыши истринского особняка. Именно он спросил у меня что-то на своем языке: для выявления породы им требовалось несколько звуков от меня.
«Сразу не убьют».
Инстинктивно я стал усиливать их сомнения, напустил туману, объясняя им свой приезд сюда, и даже невольно заговорил с кавказским акцентом.
– Я из Москвы. Пресса. Понимаете? У нас с вами есть общий знакомый – Василий Сергеевич. Директор из Тулы. Мой друг. Понимаете?
Безбожно лгал, предавал с потрохами покойного Истрина (хотя и не присягал ему). Опережая события, сунул им под нос редакционное удостоверение, полагая, что вряд ли горцы в Чернавке знают о скандальной газете русских националистов. Поспешил отвлечь старшего от изучения корреспондентского билета, ещё поднажав во лжи.
– Я, знаете ли, тоже лошадей люблю. Сам запах конюшни мне нравится. – И смачно потянул носом. – Вот, мимо ехал, учуял и решил остановиться, поглядеть, что тут осталось от славного колхозного прошлого.
И вдруг почувствовал, как опал обруч ужаса вокруг меня.
Чеченцы бросились каждый к своему окну.
Самое время было бы мне кинуться на задки, в лес. Но я заметил, как они на ходу выхватывают пистолеты. Сорвись я сейчас в побег, уж точно, открылся бы во мне враг, нервы не выдержали бы, и они, чего доброго, стали бы палить по мне. Я чувствовал, что ложью своей, малодушием уже повязан с ними. За компанию подскочил к одному из окошек. И увидел, как на холм выехал истринский «кадиллак». За рулём желтели кудри охранника, а с другой стороны к лобовому стеклу никла лохматая физиономия знакомого оперативника-грубияна.
Капитан Пронь на ходу выскочил из машины с автоматом в руках.
– Эй, корреспондент, ты здесь?
Немного громче и круглее, чем хлопок петарды, ударил пистолет рядом со мной.
Стрелял «благородный», вызывавший Истрина на дуэль во время нашей пьянки в бассейне. Стрелял спокойно и несколько даже рассеянно. Что-то гортанно крикнув, маленький юркий чеченец, пригибаясь, убежал в сторожку.
Затем я увидел, как капитан Пронь веером пустил очередь из своего коротенького автомата по конюшне, отбежал от «кадиллака» и спрятался за мою «шестёрку», оказавшись метров на десять ближе. В это время третий вернулся с гранатометом.
Сидя на корточках под окном, я видел, как он, прячась в простенке, поднимал примитивное метательное приспособление, втаптывался в сухой перегоревший навоз для устойчивости. Потом вдруг вернулся к оконному проёму, выставил «пушку» и выстрелил.
Отдача пришлась, словно на двоих сразу: и гранатомётчик отскочил, и старший из чеченцев, тот, в которого я когда-то кидал пулькой, отпрянул от стены как-то неловко, словно пяткой споткнулся о гнилую оглоблю, упал на спину, поджимая ноги, будто замерзая во сне.
Пистолет из его руки, с маху пролетев в мою сторону, больно ударил по косточке у стопы.
В это время снаряд гранатомёта где-то там взорвался, посыпалась с крыши конюшни вековая пыль, сенная труха. Паутина парашютировала и рвалась на сквозняке.
Видать, выстрел не достиг цели. В ответ застучал автомат Проня, полетели щепки от брёвен.
Костлявый чеченец снова метнулся вон из конюшни. А третий, забыв обо мне или пренебрегая мной, пятился ко мне задом, подпрыгивая на корточках по-звериному, опираясь на одну руку, свободную от оружия.
Он хладнокровно менял позицию, готовился наверняка выстрелить по безумному капитану.
Подкидывал задницу, подшаркивался на двух лапах.
А я в лад его прыжкам бессознательно хватал пистолет, поднимал эту разогретую машинку, целился в надвигающийся крестец, в полоску кожи между резинкой трусов и обрезом модной «косухи».
Оставалось нажать на курок. Но словно мелкий воришка-карманник, я спрятал руку с пистолетом за спину, когда из подсобки выскочил ещё один чеченец.
Он схватил убитого за ноги, поволок его, распрямившегося, вялого, и что-то крикнул тому, кто у меня под носом готовил засаду на капитана Проня.
Они явно отступали. Донёсся рёв мотора на задворках и затем послышалось, как, громыхая бортами и завёртками, машина стала удаляться.
В тёмной, просвеченной низким утренним солнцем конюшне плавал голубой дым от выстрелов, клокастый и вонючий.
Эту синь несколькими прыжками пересёк Пронь с автоматом в руке. Я побежал следом и увидел, как, прислонившись к углу старой закопчённой кузницы, оперативник стрелял короткими очередями, комментируя в перерывах:
– Нет, так не зацепишь. Трассёры нужны.
По глинистому кочковатому косогору грузовик с воем и грохотом уходил к лесу. Брезентовый кузов вихлялся, а задняя полость развевалась и хлопала на ветру.
Автомат опал на ремне под мышку капитана стволом вниз.
– Вот так всё и начинается, – произнёс он загадочную для меня фразу.
Он, наверное, чувствовал, что проходит последнее мирное лето…
Если капитан с виду казался тяжелобольным человеком, перемогавшим слабость и высокую температуру, то я пребывал в психопатическом возбуждении. Привставал на цыпочки, вытягивался, как на смотре, шмыгал носом и остервенело тёр влажные ладони о штаны.
Следом за бывалым воякой я проделал обратный путь до ржавой колхозной грабилки. То и дело оглядывался, с содроганием ожидая сзади выстрела и смерти. Я был настолько не в себе, что даже взорванная догорающая моя «шестёрка» не очень-то удивила меня.
Будто консервным ножом, была вскрыта крыша у машины. Обшивка внутри полыхала вместе со спрятанной под неё папкой с обличительными документами «Евротранса».
От груды металла воняло, как от подожжённого контейнера с мусором или как от костра из прелых листьев.
Невозможно было узнать во всём этом полюбившийся «жигуль», вымытый вчера вечером у Леоновского пруда в Москве.
Даже ссадины от чистки мотора не зажили ещё на моих руках.
А «кадиллак» подъезжал целёхонький – его успел отогнать от пуль под гору расторопный охранник.
Капитан Пронь кинул автомат на заднее сиденье, сам сел за руль и дал наказ парню с жёлтой ковбойской кобурой быть здесь, никого близко не подпускать до прибытия оперов.
Я сел рядом с капитаном.
Знакомой была машина.
Как славно пилось пиво на этом сиденье, как лихо мчал несколько дней назад Истрин, пугая встречных лобовым столкновением!
И капитан Пронь поехал удивительно похоже. Будто только обличьем изменился водитель в «кадиллаке», такое было у меня чувство. Душа, ухватки, манеры – всё оказалось истринское в Проне, что наводило на мысль о переселении душ и бессмертии.
Мы с ходу миновали дачную Чернавку, все её красоты промелькнули на этот раз передо мной невидимо. И помчали к Туле.
Самый ужас происшедшего состоял для меня в череде моих трусости и коварства, подлости и малодушия, испытанных, пережитых мной, но ещё не осознанных. В спрессованном же, смятом виде они возбуждали сейчас во мне, как ни странно, какой-то пьяный восторг. Пока шок окончательно не отпустил, торжествовало тщеславие: будет о чём написать, чем удивить публику и похвастаться перед Варламовым. На зависть ему, показать пистолет, не какой-нибудь газовый пугач, а настоящий ПМ, который я ощупывал в кармане своей брезентухи с таким чувством, будто подобрал кошелёк, набитый деньгами.
«Чего только в жизни не случается! – думал я, – Сегодня – сыт, а завтра – нет. А послезавтра – пистолет…»
«На качество поэзии такие передряги влияют, однако, весьма дурно, – подумал я с неприятной для себя весёлостью. – Какой-то блатной шансон, не более…»
Тулу проскочили без остановок.
На полной скорости, сильно накренив машину, капитан Пронь едва вписался с проспекта в полукруг вокзальной площади с обязательным для губернии трамвайным кольцом на ней. Опять сказал на прощание: «Ехайте домой» – и с просвистом задних колёс рванул с места, умчался обратно.
Старинный вокзал стоял передо мной, как храм вечного движения, скольжения по земле, и в другой бы раз религиозным чувством дороги приподняло меня, понесло скорее на перрон – к рельсам, к запахам перегретого тепловозного масла, ядовитой пропитки шпал и сладковатого каменноугольного дыма из вагонных топок, но сегодня я миновал вокзал, как безбожник церковь.
Тупо, безрадостно забрался в электричку и поехал, привалившись к углу заплёванного тамбура.
У разбитого окна полыхал жаркий ветер с голубых бескрайних полей. Ударами воздуха трепало, взбивало волосы на голове.
Электричка неслась по высокой длинной, как дамба, насыпи в приокской низине. Далеко впереди сверкали уже каплями расплавленного золота маковки серпуховских монастырей, а я ничего не замечал, ехал, словно в глухом багажнике.
Меня начало подташнивать ещё в «кадиллаке» от запаха нечистых носков капитана Проня, и теперь мутило всё сильнее.
– Ай, красавец мужчина, всю судьбу наперёд скажу. Соколик! Погадаю! Что молчишь – не глядишь? Слышь, тебе говорят! Такой молодой и уже глухонемой, да?
Цыганка ткнула меня пальцем в бок, я глянул на неё, увидел между резинкой юбки и цветастым лифом лоснящийся живот, углубление пупка, и меня вдруг переломило и вырвало. Полило изо рта струёй – на широкую юбку цыганки, на мои брюки и далее, на переходную площадку, куда я с глаз людских, кинулся головой вперёд, корчась в судорогах.
– Слушай, пить надо меньше! – визжала гадалка, отряхивая юбку от блевотины.
А меня колотило и выворачивало с такой силой и болью, что я упал на колени и опёрся руками о рифлёные листы перехода.
Я стоял на четвереньках на скользящих друг по дружке стальных пластинах, пока не начался мост через Оку. Раззвонились под ударами колёс клёпаные балки и расчалки. Я наконец подтянулся на мокром поручне и встал на ноги. Ворвался в тамбур и метнулся к выбитому окну так решительно, будто хотел выброситься из поезда. Но из окна вагона вылетел лишь пистолет и беззвучно врезался в воду.
В конце моста возле своей будки вохровец с карабином на плече повернул кокарду следом за промелькнувшим перед ним человеком в окне тамбура. Наверно, он подумал, что какой-то негодяй опять выбросил бутылку.
Когда пустая кабина обратного хода электрички бесшумно стала утягиваться и уменьшилась до игрушечных размеров, стражник двинулся по узеньким мосткам над речной пропастью – проверять «объект на предмет обнаружения посторонних предметов» после проезда столь подозрительной личности.
А я, выпотрошенный, бледный и слабый, кое-как перешёл в вагон, уселся и с усилием стал обозревать лес и небо за мутным стеклом.
Малахитовые перья в вышине были для меня сейчас лишь скоплением взвешенных мелких капель воды и ледяных кристаллов (по науке – циррус).
Ниже под воздействием ветра перемещались «вертикально развитые кучевые кумулюсы».
Хороводы белоногих берёзовых девичников виделись моему мёртвому глазу скоплением «древесных растений семейства бетула, широко распространённых в флоре Северного полушария», как пишут в энциклопедических словарях.
И даже само газообразное раскалённое небесное тело шаровидной формы казалось лишь мучительно ярким фонарём.
45
Со мной произошёл выкидыш духа.
Сколько раз, пьянствуя, тоже ослепнув и оглохнув, я так же освобождался от души, передвигался по Москве на автопилоте, как сейчас: рывками вбок, темечком вперёд, будто таранил весь мир.
Но тогда я опускался играючи, как бы репетировал сегодняшнюю премьеру.
Тогда печень наутро очищала кровь, через неделю забывалось собственное свиноподобие, и в окружающих людях, по доброте их, по русскому обычаю, опять отражался я неплохим человеком, и можно было жить дальше.
Нынче это зеркало рассыпалось. И между мной и людьми встала спина чеченца с завитком волос у крестца, куда я целился пистолетом и куда не выстрелил только по слабости боевого духа.
Всю душу мою перетряхнуло.
В этот день впервые за три года жизни в Москве я оказался равнодушен к ней.
Пробирался с вокзала в редакцию и не слышал могучего штормового шума на проспекте. Даже ударивший во все колокола любимый храм на Остоженке не окликнул меня. А знакомый жёлтый особняк исторической красотой резанул по сердцу, как навек потерянный. Только вчера я легко взбегал по этим ступеням, а теперь всю жизнь буду топтаться в старой конюшне, где готов был убить человека…
В мокрых от обмытой блевотины брюках, с расширенными глазами иконописного страстотерпца, я толкнул дверь в редакцию.
То большое, тёплое и мягкое, в белой рубашке, каким сейчас я ощущал Варламова, сидело, покачиваясь на двух ножках стула, и грызло фисташки из пакетика.
Варламов сразу подался навстречу мне, кинулся ко мне душой, горестным, понимающим взглядом.
Взмахом руки дал понять, что всем сердцем со мной и немного времени спустя готов будет поговорить о командировке, но сейчас, извини, не могу – гость.
Гостем был генерал Ершов – в полосатой, как матрац, рубахе и в ярко-красных носках, пылающих между начищенными туфлями и отглаженными брючинами.
Я уселся в угол на пачки газет и провалился в сон. Генерал в моих глазах стал зыбиться, будто отражённый в воде, расплываться и исчезать, а его яркие носки перелились из яви в кровавую пелену болезненных видений.
Прошло сколько-то времени. Муха, возбуждённая остаточным запахом не до конца смытой разлагающейся пищи и желудочного сока, терзала меня и наконец разбудила.
Сначала я смог только потянуть вверх кожу на лбу, потом – брови, и лишь затем запоздало и тяжело приподнялись у меня шторки век – приоткрылись щёлки, и я через сонную слезу увидел произносящего тост Варламова в широких брюках с подтяжками в объезд могучего живота.
Но сохранил я клад последний, Мой третий клад: святую месть. Его готовлюсь Богу снесть!..Вид Варламова перекрыло генеральское туловище. Широким взмахом обеих рук Ершов схватил его, стал целовать.
Я снова потерялся во времени.
Когда я в следующий раз открыл глаза, то Варламов стоял надо мной с засунутой в рот конфетой, сосал и говорил косноязычно:
– Укатали сивку крутые горки. Ничего, на том свете отдохнем. По коням!
Гребком своей чаши-ладони он вынудил меня торопливо подняться и усадил в свою машину, повез на митинг, посвящённый закладке памятника погибшим в девяносто третьем году.
– Как поездка?
– Так себе.
– Когда к нотариусу пойдём машину на твоё имя оформлять?
– Да вроде нет такой проблемы уже, Андрей Андреевич.
– Что такое?
– Нет машины – нет проблемы.
– В аварию, что ли, попал? Разбил?
– Можно и так сказать…
– Аккуратнее надо. Восстанавливай. На ремонт подкину.
– Да ладно, Андрей Андреевич, я по природе – пешеход. Видимо, не суждено.
– Материал-то хоть взял?
– В общем, да.
– Слушай, а чего это от тебя так воняет?
– В дороге небольшая неприятность вышла…
Машина остановилась на Пресне, у вздыбленных навек казацких коней.
Бронзовая женщина на пьедестале, взбунтовавшиеся рабочие начала века измельчались и разживлялись вокруг постамента до тёток и дядек конца этого самого века.
Среди красных флагов мерцала пурпуром хоругвь с ликом Христа.
Концентрические круги от глаз Спаса пульсирующе расширялись, разбегались по толпе. Чёрные зрачки Христа с высоты прожигали, вперялись в меня, желанно мучили любовью. Иисус на хоругви, с длинными завивающимися волосами, по плечи реял над всеми несчастными.
Тут были: скандальная дворовая старуха; жестянщик с допотопного заводика; семейная диктаторша, брошенная мужем бой-баба; разных видов русские правдолюбцы – блаженный Алёша из прихода церкви Святого Николая, горлохват из строительной бригады, доморощенный философ. Тискались, тусовались тут поэт-графоман, опять же, неустроенная баба средних лет, фронтовик с чешуёй медалей на пиджаке, торговец патриотическими газетами. Были молоденькие некрасивые девушки, какие-то парни в «коже» с заклёпками, пришедшие «оттянуть левых». Ряженый казак с нагайкой за голенищем. Смущённый молодой парень в чёрной рубашке с портупеей. Мелькнул председатель карликовой партии – слюнявый бешеный антисемит. Изумлённый провинциал – гость столицы. Переодетый оперативник. Исполненный презрения к своему происхождению старый советский еврей. Любительница хорового пения с текстильного комбината…
Лица были все разные, но, опять же, как под стенами Останкино подплавленные единым внутренним жаром, слегка обобщённые, с одинаковым блеском в глазах.
Варламов двигался в этой целительной для него грязевой ванне толпы, купался в восхищённых взглядах своей публики. Лёгкой, невесомой была его одухотворённая крупная плоть. Он будто втягивал носом воздух, выискивал над головами людей какой-то особый запах, всматривался в смысл многолюдья.
Тёплый летний ветерок колыхал длинные жёсткие пряди его волос – голова пророка и воителя плыла в ряби тысячи голов. Шёл вождь – человек, понятный для меня как новейший русский князь, и я, забыв обо всём, потеряв из виду лик Спасителя на хоругви, тоже привстал на цыпочки, чтобы, как все, разглядеть героя, увидеть в нём тот особый свет помазанничества, который сворачивался в Варламове кабинетном, редакционном и всегда вспыхивал ярко на людях. Заземлил порыв ударом костлявого локтя в бок Карманов с банкой пива в руке и с запахом ста пятидесяти граммов водки, выпитой только что в ларьке.
– Смотри, «дядя»! Смотри и запоминай! Сашке своему потом будешь рассказывать: я видел последнего солдата империи!
– Он, скорее, полковник, – сказал я.
– А чего, тянет вполне на три «звезды». Мундир бы ему пошёл.
– Сто полковников в штабе сидят, – сто покойников в поле лежат…
– Чего вдруг раскис, «дядя»? Где твой воинственный патриотизм?
– Я, кажется, гуманистом становлюсь, «племянничек».
– Так ты скоро и флейтистом заделаешься. А надо вот на какой дудке играть, «дядя».
И под пиджаком Карманов показал мне засунутый за пояс газовый пистолет-пугач, переходящий в редакции из рук в руки молодняка.
– Хорошо убить врага на рассвете! – корча из себя ковбоя, продекламировал Карманов.
Я бросился вон из толпы – опять подступила тошнота. Я злобно растолкал людей, ненавидя их и презирая; вырвался с площади на тротуар.
Карманов кричал вслед, обещал угостить вином.
Тем временем толпа, сорванная с места силой неспешного шага Варламова, повалила под гору, к зоопарку.
Я застегнул штормовку. Меня знобило. Холодели руки. Я шёл, глядя под ноги на кроссовки в красноватой тульской пыли.
Чувствовал, как при каждом шаге у меня подрагивали и брюзгли щёки и сухой горячий язык скоблил нёбо.
Теперь, со стороны, толпа, на которую я поглядывал искоса, пугала меня.
Лица, только что источавшие ласку, мертвенно застыли, а глаза с братскими слезами превратились в порожние глазницы, белели вывернутыми белками, как у слепцов, сверкали влажными хрусталиками.
Зато очи нарисованного Спаса, наоборот, стали мучить меня ещё сильнее, будто они вобрали в себя пропавшую в глазах людей доброту, и прожигали меня насквозь.
Милиция остановила демонстрантов на перекрёстке. В ожидании дальнейшего движения я присел на цоколь Краснопресненского универмага.
Отсюда, с небольшого возвышения, хорошо был виден первый ряд сцепившихся локтями вожаков. В центре – гордый, отчаянный Варламов.
Цепочка милиции расступилась, люди устрашающе радостно двинулись по своей надобности, а я остался сидеть на тёплом железе, привалившись плечом к телефонной будке.
Я утомился, и мне было хорошо, как начинающему бродяге, дремать на пригреве и ничего не желать.
Я чувствовал, как горе выдавливало меня на свободу, вышибало из прежней жизни в неизвестность.
Спустя некоторое время я всё-таки поднялся и добрёл до Белого дома.
Митинг уже начался.
Под старой липой Варламов говорил в микрофон, глотая слова, так энергично и образно, что было не всегда понятно.
Тончайший эстет-экстрасенс открывался в нём в такие минуты, художник-перформансист, из самой жизни лепивший образы. Никакой режиссёр, даже с помощью ста самых лучших актёров, не смог бы сделать с людьми то, что делал Варламов с толпой.
Стоя в поле облучения варламовского гения, постаревший и бледный, я чувствовал, как горячим яростным огнём мести сейчас Варламов окончательно сожжёт оставшиеся крохи моей природной сущности, а из праха вылепит другого человека.
Я отупел от жимков ваятеля. Захлопнулась болящая душа, самоспасаясь.
Я выбрался из толпы. С Пресни, вися на засаленных поручнях метро, кое-как доехал до «Ботанического сада».
Сразу из павильона грудью пошёл на деревья, на клумбу, почти побежал по траве, будто опять по требованию желудка, – прямиком к золотому шишаку над липами, к пенопластово-белым стенам церкви Ризоположения. Слепящий жар отражался от белёных стен храма. За распахнутыми дубовыми дверями в темноте трепетали огоньки свечей. Нищие сидели в тени на лавочке.
Денег наскрёб в карманах только на самую дешёвую свечу – всё сгорело в бардачке «шестёрки».
Я встал посреди церкви и повёл глазами по иконам.
Иисус как бы поманил и поощрительно кивнул.
Я виновато улыбнулся в ответ и стал просить прощения за то, что едва не отдал душу русскому лешему…
46
Хорошо, крепко спал весь остаток дня и свежий пробудился на диване в своём кабинете.
Встал – в майке навыпуск, в длинных трусах – и подошёл к белой эмалевой раме окна без всяких занавесок.
С пятнадцатого этажа открывались сразу три московские погоды. Справа, по проспекту Мира, шёл розовый закатный дождь. Севернее тучи валили, будто Гольфстрим вскипел, и оттуда небесный расторопный прораб спешно перегонял стройматериалы. А на западе, между коробками Отрадного, уже вспыхивала малиновым семафором предночная гроза.
И потом до утра оттуда, от небесных углей-облаков, наносило жаром; в темноте над смоченными улицами поднялся туман.
Только что вылупившиеся комары нашли щель, прилетели в гости. Я собрал вокруг себя десяток этих чудных летающих тварей, забавлялся с ними, играл, как с котятами, сидя за столом перед раскрытым дневником. Отдувался, отмахивался, но не бил.
Писал в дневнике:
«…Предки-сектанты вопиют в Варламове. А великое его искушение – в уловлении душ.
Он суперодинок. Жаждет любви и от нас, редакционных, и от народа, и от женщин.
Женственен необычайно: грешит „ради семьи”, то есть ради нас, редакционных. Материнский инстинкт спасения в нём, мужественном баталисте.
Я голым чувствую себя перед ним. Но не стыдно, как ребёнку.
Страшно, конечно, с распахнутой душой перед ним, ненароком и по сердцу попадает, но не хочется запираться. Не хочется лишать себя радости какого-то странного откровения…»
Пухлую тетрадь дневника – чубастую, раскудрявленную с одного угла от частых пролистываний, захлопнул и сунул в стол.
Подтянул наследственную «Олимпию» – брякнули железки на отвесе с краю стола: механизм наподобие старинных ходиков с гирьками работал вместо сломанной пружинки исправно уже многие годы.
Край бумаги выскочил из-под валика.
Молоточки стали гвоздить лист, насыщать его смятением и глухой яростью.
Странно начинался репортаж!
«На первую полосу?.. Огненными словами?.. В образах народного гнева?.. С пафосом непримиримой борьбы до последней капли крови?.. Пожалуйста! Но пасаран!» – напечатал я и сразу вырвал «язык» у взбесившейся машинки. Скомкал, выбросил в корзину.
Вкрутил новый лист и попытался замаскировать в тексте собственную боль.
Написал репортаж о пресненском шествии, выдержанный в духе «ЛЕФа». Захлебнулся от горя, вскочил из-за стола и повалился ничком на диван. Подбил под бока подушку, дрыгнулся, покачался на пружинах и затих.
В своём движении по миру Божьему я, кажется, дошел до края – родил человека и, считай, убил человека. Готов был убить. Убью в следующий раз.
Комары всю ночь не давали спать, от ночного холодка стыло тело, но всё-таки я не шевелился, изнемогая от проживания в полусне всего случившегося со мной.
«Неужели это и есть жизнь?» – спрашивал я у себя, перебирая мгновения счастливого детства, маету юности, нелепость первого брака, счастье с Татьяной, обрезание пуповины у собственного ребёнка, питьё вина, писание целесообразных статеек, лицезрение превратностей неба, вбивание свинчатки в мышцы и кости другого, столь же нелепого создания…
«Да, она такая. И, скорее всего, это ещё не самый худший её вариант».
Я перебрался с дивана за стол. Глянул в окно.
Испарина на небе после вечернего дождя стала уже молочно-розовой, и утренний высотный ветерок, ещё не ощутимый на земле, сгребал её в валки.
Краем глаза следя за этим небесным сенокосом, стал читать и править написанную ещё в деревне статью о Варламове. А в восемь часов вдруг совершенно неожиданно для себя позвонил Мише Бергеру, земляку из Архары, тоже своими путями очутившемуся в Москве и осевшему в ежедневном либеральном «Новом светоче».
– Привет, Мишаня! Слушай, я бы хотел в вашей редакции попробовать. Тебе не трудно прозондировать? Возможно ли это в принципе с моим, красно-коричневым прошлым?
– Клёво, Саня! Но ты сам понимаешь, только главный может решить. Я его увижу сегодня на планёрке и, конечно, замолвлю словечко. Думаю, что заинтересуется. Допекли патриоты?
– Есть немного.
– Сомнительная компания.
– Компания – она везде сомнительная. Но разве я виноват, что в вагоне метро вынужден ехать бок о бок и с сутенёрами, и с проститутками? Главное – самому не сводничать и не продаваться.
– Ты на грани, чувствую. Под присягу подводят?
– Что-то подобное вырисовывается на горизонте. Так ты поговори с Лейбовским.
– Твой уровень вне сомнения, Саня. Но ты ведь знаешь, в каких они отношениях – наш с вашим… Лёд и пламень. Впрочем, шеф шухер любит.
– Вот на этой волне и проскочим.
– К полудню жди звонка…
Утренняя гроза подобралась незаметно. Прежде чем затмить солнце, грянула, загуляла гулом в полой железобетонной коробке дома. Сверкнуло под окнами. Машины на стоянке заблеяли сработавшими сигнализациями, словно после объявления воздушной тревоги.
Я подошёл к окну. Лило по стёклам, плескало в открытую форточку. Сильный ветер завевал струи у асфальта в позёмку. Вьюга дождевая отбушевала над городом.
Домотканым небелёным полотном утянулись остатки грозовой тучи, вея короткими сыпучими дождями отдельно над Свиблово и Отрадным. Вдруг оборвалась у «пряхи» и эта «нить» – «холстина» опала за лосиноостровский лес. Небо открылось, и опять расцвело лето.
«Да, вот так вот и я начну всё сначала. Теперь-то и сыт, и одет, и квартиру дали взамен ветхой, снесённой, кое-какое имя в московской журналистике нажито. Уж если с первого захода не пропал, то и теперь не пропаду».
Не терпелось уловить миг оживания, который, я чувствовал, зрел во мне после телефонного разговора с Бергером.
Из подземелья на «Маяковской» вниз по Тверской я шагал к дому Варламова.
Утренняя улица сверкала начищенной, как на флагмане, медью магазинов, переливалась зеркальными витринами, зеленела туями в кадках из красного дерева.
После дождя, знаменитого, летнего, московского, молодой бурной радостью вскипала пёстрая толпа горожан, и я, сжимавший в руке рулончик с рукописью репортажа, силился поскорее подключиться к душе города, но не мог.
То ли я теперь был непоправимо подпорчен, то ли город.
«Блажен павший, но восставший к новой жизни, – думал я. – Но как восстать? Неужели только время поднимает? Ларка теперь не снится, не терзает, отпала. Так и с этим пистолетом будет?..»
Старый лифт с железной, вручную открывающейся дверью, грохнувшей в тишине лестничной площадки на седьмом этаже, подвёз меня к квартире редактора.
Рыжая нагулявшаяся кошка ждала у дверей, и я как бы услужил ей – нажал на звонок.
Дверь отворилась, и передо мной встал сам Варламов в халате и шлепанцах на голых волосатых ногах. Он выпрямился, станцевал могучими плечами «цыганочку» (ознобился в предчувствии метафоры) и сказал:
– Ага! Вот и двенадцатый! Тайную вечерю предлагаю считать открытой.
«И я, выходит, Иуда? Так-так. А кто же у нас за Христа? Карманов! Димка! Он и страдания свои крестные предчувствует: „Хотите, чтобы я под машиной погиб?” А кто Пилат? Как ни крути – Варламов!»
Я прошёл к компьютерам, опустил рукопись перед лобастой умницей Зоенькой и вынужден был из учтивости остаться здесь на некоторое время, потому что Варламов с чашкой чая в руке говорил:
– …Идея русской цивилизации расплывчата и непопулярна у публики. Национализм пока что пугает бывшего советского человека. Евразийство – надуманно. Надо культивировать идею неизъяснимую, что-то высокое и вечное. А вечное и высокое – это борьба! И конечно, Победа на её сияющей вершине…
Когда он с чашкой в руке на своём пути от стены до двери – Великом чайном пути – оказался к компьютерам спиной, я встал за косяк.
При словах «борьба», «победа» меня опять едва не стошнило, может быть, ещё и от бессонной ночи.
Я, кажется, переел борьбы, убийств, крови: мне хватило и одной произошедшей на моих глазах смерти, я отравился ею, и теперь меня долго никто не мог бы заставить отведать этого блюда из человечины.
В конце мрачноватой глубокой прихожей я сам потихоньку управился с замком, выскользнул на площадку и бросился по лестнице вниз, боясь, что, пока жду лифта, Варламов выглянет и остановит.
Кружась вместе с дубовыми фасонными перилами, успел спуститься до пятого этажа и тут услыхал в проёме сверху голос секретаря Онегина:
– Заголовок какой, Саня? Что за бардак! Журналюги, тоже мне… Кинут – и дёру. Саня, эй!
Я замер, вжавшись в угол. Дотянулся и вызвал лифт. Юркнул в кабину и придавил кнопку первого этажа.
Чтобы не попасть под обзор из окон варламовской квартиры, сразу сунулся в переход. Окончательно расслабился только после того, как закрылись двери вагона метро и поезд энергично стартовал в московские недра.
Я стоял лицом к стеклу, смотрел на себя в отражении и видел хотя и зачуханного, загнанного, но всё ещё бодрого мужика с перекошенными от напряжения бровями, облизывающего сухие губы и тщательно вытирающего платком вспотевшие ладони.
Я тогда был новообращённым, поэтому немного оглашенным, и думал: «Господи, помоги!»
Отгонял страх перед постоянным везением. Остался жив в перестрелке. С ходу заинтересовал Бергера своим «закидоном». Рванул сейчас из редакции, как душа велела, с концами…
Тогда я в самом деле чувствовал помощь, некий Высший Промысел в своей судьбе, и мне впервые подумалось, что помогать мог и нечистый.
«Свят, свят, свят!»
47
Цилиндрический небоскрёб, где размещался «Новый светоч», насквозь стеклянный, был похож на земную ось в колесе грозовых облаков над Москвой. В этой оси, словно по каналам смазки, сновали лифты. Люди, потные, действительно масляные, разливались по этажам.
По двадцать седьмому этажу вдоль выгнутой стеклянной стены этого прозрачного цилиндра я шагал в светло-сером костюме, в рубашке без галстука, застёгнутой на все пуговицы, чтобы не заметили крестика.
С похода в загс не надевал я этот костюм, единственную нашу с Татьяной покупку на прибыль от семейных ваучеров.
Приходилось как бы заново обнашивать пиджак, и я постоянно подёргивал плечами, подныривал, словно желая выскочить из непривычно жёсткого воротника, вместо тряпичного, облегающего у ветровки.
Худенький, с всклокоченными чёрными кудрями, Миша Бергер в толстом вязаном жакете с набивными плечами чрезмерно ширил шаг, подбегал время от времени и успевал инструктировать:
– Шутки шутками, Саня, а всё-таки хорошо было бы в качестве визитки материальчик какой-нибудь показать шефу.
– Там видно будет…
За секунды перемещения по кругу взгляд мой пронёсся со стен Кремля до паперти храма Христа Спасителя. Ещё один шаг-пролёт, и я уже как бы проколол подошвы кроссовок на пиках стальных сплетений «Американских горок» в Парке культуры. Потом в один миг промахнул эмалево-зелёные купола церкви Святого Николая напротив редакции «ЛЕФа» с комнатой-пеналом, счастьем и кошмаром…
– Саня, сюда! – окликнул Бергер.
За этой раздвижной, бесшумной и тоже стеклянной дверью с табличкой «Главный редактор газеты «Новый светоч» открылась приёмная с нагромождением мониторов, принтеров, ксероксов и прочих дивных пластмассовых штуковин, среди которых самой дорогой оргтехникой восседала конкурсная секретарша, глуповатая, но первоклассная по дизайну.
– Анджелочка, доложите о нас, – попросил Бергер.
И небоскрёб был из новой эпохи, и коробочки электронные, и газета «Новый светоч» – тоже небывалая в этой стране, как и «ЛЕФ», но я сразу почуял здесь, в обители капитала, застарелый дух обкомовской партийной редакции, только на другом витке русской истории.
Словечки «творческий коллектив», «завотделом», «норма строко-выработки» прошелестели где-то за спиной, монолитной тоской повеяло, лязгнуло КЗоТом, просквозило парткомом.
– Представительскую – к Думе, а разъездному водителю ждать у подъезда, – распоряжалась секретарша по рации.
– Вы – такая изящная, а такими терминами оперируете, просто жуть! – вырвалось у меня. – У вашего редактора, наверно, ещё и джип есть для поездки на дачу…
Как-то само собой открывался здесь во мне проныра и трепач, циничный писака, сиделец журналистского клуба на Суворовском бульваре, и я, стыдясь этого новшества в себе, всё же не сдерживался – раскрепощался, развинчивался до упора.
– А помнишь, Миш, анекдот про секретаршу? Как она по телефону говорит, а сама в это время…
Неприлично хохоча, я ополз на кресле так, что колени оказались выше головы, развалясь, закинул ногу на ногу и, рассказывая анекдот, стал покачивать «лаптёй» кроссовки.
– Всё это в далёком прошлом, Саня. Давай забудем. Ответственная минута наступает. Сосредоточимся перед боем.
Пропищал сигнал на столе кукольной секретарши.
– Вас ждут, господа, – сказала она.
Озадаченный таким титулом, я долго с кряхтеньем поднимался, выбирался из глубокого кресла.
Двойные двери тамбура были по-старомодному расшиты золочёными гвоздиками.
Кабинет – гнездо над пропастью, пронизанное солнцем, – так нахолодили кондиционеры, что я сразу продрог.
Издалека, из-за столов и такой же, как у секретарши, горы электроники, поднялся Лейбовский, знакомый мне по телеклубу «Редактор». Он был величиной с Варламова и такой же крепкий, волевой. Большие рыбьи глаза из-под очков пожирали меня, сверкала маслянистая лысина, и упоительный рычащий бас завораживал мой слух.
– Признаться, впервые так близко вижу варламовского бойца. Негры чаще на глаза попадаются. Редкую породу Андрюшенька вывел, редкую.
Он подал руку, и я пожал эту часть мясистого смуглого волосатого тела шестидесятилетнего человека, одетого в белую «правительственную» безрукавку с бордовым галстуком, в чёрные брюки из какой-то дорогой немнущейся шерсти (а такой же добротный и властительный сам по себе пиджак висел под обдувом вентилятора на спинке замысловатого кресла, похожего на инвалидную коляску).
– В вашей поднебесной впервые, – сказал я, оглядывая из окна кабинета второй московский восточный полукруг, видимый до Измайлова.
И Лейбовский тоже, засунув руки в карманы, недолго полюбовался городской панорамой, домами и улицами под слоем дымки, будто под водой.
– Бергер мне показал несколько ваших очерков, Александр Павлович. Этим жанром вы владеете, – заговорил Лейбовский. – Но вот что в глаза бросилось – вы из атмосферы делаете тексты, из ничего. А у нас, как у газеты классической, в основном фактура ценится. Но я не думаю, чтобы у Варламова вы вовсе потеряли вкус к такому подходу.
– Я у Аграновского учился. Так что мне легко будет восстановиться. Одна-две публикации – и я в форме.
– О! Значит, у нас с вами один учитель! Тогда сработаемся, без вопросов.
– Я вас, Зиновий Михайлович, помню ещё по старым «Известиям». Вы тогда классные материалы выдавали про деревню.
– Эпохи, эпохи минули с тех пор.
В этой пучине белого света вдруг что-то пронеслось очень близко за толстым стеклом: то ли сгусток смога, подсосанный от земли гудящим на высоте ветром, то ли блик от никелированной рамы небоскрёба, то ли тень от какой-то вольной птицы, махнувшей крылом по солнцу, так что я в недоумении даже повернулся к Лейбовскому за разъяснением и по его незыблемому мясистому лицу понял, что он ничего не заметил.
«Какой-то ангел пролетел, не иначе, – подумал я. – Или бес?»
– Ну, давайте, что у вас там есть, – сказал Лейбовский и протянул руку, будто я обещал ему что-то принести.
– Да у меня с собой и нет ничего такого, газетного. Так, ночью наброски кое-какие делал…
– Вот и давайте.
– Отвлечённое. Некоторые соображения о последнем романе Варламова.
– Чудненько!
Тут же у окна, не сходя с места, Лейбовский быстро, хватко, по диагонали пробежал текст всех семи страниц.
– Эта ваша воздушная ткань, бисер, серебро. Да… И, конечно же, полное пренебрежение идеологией.
– Я могу хоть идеологию Конфуция разработать на любом сюжете из современной России. Элементарно!
– Конфуция не будем тревожить. Для начала дайте-ка щелчок по квасному патриотизму. Утвердитесь в западничестве. Дайте бой на новом поле.
– Я из «ЛЕФа» ухожу, чтобы больше в боях не участвовать! Возьмите вы меня, ради Бога, в отдел культуры, что ли, или в отдел писем!
– Хорошо. А чем вам не культура – роман Варламова? Дайте только побольше определённости в оценках. Пропишите акцентики, всё такое прочее, и сразу пошлём в набор. В общем, не мне вам объяснять…
– То есть требуется размазать Варламова?
– А что вы так испугались? Вам не кажется, что это очень интересно для профессионала? Уникальный случай представляется, с вашим-то знанием его как человека, редактора, писателя. Сразу вам скандал. Сразу вам имя. Утверждение в новой среде, – и вперёд к высотам творчества.
Вдруг стрельнуло вдоль стены молнией. И в тот же миг, пока перед моими глазами горела нить накала, обвивала башню, вонзалась в скверик у входа, – чудовищно грохнуло. Произошло какое-то солнечное затмение местного масштаба – дождевой морок вплотную прильнул к башне.
Я стал прощаться.
– Зонтик при себе, Александр Павлович?
– Без зонтика – ни шагу, – соврал я, чтобы поскорее покончить с визитом.
– Да, кстати, давно хотел узнать одну вещь, но всё случая не представлялось. Откуда это, такое дикое, прямо какое-то маяковское, название – «ЛЕФ»?
– Тут шифровка. Военная хитрость девяносто третьего года. Первые буквы от слова «Лефортово». Тогда, помните, там Гудков сидел. Старую варламовскую газету закрыли. А он хотел поддержать Гудкова. Вот и «Лефортово» придумал. Но с таким названием не зарегистрировали бы. Он ход такой решил сделать: зарегистрировать как «ЛЕФ», а потом в каждом номере подвёрстывать недостающее «ортово».
– Прелестно!
– И не говорите…
Я выскочил из подъезда небоскрёба под ливень, уже зная, что не вернусь сюда.
Светлый пиджак сразу сделался графитовым с искрой, намок и отяжелел. В кроссовках хлюпало. По лужам и струям я шёл в писательский Клуб – кофейком отметить преодолённое искушение.
«Всё познаётся в сравнении, – думал я. – Лейбовский – приятный, порядочный, но ординарный. Варламов – супермен. Герой. Мрачный романтик. Чем он тебя не устраивает? Тем, что, неподобающе для настоящего героя, остался жив под обстрелом Белого дома? Да не генеральское это дело – в окопах, на баррикадах биться. Да и стар он для этого. И даже если бы он погиб, упрёки не кончились бы. А почему он один погиб? Погибли бы три таких „декабриста-октябриста”, как он Почему только три, когда рядовых ополченцев – тысячи? Какой дикий счёт смерти! Остался на белом свете интересный человек, ну и слава Богу! Радуйся, что ещё можно пожить, поработать рядом с ним. Он – лучший из всех редакторов, которых ты знал. Что же ты задёргался? Наберись мужества. Подумаешь, чуть не стрельнул чеченцу в спину. А они палили по Проню и теперь разве мучаются от этого? Стань таким же, как Варламов. Сомневайся молча, про себя. Заметь, эта варламовская мстительная одержимость, как и любовная, производит замечательные плоды. Роман-то у него классный!
Можно, конечно, как ты в статье о нём, говорить об обязательности любви для постижения истины, цитировать толстовское – о невнесении в мир зла через книгу, рассуждать про надуманную героичность Болконского. Можно даже укорить Варламова православием, указать на его язычество, и вообще, расставить вокруг него множество этих и прочих „нельзя”. Ну и что? Он все их сшибает как флажки на крутом повороте, в своей бешеной, отчаянной гонке за новостью жизни. Конечно, он яростный, истеричный, злой, ненавистник и воитель, порой кажется, обыкновенный буржуазный бунтарь, но он ненавидит лишь пошлость, в том числе и политическую, и больше всякого либерала любит свободу. И позволяет всем, в том числе и тебе, быть свободным в своих суждениях о нём…
Размокшую рукопись я скомкал в тугой шарик и зашвырнул за кирпичный забор, в бузину, в акации возле открытой веранды писательского ресторана.
В туалете Клуба литераторов вылил воду из кроссовок, отжал носки, переобулся.
Утёрся полами рубашки и, увидав в зеркале застёгнутый наглухо ворот, рванул так, что пуговка пулькой щёлкнула по кафелю.
Мокрый крестик каплей серебра прилип к груди, держался без гайтана.
Я глянул на себя в зеркало, измученного, неживого, тряхнул головой и спустился в подвальное кафе.
Конечно же, в русском углу, на своём обычном месте возле колонны, сидел с пьяными поэтами иллюстратор Карманов. Увидав меня в дверях, он вскочил, налетел злым общипанным петухом.
– «Дядя», я давно подозревал, что ты семит! Ты что, охренел?! Зачем ты к либералам попёрся?..
– Откуда тебе известно?
– «Дядя», ты на самом деле дурак или прикидываешься? Да ты только к Лейбе сунулся, на тебя сразу же «настучали». Москвы не знаешь? Варламов такое сказал!..
– Интересно, что?
– Он сказал, что ты – предатель! Так и сказал.
– Ну и к расстрелу, значит. Сразу – к стенке.
– Козёл ты, «дядя».
– Увольняешь «дядю»?
– Если сейчас примешь с нами стопочку, так и быть, оставлю, но только в самых дальних родственниках.
– Не пью, Димыч.
– Всё понятно! Давно подозревал, что ты не русский – гуманист хренов! Проваливай к своим, – взглядом-плевком Карманов указал в сторону постмодернистов-апрелевцев, тоже сидевших на своём обычном месте. – Давай, «дядя». Чего задумался?
– Смотри, «племянничек, ведь можно и розгой за такие дерзости.
– Да ладно, я тебя люблю, «дядя». Только, согласись, ты большую глупость совершил. Лучше бы ты запил…
«Племянничка» уже звали ором и свистом к стакану гениальные пьяницы, и он, дружески ткнув кулаком мне в живот, удалился, что-то обидное и задиристое выкрикивая в сторону «идеологических противников» и похабно, как негр в танце, вихляясь.
Я вышел из клуба на Садовое кольцо.
Горячий асфальт парил после дождя, будто гигантская конфорка электроплиты. Казалось, вода кипела на нём – это шипели колёса мчащихся машин.
Вся Москва прела и дымила.
«Предатель! Как высокопарно. Как пафосно! А идите-ка вы все к… – подумал я. – Жить, ребятки, надо каждому своим умом. На хлеб с маслом я всегда заработаю. На автозавод сборщиком пойду. Вспомню инженерную молодость. По выходным засяду роман писать. Лето доживу в деревне. Запасёмся картошкой на зиму. Прорвёмся».
Под солнцем пиджак на мне быстро сох, из тёмного опять становился светлым, сначала на груди и спине, а потом и понизу. Брюки тоже набирали первозданный стальной цвет, и весь я словно бы высветлялся снаружи, прогревался, в то время как душу знобило.
От обретённой свободы веяло холодом космоса.
48
…Из вощёной обёртки я достал тонкую пружинистую пластинку лезвия. Вложил отверстиями на два штырька.
Придавил полукруглой никелированной накладкой и зажал винтом рукоятки.
Посмотрел в зеркало, примерился к клокам пены на лице.
Утопил бритвенный станочек в мыле где-то возле уха и повёл вниз. Стал сдирать чёрную щетину с лица полосами шириной с ремень. Струёй горячей воды смывал жёсткие завитки волос в канализацию.
Новое лицо моё, голубоватое, как у покойника, открывалось всё полнее и страшнее. Обнажался незнакомый человек.
Вдруг явились неведомые складки от носа до щёк. Далее по ходу бритвы обнаружился крепкий подбородок и синяк от какого-то удара.
Состарившийся мальчик рождался во влажной духоте ванной комнаты, в запахах дешёвой парфюмерии, под урчание струи, отсасывающей в преисподнюю коммунальных сетей мой прежний образ.
Новый, умытый после бритья, безбородый, я стал слегка противен себе.
Утешался неузнаваемостью своей: с такой рожей и без тёмных очков не разоблачит меня в окне редакции торговка Тамара, и я перед побегом в деревню смогу ещё втихаря подработать на продаже своей родной газеты.
Одежду я всё-таки решил сменить – надел старую фланелевую рубаху в клетку и спортивные штаны.
И со складной тележкой под мышкой вышел в город.
Сразу глубоко, облегчённо вздохнул, почувствовал себя среди людей. Одним из тысяч незадавшихся инженеров, учителей, учёных, журналистов, человеком своего поколения и времени, вынужденным до лучших времён перебиваться торговлишкой…
Рецензии и отклики
Екатерина Глушик: «Завидуйте, что вам такого не написать. Радуйтесь, что такое написано»
Александр ЛЫСКОВ. «Красный закат в конце июня». Народный роман. Издательский дом «Сказочная дорога», Библиотека журнала «Двина», Москва – Архангельск, 2014. – 520 с.
Потрясающий роман. И это не эмоциональная оценка, это констатация. Роман потрясёт читателя любого. И того, кто ценит в книге правдивость. И того, кто ценит стиль и умение передать тонкости говоров и характеров. И того, кто ценит в книге информацию, ценит возможность познать мир. И того, кто интересуется историей страны ли, своего ли рода. Роман содержит всё перечисленное и много сверх того.
Казалось бы, что можно сказать нового в литературе? Единицы умеют сделать открытие. Среди них – Александр Лысков. Он впервые в истории литературы показал 14 поколений (колен) одного рода. Не сага о Форсайтах или жизнь Клима Самгина.
Это полноценная история каждого из рода, начиная с Ивана Синца (1451–1491), заканчивая Александром – 1947 год. Год рождения писателя Александра Лыскова, после этого романа стоящего особняком в русской и мировой литературе.
С романом я знакомилась частями – они печатались в журнале «Двина». И я не могла оторваться, поражённая повествованием. Нетерпеливо ждала продолжения. Как автор сумел передать быт, и крупными мазками, и мельчайшими деталями. Как увлекательно показал надсадность и стоицизм, не осознаваемый даже, освоения предками своими русского Севера. Прочитаешь запоем, а потом поразишься: какая огромная работа проделана! Какие архивы перерыты! Сколько книг перечитано! Сколько бывалых людей опрошено! Сколько земель исхожено! Сколько из собственной памяти вынуто! Потому что семья – своя – исследована.
Роман нельзя закатать в какие-то рамки. Сам автор назвал его «народный роман». О народе. Для народа. О народе, который показан в полноте силы и слабости, любви и неурядицах, в подвиге и в буднях. Для народа, который увидит, что он, читатель – связующее звено времен, он – носитель истории, носитель истины, носитель и основополагатель продуманной осмысленной морали, носитель свободы и воли. Он – суверен. Он – соль земли.
Этот роман – эпопея, каких ещё не было в литературе. Да и задуман он был автором, как тот сам признаётся, именно потому, что Александр Павлович вдруг осознал, что «никто ещё до сих пор так и не написал истории русской деревни от её начала до конца». Ни в «Истории села Горюхина» Пушкина, ни в «Записках охотника» Тургенева, ни у советских «деревенщиков» нет полноты. «Даже Фёдор Абрамов в своей незаконченной „Чистой книге” не посчитал нужным зачерпнуть глубже начала XX века. История тех далёких времён в деревне казалась скованной вечной мерзлотой. Просто не хватало материала. Деталей жизни, к примеру, XV века. Как одевались, добывали хлеб, торговали, строили мосты… Труба позвала. Сборы были долгими. А замысел – давним». Это от первого лица. Автор признаётся, что всплывали в памяти детали деревенского детства: «Вспоминались деревенские старики, последний кузнец в деревне, шорник; как санный мастер полозья дровней гнул из расщепленного берёзового ствола… Ручные жернова на повети – два круглых камня… Рыбёшка в реке, заяц на опушке леса… И в конце концов, груз этих воспоминаний… утянул меня в глубину времён, на самое дно, где я оказался в окружении искомых человеческих образов и будто бы даже умом слегка тронулся, – разговаривать с ними стал, общаться. Всё отчётливей проявлялись лица, доносился внятный говор, стук топора, плеск вёсел… Открывались перед глазами времена года».
Многое, о чём идёт речь в романе, незнакомо не только читателю, но и историку, требует уточнения. Эти уточнения и пояснения даются столь органично – вкраплениями, отдельными справочными отрывками, что не мешает цельному восприятию, напротив, и разнообразит, и наполняет тебя смыслами. Через повествование, через сопереживание ты узнаёшь исторические факты, события.
А язык! Точность и красота. Выверенность фразы и свобода полёта речи. Наугад открой: «На Николу весеннего припекало. Сосны захлебнулись соком и словно испариной покрылись». «При подъёме на гору остатки псалмов Давида выкипели у него в душе. По пути в Сулгар начали слетать с губ купальские попевки. Подтягивала федула – одной струной на восклик, двумя на подвыв. Авдей пробно прокричал: «Нарождалися три ведьмы На Петра да на Ивана!» Он шёл босой, в синей рубахе, небрежно-низко подпоясанной. С уткнутой в живот федулой. И смыкал поперёк хода. Пятое колено первопроходца Синца. Холостой малый XVI века. Такой музыки ещё не слыхала старая сугарская дорога. От Синца только похабам довелось ей внимать. Шаркунками да бубнами довольствовался его сын Никифор. Деятельному внуку Синцову – Геласию – хватало колокольчика под дугой. Его дочка Матрёна, ходя на свидание к Василию, бывало, затягивала на этой дороге разве что бабьи слезливые песенки. А вот у её сына Авдея в обиход пошла уже невиданная доселе в этих местах федула! Имелись также у парня пропасть разных рожков и сопелок».
И вот вам развитие музыкального искусства в нескольких поколениях!
Великое произведение вышло в свет. Великое по замыслу, по исполнению, по самоотдаче автора, по пониманию ответственности перед будущим, перед своим прошлым.
Несомненно, будут по этому роману сняты фильмы, перейдёт он на холсты, в ноты, в жизнь людей. Задуман и начат роман давно. Автор не угадал конъюнктуры, гордится своей историей. Он сам это чувство гордости создаёт.
Читайте, завидуйте, радуйтесь! Завидуйте, что вам такого не написать. Радуйтесь, что такое написано.
Газета «Завтра». Выпуск № 3 (1104)22 января 2015Константин Уткин: «Безымянные и родные»
Каждый писатель живёт мечтой о своей главной книге. О своей лебединой песне, после которой можно замолчать с чувством выполненного долга. Которая пишется на одном дыхании, точнее – на вдохе, и так легко и точно, что практически не требует правок.
Понятно, что эти мечты разбиваются о серую глыбу будней – суета повседневных дел засыпает мелким мусором самые грандиозные планы, от которых не то чтобы совсем отказываешься. Нет, просто переносишь и переносишь на ближайшее, но совсем неопределённое будущее.
Александр Лысков, автор книги «Красный закат в конце июня», как мне кажется, главный труд своей жизни завершил.
Все линии романа сведены воедино, закончены. Впрочем, речь идёт даже не о сюжетных линиях в привычном понимании этих слов, скорее о пёстром и причудливом рисунке бытия.
При этом писатель берёт на себя труд и смелость заглянуть в такие глубины тёмного прошлого, что проверить подлинность описанных событий не представляется возможным. Да, примерно мы знаем, что в таком-то временном отрезке на такой-то территории жили такие-то племена. Очевидно, что как-то они меж собой контактировали. Конечно, у них было какое-то хозяйство. Но всё теряется в тумане – лишь до открытия первой страницы. Начинаешь читать и понимаешь, что раздвинуты временные границы, и прошлое – совсем дремучее прошлое – оказывается на расстоянии вытянутой руки. С его землянками, берестяными туесами и бурной лесной жизнью. И языческие корни, которые, несмотря на коросту цивилизации, всё-таки есть в каждом из нас, сразу оценивают этот текст как верный.
Создание исторического романа имеет ряд сложностей чисто лингвистического свойства. Все понимают, что мы способны понять речь наших предков, живших сто лет назад в крупных городах. Деревенские же диалекты воссоздать сложнее.
Как тут быть писателю? Задача не из лёгких, и мало кто за неё способен взяться. Лысков решился, и, на мой взгляд, свою задачу он выполнил. Нельзя сказать, что текст читается легко, но беглость восприятия в художественном произведении не всегда хороша. Точно так же нельзя сказать, что в нём не хватает образов или особенностей, присущих праязыку. Нет. Александру Лыскову удалось найти золотую середину между доступностью для понимания современного человека и совершенно несовременной художественной сложностью.
Отдельно стоит остановиться и на самой идее романа. Посвящён он деревне. Каждая историческая веха в романе показана через самые разные судьбы людей. Можно сказать, что через героев показана история места – как тихая глубинка постепенно превращалась в крупное село, а потом – в зарастающие подлеском развалины. Герои книги тоже выбраны своеобразно – от первых священников, принёсших христианскую веру языческим лесным племенам, до бродячих скоморохов, высмеивающих всё и вся, а особенно – чёрные рясы. От первых земледельцев, рыхлящих землю лосиным рогом, до крепкого хозяина, покупающего сложные немецкие сельскохозяйственные машины. И по всему роману рассыпаны приметы, поверья, былички, заговоры и прочие приметы язычества.
Авторская любовь к тем, кого он описывает, чувствуется в каждой фразе. Нам, зачастую не знающим своих корней, страшные встряски прошлого века обрубали родословные. Такое отношение к безымянным героям может показаться даже избыточным. Но потом понимаешь: именно из безымянных, никому не известных при жизни и уж тем более после смерти, работяг и состоит Россия. И каждый из них достоин памяти.
«Литературная газета» № 48, 3–9 декабря 2015 г.Виктор Дёгтев, литературный критик, Москва: «Это не любовный роман, это роман о любви…»
Александр ЛЫСКОВ. «Медленный фокстрот в сельском клубе». Семейный роман. Издательский дом «Сказочная дорога», Москва 2016. – 376 стр.: ил.
В «Медленном фокстроте…» мчится по пустынному шоссе в российской глубинке чёрный, угловатый микроавтобус, по сходству со знаменитым чёрным квадратом названный «Малевичем». На вернисаже всякий увидит своё в рамке этого знаменитого чёрного квадрата, – Александр Лысков поселил в нём своих героев и дал нам возможность прожить с ними бурное лето 2014 года.
Город, столица неуклонно с каждым километром движения «Малевича», во многом трагично, сближаются с провинцией. В салоне микроавтобуса – московская интеллигенция. За рулём профессор Вячеслав Ильич Синцов – только что по реституции получивший в наследство в селе Окатово родовой особняк, шедевр деревянного зодчества 19 века.
Осенённый идеей преодоления роковых в нашей истории различий между городом и деревней, он ищет способы сглаживания этих напряжений, в результате лишь усиливая их. Начинается дачная жизнь. Оживает старая деревенская любовь энергичного профессора. Обнаруживается его взрослая дочь. В девушку влюбляется сын профессора. В этом рискованном браке рождается его внучка – символ крайнего единства таких, казалось бы, на первый взгляд непохожих семей, союз, замешанный на родственной крови, тесней которого не может быть. И хотя всё в романе завершается счастливо, ребёнок рождается вполне здоровым, но тревога не покидает.
Читателя продолжает волновать душевная смута, безрассудство в действиях, спонтанность и эмоциональность героев романа, что составляет нерв повествования в череде их любовных переживаний.
Любовь, угасающая бог знает от чего и возникающая из ниоткуда, любовь грешная, противозаконная, неправильная; любовь, в результате которой следует рождение внебрачного ребёнка; любовь-измена, от которой медленно и верно на наших глазах сходит с ума страждущая супруга; любовь неосмотрительная, завершающаяся в конце концов бесплодием; любовь-дружба пожилых женщин, которых настигает презрение окружающих; и наконец любовь кровосмесительная – по неведению двух молодых сердец… «Сто пудов» любви… Нелёгкая ноша…
Не в таком ли состоянии перегрузки, потерянности и опрометчивости находится сейчас и всё наше общество. Где тот островок прочных житейских устоев, в котором человек пребывает в чистоте и непорочности, душа его пряма и помыслы светлы?..
В романе «Медленный фокстрот в сельском клубе» этот островок больших надежд открывается для нас автором в далёком селе Окатово в образах сельских женщин, батюшки Лариона во вновь построенной деревянной церкви села, коннозаводчика Олега Владимировича, бывшей фельдшерицы, ставшей предпринимателем, – вот те зёрна, из которых, надо думать, и вырастут «большие надежды» России под звуки колоколов деревенской церкви и медленного фокстрота в сельском клубе, опять же, – под музыку любви.
Художественное пространство нового романа Александра Лыскова подёрнуто туманом весенним – в первой главе, и осенним – в последней, а в середине, в напряжении летних месяцев, хотя и много солнца над головами персонажей, но и оно тоже всегда в дымке, в мареве, в облаках.
Это роман-смута даже по воздушной атмосфере сцен в сравнении со ставшим уже легендарным романом-предтечей Александра Лыскова «Красный закат в конце июня», романом первозданной прозрачности, как в пейзажной части, так и чувственной…
Владимир Фролов, поэт, Москва:
«Возвращение к своим корням даёт силы и смысл существования. В романе Александра Лыскова «Медленный фокстрот в сельском клубе» человек живёт и выживает благодаря среде, в которой его творческая энергия находит душевный отклик. Этот роман даёт надежду, что настоящая жизнь, несмотря на все трудности, побеждает, если её любишь такой, какая она есть без всяких прикрас!..»
Юрий Линник-Рудаковский, профессор, Петрозаводск:
О видеоролике с авторскими иллюстрациями к роману «Медленный фокстрот в сельском клубе»:
Поэтика ваша рискова. Не знаете наших тисков. Прекрасны творенья Лыскова! Талантлив и мощен Лысков.Анатолий Ехалов, писатель, кинорежиссёр, Вологда:
«Медленный фокстрот в сельском клубе» – хорошая работа и в литературном, и полиграфическом исполнении…»
Татьяна, читатель романа «Медленный фокстрот в сельском клубе», Архангельск:
«Книга прочитана была на даче за ночь. Душа моя пережила все боли и радости с героями!..»
Примечания
1
Там быть должна Одна особа на вокзале, Атлас и шёлк, В милашках знаю я толк. Будет рыдать, Чтоб я умерил дух бродяжий… Чтоб не шнырял как одинокий волк. (обратно)2
«Ригли спирминт».
(обратно)3
Моя ставка (англ.).
(обратно)4
В рассказе описано действительное происшествие. Имена оставлены подлинные. – Примечете автора.
(обратно)5
Ты не понял меня (англ.).
(обратно)6
Himself.
(обратно)7
Реглан – вид покроя рукава одежды, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью переда (полочки) и спинки изделия. Этот вид рукава назван по имени британского фельдмаршала барона Реглана…
(обратно)8
Браки заключаются на небесах, капитан! (англ.)
(обратно)9
Женишься на скорую руку, да на долгую муку (англ.).
(обратно)10
Сдавайся! (англ.)
(обратно)11
Давай, давай (англ.).
(обратно)12
Дешёвка (англ.).
(обратно)13
Непереводимое бранное слово.
(обратно)14
За мной! (англ.)
(обратно)15
Болтовня может стоить жизни (англ.).
(обратно)16
Любовное свидание.
(обратно)17
Передача продуктов.
(обратно)18
Негры в СССР, бывшие взрослыми в том, 1952 году, происходили из трёх групп: из пленных итальянцев, из эвакуированных испанцев времён гражданской войны на Пиренеях, из американских коммунистов, сбежавших из США по идейным соображениям, или внебрачных потомков темнокожих специалистов времён индустриализации.
Дети в случайных браках, подобно Ване Барынину, могли появиться также от контактов наших женщин с моряками союзников не только в Архангельске, но и в Мурманске, а также и с иранскими техниками. В войну через Иран приходило в Союз по ленд-лизу до 2000 автомобилей в месяц.
Профессиональным актёром из этих плодов межрасовых браков стал лишь один Роберт Росс, сыгравший после «Максимки» ещё несколько заметных ролей в разных советских фильмах.
(обратно)19
Капитан не уступит (англ.).
(обратно)20
Именно так (франц.).
(обратно)21
Gabby – герой шотландских анекдотов о скупцах (англ.).
(обратно)22
С корабля на бал (англ.).
(обратно)23
Кейп-Бретон степ (англ. Cape Breton Step) – разновидность шотландского танца в жёсткой обуви.
(обратно)24
Надеюсь, перья страуса у вас на голове не сообщают их носителю известную привычку этих милых птиц.
(обратно)25
Ага! Кажется, так и есть. Чуть что, и голову в песок.
(обратно)26
Где и когда?
(обратно)27
В пять утра.
(обратно)28
Акафист – жанр православной церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу, Богородице, ангелу или (чаще всего) тому или иному святому
(обратно)29
Корпия (устар.) – растеребленная ветошь, нащипанные из старой льняной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал.
(обратно)30
Слип – наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды.
(обратно)31
Lahti-Saloranta М-26 – финский ручной пулемёт, разработанный конструкторами Аймо Лахти и Арво Салоранта в 1926 году.
(обратно)32
Руки поднять.
(обратно)33
Штрафной батальон 125-го полка 24-й дивизии (нем.).
(обратно)34
Перешёл на вашу сторону добровольно. Желаю биться с большевиками.
(обратно)35
Кордодром – площадка для запуска моделей самолётов, летающих по кругу.
(обратно)36
Летака (сленг) – лётная погода.
(обратно)37
NOSIG (No Significant change) – не предвидится серьезных изменений погоды.
(обратно)38
Быть готовым к изменениям.
(обратно)39
ИГИЛ – запрещённая в России террористическая организация.
(обратно)40
Вот это да! (евр.)
(обратно)41
Зиндан – традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии. Слово образовано от слов «зина» – «преступление, нарушение» и «дан» – «помещение, вместилище».
(обратно)42
Шомуша – закуток в кухне.
(обратно)43
Сингл – начальная песня в музыкальном альбоме.
(обратно)44
Клюз – круглое отверстие в борту.
(обратно)45
О́хлупень – часть деревянной крыши.
(обратно)
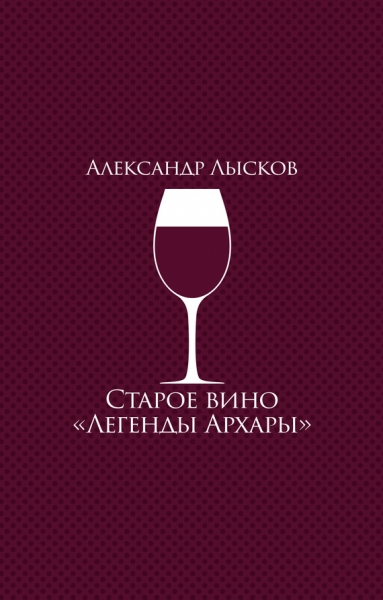
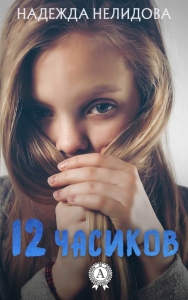
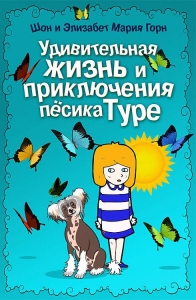
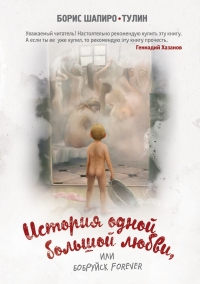
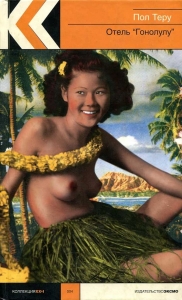


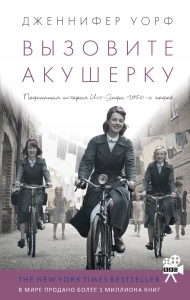
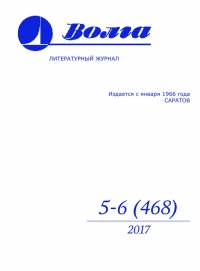
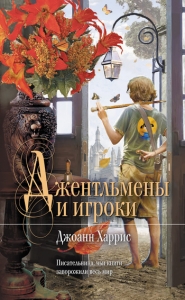
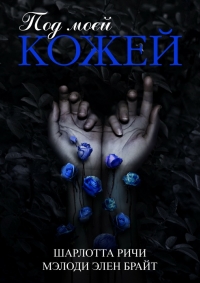


Комментарии к книге «Старое вино «Легенды Архары»», Александр Павлович Лысков
Всего 0 комментариев