Исабель Альенде ОСТРОВ В ГЛУБИНАХ МОРЯ
Моим детям, Николасу и Лори
Зарите
В мои сорок лет у меня, Зарите́ Седельи, за плечами куда более счастливая судьба, чем у других рабынь. Я проживу долго, и старость моя будет радостной, потому что моя звезда — моя з’этуаль[1] — светит даже в ненастную ночь. Мне ведомо наслаждение быть с мужчиной, избранником моего сердца, и блаженство ощущать его большие руки, пробуждающие мою кожу. У меня четверо детей и один внук, и те, что живы, — свободные люди. Первое мое счастливое воспоминание, когда я была еще тощей нечесаной соплячкой, — как я двигаюсь под дробь барабанов. И такое же ощущение — самое недавнее мое счастье, ведь вчера вечером я была на площади Конго: я танцевала, танцевала, а в голове ни одной мысли. До сих пор тело мое — горячее, усталое. Музыка — это ветер, уносящий годы, сдувающий воспоминания и страх; это вкрадчивая бестия, она живет у меня внутри. Едва начинают звучать барабаны, как обычная, каждодневная Зарите исчезает и я снова становлюсь той девчонкой, что плясала, едва научившись ходить. Я колочу по земле босыми ступнями, и сама жизнь поднимается по моим ногам, пробегает по позвоночнику, захватывает меня, снимая хандру и облегчая память. Весь мир дрожит. Ритм этот рождается на острове под морем, он сотрясает землю, пронзает меня как молния и устремляется к небу, унося с собой мои печали, — чтобы Папа́ Бондьё разжевал и проглотил их, оставив меня чистой и умиротворенной. Барабаны побеждают страх. Барабанная дробь досталась мне в наследство от матери: это сила Гвинеи, она у меня в крови. И когда зовут барабаны, со мной уже никто не совладает: я делаюсь ураганом, как Эрцули, лоа любви, я проворнее хлыста. Побрякивают браслеты из ракушек на моих запястьях и щиколотках, гулко ухают тыквы, им отвечают своими лесными голосами барабаны джембе и металлом — литавры, зовут разговорчивые джун-джуны и храпит под ударами огромный барабан — маман: в него бьют, призывая духов, лоа. Барабаны священны — через них говорят лоа.
В доме, где я провела первые годы своей жизни, барабаны молчали — тихо стояли в комнатушке, которую я делила с Оноре, тоже рабом. Но барабаны частенько отправлялись на прогулку. Мадам Дельфина, тогдашняя моя госпожа, желала слушать не черный грохот, а меланхоличные вздохи своих клавикордов. По понедельникам и вторникам она давала уроки музыки цветным ученицам, а в оставшиеся дни недели преподавала в особняках больших белых, где барышни упражнялись на собственных инструментах, ведь им было абсолютно немыслимо играть на тех, к которым прикасались пальцы мулаток. Я выучилась отбеливать клавиши лимонным соком, но извлекать звуки из инструмента я не могла — мадам запрещала нам с Оноре даже приближаться к ее сладкозвучным клавикордам. Но нам этого вовсе и не требовалось. Оноре мог заставить петь хоть кастрюлю, и любая вещь в его руках обретала такт, мелодию, ритм и голос; звуки жили в нем самом, в его теле, он привез их из Дагомеи. Игрушкой мне служила полая тыква: мы заставляли ее звучать; чуть позже он научил меня тихонько ласкать барабаны. И это — с самого начала, когда он еще на руках носил меня на танцы и церемониалы вуду, где ритм на главном барабане отбивал именно он, а уж остальные под него подстраивались. Таким я его и запомнила.
Оноре казался мне тогда очень старым: кости его уже давно остыли, хотя в ту пору лет ему было не больше, чем мне сейчас. Он прикладывался к бутылке с ромом, чтоб найти силы переносить боль, доставляемую любым движением, но средством еще более действенным, чем этот терпкий ликер, была музыка. От звука барабанов его стоны сменялись смехом. Своими скрюченными руками Оноре едва бы смог почистить картошку хозяйке к обеду, но вот в барабан он бил без устали, и, если уж дело доходило до танцев, никто не поднимал колени выше его, не тряс головой с такой яростью, не крутил бедрами с большим удовольствием. Когда я еще не умела ходить, он заставлял меня плясать сидя, а едва я научилась держаться на ногах, стал приглашать меня в музыку, как в мечту. «Танцуй, Зарите, танцуй, ведь раб, который танцует, свободен… пока танцует», — приговаривал он. И с тех пор я танцевала — всегда.
Часть первая САН-ДОМИНГО 1770–1793
Испанская болезнь
Тулуз Вальморен приехал в Сан-Доминго в 1770-м, в том самом году, в котором дофин Франции женился на австрийской эрцгерцогине Марии-Антуанетте. До отъезда в колонию, когда он еще и не подозревал, что судьба сыграет с ним злую шутку и его жизненный путь завершится могилой в тростниковых зарослях на Антильских островах, он удостоился приглашения в Версаль. Это было одно из празднований в честь новой дофины, той белокурой четырнадцатилетней девчушки, которая без всякого стеснения зевала на церемонии, неукоснительно следовавшей строжайшему протоколу французского двора.
Все это осталось в прошлом. Сан-Доминго оказался другим миром. Молодой Вальморен имел довольно смутное представление о том месте, где отец его с грехом пополам замешивал тесто семейного благополучия, воодушевившись высоким стремлением сколотить приличное состояние. Где-то юноша прочел, что исконные обитатели острова, араваки, называли свой остров Гаити — еще до того, как конкистадоры переименовали его в Эспаньолу и покончили с коренным населением. Менее чем за полвека в живых не осталось ни одного аравака, которого можно было бы предъявить интересующимся как диковинку: вымерли все, пав жертвами рабства, европейских хворей и самоубийств. Это был народ с красной кожей, густыми черными волосами и непоколебимым чувством собственного достоинства; при этом им была свойственна робость, да такая, что один безоружный испанец мог расправиться с десятком араваков. Они жили полигамными семьями и занимались земледелием: землю возделывали рачительно, не истощая ее плодородие, выращивали батат, кукурузу, тыкву, арахис, перцы, картошку и маниоку. Земля, равно как небо и вода, была ничьей, пока ее не присвоили себе чужестранцы — чтобы выращивать никем дотоле невиданные растения руками тех же араваков, но уже обращенных в рабство. Тогда-то и появился здесь обычай травить людей собаками: убивали безоружных, науськивая на них свирепых псов. Когда же с индейцами было покончено, чужестранцы принялись завозить плененных в Африке рабов, а также белых людей из Европы: преступников, сирот, проституток и священников.
В конце 1600-х годов Испания уступила западную часть острова Франции, и уже французы назвали эту землю Сан-Доминго, — землю, которой предстояло стать самой богатой колонией мира. В те времена, когда там появился Тулуз Вальморен, треть всего экспорта Франции, состоящего из сахара, кофе, табака, хлопка, индиго и какао, приходилась на остров. Белых рабов уже не было, зато неграм счет шел на сотни тысяч. Самой востребованной культурой оказался сахарный тростник — сладкое золото колонии; срезать тростник, рубить стебли и варить из них сахарный сироп было делом не людей, а животных, на чем плантаторы и стояли.
Когда Вальморен был вызван в колонию настойчивым письмом, написанным торговым агентом отца, юноше только-только исполнилось двадцать. На берег он сошел разодетым по последней моде франтом: кружевные манжеты, напудренный парик и башмаки на высоком каблуке. Он был в полной уверенности, что книг, прочитанных по вопросам использования чужого труда, и полученных таким образом познаний ему с лихвой хватит для того, чтобы за несколько недель грамотно проконсультировать отца и оказать тем самым ему помощь и поддержку. Путешествовал Вальморен с валетом,[2] почти столь же разряженным, как и он сам, и несколькими сундуками, груженными гардеробом и книгами. Он полагал себя человеком образованным и по возвращении во Францию собирался заняться наукой. Он благоговел перед философами и энциклопедистами, оказавшими столь сильное влияние за последние полвека на Европу, и разделял кое-какие из их либеральных идей: «Общественный договор» Руссо стал его настольной книгой в восемнадцать лет. Едва он сошел на берег после плавания, чуть не закончившегося трагедией при встрече с ураганом в Карибском море, его ожидал первый неприятный сюрприз: родитель в порту сына не встречал. А встречал его торговый агент отца, любезный еврей, с головы до ног одетый в черное. Он-то и просветил молодого человека по части необходимых для передвижения по острову предосторожностей, снабдил лошадьми, парой мулов для транспортировки багажа, проводником и вооруженным милиционером,[3] то есть всем необходимым для того, чтобы без происшествий добраться до поместья Сен-Лазар. До тех пор молодой Вальморен ни разу не бывал за пределами Франции и обращал минимум внимания на те анекдоты — банальные по большей части, — которые во время своих нечастых приездов к семье в Париж рассказывал отец. Тулуз и представить себе не мог, что когда-нибудь окажется на плантации. У него с отцом было молчаливое соглашение, согласно которому отец сколачивал состояние на острове, а сын должен был заботиться о матери и сестрах и присматривать за семейными делами во Франции. Полученное письмо намекало на проблемы со здоровьем, и Тулуз предположил, что речь идет о перемежающейся лихорадке, но по приезде в Сен-Лазар, после целого дня бешеной скачки верхом сквозь буйную враждебную растительность, он увидел, что отец умирает. Отец страдал не от малярии, как полагал сын: он умирал от сифилиса, косившего без разбору и белых, и негров, и мулатов. Болезнь отца дошла до своей последней стадии, он стал настоящей развалиной — весь в язвах, с расшатанными зубами и помутненным рассудком. Лечение при помощи достойных пера Данте кровопусканий, ртути и прижиганий пениса раскаленной докрасна проволокой облегчения больному не приносили, но все эти меры он продолжал применять — как акты покаяния. Старшему Вальморену только что исполнилось пятьдесят, но он выглядел глубоким стариком, который отдавал начисто лишенные смысла распоряжения, мочился в штаны и проводил все свое время в гамаке вместе со своими домашними питомицами — парой негритянок, едва достигших подросткового возраста.
Пока рабы разгружали багаж, повинуясь приказаниям валета — франта, с трудом пережившего морское путешествие и пришедшего в ужас от примитивных условий жизни в этом доме, Тулуз Вальморен совершил объезд обширной отцовской собственности. Он ничего не знал о выращивании сахарного тростника, но этой прогулки ему хватило, чтобы понять, что рабы истощены, а плантации все еще удается избежать разорения только в силу того, что мир поглощает сахар со все возрастающей прожорливостью. В бухгалтерских книгах молодой Вальморен обнаружил причину плачевного финансового положения отца, не позволявшего ему поддерживать жизнь семьи в Париже на уровне, который соответствовал бы их социальному положению. Плантация и производство на ней находились в катастрофическом состоянии, а рабы мерли, как клопы; в общем, не было ни малейшего сомнения в том, что управляющие воровали вовсю, пользуясь стремительным распадом своего хозяина. Помянув недобрым словом судьбу, Вальморен приготовился засучить рукава и взяться за дело, то есть за то занятие, которое ни один молодой человек его круга для себя не планировал: работа была уделом людей другого сорта. Начал он с того, что раздобыл весьма аппетитный заем, воспользовавшись поддержкой торгового агента отца и его связями в банковских кругах. Затем послал командоров — рабов-надсмотрщиков — в тростники, работать бок о бок с теми, кого они совсем недавно истязали, заменив их другими, несколько менее испорченными, а также смягчил наказания и нанял ветеринара, и тот провел в Сен-Лазаре два месяца, пытаясь вернуть неграм хоть каплю здоровья. Но ветеринару не удалось спасти жизнь валету, которого менее чем за тридцать восемь часов отправила на тот свет скоротечная диарея. Вальморен заметил, что рабы в среднем работали на плантации не более полутора лет: потом они либо сбегали, либо падали замертво от непосильной работы; и это был значительно более краткий срок, чем на соседних плантациях. Женщины жили чуть дольше мужчин, но при такой изнурительной работе, как рубка тростника на плантации, толку от них было меньше, к тому же они имели дурную привычку беременеть. А так как младенцы выживали крайне редко, плантаторы давно подсчитали, что размножение негров дает столь низкий уровень прироста, что оказывается нерентабельным. Молодой Вальморен формально, на скорую руку, ввел необходимые изменения, вовсе не имея в виду долгосрочных перспектив, ведь он полагал, что скоро уедет. Однако спустя несколько месяцев, когда отец умер, Тулуз оказался перед очевидным фактом: он в ловушке. Он вовсе не собирался костьми лечь в этой колонии, кишащей заразными москитами, но если уехать раньше времени, он потеряет плантацию, а вместе с ней доходы и то положение в обществе, которое их семья занимает во Франции.
Вальморен не стал завязывать отношения с другими колонистами. Большие белые, владельцы других плантаций, сочли его спесивцем, который долго на острове не протянет; по той же причине они крайне удивлялись, встречая его в заляпанных грязью ботинках и побронзовевшим от солнца. С точки зрения Вальморена, эти французы, пересаженные на Антильские острова, были какими-то мужланами, полной противоположностью тому обществу, в которое вхож он сам, тому обществу, где высоко ценились мысль, наука и искусства и где никто не говорил ни о деньгах, ни о рабах. Из парижского «века разума» он прямиком попал и с головой погрузился в примитивный и жестокий мир, в котором живые и мертвые бродят рука об руку. Не сошелся он и с маленькими белыми, людьми, чьим единственным капиталом был цвет кожи, — несчастными бедолагами, отравленными завистью и злословием, как отзывался о них Вальморен. Они приезжали со всех сторон света, и не было ни малейшей возможности удостовериться в чистоте их крови или же навести справки об их прошлом. В лучшем случае они оказывались торговцами, ремесленниками, не слишком благочестивыми монахами, моряками, военными и мелкими чиновниками, но хватало среди них также и бродяг, сутенеров, преступников и пиратов, обделывавших свои темные дела в каждом укромном уголке на Карибах.
Среди свободных мулатов, или офранцуженных, насчитывалось более шестидесяти классов и подклассов — в зависимости от доли крови белой расы в их жилах, что, собственно, и определяло социальный статус. Вальморен так никогда и не научился различать различные оттенки их кожи и не выучил наименований для каждой из известных комбинаций смешения двух рас. Офранцуженные не имели политической силы, но распоряжались немалыми деньгами, и за это их ненавидели белые бедняки. Некоторые мулаты зарабатывали на жизнь разного рода нелегальными промыслами, начиная с контрабанды и заканчивая проституцией, однако другая их часть получила образование во Франции; они владели состоянием, землей и рабами. Несмотря на тонкости, связанные с различными оттенками кожи, мулаты были едины в своем общем стремлении сойти за белых и в своем глубоко укоренившемся презрении к неграм. Рабы, количество которых в десять раз превышало белых и офранцуженных, вместе взятых, в расчет не принимались — ни при переписи населения, ни в сознании колонистов.
Но поскольку Тулуза Вальморена абсолютное уединение не устраивало, время от времени он наносил визиты в кое-какие дома больших белых в Ле-Капе, самом близком к его плантации городе. Во время этих наездов в город он запасался всем необходимым для жизни в поместье и, скорее вынужденно, заходил в Колониальный совет поздороваться с равными себе — не более чем для того, чтобы имя его не выветрилось из их памяти, однако в заседаниях совета участия не принимал. Эти вылазки в город использовались им также, чтобы посмотреть в театре комедию и заглянуть на вечера кокоток — пышных куртизанок, француженок, испанок и мулаток, цариц ночной жизни, — а кроме того, пообщаться с открывателями новых земель и учеными, что появлялись на острове проездом по пути к другим, более интересным местам. Сан-Доминго визитеров не привлекал, но время от времени здесь появлялся кто-нибудь, кого привлекало изучение природы или хозяйственной жизни Антильских островов, и их-то Вальморен приглашал в Сен-Лазар, преследуя цель вновь насладиться, хотя бы и ненадолго, возвышенной беседой, подобной тем, что служили украшением его парижской жизни. Через три года после смерти отца он уже с гордостью мог показывать гостям свои владения. Запущенный хаос из больных негров и высохших посадок тростника ему удалось превратить в одну из самых доходных среди восьмисот плантаций на острове: выработка сахара-сырца, предназначенного на экспорт, увеличилась впятеро. Кроме того, он построил фабрику по производству рома, с которой отгружались бочки с отборным товаром, доверху наполненные напитком гораздо более чистым и изысканным, чем тот, что был в ходу. Гости проводили одну-две недели в топорно сработанном, но просторном деревянном доме, до последней клеточки тела пропитываясь загородной жизнью и возможностью оценить с близкого расстояния магию такого изобретения, как сахар. Защищаясь от жгучего солнца широкополыми соломенными шляпами и задыхаясь в кипящем влажном воздухе Карибов, они совершали конные прогулки по тучным выгонам, где с угрожающим свистом проносился ветер, а в это время рабы — резко очерченные силуэты возле самой земли — срезали стебли тростника, стараясь не повредить корни растений, чтобы не загубить будущий урожай. Издалека на фоне пестрых тростниковых зарослей, вдвое превышавших рост человека, они походили на букашек. Работа по очистке жестких стеблей, их измельчению в зубастых машинах, отжиму сока под прессом и его вывариванию в огромных медных ковшах, откуда выходил темный сироп, обладала особым очарованием в глазах этих городских жителей, которым до сих пор приходилось видеть сахар лишь в виде белоснежных кристаллов в своем кофе. Такого рода гости возвращали Вальморена в современность, рассказывая о последних событиях в Европе, с каждым разом становящейся для него все более далекой, о новинках науки и техники и модных философских идеях. Они приоткрывали для него маленькую форточку, чтобы он смог хотя бы одним глазком подсмотреть за тем, что происходит в мире, и оставляли ему в подарок книгу-другую. Вальморен наслаждался обществом своих гостей, но еще большее удовольствие получал после их отъезда — ему не слишком нравилось иметь под боком свидетелей и наблюдателей за своей жизнью и своей собственностью. Иностранцы смотрели на рабство со смесью отвращения и болезненного любопытства — чувствами, бывшими для него оскорбительными, поскольку сам он считал себя справедливым хозяином. И если бы они знали, как обращаются со своими неграми другие плантаторы, то согласились бы с ним. Он знал, что многие из них, вернувшись в цивилизованный мир, станут аболиционистами — убежденными противниками рабства, готовыми саботировать потребление сахара. Раньше, прежде чем он вынужден был поселиться на острове, его также шокировало бы рабство, если б он оказался посвящен в детали, но отец никогда не заговаривал на эту тему. Теперь же, когда на шее у него висело несколько сот рабов, его отношение к данному предмету изменилось.
Первые годы, когда Тулуз Вальморен вытаскивал Сен-Лазар из мерзости запустения, прошли как бы мимо, просто пролетели, и ему ни разу не удалось выехать за пределы колонии. Он утратил все связи с матерью и сестрами, за исключением редко и нерегулярно приходивших писем, написанных в том формальном тоне, который годился только на то, чтобы передавать информацию о банальностях каждодневной жизни и состоянии здоровья.
Он сменил пару администраторов, выписанных из Франции, — креолы считались коррумпированными, но этот опыт закончился полным провалом: один из них умер от укуса гадюки, а другой предался порокам — неумеренному питию рома и увлечению наложницами. Это продолжалось до тех пор, пока за ним не приехала его супруга, которая, не принимая во внимание никаких возражений, увезла его с собой. Теперь Вальморен пробовал на этой должности Проспера Камбрея, за плечами которого, как и всех свободных мулатов колонии, были обязательные три года службы в жандармерии — Маршоссе — организации, на которую были возложены обязанности по принуждению к соблюдению закона, охране порядка, взиманию налогов и преследованию беглых рабов. У Камбрея не было ни состояния, ни покровителей, и из всех возможных способов зарабатывать на жизнь он избрал довольно неблагодарное занятие — охотиться за неграми. Так и рыскал он в погоне за ними по этой земле с бешеным рельефом — чересполосицей враждебных человеку джунглей и крутых гор с обрывами, где даже мулы не могли передвигаться уверенно. Кожа у него была желтой, покрытой оспинами, волосы — курчавыми, цвета ржавчины, глаза — зеленые, вечно воспаленные, голос же был хорошо поставлен и мягок, как бы в насмешку резко контрастируя с его жестоким нравом и внешностью убийцы-головореза. От рабов он требовал унизительного пресмыкательства и в то же время холопствовал перед теми, кто стоял выше его самого. Вначале он интригами попытался завоевать уважение Вальморена, но вскоре понял, что их разделяет пропасть — и расовая, и социальная. Вальморен обеспечивал ему приличное жалованье, возможность властвовать и приманку — место главного надсмотрщика в недалеком будущем.
С появлением Камбрея у Вальморена появилось больше свободного времени — чтобы читать, охотиться и ездить в Ле-Кап. Он уже был знаком с Виолеттой Буазье, самой востребованной кокоткой города. Это была свободная девушка, имевшая репутацию чистой и здоровой, с африканскими корнями и внешностью белой. По крайней мере, с ней-то его не будет подстерегать судьба отца, погибшего от разжижающей кровь «испанской болезни».
Ночная птица
Виолетта Буазье и сама была дочерью кокотки — величественной мулатки, погибшей в возрасте двадцати девяти лет на клинке французского офицера (возможного отца Виолетты, хотя подтверждения эта версия так никогда и не получила), обезумевшего от ревности. Девочка начала свою профессиональную деятельность под присмотром собственной матери в возрасте одиннадцати лет; в тринадцать, когда мать была убита, она уже в совершенстве владела самыми изысканными способами любви, а в пятнадцать оставила далеко позади всех своих соперниц. Вальморен предпочитал не задумываться над вопросом, с кем резвилась его petite amie[4] в его отсутствие, поскольку не был расположен оплачивать эксклюзивность. Виолетта, само воплощение вихря движений и улыбок, стала его капризом, его зазнобой, но он обладал достаточным хладнокровием, чтобы обуздывать свое воображение, — в отличие от того вояки, что убил ее мать, сломав себе карьеру и запятнав доброе имя. Вальморен довольствовался тем, что водил ее в театр и на мальчишники, куда белым дамам путь был заказан и где ее блистающая красота притягивала к себе взгляды. Зависть, которую он вызывал в других мужчинах, показываясь с ней рука об руку на публике, доставляла ему какое-то извращенное удовольствие; многие пожертвовали бы честью, лишь бы провести с Виолеттой целую ночь, а не один-два часа, как было заведено, но эта привилегия принадлежала только ему. По крайней мере, он так думал.
В распоряжении девушки была квартира в доме неподалеку от площади Клюни: второй этаж, три комнаты и балкон с ирисами, обведенный железной решеткой, — единственное оставшееся ей от матери наследство, если не считать нескольких платьев, имевших прямое отношение к профессии. Там она и жила, с некоторой претензией на роскошь, в компании Лулы — массивной, как шкаф, крепкой рабыни-негритянки, выполнявшей одновременно функции служанки и телохранителя. Самые жаркие часы дня Виолетта посвящала отдыху или служению своей красоте: массажи с втиранием кокосового молока, депиляция карамелью, масляные маски для волос, травяные настои для очищения голоса и взгляда. Иногда в порыве вдохновения вместе с Лулой она занималась приготовлением кремов, миндального мыла, наст и пудры для макияжа, которые затем продавала подругам. Дни ее текли медленно и бездельно. К вечеру, когда лишенные дневной силы солнечные лучи уже не могли вызвать нежелательные пятна на коже, если погода тому благоприятствовала, она выходила на пешую прогулку; в случае же дурной погоды прибегала к портшезу с парой рабов, который брала напрокат у соседки: это средство передвижения позволяло не испачкаться в конском навозе, мусоре и грязи на улицах Ле-Капа. Одевалась она скромно, чтобы не обидеть других женщин: ни белые, ни мулатки не отличались толерантностью к подобной конкуренции. Она отправлялась по магазинам за покупками или к причалам за контрабандными заморскими товарами, заходила к модистке, парикмахеру, а также навещала подруг. Под предлогом внезапно возникшего желания выпить стакан сока Виолетта появлялась в отеле или каком-нибудь кафе, где никогда не было недостатка в кавалерах, сгоравших от желания пригласить ее за свой столик. Ее связывали интимные знакомства с самыми влиятельными белыми господами колонии, в число которых входили и наиболее высокопоставленные военачальники, и губернатор. Потом она возвращалась домой — нарядиться и подготовиться к выполнению своих профессиональных обязанностей, а это было делом непростым, на которое уходило часа два. В ее гардеробе присутствовали наряды всех цветов радуги, пошитые из эффектных европейских и восточных тканей; имелись туфельки и сумочки под эти наряды, шляпки с перьями, расшитые китайские шали, меховые накидки, чтобы волочить за собой по полу, потому что использовать их по прямому назначению не позволял климат, а также сундучок с мишурными украшениями. Каждую ночь очередной счастливчик и друг — клиентом он не назывался — сопровождал ее на какой-нибудь спектакль и ужин. Потом они отправлялись на вечеринку, завершавшуюся ближе к рассвету. И наконец кавалер провожал свою даму до ее квартиры, где она чувствовала себя в безопасности, ведь поблизости на соломенном тюфяке спала Лула — чтобы услышать голос хозяйки и прийти ей в случае необходимости на помощь, а справиться она могла с любым разбушевавшимся мужчиной. Цена ее была всем известна и даже не упоминалась — деньги просто следовало оставить в лакированной шкатулке на столике, но от величины чаевых зависела следующая встреча.
В щели между двумя досками стены — помимо самой хозяйки, о тайнике было известно только Луле — Виолетта хранила замшевый футляр со своими настоящими драгоценностями и некоторое количество золотых монет, понемногу возраставшее, — запасы на будущее. Часть дорогих украшений была подарена Тулузом Вальмореном, которого можно было упрекнуть в чем угодно, но не в скупости. Вообще-то, Виолетта отдавала предпочтение бижутерии, чтобы не вводить в искушение грабителей и не давать повода для сплетен, но все же надевала драгоценности в тех случаях, когда проводила время с их дарителями. Зато носила, не снимая, скромный старинного вида перстень с опалом, надетый ей на палец как символ помолвки Этьеном Реле, французским офицером. С ним она виделась довольно редко, потому что Реле, командуя своим подразделением, практически жил в седле, но, если он оказывался в Ле-Капе, она ради него переносила свои свидания с другими друзьями. Реле был единственным мужчиной, с которым она могла испытывать чарующее ощущение защищенности. Тулуз Вальморен и не подозревал, что разделяет привилегию на целую ночь Виолетты с этим грубым солдафоном. Она же в объяснения не пускалась, да и перед выбором не вставала, поскольку эти двое не появлялись в городе одновременно.
— Что я буду делать с этими двумя, ведь каждый из них видит во мне невесту? — как-то раз спросила Виолетта Лулу.
— Такие вещи решаются сами собой, — проронила рабыня, глубоко затягиваясь своей сигарой темного табака.
— Или решаются кровью. Вспомни о моей матери.
— Ну, с тобой такого не случится, мой ангелочек, ведь я здесь, с тобой.
Лула была права: время само взяло на себя труд устранить одного из двух претендентов. Через пару лет связь с Вальмореном перешла в стадию нежной дружбы, лишенной страсти первых месяцев, когда он был готов загнать лошадей, лишь бы поскорей сжать ее в объятиях. Дорогие подарки стали редкими, и подчас он наведывался в Ле-Кап, не выказывая никаких признаков желания увидеться с ней. Виолетта не стала ему на это пенять, поскольку всегда очень ясно представляла себе возможные пределы их отношений, но контакты с ним рвать не стала — в будущем это могло пригодиться им обоим. Что касается капитана Этьена Реле, то он славился неподкупностью, причем в такой среде, в которой коррумпированность была нормой: честь продавалась, законы писались, чтобы их нарушать, и все исходили из того, что кто властью не злоупотребляет, тот ее не заслуживает. Цельность его натуры являлась препятствием к неправедному обогащению — обычному делу для людей в его должности. Даже соблазн скопить достаточно денег, чтобы вернуться во Францию, что он уже успел пообещать Виолетте Буазье, не смог заставить его отказаться от того понимания офицерской чести, которого он придерживался. Не задумываясь, Реле посылал на смерть своих солдат или подвергал пыткам ребенка, выдавливая из него информацию о матери, но никогда не прикоснулся бы к деньгам, которые не были заработаны честным путем. В вопросах чести и честности он был особенно скрупулезным. Он мечтал увезти Виолетту туда, где ее никто не знает, где никому бы даже в голову не пришло, что она когда-то зарабатывала на жизнь не слишком добродетельными способами, и где не бросалось бы в глаза смешение рас в ее крови: чтобы догадаться о том, что под ее светлой кожей пульсирует африканская кровь, нужно было обладать тренированным глазом жителя колоний.
Виолетту не слишком привлекала идея переезда во Францию: куда больше, чем злых языков, она опасалась холодных зим, к которым была непривычна. Но уехать вместе с ним она согласилась. По расчетам Реле, если жить он будет скромно, станет браться за рискованные, но и высокооплачиваемые операции и быстро продвигаться по служебной лестнице, его мечты и планы исполнятся. Он надеялся, что к тому времени Виолетта повзрослеет и уже не будет так привлекать внимание дерзостью своего смеха, чересчур озорным блеском черных глаз и ритмичным покачиванием бедер при походке. Никогда она не пройдет незамеченной, но, возможно, ей удастся вжиться в роль супруги отставного офицера. «Мадам Реле»… Он смаковал эти два слова, повторял их как заклинание. Решение взять ее в жены было не результатом тщательно продуманной стратегии, как все остальное в его жизни, но плодом столь мощного порыва, что это решение никогда не ставилось им под сомнение. Человеком чувства он не был, но давно научился доверять своему инстинкту, не раз выручавшему на войне.
Впервые Виолетту он увидел пару лет назад, в кипении воскресной рыночной площади, в окружении выкриков торговцев и толкотни людей и животных. В жалком театре, представлявшем собой деревянные подмостки, над которыми возвышался темно-лиловый тряпичный навес, важно расхаживал некий субъект с неимоверного размера усами и разрисованной арабесками кожей, а рядом с ним крутился мальчишка, во всю глотку расхваливая его достоинства как самого расчудесного и могущественного мага Самарканда. Это патетическое зрелище ни в коей мере не привлекло бы капитана, если б не Виолетта, которая оживляла картину своей искрометной энергией. Когда маг обратился к публике, призывая выйти на сцену добровольца, она расчистила себе в толпе зевак дорогу и с каким-то детским энтузиазмом поднялась на подмостки, улыбаясь и приветствуя веером публику. Ей только что исполнилось пятнадцать, но ее тело и манеры обнаруживали в ней опытную женщину, что не было редкостью в этом климате, в котором девочки, как и фрукты, созревали быстро. Подчиняясь распоряжениям фокусника, Виолетта залезла в ярко размалеванный египетскими иероглифами сундук. Зазывала — одетый турком негритенок лет десяти — захлопнул крышку и навесил на сундук пару массивных замков, после чего на сцену был приглашен еще один зритель, чтобы иметь возможность убедиться в их надежности. Самаркандец сделал несколько пассов плащом и тут же вручил добровольцу два ключа, чтобы тот открыл замки. Когда крышка сундука распахнулась, все увидели, что девушки в нем уже не было, однако через пару мгновений барабанная дробь, исполненная негритенком, возвестила о ее чудесном появлении за спиной публики. Все обернулись и с разинутым ртом уставились на девушку, которая возникла ниоткуда и теперь спокойно обмахивалась веером, опершись ногой о бочку.
С первого взгляда Этьен Реле понял, что он никогда не сможет вырвать из своего сердца это медово-шелковое создание. Он почувствовал, как что-то в его теле оборвалось, во рту у него пересохло, и он совершенно потерял способность к ориентации. Чтобы вернуться к действительности и осознать, что стоит он на базарной площади, а вокруг полно людей, ему пришлось сделать над собой усилие. Стараясь вернуть себе контроль над собственным телом, он жадно втягивал в легкие влажный полуденный воздух, пропитанный запахами подтекающих на солнце рыбы и мяса, гнилых фруктов, мусора и оставленного животными дерьма. Имени красавицы он не знал, но полагал, что узнать его будет нетрудно. К тому же он сделал вывод, что она не замужем, потому что ни один муж не позволил бы ей вести себя на людях с такой непринужденностью. Она была настолько великолепна, что все взгляды были прикованы только к ней, так что никто, кроме Реле, привыкшего не упускать ни малейшей детали, не заметил трюка иллюзиониста. В других обстоятельствах он, из бескорыстной любви к точности, быть может, и разоблачил бы фокус с двойным дном в сундуке и откидной дверцей в помосте, но тут он предположил, что девушка принимала участие в представлении как помощник мага, и предпочел избавить ее от неприятностей. Он не остался досматривать представление: ни как покрытый татуировками цыган извлекает из бутылки обезьяну, ни как лишают головы добровольца из публики, о чем громко кричал мальчишка-зазывала. Растолкав толпу локтями, Реле отправился вслед за девушкой, быстро удалявшейся об руку с каким-то мужчиной в форме, который вполне мог оказаться его солдатом. Догнать ее ему не удалось: внезапно он был остановлен негритянкой с мускулистыми, увешанными простенькими браслетами руками. Она стеной выросла прямо перед ним и объявила, что ему следует встать в очередь, потому как он не единственный, кого интересует ее хозяйка, Виолетта Буазье. Увидев смущение на лице капитана, она склонилась к нему, чтобы прошептать ему на ухо размер пожертвования, которое следовало уплатить, чтобы она записала его первым в списке клиентов этой недели. Так он узнал о том, что влюбился в одну из тех куртизанок, которыми был славен Ле-Кап.
Впервые Реле появился в квартире Виолетты Буазье с негнущимся, словно деревянным, телом, затянутым в свежевыглаженную офицерскую форму, с бутылкой шампанского и скромным подарком в руках. Положил деньги, куда ему велела Лула, и приготовился в течение ближайших двух часов поставить на карту и разыграть свое будущее. Лула деликатно удалилась, и он остался один, обливаясь потом в горячем воздухе загроможденной мебелью гостиной и ощущая легкую тошноту от сладкого аромата зрелых плодов манго, выложенных на блюдо. Виолетта не заставила себя ждать дольше двух минут. Не говоря ни слова, проскользнула она в гостиную и протянула ему обе руки, в то время как ее полуприкрытые глаза внимательно его изучали, а по губам блуждала легкая улыбка. Реле взял своими руками эти длинные тонкие пальчики, не имея ни малейшего понятия о своем следующем шаге. Она освободилась, погладила его по щеке, польщенная тем, что он специально для нее побрился, и велела ему откупорить бутылку. Пробка выстрелила, и белая пена шампанского, вырвавшись из горлышка раньше, чем она успела подставить бокал, забрызгала ей запястье. Она провела себе по шее влажными пальчиками, и Реле охватило желание слизнуть языком капли, сверкавшие на этой великолепной коже, но он как прикованный застыл на своем месте — немой и безвольный. Она налила вина и поставила бокал, даже не пригубив, на низкий столик возле дивана, потом приблизилась и ловкими привычными пальцами расстегнула плотный форменный мундир. «Сними ты его, здесь жарко. И сапоги тоже», — велела она, подавая ему китайский халат, разрисованный серыми цаплями. Реле он показался совершенно несообразным, но она накинула халат прямо поверх его сорочки, путаясь в хитросплетении широких рукавов, а потом усадила его, полного тревоги, на диван. Он привык командовать сам, но понимал, что в этих четырех стенах командует Виолетта. Сквозь щелки жалюзи в комнату проникал и шум с площади, и последние лучи солнца, просачиваясь внутрь тонкими вертикальными ножевыми порезами и освещая комнату. На девушке была шелковая изумрудного цвета туника, схваченная на талии золотистым шнурком, турецкие туфли и пышный тюрбан, расшитый стеклянными бусинами. Вьющийся черный локон падал ей на лицо. Виолетта пригубила шампанское и предложила ему свой бокал, который он опустошил одним глотком, терзаемый жаждой потерпевшего кораблекрушение в открытом море. Она вновь наполнила бокал и, держа его за тонкую ножку, ожидала, пока Реле не позовет ее к себе на диван. Это было последней инициативой капитана: начиная с этого момента Виолетта полностью взяла на себя руководство этой встречей.
Голубиное яйцо
Виолетта давно научилась искусству удовлетворять своих друзей за оговоренное время и при этом не создавать впечатления поспешности. Столько кокетства и шутливой покорности в еще совсем юном теле совершенно обезоружили Реле. Она медленно развязала длинную ленту своего тюрбана, упавшего под перезвон стеклянных бусин на деревянный пол, и одним движением расправила темный каскад волос, покрывших ей плечи и спину. Движения ее были томными, без тени наигранности, отмеченные непринужденностью танцевальных па. Груди ее еще не достигли окончательной полноты, а соски приподнимали зеленый шелк, как камешки. Под туникой не было ничего — только обнаженное тело. Реле восхитило это тело мулатки: крепкие ноги с тонкими щиколотками, массивные зад и бедра, тонкая, вот-вот переломится, талия, элегантные, чуть отогнутые назад пальцы без колец. Смех ее зарождался глухим мурлыканьем где-то в животе и медленно поднимался, хрустальный, озорной; головка запрокинута, волосы, словно живущие собственной жизнью, и длинная трепещущая шея. Виолетта серебряным ножиком отрезала кусочек манго и быстро отправила его себе в рот, по струйка сока попала в вырез туники — на влажную от пота и шампанского кожу. Пальцем собрала она этот фруктовый след — янтарную густую каплю — и принялась размазывать ее по губам Реле, с кошачьей грацией устраиваясь на его коленях. Лицо мужчины оказалось между ее грудей, благоухающих манго. Она чуть наклонилась, заключив его в плен своих диких волос, соединила свои губы с его губами в самом что ни на есть настоящем поцелуе и языком протолкнула ему в рот кусочек уже разжеванного фрукта. Реле принял пережеванную мякоть с дрожью изумления: никогда до того не ощущал он ничего столь глубоко интимного, шокирующего и чудесного. Она лизнула ему подбородок, обхватила обеими руками голову и принялась покрывать его быстрыми, как клюющая птичка, поцелуями — в веки, щеки, губы, шею, — играя, смеясь. Офицер обхватил ее за талию и отчаянными движениями рук сорвал с нее тунику, обнажив эту стройную и дышащую мускусом отроковицу, а она сгибалась, расплавлялась, крошилась от соприкосновения с его крепкими костями и напряженными мускулами закаленного в битвах и лишениях солдатского тела. Он хотел было поднять ее на руки и отнести на ложе, которое уже заприметил в соседней комнате, но Виолетта не дала ему на это времени: ее руки одалиски распахнули халат с серыми цаплями и спустили кальсоны, ее пышные бедра искусно стали извиваться поверх него, пока она не оказалась нанизана на его каменной твердости член, что сопровождалось глубоким радостным вздохом. Этьен Реле ощутил, что погружается в трясину наслаждения, не обладая уже ни памятью, ни волей. С закрытыми глазами целовал он эти сочные губы, смакуя манговый аромат, и одновременно изучал своими мозолистыми руками солдата невообразимую мягкость этой кожи и щедрое обилие этих кудрей. Он погрузился в нее, отрекшись от всего и отдавшись жару, вкусу и запаху этой юницы, с чувством, что он наконец нашел в этом мире свое место после стольких одиноких блужданий по воле волн. Через несколько минут он кончил, как глупый подросток, судорожной струей и криком отчаяния оттого, что не смог доставить ей наслаждение, потому что более всего в своей жизни желал, чтобы она в него влюбилась. Виолетта подождала, пока он не закончит; неподвижная, запачканная, задыхающаяся, она все еще была на нем, с лицом, спрятанным в ложбинку на его плече, и бормотала что-то невнятное.
Реле не знал, сколько времени они провели, соединенные объятием, пока он не начал нормально дышать и не рассеялся немного густой туман, окружавший его, и тогда он осознал, что все еще внутри ее, прочно удерживаемый эластичными мышцами, которые ритмично массировали его плоть, то сжимая, то отпуская. Он было задумался над вопросом, когда успела научиться пятнадцатилетняя девочка этим приемам многоопытных куртизанок, но тут же вновь погрузился в магму желания и смятение внезапной любви. Когда Виолетта снова почувствовала его твердость, она обхватила его талию ногами, скрестив ступни у него за спиной, и жестом указала на соседнюю комнату. Реле поднял ее, все еще пронзенную его плотью, на руки и рухнул вместе с ней на кровать, где они получили возможность наслаждаться друг другом, удовлетворяя свои желания, до самой поздней ночи, на несколько часов больше отмеренного Лулой времени. Бой-баба пару раз заходила, вознамерившись положить конец этим злоупотреблениям, но Виолетта, размягченная зрелищем стреляного вояки, рыдающего от любви, спровадила ее без долгих размышлений.
Любовь, незнакомая ему дотоле, перевернула Этьена Реле, как огромная волна, — сама энергия, соль и пена. Он рассудил, что не сможет конкурировать с другими клиентами этой девицы, более красивыми, могущественными или богатыми, и по этой причине под утро решил предложить ей то, что очень немногие белые мужчины вознамерились бы ей дать, — свою фамилию. «Выходи за меня замуж», — попросил он ее в паузе между объятиями. Виолетта уселась на кровати по-турецки, с влажными, прилипшими к коже волосами, сверкающими глазами, распухшими от поцелуев губами. Ее освещали три догорающие свечи, что все это время сопровождали их бесконечные акробатические упражнения. «В жены я не гожусь», — ответила она ему и добавила, что месячные у нее еще не начинались, а по словам Лулы, все сроки для этого уже вышли, и это значит, что она никогда не сможет иметь детей. Реле улыбнулся, потому что дети представлялись ему обузой.
— Если я за тебя выйду, то всегда буду одна, пока ты будешь пропадать в своих кампаниях. Среди белых места для меня нет, а тут и мои друзья от меня откажутся: они тебя боятся, говорят, что ты кровожадный.
— Этого требует моя работа, Виолетта. Как врач отрезает пораженную гангреной руку или ногу, так и я выполняю свой долг, чтобы избежать еще большего зла, но я никогда и никому не причинил вреда без достаточных на то оснований.
— Вот я-то и предоставлю тебе какие хочешь достаточные основания. Не хочу повторить судьбу моей матери.
— Тебе никогда не придется бояться меня, Виолетта, — произнес Реле, обнимая ее за плечи и не отводя взгляда от ее глаз.
— Надеюсь на это, — вздохнула она наконец.
— Мы поженимся, я тебе обещаю.
— Да тебе жалованья не хватит, чтобы меня содержать. С тобой мне всего будет недоставать: платьев, духов, театра и времени, которое можно терять. Я ленива, капитан, и то, чем я занимаюсь, — это единственный способ, которым я могу заработать себе на жизнь, не портя руки, да и этот способ не слишком долго будет мне доступен.
— Сколько тебе лет?
— Не много, но ремесло это с воробьиным веком. Мужчины устают от одних и тех же лиц и задниц. Я должна получить выгоду от того единственного, что у меня есть, — так говорит Лула.
Капитан старался видеться с ней так часто, как позволяла ему служба, и через несколько месяцев ему удалось стать для нее совершенно необходимым: он заботился о ней, давал ей советы доброго дядюшки, дошло до того, что она уже не могла представить себе жизнь без него и начала рассматривать некую возможность в отдаленном поэтическом будущем выйти замуж. Реле рассчитал, что они смогут пожениться лет через пять. Это время позволит им проверить любовь на прочность и, каждому в отдельности, скопить денег. Он смирился с тем, что Виолетта будет продолжать свои обычные занятия, как и с тем, что и он станет оплачивать ее услуги, как остальные клиенты, благодарный за возможность время от времени проводить с ней всю ночь. Вначале они занимались любовью до изнеможения, но потом пылкость сменилась нежностью, и они посвящали драгоценные часы разговорам, планам на будущее и расслабленным объятиям в жарком полумраке квартиры Виолетты. Реле изучил и тело, и характер девушки, он мог предугадывать ее реакцию, избегать вспышек ее ярости, походивших на тропические грозы — внезапные и скоротечные, научился удовлетворять ее. Он обнаружил, что эта столь чувственная девочка была выучена давать наслаждение, но не получать его, и стал без спешки и ненавязчиво стараться удовлетворять ее. Разница в возрасте и его властный нрав уравновешивали легкость Виолетты, позволявшей, чтобы доставить ему удовольствие, руководить собой в некоторых практических вопросах; однако в целом она сохраняла свою независимость и обороняла свои секреты.
Лула вела денежные дела и вполне хладнокровно управлялась с клиентами. Однажды Реле застал Виолетту с заплывшим глазом и, рассвирепев, стал выспрашивать, кто ей поставил фингал, намереваясь заставить виновника дорого заплатить за это покушение. «Лула с него уже все получила. Мы и сами прекрасно управляемся», — расхохоталась она, и не оказалось никакого доступного способа заставить ее открыть имя обидчика. Рабыня-телохранительница знала, что здоровье и красота ее хозяйки были их общим капиталом и что придет тот день, когда и то и другое неизбежно начнет уменьшаться; также нужно было иметь в виду конкуренцию: каждый год в профессию врывались новые отряды отроковиц. Очень жаль, что капитан беден, думала Лула, ведь Виолетта заслужила хорошую жизнь. Любовь она ни в грош не ставила, путая ее со страстью, и уж кто-кто, а она-то повидала на своем веку, как быстро страсть проходит, но прибегнуть к интригам, чтобы отделаться от Реле, она не решалась. Этот человек внушал страх. Кроме того, Виолетта не выказывала никаких признаков, что торопится выйти замуж, а между тем мог ведь появиться и другой претендент, с лучшим финансовым положением. Лула решила копить деньги всерьез: складывать побрякушки в стенной щели было явно недостаточно, нужно было ухитриться перейти к более внушительным инвестициям — на случай, если не сложится брак с офицером. Она сократила расходы и подняла тариф своей хозяйки, и чем больше была запрошенная цена, тем более исключительными считались ее услуги. Лула взялась за расширение славы Виолетты путем распускания слухов. Она рассказывала, что хозяйка ее способна держать мужчину внутри своего тела на протяжении всей ночи и может возродить силу самого усталого любовника двенадцать раз кряду, а искусству этому она научилась от одной мавританки и тренировала свое умение при помощи голубиного яйца: она-де ходит по магазинам, в театр и на петушиные бои с яйцом в одном укромном местечке, да так, что оно у нее не выпадает и остается целехоньким. Не было недостатка в тех, кто ударами сабли утверждал свое право на обладание юной poule,[5] и это в огромной степени способствовало росту ее престижа. Самые богатые и влиятельные белые мужчины покорно записывались к ней в очередь и ожидали своего часа. Помимо прочего, Луле пришла в голову идея переводить деньги в золото, чтобы сбережения не уходили сквозь пальцы как песок. Реле, не имея возможности сделать существенный вклад в эти инвестиции, отдал Виолетте кольцо своей матери — то единственное, что оставалось у него от семьи.
Невеста с Кубы
В октябре 1778-го, на восьмой год своей жизни на острове, Тулуз Вальморен вновь отправился в одну из своих коротких коммерческих поездок на Кубу: кое-какие дела у него там были, но распространяться о них ему не хотелось. Как и всем колонистам Сан-Доминго, закон предписывал ему торговать исключительно с Францией, но существовали тысячи остроумных способов этот закон обойти, и с некоторыми из них он был весьма хорошо знаком. Уклонение от уплаты налогов не виделось ему серьезным грехом, потому что в конечном счете все налоги стекались в бездонные королевские сундуки. Многострадальное побережье острова всегда предоставляло замечательную возможность какому-нибудь скромному суденышку под покровом ночной темноты, чтобы никто ничего не заметил, выйти в море, взяв курс на другие укромные бухты Карибского бассейна. В то же время дырявая граница с испанской частью острова, менее населенной и гораздо более бедной, чем французская, не препятствовала непрерывному муравьиному движению носильщиков за спиной у властей. Контрабандой переправлялось что угодно: от оружия до злоумышленников, но в первую очередь — мешки с сахаром, кофе и какао с плантаций, а оттуда уж они шли по другим адресам, избегнув встречи с таможней.
После того как Вальморен расплатился с отцовскими долгами и в его руках стали скапливаться более значительные суммы денег, чем те, о которых он когда-то мог только мечтать, он решил держать свои деньги на Кубе, где они были в большей сохранности, чем во Франции, и к тому же всегда под рукой в случае необходимости. Он приехал в Гавану с намерением провести там недельку: ему нужно было встретиться со своим банкиром. Однако визит продлился куда дольше запланированного, потому что на балу во французском консульстве он познакомился с Эухенией Гарсиа дель Солар. Из дальнего угла претенциозного зала он заметил пышную девушку с полупрозрачной кожей, увенчанную каштановой гривой и несколько провинциально одетую. Она была полной противоположностью грациозной Виолетты Буазье, но в его глазах не менее красивой. Он сразу же выделил ее из бальной толпы и в первый раз почувствовал себя неловко. Костюмы такого покроя, как тот, что был на нем, купленный в Париже несколько лет назад, уже не носили; солнце выдубило его кожу, руки походили на клешни кузнеца, голова под париком чесалась, кружевной воротник сдавливал шею и не давал дышать, а щегольские туфли с острыми носами и скошенными каблуками нещадно жали ноги и принуждали к утиной походке. Манеры его, когда-то утонченные, казались грубыми в сравнении с непосредственностью кубинцев. Годы, проведенные на плантации, ожесточили его изнутри и огрубили снаружи, и сейчас, когда он более всего в том нуждался, он оказался лишенным тех светских манер, которые были для него так естественны в юности. В довершение всех неприятностей модные в том сезоне танцы представляли собой быстрое переплетение пируэтов, реверансов, поворотов и подскоков, воспроизвести которые он был решительно не способен.
Он навел справки и узнал, что девушка была сестрой одного испанца, Санчо Гарсиа дель Солара, выходца из семьи аристократов средней руки с довольно громкой фамилией, но обедневшей пару поколений назад. Мать их закончила свои дни, спрыгнув с церковной колокольни, а отец умер молодым, растранжирив семейное состояние. Эухения воспитывалась в одном из промороженных монастырей Мадрида, где монашки вложили в нее все необходимые для украшения характера дамы качества; целомудрие, привычку к молитвам и вышивке. Санчо же меж тем отправился на Кубу, чтобы попытать счастья, потому как в Испании не оказалось достаточно места для его безудержного воображения, а этот карибский остров, куда слетались авантюристы всех мастей, служил отличной почвой для весьма прибыльных, хотя и не совсем законных предприятий. Здесь он вел суетную жизнь холостяка, будучи опутан не слишком туго затянутым узлом долгов, которые он оплачивал с трудом и всегда в самый последний момент благодаря либо удачной ставке за игорным столом, либо помощи друзей. Он был хорош собой и отличался замечательно подвешенным, просто золотым языком для обольщения ближнего, и держался так, что никому и в голову не могло прийти, насколько глубока дыра в его кармане. Внезапно, когда он менее всего был расположен к такому повороту событий, монашки выслали к нему сестру в сопровождении дуэньи и немногословного письма, пояснявшего, что у Эухении нет религиозного призвания и пробил час, когда ему, ее единственному родственнику и охранителю, надлежало взять заботу о ней на себя.
С появлением этой молодой девственницы под одной с ним крышей кутежи для Санчо закончились, и перед ним встала задача найти ей подходящего супруга, да еще до того часа, как она выйдет из возраста невесты. В противном случае ей придется остаться старой девой — святых наряжать, и тогда уже никто не будет спрашивать, есть у нее к тому призвание или нет. Брат вознамерился выдать ее за того претендента, кто сможет предложить за нее лучшую цену, за того, кто вытащит их обоих из скудного состояния, на которое обрекла их расточительность родителя, но он и подумать не мог, что добыча будет такого веса, каковым обладал Тулуз Вальморен. Он хорошо знал, кто такой этот француз и сколько он стоит, держал его в поле зрения, намереваясь предложить кое-какие коммерческие операции, но на том балу не представил французу свою сестру, потому что она откровенно проигрывала в сопоставлении со знаменитыми кубинскими красавицами. Эухения была застенчива, подходящих нарядов у нее не было, а он не мог их ей купить, она не умела делать прически, хотя, по счастью, обладала обильной шевелюрой, к тому же она никак не могла похвастаться тонкой талией — требованием моды. Поэтому он был ошеломлен, когда на следующий после бала день Вальморен попросил у него позволения бывать у них — с самыми серьезными, как было заявлено, намерениями.
— Наверное, какой-то старый косолапый медведь, — пошутила, узнав новость, Эухения и щелкнула по брату сложенным веером.
— Это образованный и богатый кабальеро, но, даже будь он горбуном, ты все равно за него выйдешь. Тебе скоро двадцать стукнет, к тому же ты бесприданница.
— Но ведь я красива! — перебила она, смеясь.
— В Гаване найдутся женщины покрасивее и постройнее тебя.
— Я что, по-твоему, толстая?
— Ты не можешь заставлять себя упрашивать, тем более когда речь идет о Вальморене. Это прекрасная партия, у него титулы и собственность во Франции, хотя основное его состояние — плантация сахарного тростника в Сан-Доминго.
— Санто-Доминго?
— Сан-Доминго, Эухения. Французская часть острова сильно отличается от испанской. Я покажу тебе карту, ты увидишь, это совсем близко. Сможешь приезжать ко мне в гости, когда захочешь.
— Я не невежда, Санчо. И знаю, что эта колония — настоящее чистилище, скопище смертельных болезней и восставших рабов.
— Это ненадолго. Белые колонисты уезжают оттуда при первой же возможности. Через несколько лет ты уже будешь жить в Париже. Разве не об этом мечтает каждая женщина?
— Но я не говорю по-французски.
— Выучишь. С завтрашнего дня у тебя будет учитель, — сказал Санчо, завершая разговор.
Даже если Эухения Гарсиа дель Солар и собиралась противостоять желаниям своего брата, то отказалась от этой мысли, как только Тулуз Вальморен переступил порог их дома. Он оказался моложе и гораздо привлекательнее, чем она ожидала: среднего роста, хорошо сложенный, широкоплечий, с мужественным и гармоничным лицом, бронзовой от солнца кожей и серыми глазами. Его тонкие губы складывались в жесткую складку. Из-под съехавшего набок парика виднелись светлые волоски, и было заметно, что чувствовал он себя довольно неловко в слишком тесной одежде. Эухении понравилась его манера говорить — прямо, без околичностей — и смотреть на нее так, будто раздевает ее взглядом, отчего у нее по коже бежали греховные мурашки, которые непременно повергли бы в ужас монахинь мрачного мадридского монастыря. Она подумала: очень жаль, что Вальморен живет в Сан-Доминго, но, если брат ее не обманул, это ненадолго. Санчо предложил претенденту на руку сестры выпить самбумбии из тростникового меда в садовой беседке, и менее чем через полчаса вопрос был решен. Эухению не поставили в известность об окончательных деталях, обговоренных мужчинами при закрытых дверях, ей всего лишь пришлось заняться приданым невесты. Она заказала его во Франции, воспользовавшись советом жены консула, а брат профинансировал этот заказ, прибегнув к кредиту, который ему удалось получить благодаря своему неотразимому красноречию шарлатана. В своих утренних молитвах Эухения пылко благодарила Бога за выпавшую ей уникальную возможность выйти замуж по расчету за человека, которого она была способна полюбить.
Вальморен провел на Кубе пару месяцев, ухаживая за Эухенией изобретаемыми им на ходу способами, потому что к тому времени он утратил все навыки обращения с подобными ей женщинами, а методы, бывшие у него в ходу с Виолеттой Буазье, здесь не годились. Каждый день он являлся в дом к своей суженой к четырем и проводил там часа два, попивая прохладительные напитки и играя в карты, при неизменном присутствии с ног до головы одетой в черное дуэньи, которая одним глазом приглядывала за коклюшками, а другим неотрывно следила за парой. Дом Санчо оставлял желать много лучшего: у Эухении не было призвания к ведению домашнего хозяйства, и она не предпринимала никаких усилий для того, чтобы хоть немного привести его в порядок. Во избежание такой неприятности, как риск для жениха испачкать свою одежду жирной пылью, покрывавшей всю мебель в доме, его принимали в саду, где буйная тропическая растительность переходила все границы, как некая ботаническая угроза. Иногда жених и невеста выходили прогуляться вместе с Санчо или обменивались взглядами в церкви, где им не удавалось перемолвиться ни словечком.
Вальморен давно отметил для себя те скудные экономические условия, в которых жили брат и сестра Гарсиа дель Солар, и сделал вывод, что если его невеста неплохо себя чувствовала и в таком жилище, то с тем большей вероятностью ей будет по душе и в поместье Сен-Лазар. Он посылал невесте изящные подарки — цветы и благопристойные записочки, которые она складывала в обитую бархатом шкатулку, но оставляла без ответа. До тех пор Вальморен не слишком часто общался с испанцами — все его друзья были французами, — но вскоре он обнаружил, что чувствует себя в окружении испанцев вполне комфортно. Никаких проблем с общением у него не возникало, потому что вторым языком высшего класса и образованных людей на Кубе был французский. Молчание своей суженой он путал со скромностью, являвшейся в его глазах ценной женской добродетелью, и у него даже мысли не возникало, что она едва-едва его понимает. У Эухении способностей к языкам не обнаружилось, и всех усилий ее учителя оказалось недостаточно, чтобы вложить в нее тонкости французского языка. Скромность Эухении и ее манеры послушницы виделись ему гарантией того, что она не впадет в разнузданность, столь характерную для многих женщин Сан-Доминго, забывавших о стыдливости под предлогом климатических условий. Как только Вальморен разобрался в особенностях испанского национального характера с его преувеличенным чувством чести и отсутствием иронии, то почувствовал себя рядом с девушкой вполне комфортно и смирился с мыслью о том, что рядом с ней ему придется добросовестно скучать. Это для него было не важно. Он желал получить добродетельную супругу и образцовую мать для своих детей, а для развлечения у него были его книги и его дела.
Санчо являл собой полную противоположность сестре и другим знакомым Вальморену испанцам: циничный, легкого нрава, с полным иммунитетом к мелодрамам и потрясениям ревности, ни во что не веривший и способный на лету схватить носившиеся в воздухе возможности. Хотя некоторые черты будущего шурина и шокировали Вальморена, с Санчо он от души развлекался и даже позволял себя надуть, готовый лишиться какой-то суммы взамен на удовольствие, получаемое от остроумной беседы и возможности немного посмеяться. В качестве первого шага он сделал Санчо своим компаньоном в деле контрабанды французских вин, которую он планировал организовать из Сан-Доминго на Кубу, где вина эти ценились весьма высоко. Так и зародилось то долгое и прочное сообщничество, которое связало их до самой смерти.
Дом хозяина
В конце ноября Тулуз Вальморен вернулся в Сан-Доминго и занялся подготовкой к приезду своей будущей супруги. Как и на всех плантациях, в Сен-Лазаре имелся так называемый большой дом, который в данном случае представлял собой не более чем сложенный из дерева и кирпича прямоугольный барак, стоявший на трехметровых опорах, — защита от наводнений в сезон ураганов и при восстаниях рабов. В доме был целый ряд темных спален, с подгнившими кое-где половыми досками, а также вполне просторные гостиная и столовая с расположенными друг против друга, чтобы воздух не застаивался, окнами и целой системой свисавших с потолка парусиновых вееров. Это приспособление приводилось в действие с помощью веревки, с которой управлялись рабы. Когда вентиляторы начинали работать, в воздух поднималось легкое облако из пыли и высохших комариных крыльев, оседавших потом на одежде, как перхоть. В окна были вставлены не стекла, а вощеная бумага, да и мебель была неказистой и грубой, как во временном пристанище холостяка. Под потолком гнездились летучие мыши, по углам ползали червяки, а ночью можно было услышать, как по комнатам бегают мыши. Галерея, то есть крытая терраса с плетеной мебелью далеко не первой свежести, опоясывала дом с трех сторон. А вокруг располагались запущенные огороды с грядками и побитыми тлей фруктовыми деревьями и несколько дворов, по которым бродили, роясь в пыли, ошалевшие от жары куры. Дальше взгляду открывались конюшня для чистокровных лошадей, псарни, каретный сарай, а за ними — рокочущий океан тростника и — театральным задником — фиолетовые горы, четко рисовавшиеся на фоне своевольного неба. Возможно, когда-то здесь был и сад, но от него не осталось уже даже воспоминаний. Мельницы для тростника, хижины и бараки рабов из дома видны не были. Тулуз Вальморен оглядел свои владения критическим взглядом, в первый раз заметив их ветхость и заурядность. В сравнении с жилищем Санчо дом, конечно, казался дворцом, но на фоне особняков других больших белых острова и его небольшого семейного замка во Франции, где он не появлялся вот уже целых восемь лет, это строение выглядело постыдно уродливым. Он принял решение начать жизнь женатого человека с правильной ноты и поразить свою жену, введя ее в дом, достойный фамилий Вальморен и Гарсиа дель Солар. Нужно было заняться кое-какими преобразованиями.
Виолетта Буазье восприняла новость о женитьбе своего клиента по-философски спокойно. Лула, которая всегда могла все разузнать, доложила ей, что у Вальморена на Кубе есть невеста. «Он будет по тебе скучать, ангелочек, и уверяю тебя, он еще вернется», — сказала она. Так и случилось. Вскоре после этого разговора Вальморен постучал в дверь ее квартиры, но явился он не за ее обычными услугами, а для того, чтобы его бывшая любовница помогла ему принять его супругу как положено. Он не знал, за что взяться, и никто другой, кто бы мог помочь, ему не вспомнился.
— Это правда, что испанки спят в монашеской ночной рубашке с отверстием спереди, чтобы заниматься любовью? — поинтересовалась Виолетта.
— Откуда ж мне знать? Я ведь еще не женился, но если это и так, я сдеру с нее эту штуку, вырву ее с корнем! — засмеялся жених.
— Ну нет, дорогой. Ты принесешь рубашку мне, и мы с Лулой вырежем в ней еще одну дыру — сзади, — заявила она.
Юная кокотка согласилась давать ему консультации по данному делу за весьма разумную цену в пятнадцать процентов от расходов на облагораживание дома. В первый раз в ее отношения с мужчиной не входили постельные путы, и она взялась за дело с энтузиазмом. Вместе с Лулой она поехала в Сен-Лазар, чтобы составить себе представление о той миссии, что была на нее возложена, но стоило ей переступить порог, прямо в вырез ее платья с потолка упала ящерица. На визг сбежались несколько дворовых, которым она тут же приказала заняться генеральной уборкой. В течение целой недели эта прекрасная куртизанка, которую до тех пор Вальморен видел не иначе как в золотистом свете ламп, наряженную в шелк и парчу, подкрашенную и надушенную, — руководила работой целой роты рабов — босая, в халате из плотной ткани и с покрытой платком головой. Впечатление было такое, что она полностью в своей стихии, как будто бы всю свою жизнь только и занималась этой грубой работой. Рабы под ее руководством выскоблили целые доски и заменили гнилые, сменили бумагу на окнах и москитные сетки, все проветрили, насыпали по углам отраву от мышей, выкурили табачным дымом насекомых, вывезли негодную мебель в переулок негритянской деревни, и в результате дом стал чистым и голым. Виолетта велела побелить его снаружи, а поскольку известки оказалось больше, чем нужно, остатки пошли на побелку стоявших невдалеке от господского дома хижин дворовых рабов, а затем она приказала высадить вокруг галереи лиловые анютины глазки. Вальморен намеревался и дальше поддерживать дом в чистоте, а также отобрал нескольких рабов и велел им разбить сад по образцу Версаля, хотя экзотический климат ничуть не способствовал процветанию в Сен-Лазаре геометрического искусства садовников-пейзажистов французского двора.
Виолетта вернулась в Ле-Кап с целым списком необходимых покупок. «Слишком много не трать, этот дом у нас временный. Как только я раздобуду хорошего управляющего, мы уедем во Францию», — сказал ей Вальморен, вручая сумму, которая показалась ей вполне достаточной. На эти предупреждения она не обратила внимания, потому что ничто не доставляло ей такого удовольствия, как делать покупки.
Из порта Ле-Капа изливались по всему миру неиссякаемые сокровища колонии, и в него же вливались легальные товары и контрабанда. Разномастная толпа толкалась на покрытых грязью улицах, торгуясь на самых разных языках среди тачек, мулов, лошадей и стай бездомных собак, роющихся в кучах мусора. Там продавалось все: от роскошных изделий из Парижа до дешевых безделушек с Востока и пиратских трофеев. И каждый день, кроме воскресенья, насыщая непреходящий спрос, продавались с торгов рабы: от двадцати до тридцати тысяч в год, необходимых, чтобы поддерживать их количество на одном и том же уровне, потому что хватало их ненадолго.
Виолетта уже израсходовала выданные деньги, но продолжала покупать в кредит под гарантию имени Вальморена. Несмотря на свою молодость, выбирала она со знанием дела, потому как светская жизнь уже научила ее разбираться в ценах и отполировала вкус. Капитану корабля, ходившему меж островов, она заказала серебряную посуду, столовое стекло и фарфоровый сервиз для торжественных случаев. Невеста должна была принести в дом простыни и скатерти, которые, конечно же, вышивала с самого детства, так что об этом Виолетта не заботилась. Зато она раздобыла французскую мебель для гостиной; массивный американский стол с восемнадцатью стульями, сработанные так, что должны были прослужить не одному поколению; голландские гобелены, лакированные ширмы, испанские сундуки для белья; с избытком — железных канделябров и масляных ламп, потому что полагала, что жить в потемках никак нельзя, а также фаянсовую посуду из Португалии для каждодневного использования и один расписной сервиз. При этом напольные ковры Виолетта решила не покупать, потому что они гнили от влажности.
Поставщики взяли на себя доставку заказанных товаров, а также вручение счетов Вальморену. Вскоре в поместье Сен-Лазар стали прибывать телеги, сверх меры груженные ящиками и корзинами, и из-под соломы рабы принялись выгружать нескончаемую череду предметов. Там были немецкие часы, птичьи клетки, китайские шкатулки, копии римских статуй с отбитыми руками, венецианские зеркала, гравюры и полотна самых разномастных стилей, подобранные по тематике, поскольку Виолетта мало что понимала в искусстве, музыкальные инструменты, на которых никто не умел играть, и даже какой-то загадочный набор толстых стекол, бронзовых трубок и колесиков, которые Вальморен собирал как головоломку и в результате получил телескоп, чтобы наблюдать за рабами с галереи. Мебель Тулузу показалась слишком роскошной, а украшения — совершенно бесполезными, но он смирился, потому что вернуть их было невозможно. Когда оргия транжирства завершилась, Виолетта получила свои комиссионные и объявила, что будущей супруге Вальморена непременно понадобится домашняя прислуга, хорошая повариха и горничная. Это самое малое, что совершенно необходимо, как уверяла ее мадам Дельфина Паскаль, знавшая всех представителей высшего общества Ле-Капа.
— Всех, кроме меня, — уточнил Вальморен.
— Ты хочешь, чтобы я тебе помогла, или нет?
— Хорошо, я прикажу Просперу Камбрею, чтобы подготовил каких-нибудь рабов.
— Ну нет, что ты! На этом экономить нельзя! Те, что с ноля, не годятся: они забитые. Я лично займусь этим делом и найду для тебя домашнюю прислугу, — решила вопрос Виолетта.
Зарите должно было исполниться девять, когда Виолетта выкупила ее у мадам Дельфины, француженки с ватными кудрями и бюстом индюшки, — женщины зрелого возраста, но хорошо сохранившейся, учитывая всю неблагоприятность местного климата. Дельфина Паскаль была вдовой скромного французского чиновника, но производила впечатление дамы, вознесенной на вершину благодаря своим связям с большими белыми, хотя они и вспоминали о ней исключительно в случае необходимости провернуть мутные делишки. Официально она жила на пенсию покойного мужа и на доход от уроков игры на клавикордах для барышень, но из-под полы торговала краденым, занималась сводничеством и в самых крайних случаях практиковала аборты. Также она потихоньку давала уроки французского языка кое-каким горевшим желанием сойти за белых кокоткам, которых даже при вполне подходящем цвете кожи выдавал акцент. Так она познакомилась с Виолеттой Буазье, одной из самых светлокожих своих учениц, но без всякой претензии на офранцуживание; наоборот, девочка совершенно запросто упоминала свою сенегальскую бабку. Она стремилась правильно говорить по-французски, чтобы заставить своих белых друзей себя уважать. У мадам Дельфины было всего два раба: купленный по дешевке из-за искривленных костей старик Оноре, на которого падала вся работа, включая готовку, и Зарите — Тете́ — девочка-мулатка, попавшая в ее руки младенцем нескольких недель от роду и не стоившая ей ни копейки. Когда Виолетта купила ее для Эухении Гарсиа дель Солар, девчонка была тощей — одни вертикали и углы, с нечесаной гривой густых волос, но двигалась она изящно и обладала благородными чертами лица и глазами цвета жидкого меда. Может статься, думала Виолетта, что у девочки, как и у нее самой, сенегальские корни. Тете рано оценила преимущества, которые давало молчание и выполнение приказаний с отсутствующим видом, нимало не показывая, что понимаешь то, что происходит вокруг тебя, но Виолетта всегда подозревала, что девчонка гораздо более сообразительна, чем можно было заключить с первого взгляда. Виолетта, как правило, вообще не обращала внимания на рабов — за исключением Лулы, она их считала товаром, — но эта пигалица вызывала в ней симпатию. Чем-то они с ней были похожи, хотя сама она была свободной, красивой и у нее было то преимущество, что ее баловала мать и желали все до единого мужчины, встречавшиеся ей на пути. Ничем таким похвалиться Тете не могла — она была всего лишь маленькой оборванной рабыней, — но Виолетта почуяла силу ее характера. В возрасте Тете она тоже представляла собой пучок костей, пока не расцвела в ранней юности, когда резкие линии превратились в округлости и установились те формы, что принесли ей известность. Тогда мать начала учить ее профессии, которую ставила выше других, поскольку профессия эта, в отличие от работы служанки, не согнет ей спину. Виолетта оказалась хорошей ученицей и к тому времени, когда мать ее была убита, могла уже и сама справляться при помощи Лулы, защищавшей ее с ревнивой преданностью. Благодаря этой доброй женщине она не нуждалась в покровительстве сутенера и процветала в той неблагодарной сфере, в которой другие девушки теряли здоровье, а порой и саму жизнь. Едва у Виолетты возникла идея раздобыть собственную рабыню для супруги Тулуза Вальморена, она вспомнила о Тете. «И почему тебя так волнует эта соплячка?» — спросила не отличавшаяся излишней доверчивостью Лула, когда узнала о ее намерениях. «Так, нашло что-то, предчувствие, что ли… Кажется, что когда-нибудь наши дороги пересекутся» — так звучало единственное объяснение, которое пришло в голову Виолетте. Лула раскинула свои ракушки каури, но удовлетворительного ответа не получила. Такого рода гадание не подходило для выяснения самых главных вопросов, оно годилось только по мелочам.
Мадам Дельфина приняла Виолетту в тесной гостиной, в которой клавикорды казались огромными как слон. Они уселись на хлипкие стулья с гнутыми ножками выпить кофе из малюсеньких, будто для карликов, расписанных цветами чашечек и поговорить — обо всем сразу и ни о чем, как случалось уже не раз. После нескольких экивоков Виолетта изложила цель своего визита. Вдова была поражена тем, что кто-то обратил внимание на не имевшую никакой ценности Тете, но она соображала быстро и тут же почуяла возможность поживиться.
— Я не думала продавать Тете, но в вашем случае, когда речь идет о моей любимой подруге…
— Надеюсь, что девочка здорова. Она такая худая… — перебила ее Виолетта.
— Ну уж не оттого, что ее не кормят! — воскликнула обиженная вдова.
Кофе был налит снова, и разговор зашел о цене, которая Виолетте показалась непомерной. Чем больше она заплатит, тем выше будут ее комиссионные, однако она не могла слишком нагло обманывать Вальморена: цены на рабов были известны всем, особенно плантаторам, которые покупали их постоянно. Тощая как глиста, сопливая девчонка была не ценным товаром, а скорее тем, что дается в придачу, в благодарность за оказанное внимание.
— Мне очень жаль расставаться с Тете, — вздохнула, смахивая несуществующую слезу, мадам Дельфина, после того как договоренность о цене была достигнута. — Это хорошая девочка, она не ворует и по-французски говорит так, что не придерешься. Я никогда не позволяла ей обращаться ко мне на этом ужасном негритянском наречии. В моем доме никому не позволено коверкать прекрасный язык Мольера!
— Даже и не знаю, для чего ей это пригодится, — прокомментировала Виолетта, усмехнувшись.
— Как это «для чего»! Горничная, которая говорит по-французски, — это очень элегантно. Тете будет замечательно прислуживать своей хозяйке, уверяю вас. Вот другое дело, мадемуазель, признаюсь, что мне пришлось пару раз выпороть ее, чтобы отбить у нее подлую привычку сбегать.
— Это серьезно! Говорят, от этого нет спасения…
— Это верно, но только когда речь идет о недавно привезенных из Африки, тех, что раньше были свободными, но Тете родилась рабыней. Свобода! Какая гордыня! — воскликнула вдова, вонзая взгляд своих куриных глазок в малышку, что стояла возле двери. — Но вы не беспокойтесь, мадемуазель, больше она не будет пытаться. В последний раз она провела в бегах несколько дней, и, когда мне ее привели обратно, оказалось, что ее покусала собака и она бредит от жара. Вы себе и представить не можете, чего мне стоило ее вылечить, но наказания она не избежала!
— И когда это было? — задала вопрос Виолетта, обратив внимание на враждебное молчание рабыни.
— Около года назад. Сейчас ей бы такая глупость и в голову не пришла, но на всякий случай все-таки присматривайте за ней. В ней та же проклятая кровь, что и в ее матери. Не идите у нее на поводу, ей нужна твердая рука.
— Что вы имели в виду, говоря о матери?
— Она была королевой. Все они говорят, что были королевами там, в Африке, — пошутила вдова. — Сюда она приехала брюхатой; с ними всегда так — как сучки в течке.
— Да, спаривание. Матросы на кораблях их насилуют, как вам известно. Ни одну не пропускают, — произнесла Виолетта, с содроганием думая о своей собственной бабке, пережившей переезд через море.
— Эта женщина чуть не убила собственную дочь, представьте себе! Нам пришлось вырвать ребенка из ее рук. Месье Паскаль, мой супруг, да упокоит Господь его душу, принес мне младенца в подарок.
— Сколько ей тогда было?
— Пара месяцев, не помню. Оноре, другой мой раб, дал ей это странное имя — Зарите, и он же выкормил ее молоком ослицы. Потому-то она такая сильная и выносливая, но и упрямая. Он научил ее делать всю работу по дому. Она стоит куда больше, чем я за нее прошу, мадемуазель Буазье. Я продаю ее только потому, что думаю скоро вернуться в Марсель, ведь я еще могу попробовать изменить свою жизнь, вам не кажется?
— Конечно же, мадам, — ответила Виолетта, разглядывая напудренное лицо женщины.
Она забрала Тете в тот же день, не взяв с ней ничего, кроме тех лохмотьев, в которые та была одета, и грубой деревянной куклы, из тех, что использовали рабы для церемоний вуду. «Не знаю, откуда она взяла эту гадость», — сказала мадам Дельфина, протянув руку, чтобы отнять у девочки куклу, но та вцепилась в свое единственное сокровище так отчаянно, что Виолетте пришлось вмешаться. Оноре со слезами на глазах распрощался с Тете и пообещал ей, что будет ее навещать, если ему позволят.
Тулуз Вальморен не мог сдержать свое разочарование, когда Виолетта показала ему, кого она выбрала в горничные его жене. Он ожидал увидеть кого-нибудь постарше, лучшей внешности и с большим опытом, а не эту лохматую девчонку со следами ударов на теле, сжавшуюся, как улитка в домике, когда он спросил, как ее зовут. Но Виолетта уверила его, что жена его останется весьма довольной, как только она подготовит как следует эту девчонку.
— А это во сколько мне обойдется?
— Договоримся, когда Тете будет готова.
Три дня спустя Тете впервые использовала голос, чтобы спросить, верно ли, что этот господин и будет ее хозяином: она-то думала, что Виолетта купила ее для себя. «Не задавай лишних вопросов и не думай о будущем. Для рабов существует только сегодня», — объявила ей Лула. Восхищение, которое Тете испытывала по отношению к Виолетте, сломило ее сопротивление, и вскоре она с энтузиазмом включилась в жизненный ритм этого дома. Она ела с жадностью, как любой, кто раньше жил впроголодь, и уже через несколько недель ее скелет оброс каким-никаким мясом. Она жаждала учиться. Ходила за Виолеттой как собачонка, пожирая ее глазами и лелея в глубине души неисполнимое желание — стать как она, такой же красивой, элегантной и самое главное — свободной. Виолетта научила ее сооружать замысловатые модные прически, делать массаж, крахмалить и гладить тонкое нижнее белье и всему остальному, что могло бы потребоваться от нее будущей хозяйке. По мнению Лулы, не стоило так уж стараться, ведь испанки не отличались утонченностью француженок и были очень непритязательны. Она своими руками сбрила с головы Тете грязную копну волос и заставляла ее часто мыться — привычка, совершенно незнакомая для девчушки, потому что мадам Дельфина полагала, что вода ослабляет организм; она и сама ограничивалась тем, что проводила влажной тканью по потаенным уголкам своего тела и обливалась духами.
Лула и Тете едва-едва помещались вдвоем в той каморке, в которой обе спали. Чувствуя, что девчонка заполнила собой все вокруг, Лула изводила ее приказаниями и руганью и скорее по привычке, чем по злобе частенько, когда Виолетты не было дома, отвешивала ей подзатыльники, но зато не скупилась на еду. «Чем раньше ты потолстеешь, тем раньше отсюда уйдешь», — говорила Лула девочке. Со старым Оноре, когда он робко приходил к ним с визитом, она, наоборот, была воплощением любезности — провожала его в гостиную, усаживала в лучшее кресло, подносила хорошего рома и слушала затаив дыхание его разговоры о барабанах и артрите. «Этот Оноре — настоящий месье. Как бы мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь из твоих друзей был таким же хорошим, как он!» — говорила она потом Виолетте.
Зарите
Какое-то время, недели две-три, я и не думала убегать. Мадемуазель была веселой и красивой, и у нее полно платьев самых разных цветов, пахла она цветами, по вечерам выходила из дома и проводила время со своими друзьями, которые потом приходили к нам и делали то, за чем пришли. Я в это время зажимала уши, спрятавшись в комнатке Лулы, хотя все равно было слышно. Когда мадемуазель просыпалась, что-то около полудня, я приносила ей на балкон, как она мне велела, полдник, то есть ее завтрак, и вот тогда она рассказывала мне о своих праздниках и показывала подарки от своих обожателей. Я полировала ей ногти кусочком замши, и они получались блестящие, как внутренность ракушки, расчесывала ей волнистые волосы и растирала ее кокосовым маслом. Кожа у нее цвета creme caramel, десерта из молока и яичных желтков, который несколько раз, за спиной у мадам Дельфины, готовил для меня Оноре. Я быстро всему научилась. Мадемуазель говорит, что я способная, и никогда меня не бьет. Я бы, может, и не сбежала, если бы она была моей хозяйкой, но она всего лишь обучала меня, чтобы потом я служила какой-то испанке на далекой от Ле-Капа плантации. В том, что хозяйкой будет испанка, не было ничего хорошего. По словам Лулы, которая знала все на свете и была гадалкой, она по моим глазам поняла, что я собираюсь сбежать, еще до того, как я сама это решила, и предупредила мадемуазель, но та к ее словам не прислушалась. «Мы потеряли кучу денег! Что же теперь делать?» — воскликнула Лула, когда я исчезла. «Будем ждать», — ответила ей мадемуазель и совершенно спокойно продолжила пить свой кофе. Вместо того чтобы нанять охотника за неграми, как это обычно делается, она попросила своего жениха, капитана Реле, чтобы он послал на поиски своих гвардейцев, но без огласки и так, чтобы они не причинили мне никакого вреда. Так они мне сказали. Уйти из дома для меня оказалось совсем легко. Я завернула в платочек манго и хлебец, вышла через парадную дверь и пошла спокойным шагом, чтобы не привлекать внимания. Еще я взяла с собой свою куклу — она чудотворная, как и святые мадам Дельфины, но более могущественная, как объяснил мне Оноре, когда вырезал ее для меня из дерева, Оноре всегда рассказывал мне о Гвинее, о лоа, о вуду и предупредил меня, чтобы я никогда не обращалась к белым богам, потому что они — наши враги. Он объяснил мне, что на языке его предков слово «вуду» означает «божественный дух». Моя кукла изображает Эрцули, лоа любви и материнства. Мадам Дельфина заставляла меня молиться Святой Деве Марии, богине, которая не пляшет, а только льет слезы, потому что у нее убили сына и потому что она никогда не знала счастья быть с мужниной. Когда я была совсем маленькой, за мной ухаживал Оноре, пока кости его не стали узловатыми, как сухие ветки, и тогда уже пришла моя очередь за ним ухаживать. Что сталось с Оноре? Должно быть, он сейчас вместе со своими предками живет на острове, что под морем, потому что с того раза, когда я видела его в последний раз, как он сидел в кресле в гостиной квартиры мадемуазель на площади Клюни и пил приправленный ромом кофе, смакуя Лулины пирожные, прошло тридцать лет. Надеюсь, что он пережил революцию со всеми ее жестокостями и стал свободным в Черной республике Гаити раньше, чем тихо умер от старости. Он мечтал о своем куске земли, чтобы завести немного скота и самому выращивать зелень и овощи — так, как жили его родители в Дагомее. Я называла его дедушкой, потому что он говорил, что, для того чтобы жить одной семьей, не нужно быть ни одной крови, ни соплеменниками; но на самом деле лучше бы мне звать его мамой. Он был для меня единственной матерью, которую я знала.
На улице, когда я вышла из дома мадемуазель Виолетты, никто меня не остановил, и я бродила несколько часов — думаю, что я прошла весь город насквозь. Я немного заплутала в припортовом квартале, но горы были видны издалека, и все, что было нужно, — это идти к ним. Мы-то знали, что беглые рабы скрываются в горах, но чего мы не знали, так это того, что за первыми горными вершинами вставали другие, и их много, не сосчитать. Стемнело, я съела хлеб, а манго оставила на потом. Я спряталась в конюшне, зарылась там в куче соломы, хоть и боялась лошадей с их копытами, похожими на кувалды, и ноздрями, из которых идет пар. Животные были совсем рядом, сквозь солому я ощущала их дыхание — зеленое и сладкое, как травяной настой для ванны мадемуазель. Крепко обняв свою куклу Эрцули, мать Гвинеи, я спокойно, без кошмаров, проспала всю ночь, согретая теплом лошадиных тел. На рассвете в конюшню пришел невольник и там и нашел меня — похрапывающей и с торчащими из соломы ногами. Он схватил меня за щиколотки и одним рывком вытянул наружу. Не знаю, что он ожидал увидеть, но, конечно же, не девчонку, потому что, вместо того чтобы поколотить, он поднял меня, поднес к свету и стал разглядывать с открытым ртом. «Ты что, с ума сошла? Как тебе в голову пришло — спрятаться именно здесь?» — спросил он наконец, не повышая голоса. «Мне нужно добраться до гор», — объяснила я ему, тоже шепотом. Наказание за помощь беглому рабу было слишком хорошо известно, и мужчина заколебался. «Отпустите меня, пожалуйста, никто не узнает, что я здесь ночевала», — принялась я упрашивать его. Он немного подумал и велел мне в конце концов сидеть в конюшне тихо-тихо, потом удостоверился, что на улице поблизости никого не было, и вышел. Вскоре он вернулся с сухой галетой и тыквенной чашкой со сладким-пресладким кофе в руках, подождал, пока я все съем, а потом показал, как выбраться из города. Если бы он меня выдал, ему полагалось бы вознаграждение, но он этого не сделал. Надеюсь, что ему воздал за это Папа Бондьё. Я бросилась бежать, и скоро последние дома Ле-Капа остались за моей спиной. В тот день я шла без остановок, хотя ноги мои были уже сбиты в кровь и меня бросало в пот при мысли о собаках охотников за неграми из Маршоссе. Солнце уже стояло высоко, когда я вошла под своды сельвы — в зелень; все вокруг стало зеленым, неба уже не было видно, и солнечный свет с трудом пробивался сквозь листья. Я чувствовала движения зверей и перешептывание духов. Тропинка постепенно терялась. Я съела манго, но меня тут же им вырвало. Гвардейцам капитана Реле не пришлось тратить время на поиски, потому что я вернулась сама — после того, как провела ночь, свернувшись калачиком, между корнями живого дерева. Я слышана, как билось его сердце, как если бы это было сердце Оноре. Так я это запомнила.
Весь день я шла и шла, спрашивала и спрашивала дорогу, пока не вернулась на площадь Клюни. Я вошла в квартиру мадемуазель такой голодной и уставшей, что едва могла почувствовать пощечину Лулы, отбросившую меня в угол. В этот момент появилась мадемуазель, она как раз готовилась к выходу, пока еще в дезабилье и с распущенными по плечам волосами. Она взяла меня за руку, протащила меня волоком в свою комнату и усадила на кровать — она была гораздо сильнее, чем казалась. Она осталась на ногах, уперев руки в боки, глядела на меня и не произносила ни слова, а потом дала мне носовой платок — утереть кровь после пощечины. «Почему ты вернулась?» — спросила она. Ответа у меня не было. Она дала мне стакан воды, и вот тогда из моих глаз горячим дождиком закапали слезы, смешиваясь с текущей из носа кровью. «Скажи спасибо, что я тебя не секу, как ты того заслуживаешь, глупая соплячка. Куда ты собралась идти? В горы? Так никогда бы не добралась. Это под силу только редким мужчинам, самым отчаянным и отважным. И если уж каким-то чудом тебе и удалось бы выбраться из города, пройти через леса и болота, да так, чтоб ни ногой не ступить на какую-нибудь плантацию, чтоб не угодить в пасть собакам, избежать встречи с жандармами, демонами и ядовитыми змеями и добраться до гор, то тебя точно убили бы те же беглые рабы. Для чего им может понадобиться такая пигалица? Может, ты умеешь охотиться, сражаться, орудовать мачете? Ты хотя бы можешь удовлетворить мужчину?» Мне пришлось признать, что нет. Она посоветовала мне извлечь выгоду из моей судьбы, не такой уж и плохой. Я стала ее умолять, чтобы она позволила мне остаться с ней, но она сказала, что я ей ни к чему. Она дала мне совет: вести себя хорошо, если я не хочу оказаться в конце концов на рубке тростника. Она обучает меня как личную рабыню и прислугу для мадам Вальморен, а это не слишком тяжелая работа: я буду жить в доме и хорошо питаться, и мне будет лучше, чем у мадам Дельфины. И еще прибавила, чтобы я не слишком верила словам Лулы и что быть испанкой — это не болезнь, а просто значит говорить не так, как говорим мы. Она лично знакома с моим новым хозяином, очень достойным господином, сказала она, любая рабыня была бы счастлива ему принадлежать. «Я хочу быть свободной, как вы», — проговорила я сквозь слезы, между всхлипываниями. И тогда она стала рассказывать мне о своей бабке, похищенной в Сенегале — стране, рождающей самых красивых людей в этом мире. Ее купил один богатый коммерсант, француз, у которого во Франции осталась жена, но он влюбился в нее, как только увидел на невольничьем рынке. Она родила ему несколько детей, и он всех их сделал свободными и думал дать им образование, чтобы у них было обеспеченное будущее, как у многих цветных в Сан-Доминго, но внезапно умер и оставил их всех в нищете, потому что его законная супруга предъявила права на все его имущество. Чтобы прокормить семью, сенегальская бабушка открыла в порту рыбный ресторанчик, но ее младшая дочь, двенадцати лет, не захотела губить себя, вычищая рыбную требуху среди запахов кипящего прогорклого масла, и выбрала для себя другой путь — обслуживать кавалеров. Этой девочке, унаследовавшей благородную красоту своей матери, удалось стать самой востребованной куртизанкой города и в свою очередь родить дочку, Виолетту Буазье, которую она обучила всему тому, что знала сама. Так мне рассказывала мадемуазель. «Если бы не ревность этого белого, который ее убил, моя мать до сих пор была бы королевой ночи в Ле-Капе. Но ты не строй иллюзий, Тете, любовные истории, как у моей бабки, случаются очень редко. Раб, он всегда остается рабом. Если он убегает и при этом ему везет, то он погибает во время побега. Если ему не везет, его хватают живьем. Вырви из сердца свободу, это самое лучшее, что ты можешь сделать», — сказала она мне. И сразу же отвела к Луле, чтобы та меня покормила.
Когда несколько недель спустя за мной приехал хозяин Вальморен, он меня не узнал, потому что к тому времени я пополнела, была чистенькой, с подстриженными волосами и в новом платье, которое сшила мне Лула. Он спросил, как меня зовут, и я ответила ему своим самым уверенным голосом, на который была способна, но не поднимая глаз, потому что никогда нельзя смотреть в лицо белому человеку. «Зарите из Сен-Лазара, хозяин» — тайменя научила мадемуазель. Мой новый хозяин улыбнулся и, прежде чем мы вышли, оставил кошелек. Я не знала, сколько он за меня заплатил. На улице с парой лошадей нас ждал другой человек, он осмотрел меня с головы до ног и заставил открыть рот, чтобы проверить зубы. Это был Проспер Камбрей, главный надсмотрщик. Он рывком поднял меня на круп своего жеребца — высокого, широкого в кости и горячего животного, в нетерпении тяжело сопевшего. Ноги мои оказались коротки, чтобы держаться, и мне пришлось ухватиться за пояс этого мужчины. Я никогда до того не ездила верхом, но страх я проглотила: никого не заботило, что я могла чувствовать. Хозяин Вальморен тоже сел верхом, и мы тронулись шагом. Я обернулась взглянуть на дом. Мадемуазель стояла на балконе, махая нам вслед рукой, пока мы не свернули за угол, и больше я ее не видела. Так я это запомнила.
Показательная казнь
Пот и москиты, кваканье лягушек и щелканье хлыста, доводящие до полного изнеможения дни и наполненные страхом ночи — участь целого каравана рабов, надсмотрщиков, наемных солдат и четы хозяев — Тулуза и Эухении Вальморен. Три долгих дня займет у них этот путь от плантации до Ле-Капа, все еще главного порта колонии, хотя уже и не столицы, перенесенной в Порто-Пренс в надежде, что этот перенос поможет держать под контролем страну. Мера эта не оправдала возложенных на нее надежд: колонисты как могли обходили законы, пираты разгуливали по побережью и тысячи рабов пускались в бега, устремляясь к горам. Беглецы, с каждым разом все более многочисленные и отчаянные, нападали на плантации и путников с яростью, которой было на чем взрасти. Капитан Этьен Реле, «сторожевой пес Сан-Доминго», захватил пятерых вожаков, что было делом совсем не легким, ведь беглые рабы хорошо знали местность, передвигались со скоростью ветра и скрывались среди горных вершин, недоступных для лошадей. Вооруженные только ножами, мачете и сучьями, они не решались вступать в бой с солдатами в чистом поле; война была партизанской — с засадами, неожиданными атаками и отступлениями, ночными набегами, грабежами, пожарами и резней, истощавшей регулярные силы жандармского корпуса Маршоссе и армии. Рабы с плантаций были на стороне беглых: одни — потому что надеялись присоединиться к ним, другие — потому что их боялись. Реле никогда не упускал из виду преимущество беглых, отчаянных людей, защищавших свою жизнь и свободу, перед его солдатами, которые всего лишь выполняли приказы. Капитан был человеком из стали — сухим, худощавым, сильным — одни мускулы и нервы. Он был упорный и храбрый, с холодными глазами и глубокими морщинами на постоянно подставленном солнцу и ветру лице, немногословный и надежный, нетерпеливый и суровый. Никто не чувствовал себя в его присутствии комфортно — ни большие белые, чьи интересы он защищал, ни офранцуженные, составлявшие в его подразделении большинство. Гражданские уважали его, поскольку он способствовал поддержанию порядка, а солдаты — потому что он не требовал от них ничего, чего не мог бы сделать сам. Далеко не всегда Реле сразу удавалось напасть в горах на след мятежников. Много раз он пускался по ложному следу, но никогда не сомневался в том, что достигнет цели. Информацию он добывал такими жестокими способами, которые в обычное время в приличном обществе не были бы упомянуты, но со времен Макандаля даже дамы становились свирепы, если дело касалось восставших рабов. Те самые дамы, что раньше падали в обморок при виде скорпиона или от запаха дерьма, теперь не пропускали ни одной казни, а потом обсуждали их за столом в окружении стаканов с прохладительными напитками и тарелочек с пирожными.
Ле-Кап, с его красночерепичными крышами, многолюдными улочками, рынками и портом, в котором на якоре неизменно стояло несколько дюжин судов, что должны были отправиться в Европу с драгоценным грузом сахара, табака, индиго и кофе, — этот город все еще оставался Парижем Антильских островов. Так называли его в шутку французские колонисты, ведь все они объединялись одним стремлением — сколотить быстрое состояние и возвратиться в Париж, где можно будет забыть ненависть, витавшую над островом, словно комариные тучи и апрельское зловоние. Некоторые оставляли плантации в руках управляющих или администраторов, распоряжавшихся там по своему разумению, разворовывая все подряд и выжимая из рабов все соки до последней капли — до смертельного исхода, но этот убыток был заранее учтен и являлся ценой возвращения к цивилизации. Однако с Тулузом Вальмореном, который уже несколько лет провел на этом острове, словно заживо похороненный в поместье Сен-Лазар, все выходило совсем не так.
Главный надсмотрщик, Проспер Камбрей, закусил удила своих амбиций и действовал осторожно, поскольку хозяин его оказался недоверчив и не был легкой добычей, как Камбрей полагал поначалу. Но он все же надеялся, что долго Вальморен в колонии не протянет: кишка у него тонка и кровь жидковата — не то, что требуется на плантации. К тому же он взвалил на себя обузу — эту испанку, дамочку с хилыми нервами, которая спала и видела, как бы отсюда сбежать.
В сухие сезоны добраться до Ле-Капа можно за день — верхом на добрых лошадках, но Тулуз Вальморен путешествовал с женой в портшезе, а рабы шли пешком. Он оставил на плантации женщин, детей и тех мужчин, которые уже утратили волю и в показательном наказании не нуждались. Камбрей отобрал самых молодых — тех, у которых еще оставалось хоть какое-то представление о свободе. Как бы командоры ни истязали людей, преступить пределы человеческих возможностей они не могли. Дорога то и дело пропадала, к тому же стоял сезон дождей. Только собачий инстинкт и верный глаз Проспера Камбрея, креола, рожденного в колонии и прекрасно знакомого с местностью, не давали им заблудиться в лесной глуши, где чувства обманывают и можно бесконечно ходить по кругу. Все были напуганы: Вальморен опасался нападения беглых рабов или мятежа своих — не раз уже негры, почуяв возможность побега, с голыми руками шли против огнестрельного оружия, свято веря, что лоа защитят их от пули; рабы боялись хлыстов и злых духов леса, а Эухения — своих собственных видений. Камбрей испытывал трепет только перед живыми мертвецами — зомби, и этот страх имел отношение не к встрече с ними, ведь зомби встречаются редко, к тому же они стеснительны, а к перспективе самому стать одним из них. Зомби становится рабом колдуна, бокора, и даже смерть не сможет освободить его, ведь он и так уже мертв.
Проспер Камбрей не раз и не два пересекал этот район, гоняясь за беглыми рабами вместе с другими жандармами Маршоссе. Он умел читать книгу живой природы, замечая невидимые для других глаз следы, мог идти по следу, как лучшая из гончих, чуя запах страха и пота жертвы на расстоянии нескольких часов, мог по-волчьи видеть в темноте, мог догадаться о бунте и покончить с ним еще до того, как этот бунт успевал зародиться. Хвалился он тем, что при нем очень и очень немногим невольникам удалось сбежать из Сен-Лазара, а секрет был в методе: следует убить в рабе душу и сломать волю. Только страх и усталость были способны победить стремление к свободе. Работать, работать, работать до последнего издыхания, а оно не слишком долго заставляло себя ждать, ведь до старости не доживал никто: как правило, всего три-четыре года на плантации, никогда — свыше шести-семи. «Не перегибай палку с наказаниями, Камбрей, ты истощаешь моих людей», — не раз приказывал ему Вальморен, которого выворачивало от одного вида гноящихся язв и ампутированных конечностей, а во имя работы практиковалось и то и другое. Но хозяин никогда не возражал Камбрею в присутствии рабов: слово главного управителя не подлежит обжалованию, иначе дисциплины не будет. А ее Вальморен жаждал в первую очередь — борьба с неграми вызывала в нем отвращение. Он предпочитал, чтобы палачом был Камбрей, а сам он оставался бы в роли милостивого хозяина, — роли, которая как нельзя лучше соответствовала гуманистическим идеалам его юности. По мнению Камбрея, более рентабельно было замещать выбывших рабов новыми, чем беречь их: как только рабы окупали затраченные на них деньги, следовало загнать их на работе до смерти, а потом купить других, моложе и сильнее. И даже если кто-то раньше и имел сомнения в необходимости жесткой руки, то история Макандаля, негра-колдуна, эти сомнения полностью развеяла.
С 1751 по 1757 год, когда Макандаль сеял смерть среди белого населения колонии, Тулуз Вальморен был еще балованным ребенком, жил в небольшом шале под Парижем, собственности семьи на протяжении уже нескольких поколений, и даже имени Макандаля не слышал. Он понятия не имел, что отец его чудом избежал массовых отравлений в Сан-Доминго и что, если бы Макандаля не поймали, ураган мятежа смел бы весь остров. Казнь его решили отложить, дабы дать возможность плантаторам прибыть в Ле-Кап вместе со своими рабами: так негры раз и навсегда убедятся в том, что Макандаль смертен. «История повторяется, ничто не меняется на этом проклятом острове», — говорил Тулуз Вальморен своей супруге в дороге, на том же самом пути, который несколькими годами ранее проделал его отец, причем с той же целью — присутствовать на показательной казни. Он объяснял ей, что показательная казнь — это наилучшее средство, чтобы сломить дух мятежников: так решили губернатор и интендант, в конто веки проявившие единодушие. Он надеялся, что это зрелище несколько успокоит Эухению, однако просчитался, поскольку и вообразить не мог, что поездка обернется настоящим кошмаром. Он уже был близок к решению повернуть назад в Сен-Лазар, но права на это не имел, ведь плантаторы обязаны были держать единый фронт в противостоянии с неграми. К тому же ему было известно, что за его спиной ходят разные слухи: поговаривают, что он женился на полоумной испанке, что сам он высокомерен и пользуется всеми привилегиями своего социального положения, но при этом не выполняет своих обязанностей в Колониальном совете, где кресло Вальморенов пустует со времени смерти его отца. Шевалье-то был фанатичным монархистом, а вот сын его презирает Людовика XVI — нерешительного правителя, в заплывших жиром руках которого пребывает в данный момент французская монархия.
Макандаль
История Макандаля, рассказанная Эухении ее мужем, послужила спусковым крючком ее сумасшествия, но не была его причиной. Болезнь эта была у нее в крови: когда Тулуз Вальморен просил ее руки на Кубе, никто не предупредил его, что семья Гарсиа дель Солар насчитывает уже не одного безумца. Макандаль же был недавно привезенный из Африки необъезженный жеребец-мусульманин; образованный человек, он читал и писал по-арабски, имел познания в медицине и разбирался в травах. Правую руку он потерял во время одного несчастного случая, в котором еще один раб, послабее, погиб, и поскольку для работы на плантации тростника Макандаль уже не годился, его отправили пасти скот. Он исходил эту землю вдоль и поперек, питаясь молоком и дарами леса, пока не выучился использовать левую руку и пальцы ног, чтобы ставить ловушки и вязать узлы: тогда уже он мог охотиться за грызунами, змеями и птицами. В его одиночестве и вынужденном молчании вернулись к нему образы отрочества, когда он готовился к войне и охоте, как и положено королевскому сыну-богатырю: высокий лоб, широкая грудь, быстрые ноги, все подмечающий взгляд и копье в твердой руке. Растительность острова совсем не походила на ту, что была ему знакома с юности, но он стал пробовать самые разные листья, корни, кору, грибы и вскоре обнаружил, что некоторые из них годятся, чтобы лечить, другие — чтобы вызывать видения и вводить в транс, а некоторые — чтобы убивать. Он всегда знал, что обязательно убежит, предпочитая расстаться с жизнью в самых жестоких пытках, чем продолжать быть рабом. И готовился к побегу со всей тщательностью, терпеливо поджидая подходящего случая. Наконец он ушел в горы и уже оттуда подготовил восстание рабов, которому было суждено потрясти весь остров, как невиданной силы урагану. Он присоединился к другим беглецам, и вскоре стали заметны последствия его ярости и хитрости: внезапная атака посреди самой темной ночи, яркий свет факелов, удары босых ног, крики, скрежет металла о цепи, пожары в тростниках. Имя чудо-колдуна передавалось из уст в уста: негры повторяли его как молитву надежды. Макандаль, наследный принц Гвинеи, оборачивался птичкой, ящерицей, мухой, рыбой. Привязанный к столбу раб за секунду до удара бичом, от которого он терял сознание, почти всегда успевал заметить пробежавшего мимо зайца: это был Макандаль, свидетель этой пытки. Бесстрастная игуана глядит на распростертую в пыли изнасилованную девочку. «Вставай, пойди вымойся в речке и не забывай ничего, потому что совсем скоро я приду отомстить за тебя», — насвистывает игуана. И это тоже Макандаль. Обезглавленные петухи, нарисованные кровью знаки, топоры в дверях, безлунная ночь, опять пожар.
Сначала начался падеж скота. Колонисты решили, что причиной тому — смертоносная и плохо видная травка в полях, и наняли ботаников из Европы и местных знахарей, чтобы обнаружить и искоренить ее. Потом пришел черед лошадей в конюшнях, свирепых псов, а под конец смерть стала забирать целые семьи. У жертв вздувались животы, чернели десны и ногти, разжижалась кровь, клочьями сходила кожа, и в жутких судорогах они умирали. Симптомы появлялись только у белых и не указывали ни на одну из тех болезней, что выкашивали население Антильских островов. И вскоре уже ни у кого не осталось сомнений в том, что это яд. Макандаль, опять Макандаль. Мужчины умирали в муках от глотка ликера, женщины и дети — от чашки какао; все гости на банкете вдруг начинали корчиться от рези в животе еще до того, как им успевали подать десерт. Стало невозможно доверять ни фруктам, снятым с дерева, ни закупоренной бутылке вина, ни даже сигаре, потому что никто не знал, каким образом эта отрава распространялась. Пытали сотни рабов, но так и не смогли выяснить, каким образом смерть входит в дома, пока одна пятнадцатилетняя девочка, одна из многих, кого колдун в образе летучей мыши навещал по ночам, не навела на его след, когда ей пригрозили сжечь ее заживо. Девочку все равно сожгли, но признание ее привело жандармов к убежищу Макандаля, до которого они шли пешком, взбираясь, как горные козы, на вершины и спускаясь в пропасти, пока не добрались до пепельных вершин прежних аравакских вождей. Его взяли живым. К тому времени погибло уже шесть тысяч человек. «Это конец Макандаля», — говорили белые. «Это мы еще увидим», — перешептывались негры.
Площадь оказалась тесна для публики, собравшейся со всех окрестных плантаций. Большие белые расположились под навесами у столов с едой и напитками, маленьким белым пришлось довольствоваться крытыми галереями, а офранцуженные сняли на этот день все балконы выходящих на площадь зданий, принадлежащих другим цветным, но свободным людям. Самые лучшие места были оставлены рабам, которых из самых разных мест пригнали их хозяева, чтобы они убедились, что Макандаль — всего лишь ничтожный однорукий негр, которого зажарят, как свинью. Африканцев поместили вокруг кострища, их караулили рвавшиеся с поводков собаки, сходя с ума от человечьего запаха. Утро казни выдалось хмурым, жарким и без единого намека на дуновение ветерка. Резкий запах от множества человеческих тел смешивался с запахом жженого сахара, жаровен с рыбой и ароматом диких цветов, то там, то здесь видневшихся на деревьях. Несколько монахов кропили собравшихся святой водой и предлагали пышки за покаяние. Рабы уже давно научились обманывать монахов, признаваясь в каких-то невнятных грехах, поскольку реально совершенные проступки прямиком отправлялись в уши хозяину. Однако в тот день к пышкам никто расположен не был. Все были возбуждены, все ждали Макандаля.
Затянутое тучами небо грозило дождем, и губернатор прикинул, что времени до ливня им едва-едва хватает, но все же он был вынужден ждать интенданта, представителя гражданской власти. Наконец в одной из двух почетных лож появился интендант с супругой — очень юной особой, стесненной тяжелым платьем, увенчанной перьями высокой прической и своим неудовольствием: она была единственной француженкой Ле-Капа, которая не имела ни малейшего желания находиться на этой площади. Ее муж, еще довольно молодой человек, хотя и в два раза ее старше, был кривоног, задаст и пузат, но имел красивую голову римского сенатора под вычурным париком. Барабанная дробь возвестила о появлении пленника. Его встретил хор угроз и оскорблений со стороны белых, насмешки мулатов и неистовые крики поддержки африканцев. Бросая вызов псам, хлыстам и приказам надсмотрщиков и солдат, рабы вскочили и принялись прыгать с поднятыми ввысь руками, приветствуя Макандаля. Это вызвало единодушный порыв толпы: все, включая губернатора и интенданта, встали.
Макандаль оказался высоким, очень темнокожим человеком, все тело которого, едва прикрытое грязными панталонами, было испещрено шрамами и пятнами засохшей крови. Он шел, скованный цепями, но прямой, величественный, безразличный. Белых, солдат, монахов и собак он презирал; глаза его медленно обвели лица рабов, и каждый из них понял, что эти черные зрачки выделили из толпы именно его и именно ему передали частицу своего непокорного духа. Он был не рабом, которого ведут на казнь: он был единственным по-настоящему свободным человеком в этой толпе. Так это все и восприняли, и на площадь опустилась глубокая тишина. Наконец негры очнулись, и неконтролируемый хор прогудел имя героя: «Макандаль, Макандаль, Макандаль». Губернатор понял, что лучше бы покончить с делом как можно скорее, пока импровизированный цирк не превратился в кровавую бойню. Он подал знак, и солдаты цепями привязали пленника к столбу, высившемуся в центре костра. Палач поджег солому, и очень скоро щедро политые маслом дрова занялись, вздымая к небу густой столб дыма. На площади не было слышно ни одного вздоха, когда послышался глубокий голос Макандаля: «Я вернусь! Вернусь!»
Что же тогда произошло? Это, как говорят колонисты, как раз тот самый вопрос, который чаще всего будет задаваться на этом острове до самых последних дней его истории. Белые и мулаты видели, что Макандаль сбросил цепи и перепрыгнул горящие поленья, но солдаты набросились на него, скрутили и водворили обратно на костер, где через несколько минут он был поглощен пламенем и дымом. Негры видели, что Макандаль сбросил цепи, прыгнул поверх горящих поленьев и, когда солдаты набросились на него, превратился в комара, пролетел сквозь дым, сделал полный круг над площадью, чтобы все могли с ним проститься, и растаял в небе как раз перед тем, как разразился ливень, который промочил дрова и залил огонь. Белые и офранцуженные видели обугленное тело Макандаля. Негры видели только пустой столб. Белые и офранцуженные, спасаясь от дождя, покинули площадь, негры же остались, распевая гимны под грозовым дождем. Макандаль победил, и он выполнит свое обещание. Макандаль вернется. И вот именно по этой причине, поскольку нужно раз и навсегда покончить с этой абсурдной легендой, как пояснил Вальморен своей неуравновешенной супруге, они и направляются вместе с рабами в Ле-Кап, чтобы двадцать три года спустя присутствовать уже на другой казни.
Длинный караван двигался под надзором четырех жандармов с мушкетами, Проспера Камбрея и Тулуза Вальморена с пистолетами, а также командоров, которые, будучи рабами, вооружены были саблями и мачете. Полным доверием они не пользовались, поскольку в случае нападения они могли присоединиться к беглым рабам. Негры, изнуренные и голодные, шли медленно, с тюками на спинах, скованные цепью, затруднявшей общее движение; хозяину эта мера казалась излишней, но он не мог подрывать авторитет своего главного надсмотрщика. «Никто и не подумает бежать, негры больше боятся демонов джунглей, чем ядовитых тварей», — пояснил Вальморен жене, но Эухения ничего не желала знать о неграх, демонах или хищниках. Девочка Тете шла без цепи, шагая рядом с портшезом своей хозяйки, который несли два раба, выбранные из самых крепких. Тропа терялась в зарослях растений и жидкой грязи, и кортеж выглядел как длинная печальная змея, в полном молчании тянувшаяся по направлению к Ле-Капу. Время от времени шелест человеческого дыхания и лесной чащи перечеркивался собачьим лаем, ржанием лошади или сухим щелчком хлыста. Поначалу Проспер Камбрей имел намерение требовать, чтобы невольники на ходу пели, подбадривая сами себя и заодно отпугивая змей, что обычно практиковалось при работе в тростниках, но Эухения, страдавшая от тошноты и усталости, вынести этого не могла.
В лесу под густым зеленым сводом деревьев темнело рано и светало поздно — из-за кусков тумана, запутавшихся в папоротниках. День был коротким для Вальморена, но бесконечным для всех остальных. Рабы питались кашей из кукурузной муки или батата с сушеным мясом и запивали еду кружкой кофе, все это раздавалось вечером, когда караван останавливался лагерем на ночевку. Хозяин приказал, чтобы в кофе добавляли кусок сахара и немного тафии — рома бедняков, чтобы согреть людей, спавших на влажной от дождей и росы земле, где они ничем не были защищены от возможной вспышки лихорадки. В этом году эпидемии на плантации стали настоящим бедствием: пришлось восполнить потерю многих рабов и ни один новорожденный не выжил. Камбрей предупредил своего нанимателя, что ликер и сладкое развращают рабов и что потом будет совершенно невозможно отучить их сосать тростник. Для борьбы с этим преступлением существовало специальное наказание, но Вальморен не был сторонником изощренных мучительств, за исключением тех, что предназначались беглым рабам, — в этих случаях он неукоснительно соблюдал положения Черного кодекса. Казнь беглецов в Ле-Капе виделась ему пустой тратой времени и денег: вполне можно было бы удушить их и без такой помпы.
Жандармы и командоры по ночам сменялись, установив дежурство по охране лагеря и поддержанию огня в кострах, которые должны были отпугивать диких животных и успокаивать людей. Но всем было тревожно в темноте. Хозяева спали в гамаках, натянутых внутри большой палатки из провощенной парусины, со своими сундуками и кое-какой мебелью. Эухения, еще недавно большая любительница покушать, теперь обнаруживала аппетит канарейки, но церемонно садилась за стол, пока еще соблюдая нормы этикета. Этим вечером она занимала стул, обитый синим плюшем, одетая в атласное платье, с грязными, собранными в узел волосами, и потягивала лимонад с ромом. Напротив нее, без сюртука, в расстегнутой сорочке, обросший щетиной и с красными глазами, прямо из бутылки пил ром ее муж. Женщина едва могла сдерживать приступы тошноты, накатывавшие на нее при виде блюд: вареной баранины с солью и пряностями, скрывавшими пошедший на второй день пути запашок от мяса, фасоли, риса, соленых кукурузных лепешек и фруктов в сиропе. Тете обмахивала ее опахалом, не в силах не испытывать сочувствие. Она привязалась к донье Эухении, как та предпочитала, чтобы ее звали. Хозяйка ее не била и поверяла ей свои печали, хотя поначалу девочка ее не понимала, потому что та с ней говорила по-испански. Эухения рассказывала ей, как на Кубе за ней ухаживал ее муж, окружая знаками внимания и задаривая подарками, но потом, в Сан-Доминго, он явил свой истинный характер: супруг оказался испорчен дурным климатом и негритянской магией, как и все колонисты на Антилах. Она же, напротив, принадлежит к высшему обществу Мадрида, и родилась она в благородной семье истинных католиков. Тете не могла предположить, какой была бы ее хозяйка, окажись она в Испании или оставшись на Кубе, но замечала, что состояние ее ухудшается прямо на глазах. Когда Тете познакомилась с доньей Эухенией, та была здоровой молодой женщиной, намеревавшейся привыкнуть к супружеской жизни, но буквально за несколько месяцев душа ее пришла в смятение, и теперь она пугалась всего на свете и начинала плакать без всякого повода.
Зарите
Хозяева ужинали в палатке, как если бы они сидели в столовой большого дома. Один раб сметал с земли всяких ползучих тварей и отгонял комаров, в то время как еще двое стояли наготове за стульями хозяина и хозяйки — босые, в ливреях, из-под которых катился пот, и несносных белых париках. Хозяин глотал рассеянно, почти не жуя, а донья Эухения сплевывала в салфетку целые куски, потому что вся пища казалась ей тошнотворной, как сера. Ее муж не уставал повторять: она может есть спокойно, ведь мятеж задавлен в зародыше, он и начаться-то не успел, а зачинщики его и главари сидят под замком в Ле-Капе, и закованы они в такое количество железа, что даже не способны его поднять; однако она говорила, что они порвут все свои цепи — как колдун Макандаль. Со стороны хозяина эта идея — рассказать ей о Макандале — была совсем неудачной, ведь она окончательно перепугалась, просто до ужаса. Донье Эухении приходилось кое-что слышать о том, как сжигали в ее стране еретиков, и ей вовсе не хотелось присутствовать при подобном зрелище. Этим вечером она жаловалась на то, что какой-то жгут сдавливает ей голову, что она больше не может, хочет вернуться на Кубу к брату, повидать его, что может поехать даже одна, ведь это недалеко. Я хотела промокнуть ей лоб носовым платком, но она отстранила меня. Хозяин сказал в ответ, чтоб она выкинула это из головы: это очень опасно и будет совсем нехорошо, если она приедет на Кубу одна. «И слышать больше об этом не хочу!» — воскликнул он в сердцах, поднявшись еще до того, как раб успел отодвинуть его стул, и вышел дать последние распоряжения главному надсмотрщику. Она подозвала меня, я забрала ее тарелку и отнесла ее в уголок, прикрыв тряпицей, чтобы потом доесть эти объедки, и тут же принялась готовить ее ко сну. Корсет, чулки и нижние юбки, наполнявшие сундуки с приданым невесты, она уже не носила, ходила по поместью в легких халатах, но к ужину всегда приводила себя в порядок. Я ее раздела, подала ей горшок, обтерла ее влажной тканью, напудрила камфорным порошком — от москитов, намазала лицо и руки молоком, вынула из волос шпильки и сто раз провела гребешком по каштановым волосам, а она с потерянным видом позволяла все это с собой проделывать. Она стала прозрачной. Хозяин говорит, что она очень красивая, но мне-то ее зеленые глаза и острые клыки казались нечеловеческими. Когда я покончила с ее туалетом, она опустилась на колени на свою скамеечку и принялась вслух молиться, и я вместе с ней — это тоже было моей обязанностью. Молитвы я заучила, хотя и не понимала их смысла. К тому времени я уже знала несколько слов по-испански и могла выполнять ее приказания, ведь она не говорила ни по-французски, ни по-креольски. А взять на себя труд найти общий язык — это не ее дело, а наше. Так она говорила. Перламутровые бусины четок скользили между ее белыми пальчиками, а я все думала, сколько еще мне осталось, когда же я смогу поесть и лечь спать. Наконец она приложилась к крестику на четках и спрятала их в кожаный чехольчик, плоский и длинный, как конверт, — его она обычно вешала на шею. Это был ее талисман, как у меня — кукла Эрцули. Я поднесла ей рюмку портвейна, чтобы он помог ей заснуть, и она выпила его с гримасой отвращения. Потом я помогла ей забраться в гамак, накинула сверху москитную сетку и принялась качать гамак, молясь про себя о том, чтоб она поскорее заснула, не отвлекшись на шелест крыльев летучих мышей, тихую поступь диких животных и голоса, начинавшие преследовать ее в то время. Эти голоса не были человеческими: она объяснила мне, что они рождены тенями, джунглями, доходят из-под земли, из ада, из Африки и их речь состоит не из слов, а из завываний и расстроенного хохота. «Это призраки, и их призывают негры», — плакала она от страха. «Ш-ш-ш, донья Эухения, закройте глаза, молитесь…» Я-то боялась не меньше ее, хотя и никогда не слышала голосов и не видела призраков. «Ты здесь родилась, Зарите, поэтому у тебя и уши глухи, и глаза слепы. Если бы ты приехала из Гвинеи, ты бы знала, что призраки есть повсюду», — уверяла меня тетушка Роза, знахарка из Сен-Лазара. Когда я приехала на плантацию, ее назначили моей крестной: она должна была всему учить меня и следить, чтобы я не сбежала. «Не приведи Господь тебе попытаться сбежать, Зарите, ты потеряешься в тростниках, а горы далеко — дальше, чем Луна».
Донья Эухения заснула, и я отползла в свой дальний угол, куда не добирался трепетный свет масляной лампы, нащупала тарелку, взяла пальцами немного баранины и поняла, что муравьи меня опередили, но их острый вкус мне тоже нравится. Я уже собралась приняться за второй кусочек, когда в палатку вошел хозяин вместе с рабом — две длинные тени на парусине палатки и сильный мужской запах кожи, табака и лошадей. Я накрыла тарелку и притаилась, стараясь сдержать биение сердца и не дышать, чтобы они меня не заметший. «Пресвятая Дева Мария, молись за нас, грешных, — пробормотала во сне хозяйка, а потом вскрикнула: — Чертова шлюха!» Я снова бросилась качать гамак — пока она не совсем проснулась.
Хозяин сел на стул; негр снял с него сапоги, потом помог ему снять панталоны и другую верхнюю одежду, пока он не остался в одной сорочке. Она доходила ему до бедер, и из-под нее виднелся его член — розовый и вялый, как свиная кишка, в окружении гнезда палевых волос. Раб подставил ему горшок помочиться, подождал разрешения идти, погасил масляные лампы, но оставил гореть свечи и вышел. Донья Эухения снова зашевелилась и на этот раз проснулась с испуганными глазами, по я подала ей еще одну рюмку портвейна и снова принялась качать гамак, и вскоре она заснула. Хозяин со свечой в руке подошел и осветил свою жену: не знаю, что он ожидал увидеть — может, ту девушку, которой прельстился год назад. Он протянул к ней руку, но раздумал и только посмотрел на нее с каким-то странным выражением.
— Моя бедная Эухения. Ночью она мучается от кошмаров, а днем — от страшной жизни, — прошептал он.
— Да, хозяин.
— Ты не понимаешь ничего из того, что я тебе говорю, ведь верно, Тете?
— Нет, ничего, хозяин.
— Это даже лучше. Сколько тебе лет?
— Не знаю, хозяин. Десять, наверное.
— Значит, должно еще пройти время, прежде чем ты станешь женщиной, верно?
— Может быть, хозяин.
Он обвел меня глазами с головы до пят. Приблизил руку к своему члену, взял его, подержал, словно взвешивая. Я попятилась, лицо у меня горело. Капля свечного воска упала ему на руку, он чертыхнулся и тут же велел мне идти спать, но вполглаза, чтобы присматривать за хозяйкой. Он растянулся в гамаке, а я ящерицей проскользнула в свой угол. Подождала, пока не заснет хозяин, и осторожно, без малейшего звука, поела. На улице пошел дождь. Так я это запомнила.
Бал у интенданта
Измученные дорогой путешественники из Сен-Лазара прибыли в Ле-Кап как раз накануне казни беглых рабов, когда весь город дрожал от возбужденного ожидания и в нем уже скопилось столько народу, что воздух смердел запахами толпы и лошадиным навозом. Остановиться на ночлег было негде. Вальморен отправил вперед галопом своего представителя, чтобы он арендовал для его людей какой-нибудь барак побольше, но тот опоздал, и снять ему удалось только трюм стоящей на якоре напротив порта шхуны. Погрузить рабов в шлюпки и переправить на корабль оказалось делом нелегким: они бросались наземь, визжа от страха, в полной уверенности, что им предстоит повторить адское морское путешествие, которое привело их сюда из Африки. Проспер Камбрей и командоры загоняли их силой и в трюме приковывали цепями, чтобы рабы не бросились в море. Отели для белых были переполнены: Вальморены приехали с опозданием в целый день, и у хозяев не оказалось свободных номеров. Не мог Вальморен и отвезти Эухению в какой-нибудь пансион офранцуженных. Если бы он был один, то, не задумываясь, отправился бы к Виолетте Буазье, кое-чем ему обязанной. Любовниками они уже не были, но их дружба укрепилась историей с обстановкой дома в Сен-Лазаре и парой пожертвований, сделанных им в ее пользу, когда нужно было ей помочь справиться с долгами. Виолетта развлекалась тем, что делала покупки в кредит, не слишком считаясь с расходами, пока внушения Лулы и выговоры Этьена Реле не побудили ее к более благоразумной жизни.
Тем вечером интендант давал званый ужин для сливок гражданского общества, в то время как в нескольких кварталах губернатор принимал у себя армейский главный штаб, заранее празднуя бесславный конец мятежных беглецов. Столкнувшись со столь неблагоприятными обстоятельствами, с просьбой о приюте Вальморен явился прямо в особняк интенданта. До начала приема оставалось три часа, и в доме царила та суета, что предшествует урагану: рабы бегали с бутылками ликера, цветочными вазами, раздобытой в последний момент недостающей мебелью, лампами и канделябрами, в то время как музыканты — все мулаты — расставляли свои инструменты, повинуясь распоряжениям французского дирижера, а мажордом со списком приглашенных в руках пересчитывал золотые столовые приборы. Несчастная Эухения в полуобморочном состоянии была доставлена прямо в портшезе, за которым следовала Тете с флаконом нюхательных солей и ночной вазой. Как только интендант пришел в себя от неожиданности — обнаружить гостей так рано у своих дверей было сюрпризом, — он, хотя и был едва знаком с Вальмореном, предложил ему и его жене свое гостеприимство, смягчившись от громкого имени гостя и плачевного состояния его супруги. Интендант состарился раньше времени: ему должно было быть чуть за пятьдесят, но выглядел он гораздо старше своих лет. Большой живот не позволял ему лицезреть собственные башмаки, ходил он на широко расставленных несгибаемых ногах, и ему не хватало длины рук, чтобы застегнуть на себе короткий, до пояса, жакет. Дышал он шумно, словно раздувались кузнечные мехи, а его аристократический профиль совсем затерялся между пухлыми румяными щеками и мясистым носом любителя сладкой жизни. Однако супруга его не слишком пострадала от течения времени. Она уже была готова к приему гостей, одета по последней парижской моде — в украшенном бабочками парике на голове и в изобилии расшитом бантами и водопадами кружев платье, в вырезе которого угадывалась ее девическая грудь. Она была все тем же малозначимым воробышком, как и в свои девятнадцать лет, когда в почетной ложе присутствовала на сожжении Макандаля. С тех пор перед ее глазами прошло более чем достаточно казней и пыток, чтобы до конца дней обеспечить ей ночные кошмары. Волоча за собой тяжелый шлейф, она проводила гостей на второй этаж, предоставила Эухении комнату и отдала было распоряжение приготовить ей ванну, но гостья не желала ничего, кроме отдыха.
Через пару часов начали прибывать гости, и вскоре весь дом наполнился музыкой и голосами, глухими отзвуками доходившими до распростертой в кровати Эухении. Приступы тошноты не давали ей шевельнуться, и Тете то и дело прикладывала ей ко лбу холодные компрессы и обмахивала веером. На диване в ожидании лежали: сложнейший парчовый наряд, уже отглаженный одной из домашних рабынь, белые шелковые чулки и узкие туфли из черной тафты на высоком каблуке. Внизу дамы пили шампанское стоя: широта их юбок и теснота корсетов существенно затрудняли усаживание; кавалеры же в сдержанных выражениях делились мнениями по поводу завтрашнего зрелища, поскольку не в правилах хорошего тона было слишком бурное обсуждение казни восставших негров. Вскоре разговоры были прерваны призывными звуками рога, и интендант произнес тост за возвращение колонии к нормальной жизни. Все подняли бокалы, и Вальморен отпил из своего, задаваясь вопросом, какого дьявола означает нормальная жизнь: белые и черные, свободные и рабы — все они жили в болезненном страхе.
Мажордом, облаченный в театральный адмиральский костюм, три раза ударил в пол золотым жезлом, с должной помпой возвещая начало ужина. В свои двадцать четыре года этот человек был слишком молод для столь ответственного и блестящего поста. К тому он был не французом, как можно было ожидать, а великолепным рабом-африканцем с превосходными зубами, которому некоторые дамы уже успели многозначительно подмигнуть. И как им было не обратить на него внимание? В нем было почти два метра роста, к тому же держался он с куда большим благородством и достоинством, чем любой из приглашенных, даже занимающий самое высокое положение. После тоста все собравшиеся направились в пышную столовую, освещенную сотнями свечей. На улице с наступлением темноты посвежело, но в доме становилось все жарче. Вальморен, терзаясь от липкой смеси запахов пота и духов, увидел перед собой длинные столы, блещущие золотом и серебром приборов, хрусталем из Баккара и фарфором из Севра, одетых в ливреи рабов, стоявших по одному за каждым стулом, и других, которые выстроились вдоль стен и должны были наливать гостям вино, подавать блюда и уносить тарелки. При виде этого великолепия Вальморен с раздражением подумал, что вечер обещает быть очень длинным: чрезмерность в этикете порождала в нем такое же нетерпение, как и разговоры на избитые темы. Может, и верно, что он постепенно превращается в дикаря, в чем укоряет его жена. Гости не сразу заняли свои места, мешкая среди сдвигаемых стульев, шелеста шелка, разговоров и музыки. Наконец появилась двойная череда слуг с первым из пятнадцати прописанных в меню золотыми буквами блюд: начиненные сливами миниатюрные куропатки, разложенные на блюдах в окружении голубых языков пламени пылающего коньяка. Вальморен еще не закончил выковыривать мясо из-под тонких косточек птицы, как к нему приблизился восхитительный мажордом и шепнул, что супруга его нехорошо себя чувствует. То же самое другой слуга одновременно сообщал хозяйке приема, которая подала ему знак с другой стороны стола. Оба встали, не привлекая к себе внимания, под шум разговоров и звяканье приборов о фарфор, и поднялись на второй этаж.
Эухения стала просто зеленой, а в комнате стояло зловоние рвоты и поноса. Жена интенданта сказала, что было бы неплохо, чтобы ее осмотрел доктор Пармантье: к счастью, он тоже находится сегодня среди приглашенных в столовой. И тут же дежуривший под дверью невольник отправился за ним. Врач, мужчина лет сорока, невысокий, худой, с почти женскими чертами лица, пользовался у больших белых Ле-Капа доверием благодаря своей скромности и профессиональным успехам, хотя его методы и не отличались ортодоксальностью: он отдавал предпочтение травам бедняков перед слабительными, кровопусканиями, клизмами, горчичниками и другими фантастическими средствами европейской медицины. Пармантье удалось дискредитировать эликсир из ящерицы с золотым порошком, имевший репутацию средства, излечивающего желтую лихорадку только у богатых, ведь остальные не могли его себе позволить. Он смог доказать, что это пойло было настолько ядовитым, что даже если пациенту удавалось справиться с сиамской болезнью, он погибал от отравления. Доктор не заставил себя долго упрашивать и сразу поднялся к мадам Вальморен, — по крайней мере, так у него появлялся шанс вдохнуть пару раз воздуха несколько менее густого, чем атмосфера в столовой. Он нашел ее обложенной подушками и совершенно истощенной и сразу же приступил к осмотру, а Тете взялась убирать тазики и тряпки, которыми она ее обтирала.
— Мы три дня провели в пути, чтобы успеть к завтрашнему представлению, и вот, взгляните, в каком состоянии теперь моя жена, — прокомментировал с порога Вальморен, зажимая нос платком.
— Мадам не сможет присутствовать на казни, ей необходим покой в течение одной-двух недель, — заявил Пармантье.
— Опять ее нервы? — раздраженно спросил муж.
— Ей нужно отдыхать, чтобы избежать осложнений. Она беременна, — сказал доктор, накрывая Эухению простыней.
— Ребенок! — воскликнул Вальморен, подходя к жене, чтобы погладить ее безжизненные руки. — Мы останемся здесь на все то время, какое вы сочтете необходимым, доктор. Я сниму дом, чтобы не отягощать нашим присутствием господина интенданта и его милую супругу.
Услышав это, Эухения открыла глаза и с неожиданной энергией уселась на кровати.
— Мы уедем сейчас же! — взвизгнула она.
— Невозможно, та cherie,[6] вы не можете отправиться в путь в вашем состоянии. После казни Камбрей уведет рабов в Сен-Лазар, а я останусь здесь, с вами, чтобы о вас заботиться.
— Тете, помоги мне одеться! — закричала она, отбрасывая в сторону простыню.
Тулуз попытался удержать ее, но она его оттолкнула и со сверкающим взором потребовала, чтобы они немедленно отправились в путь, потому что войска Макандаля уже на марше, они приближаются к городу с намерением освободить из тюрьмы руководителей мятежа и отомстить белым. Муж умолял ее не кричать так, вести себя тише, не то ведь услышат во всем доме, но она продолжала визжать. Пришел интендант — взглянуть, что здесь происходит, и обнаружил свою гостью почти голой, сражающейся с собственным мужем. Доктор Пармантье достал из своего чемоданчика флакон, и совместными усилиями трое мужчин смогли заставить ее проглотить дозу опиума, которой хватило бы, чтобы свалить с ног корсара. Шестнадцать часов спустя запах гари, которым тянуло из окна, пробудил Эухению Вальморен. Ее одежда и постель были в крови — так было покончено со счастливым ожиданием первенца. Таким образом получилось, что Тете была избавлена от необходимости присутствовать на казни осужденных, погибших, как и Макандаль, на костре.
Безумная на плантации
Семью годами позже, в августовскую жару, когда остров стегали ураганы 1787 года, Эухения Вальморен родила своего первого живого сына — после нескольких неудачных беременностей, стоивших ей здоровья. Этот такой желанный ребенок у нее появился, когда полюбить его она уже не могла. К тому времени она представляла собой сгусток нервов, то и дело впадая в лунатическое состояние и блуждая в других мирах днями, а то и неделями. В периоды галлюцинаций ее оглушали настойкой опия, а в другие дни успокаивали травяными отварами тетушки Розы, искусной лекарки из Сен-Лазара, и эти средства обращали тоску Эухении в растерянность, более удобную для тех, кто жил с ней рядом. Вначале Вальморен насмехался над «негритянскими травами», но изменил мнение, как только убедился, что доктор Пармантье испытывает уважение к тетушке Розе. Когда ему позволяла работа, доктор наведывался на плантацию, пренебрегая вредом, причиняемым его хрупкому организму путешествиями верхом, под предлогом осмотреть Эухению, на самом же деле — чтобы поближе познакомиться с методами тетушки Розы. Позже он применял их в своей больнице, скрупулезно фиксируя результаты, поскольку задумал написать трактат о природных лекарственных средствах Антильских островов, ограничившись, правда, исключительно ботанической стороной дела, потому что коллеги его никогда бы не приняли всерьез магию, которая его лично интриговала точно так же, как и растения. Когда тетушка Роза попривыкла к любопытству этого белого, она стала позволять ему сопровождать себя во время прогулок в лес, где собирала ингредиенты для своих снадобий. Вальморен снабжал их мулами и парой пистолетов, которые Пармантье крест-накрест привязывал к поясу, поскольку обращаться с ними он не умел. Лекарка не позволяла, чтобы их сопровождал вооруженный командор, потому что, по ее мнению, это был самый верный способ привлечь внимание бандитов. Если же тетушка Роза во время этих экскурсий нужного ей растения не находила и не подворачивался случай отправиться в Ле-Кап, она поручала это дело доктору. Так ему удалось как свои пять пальцев узнать тысячи портовых лавок, снабжающих людей всех цветов кожи травами и магией. Пармантье часами вел беседы с «докторами листьев» у их уличных прилавков и в тайных каморках на задворках лавок, где продавались лекарства самой природы, приворотные зелья, амулеты — вуду и христианские, наркотики и яды, предметы, приносящие удачу, и другие — чтобы навести порчу, порошки из крыльев ангела и рогов дьявола. Он бывал свидетелем того, как тетушка Роза излечивала раны в тех случаях, когда сам он прибегнул бы к ампутации, как она чисто ампутировала, когда у него самого дело дошло бы до гангрены, и как успешно справлялась она с лихорадками, болезненными выделениями и дизентерией — теми самыми, которые валили стольких французских солдат, скученных в казармах. «Пусть не пьют воды. Давайте им побольше жидкого кофе и рисовый суп», — наставляла его тетушка Роза. Пармантье сделал вывод, что ключевым моментом было кипячение воды, но понял и то, что без травяного настоя лекарки больные не излечивались. Негры лучше справлялись с болезнями, белых же просто выкашивало, и если они не погибали в первые же дни, то последствия заболеваний сказывались несколько месяцев. Тем не менее против серьезных душевных расстройств, как в случае с Эухенией, черные доктора обладали не более действенными средствами, чем европейские. Освященные свечи, окуривания шалфеем и растирания змеиным жиром оказывались столь же бесполезными, как и применение ртути и ледяные ванны, рекомендуемые медицинскими фолиантами. В приюте для умалишенных в Шарантоне, где Пармантье в юности проходил непродолжительную практику, метода лечения помешанных не существовало.
К двадцати семи годам Эухения уже лишилась той красоты, в которую когда-то влюбился Вальморен на консульском балу на Кубе: она была измучена навязчивыми идеями, а также ослаблена климатом и выкидышами. Начало разрушения ее организма проявилось вскоре после приезда на плантацию и усиливалось с каждой неблагополучной беременностью. Ею овладел ужас перед насекомыми, разнообразие которых в Сен-Лазаре было безгранично: она не снимала с рук перчатки, носила широкополую шляпу с плотной, доходившей до земли вуалью и сорочки с длинным рукавом. К ней были приставлены два негритенка: они по очереди обмахивали ее опахалом и должны были раздавить любую тварь, которая появится поблизости. Жук мог вызвать очередной кризис. Фобия усилилась до такой степени, что Эухения очень редко выходила из дому, особенно по вечерам, в час москитов. Она могла часами сидеть неподвижно, погруженная в себя и отрешенная от внешнего мира, но часто с ней случались и приступы ужаса или религиозной экзальтации, сменявшиеся другими — приступами раздражения, когда она колотила всех, кто попадался под руку, за исключением Тете. Эухения зависела от этой девочки во всем: Тете была необходима ей даже для самых интимных нужд, была она и наперсницей — единственной, кто оставался подле, когда душу ее терзали дьяволы. Тете выполняла ее желания еще до того, как они были сформулированы, была всегда начеку, готовая подать стакан лимонада, прежде чем появится жажда, поймать на лету брошенную на пол тарелку, поправить шпильку, впившуюся в голову, промокнуть со лба пот или посадить госпожу на горшок. Эухения не замечала присутствия рабыни — только ее отсутствие. Во время приступов ужаса, когда она кричала до хрипоты, Тете запиралась с ней, чтобы петь для нее или молиться, пока у той не проходили судороги и она не погружалась в глубокий сон, из которого выходила, уже не помня ни о чем. В долгие периоды меланхолии хозяйки девочка устраивалась рядом с ней на ложе и ласкала ее, как любовник, пока та не уставала плакать. «Какая же несчастная жизнь у доньи Эухении! Она еще больше рабыня, чем я, она-то от своих страхов точно никуда не может уйти», — сказала как-то Тете тетушке Возе. Лекарка слишком хорошо знала ее мечты о свободе, потому что именно ей не раз и не два приходилось удерживать девчонку от побега, но теперь прошло вот уже около двух лет, как Тете, казалось, смирилась со своей судьбой и больше не возвращалась к этой идее.
Тете первой поняла, что кризисы в состоянии ее хозяйки совпадали с призывным боем барабанов в ночи календы, когда рабы сходились танцевать. Эти календы обычно плавно перетекали в церемонии вуду, бывшие под запретом, но ни Камбрей, ни командоры не пытались помешать их проведению из страха перед сверхъестественными способностями мамбо[7] — тетушки Розы. Для Эухении барабаны были вестниками призраков, колдовства и проклятий, и во всех ее несчастьях было виновато вуду. Напрасно доктор Пармантье объяснял ей, что вуду не таит в себе ничего ужасного, что это некая совокупность верований и ритуалов, как и любая религия, в том числе католическая, к тому же очень нужная, потому что придает хоть какой-то смысл жалкому существованию раба. «Еретик! Только француз может сравнить Святую Христову веру с суевериями этих дикарей!» восклицала Эухения. Для Вальморена, рационалиста и атеиста, трансы негров входили ровно в ту же категорию, что и женины молитвы, и он, в принципе, не имел ничего против обоих этих видов религиозного поклонения сверхъестественным силам. Он с одинаковой беспристрастностью относился к церемониям вуду и мессам монахов, что время от времени появлялись на плантации, привлеченные высококачественным ромом местного производства. Африканцы принимали крещение все скопом, в порту, едва ступив на берег, как того и требовал Черный кодекс, но их контакты с христианством не выходили за пределы этого крещения и месс, поспешно отслуженных бродячими монахами. И если вуду их как-то утешало, то не было никаких оснований запрещать это, полагал Тулуз Вальморен.
Видя неуклонное ухудшение состояния Эухении, муж уже хотел увезти ее на Кубу, чтобы проверить, не поможет ли ей смена обстановки, но его шурин Санчо растолковал в письме, что эта затея может повредить доброму имени обеих семей — Вальморенов и Гарсиа дель Соларов. Прежде всего — осмотрительность. Для дел обоих было бы в высшей степени нежелательно, если бы пошли слухи о заскоках его сестры. Мимоходом он показал, сколь неудобно чувствует себя от осознания того, что дал ему в жены женщину, у которой не все дома. Он и вправду об этом не подозревал, потому что, живя в монастыре, сестра его никогда не обнаруживала никаких тревожных симптомов, и, когда монахини ему прислали ее, она казалась нормальной, хотя и недалекой. О других подобных случаях в семье он не вспомнил. Да и как он мог подумать, что религиозная меланхолия бабки и бредовая истерия матери — наследственные болезни? Тулуз Вальморен не принял в расчет предостережение шурина, привез больную в Гавану и оставил ее на попечении монахинь на восемь месяцев. За все это время Эухения ни разу не упомянула имени своего мужа, но без конца спрашивала о Тете, оставшейся в Сен-Лазаре. В мирной тишине монастыря Эухения успокоилась, и когда за ней приехал муж, он нашел ее поздоровевшей и довольной. Однако по возвращении в Сан-Доминго этих результатов пребывания в Гаване ей хватило ненадолго. Вскоре она забеременела, потом повторилась трагедия потери ребенка, и снова ее спасло от смерти вмешательство тетушки Розы.
В те короткие периоды, когда Эухения, казалось, приходила в себя после душевного расстройства, люди в большом доме вздыхали с облегчением, и даже рабы на резке тростника, которые видели ее только издалека, когда она, завернутая в свою москитную сетку, выходила подышать свежим воздухом, чувствовали облегчение. «Я все еще красива?» — спрашивала она Тете, проводя руками по своему телу, в значительной степени потерявшему пышные формы. «Да, вы очень красивая», — уверяла ее девушка, но не позволяла ей смотреться в венецианское зеркало в гостиной, до того как ее выкупает, помоет ей голову, наденет на нее один из самых лучших, хоть и вышедших из моды, нарядов и накрасит ей щеки румянами, а глаза подведет угольком. «Закрой все ставни в доме и зажги табачные листья от комаров, я собираюсь сегодня ужинать с мужем», — приказывала ей Эухения, приободренная. И вот, наряженная, неуверенной походкой, с расширенными зрачками и трясущимися от опия руками, она входила в столовую, куда нога ее не ступала неделями. Вальморен встречал ее со смешанными чувствами удивления и недоверия, потому что никогда и никто не мог предугадать, чем закончатся эти время от времени случающиеся примирения. После стольких супружеских огорчений он принял для себя решение оставить ее в покое и отстраниться, как будто бы этот замотанный в тряпки призрак не имел к нему никакого отношения. Но когда Эухения появлялась нарядно одетая, в многообещающем неровном свете канделябров, к нему на несколько мгновений возвращались иллюзии. Он уже не любил ее, но она оставалась его супругой, и они вынуждены были жить бок о бок до самой смерти. Эти искры нормальности обычно приводили их в постель, где он набрасывался на нее без каких бы то ни было преамбул, с не терпящей отлагательств нуждой матроса. Эти объятия не могли ни соединить их, ни вернуть Эухении утраченный разум, но время от времени имели последствием очередную беременность, и так повторялся весь цикл надежды и разочарования. В июне этого года она узнала, что снова беременна, и никто, в том числе и она сама, не обрадовался этой новости и не думал по этому поводу праздновать. Так совпало, что как раз в тот вечер, когда тетушка Роза подтвердила ее состояние, проводилась календа, и беременная решила, что барабаны возвещали для нее рождение будущего монстра. Ребенок в ее чреве был проклят вуду, это — ребенок-зомби, живой мертвец. Успокоить ее не было никакой возможности, и эта ее идея сделалась такой навязчивой, что передалась даже Тете. «А если это правда?» — спросила она тетушку Розу, вся дрожа. Лекарка заверила, что никогда и никто не зачинал зомби, их делают из свежих трупов, и это вовсе не так просто, а потом предложила провести ритуал от дурного воображения, которым мучилась госпожа. Они выждали, пока Вальморен уедет с плантации, и тетушка Роза приступила к преобразованию черной магии барабанов с помощью сложных ритуалов и заклинаний, призванных обратить маленького зомби в обычного младенца. «А как мы узнаем, что это получилось?» — спросила в конце Эухения. Тетушка Роза дала ей выпить тошнотворного травяного чая и объявила, что если после этого моча ее станет синей, то все вышло хорошо. На следующий день Тете вынула из-под хозяйки горшок с голубой жидкостью, что успокоило Эухению лишь наполовину, потому что она решила, что в горшок ей что-то подсыпали. Доктор Пармантье, которому ни слова не сказали о вмешательстве тетушки Розы, велел поддерживать Эухению Вальморен в состоянии бесконечной дремоты, пока она не родит. К тому времени он уже потерял надежду вылечить свою пациентку и полагал, что атмосфера острова медленно, но верно убивает ее.
Распорядительница церемоний
Такая решительная мера, как постоянное накачивание Эухении успокоительным, дала даже лучший результат, чем тот, на который рассчитывал сам Пармантье. В положенное время у нее самым ожидаемым образом вырос живот, при этом она проводила все время под москитной сеткой на одном из диванов галереи в дремоте или же рассеянно следила за движением облаков, никак не соприкасаясь с тем чудом, что происходило в ее теле. «Если б она всегда была такая тихая, как было бы чудно», — приходилось Тете слышать слова хозяина. Ее кормили сахаром и изобретением кухарки тетушки Матильды — способной воскресить и мертвого сверхпитательной кашей из перетертого в ступке куриного мяса и овощей. Тете справлялась со своими домашними заботами, а потом устраивалась на галерее шить приданое младенцу, напевая хрипловатым голосом религиозные гимны, которые так нравились Эухении. Иногда, когда Тете с Эухенией оставались одни, к ним заявлялся Проспер Камбрей под предлогом спросить стакан лимонада, который он пил нарочито медленно, опершись о перила и похлопывая свернутым хлыстом по сапогу. Взгляд вечно красных глаз главного надсмотрщика блуждал по телу Тете.
— Ты что, цену прикидываешь, Камбрей? Так она не продается, — сделал замечание Тулуз Вальморен, который как-то вечером случайно зашел на галерею и застал Камбрея за этим занятием.
— Вы о чем, месье? — ответил мулат вызывающе, не двигаясь с места.
Вальморен подозвал его жестом, и надсмотрщик нехотя отправился вслед за хозяином в контору. Тете не знала, о чем они говорили, господин только сказал ей, что не хочет, чтобы хоть кто-нибудь бродил вокруг дома без его разрешения, даже если он главный надсмотрщик. Дерзкое поведение Камбрея после разговора один на один с хозяином не изменилось. Единственная его предосторожность с тех пор заключалась в том, что, прежде чем подойти к галерее, чтобы попросить напиток и приняться раздевать взглядом Тете, он убеждался, что хозяина поблизости не было. Уважение к Вальморену он давно уже утратил, но не осмеливался слишком сильно натягивать пружину, потому что все еще лелеял надежду, что тот назначит его управляющим плантацией.
Когда наступил декабрь, Вальморен вызвал доктора Пармантье, чтобы тот пожил на плантации, пока Эухения не родит, поскольку не хотел доверяться тетушке Розе в том, что касалось родов. «Да ведь она больше моего в таких делах понимает», — возразил врач, но принял приглашение, потому что оно предоставляло ему время и возможность отдыхать, читать и записывать для своей книги новые рецепты знахарки. Тетушку Розу приглашали для консультаций и на другие плантации, и она без разбору лечила рабов и животных, боролась с инфекциями, зашивала раны, помогала при родах и пыталась спасти жизнь неграм, подвергнутым жестоким телесным наказаниям. В поисках лекарственных растений ей позволялось заходить далеко, а иногда за нужными ингредиентами ее даже возили в Ле-Кап, где и оставляли с несколькими монетами, забирая через день-другой. Она была мамбо, служительницей календ, на которые сходились негры и с других плантаций, и даже против этого Вальморен не возражал, несмотря на то что главный надсмотрщик поставил его в известность, что заканчивались эти сборища сексуальными оргиями или дюжинами бесноватых, катающихся по земле с невидящими глазами. «Не будь таким суровым, Камбрей, дай им выплеснуть то, что лежит на душе камнем, они только покладистее станут на работе», — охотно отвечал ему хозяин. Тетушка Роза исчезала на несколько дней, и когда главный надсмотрщик уже объявлял, что женщина, скорее всего, сбежала и примкнула к беглым рабам или перебралась через реку, направившись в испанскую часть острова, она возвращалась, прихрамывая, — уставшая, но с полной сумкой. Тетушка Роза и Тете не были подвластны Камбрею: он опасался, что первая способна превратить его в зомби, а вторая была личной рабыней хозяйки, совершенно необходимой в большом доме. «Никто за тобой не следит. Почему ты не убегаешь, крестная?» — как-то раз спросила ее Тете. «Да куда я сбегу с моей-то больной ногой? И что будет с людьми? Ведь я нужна им. Кроме того, совсем это не нужно — чтобы я одна была свободной, а остальные — рабами», — ответила ей лекарка. Это в голову Тете раньше не приходило, и мысль эта так и осталась в ее мозгу, гудя назойливым оводом. Еще не раз и не два заговаривала она об этом со своей крестной, но ей так и не удалось принять мысль, что личная ее свобода неразрывно связана со свободой всех остальных рабов. Если бы она могла убежать, то сделала бы это, не думая о тех, кто остается за ее спиной, — в этом она была уверена. Воротившись со своих прогулок, тетушка Роза звала ее к себе в хижину, и они запирались там, занимаясь приготовлением лекарств, требовавших свежести природного сырья, точности соблюдения рецепта и исполнения соответствующих ритуалов. Колдовство, говорил Камбрей, — вот как называется то, чем занимаются эти две женщины, а против этого нет средства лучше хорошей порки. Но трогать их он не решался.
Однажды доктор Пармантье, проведя самые жаркие послеполуденные часы в сонной одури сиесты, отправился навестить тетушку Розу, намереваясь выяснить, существует ли лекарство от укуса сороконожки. Поскольку Эухения была спокойна и к тому же под надзором сиделки, он попросил Тете сопровождать себя. Знахарку они нашли сидящей в плетеном кресле перед дверью хижины, потрепанной последними ураганами. Тетушка Роза что-то напевала себе под нос на каком-то африканском наречии, обрывая листья с засохшей ветки и складывая их на тряпицу, столь погруженная в это занятие, что не заметила гостей, пока фигуры их не выросли прямо перед ней. Она было приподнялась, но Пармантье остановил ее жестом. Доктор носовым платком обтер пот со лба и шеи, и лекарка предложила ему попить, но вода была в доме. Хижина оказалась просторнее, чем можно было себе представить снаружи, и была чисто прибрана. Каждая вещь здесь была на своем, точно предназначенном ей месте, темная и прохладная. Мебель по сравнению с обстановкой хижин других невольников казалась великолепной: дощатый стол, облезлый голландский шкаф, сундук из потемневшей латуни, несколько коробок, подаренных ей Вальмореном для хранения лекарств, и коллекция глиняных горшков для приготовления отваров. Охапка сухих листьев и соломы, накрытая клетчатой тканью и тонким одеялом, служила тетушке Розе постелью. С потолка из пальмовых листьев свешивались ветки, пучки трав, сушеные змеи, перья, четки, бусы из семян и ракушек и другие необходимые для ее науки вещи. Доктор отпил пару глотков из пустой тыквы, подождал пару минут, пока не восстановится дыхание, и, почувствовав себя лучше, подошел к алтарю, где помещались венки из бумажных цветов, кусочки батата, наперсток с водой и табак для лоа. Он знал, что крест на алтаре не христианский, что это символ перекрестков, но никаких сомнений в том, что гипсовая раскрашенная фигурка — Дева Мария, не было. Тете рассказала ему, что она сама дала фигурку крестной, а ей самой ее подарила хозяйка. «Только я больше люблю Эрцули, и крестная тоже», — прибавила она. Доктор поднял было руку, чтобы взять священный асо вуду — насаженную на палку тыкву, сплошь покрытую символами, украшенную бусинами четок и наполненную косточками умершего новорожденного, — но вовремя остановился. Ничего нельзя было трогать без разрешения владелицы. «Это подтверждает то, что я уже слышал: тетушка Роза — священнослужитель, мамбо», — пробормотал он. Асо, как правило, находился в распоряжении хунгана, но в Сен-Лазаре хунгана не было, и церемонии проводила именно тетушка Роза. Доктор попил еще водички, йотом смочил платок и повязал его на шею, прежде чем снова выйти на жару. Тетушка Роза не поднимала глаз от своей кропотливой работы и стульев им не предложила — у нее в хозяйстве стул был один. Догадаться о ее возрасте было непросто: лицо у нее молодое, а вот тело — потрепанное. Руки худые и сильные, груди — как два плода папайи под рубашкой, кожа — темная-претемная, нос — прямой и широкий, хорошо очерченный рот и острый взгляд. Голову она повязывала платком, под которым угадывалась непокорная копна волос: их она не стригла ни разу в жизни и носила разделенными на пряди — жесткие, собранные вместе, как канаты из агавы. В четырнадцатилетнем возрасте телега переехала ей ногу, раздробив несколько костей, которые потом неудачно срослись, поэтому с тех пор ходила она с трудом, опираясь на клюку, вырезанную для нее благодарным рабом. Женщина полагала, что этот несчастный случай был для нее подарком судьбы, избавившим ее от работы на тростниковых плантациях. Любая другая покалеченная рабыня отправилась бы мешать кипящую патоку или стирать белье на речку, но она стала исключением, поскольку с самых юных лет духи лоа избрали ее мамбо. Пармантье никогда не приходилось видеть ее во время церемонии, но он мог представить себе ее в трансе, преображенную. В практике вуду участвовали все присутствующие, и все они могли ощутить на себе Божественное дыхание, если ими овладевали лоа. Роль хунгана или мамбо заключалась только в том, чтобы подготовить к церемонии хунфор.[8] Вальморен как-то поделился с Пармантье своими сомнениями, не является ли тетушка Роза шарлатанкой, пользующейся невежеством своих пациентов. «Самое важное — результаты. Она своими методами добивается большего, чем я моими», — ответил ему врач.
С полей доносились голоса срезающих тростник рабов. Все они двигались в едином ритме. Рабочий день у них начинался до рассвета, ведь нужно было накормить скотину и принести дрова для очагов, а потом они трудились до вечерней зари, с перерывом в пару часов в полдень, когда небо становилось белым, а земля исходила потом. Камбрей пытался отменить этот предусмотренный Черным кодексом полуденный отдых, который игнорировали многие плантаторы, но Вальморен считал его абсолютно необходимым. Кроме того, раз в неделю он устраивал своим людям выходной, чтобы они могли заняться своими грядками с овощами, а также выдавал им немного еды — ее никогда не было достаточно, но все же чуть-чуть больше, чем на других плантациях, где принималось за правило, что невольники обязаны выживать за счет посадок в своих огородах. Тете приходилось слышать разговоры о внесении в Черный кодекс изменений: три выходных дня в неделю и запрет хлыста, но слышала она и о том, что ни один белый колонист не будет соблюдать этот закон, даже если предположить, что он будет подписан королем. Кто же станет работать на другого без кнута? Доктор не разбирал слов песни работников. На острове он жил уже довольно много лет, и ухо его привыкло к городскому варианту креольского языка, некой вариации французского — прерывистой и с африканскими интонациями, но креольский язык плантаций был для него совершенно непонятен: рабы превратили его в зашифрованный язык, чтобы белые их не понимали. Поэтому ему пришлось прибегать к помощи Тете — она выступала в роли переводчицы. Он нагнулся, чтобы лучше рассмотреть один из тех листков, которые обрывала тетушка Роза. «А для чего они?» — спросил он. Она объяснила, что кулант помогает при сильном сердцебиении, шуме в голове, вечерней усталости и отчаянии. «А мне поможет? Что-то сердце подводит», — сказал он. «Да, вам поможет, потому что кулант избавляет также от газов», — ответила она, и все трое расхохотались. Тут послышался топот скачущей галопом лошади. Это один из командоров примчался за тетушкой Розой: только что на мельнице случилось несчастье. «Серафима сунула руку куда не следовало!» — прокричал он, не спешиваясь, и тут же ускакал обратно, не предложив подвезти лекарку. Она аккуратно собрала листья в тряпку, отнесла их в хижину, взяла свою сумку, всегда стоявшую наготове, и пошла — так быстро, как ей позволяла больная нога, а за ней — Тете и доктор.
По дороге они обогнали несколько возов, груженных с верхом горами свежесрезанного тростника и медленно влекомых размеренным шагом волов. Тростник не мог ждать больше пары дней: его нужно было пустить в переработку. По мере приближения к неуклюжим деревянным постройкам мельницы все гуще становился запах патоки, липнущий к коже. По обе стороны от дороги под присмотром командоров ножами и мачете работали рабы. При малейших признаках снисходительности у бригадиров Камбрей отправлял их обратно — резать тростник — и брал других. Для усиления своей рабочей силы Вальморен арендовал две бригады у своего соседа Лакруа, а так как Камбрею не было никакого дела, на сколько их хватит, судьба их была еще более плачевна. Несколько ребятишек бегали вдоль рядов, разнося воду, с ведрами и черпаками в руках. Многие негры были истощены — кожа да кости, на мужчинах не было другой одежды, кроме полотняных трусов и соломенной шляпы, на женщинах — длинная рубаха и платок на голове. Матери резали тростник, согнувшись до земли и с детьми на закорках. В первые два месяца им давали перерывы в считаные минуты для кормления грудью, а потом они должны были оставлять детей в бараке под присмотром старой рабыни и детей постарше, которые нянчили младенцев как могли. Многие умирали от столбняка, парализованные, с подвязанной челюстью, — еще одна тайна острова, потому что белых это зло обходило. Хозяева и не подозревали, что эти симптомы можно вызвать незаметно, не оставив никаких следов вмешательства, просто воткнув в родничок иголку, пока он не затянулся, — так ребеночек счастливо отправлялся на остров под морем, не страдая от рабства. Редкостным зрелищем были негры с седыми волосами, как у тетушки Матильды, кухарки Сен-Лазара, которая ни дня не проработала в поле. Когда Виолетта Буазье купила ее для Вальморена, она уже была в годах, но в ее случае возраст особой роли не играл, учитывался только опыт поварихи, а ей довелось служить на кухне одного из самых богатых офранцуженных Ле-Капа, получившего образование во Франции мулата, который контролировал экспорт индиго.
На мельнице они увидели молодую женщину, которая лежала на земле в окружении целой тучи мух и грохота машин, приводимых в движение мулами. Процесс переработки тростника был деликатный, и его доверяли только самым ловким и внимательным невольникам, которые должны были уметь точно определять, сколько нужно известки и как долго кипятить сироп, чтобы получился качественный сахар. Однако именно здесь, на мельнице, случались самые страшные происшествия. На этот раз жертва, Серафима, лежала в такой огромной луже крови, что Пармантье подумал сперва, что в груди у нее что-то лопнуло, но потом увидел, что кровь текла из обрубка руки, который она прижимала к выступающему животу. Быстрым движением тетушка Роза сняла с головы платок и перевязала им руку женщины повыше локтя, что-то нашептывая. Голова Серафимы упала на колени доктора, и тетушка Роза подвинулась, чтобы устроить ее у себя на юбке, открыла ей рот и влила в него темную струйку из пузырька, который вынула из сумки. «Это всего лишь патока, чтоб привести ее в чувство», — произнесла она, хотя доктор ни о чем не спрашивал. Кто-то из рабов пояснил, что женщина закладывала тростник в дробилку, отвлеклась на секунду и зубчатые лопасти захватили руку. Он прибежал на ее крики и сумел остановить мулов до того, как машина втянула руку до самого плеча. Чтобы освободить ее, ему пришлось отсечь руку топором, который висел рядом на крюке как раз для таких целей. «Нужно остановить кровь. Если рана не воспалится, она выживет», — произнес доктор приговор и послал раба в дом за своим чемоданчиком. Невольник было заколебался, потому что должен был выполнять приказы только командоров, но стоило тетушке Розе произнести слово, как он побежал. Серафима приоткрыла глаза и процедила сквозь зубы что-то, что доктор едва ли мог разобрать. Тетушка Роза наклонилась к ней, чтобы расслышать. «Не могу, детка, здесь белый, не могу», — прошептала она в ответ. Два раба подняли Серафиму и перенесли ее в дощатый барак, где положили на огромный стол из нетесаных досок. Тете прогнала кур и поросенка, рывшегося в мусоре на полу, мужчины же удерживали Серафиму, пока лекарка обмывала ее водой из ведра. «Не могу, детка, не могу», — то и дело повторяла она раненой на ухо. Другой мужчина принес с мельницы горящие угли. К счастью, Серафима потеряла сознание, когда тетушка Роза принялась прижигать культю. Доктор приметил, что женщина была на шестом-седьмом месяце беременности, и подумал, что после такой потери крови она непременно выкинет.
Тут у барака появился всадник; один из рабов подбежал принять поводья, и приехавший спрыгнул на землю. Это был Проспер Камбрей, с пистолетом на поясе и хлыстом в руке, одетый в темные брюки и рубашку из самой обычной ткани, но в кожаных сапогах и американской шляпе хорошего кроя, точно такой, как у Вальморена. Войдя со света, он вначале не узнал доктора Пармантье.
— Что тут за скандал? — задал он вопрос своим мягким голосом, звучавшим угрожающе, похлопывая, как всегда, хлыстом по сапогу. Все отошли, чтобы он посмотрел сам, вот тогда он и разглядел доктора, и тон его изменился.
— Да не беспокойте вы себя по таким пустякам, доктор. Тетушка Роза со всем справится. Позвольте, я провожу вас до большого дома. Где ваша лошадь? — вежливо поинтересовался он.
— Перевезите эту женщину в хижину тетушки Розы: пострадавшей нужен постоянный уход. Она беременна, — отозвался доктор.
— Ну, для меня это вовсе не новость, — расхохотался Камбрей.
— Если начнется гангрена, придется отнять ей всю руку, — настаивал Пармантье, покраснев от негодования. — Повторяю, ее нужно немедленно доставить в хижину тетушки Розы.
— Для этого существует госпиталь, доктор, — отвечал ему Камбрей.
— Да никакой это не госпиталь, а грязное стойло!
Главный надсмотрщик удивленным взглядом обвел барак, словно видел его в первый раз.
— Не стоит тревожиться из-за этой женщины, доктор. В любом случае для работы с тростником она уже не годится, и мне придется занять ее чем-нибудь другим…
— Вы меня не поняли, Камбрей, — прервал его врач с вызовом. — Вы желаете, чтобы для разрешения этого дела я обратился к месье Вальморену?
Тете не рискнула взглянуть на выражение лица главного надсмотрщика: она никогда не слышала, чтобы хоть кто-нибудь говорил с ним в таком тоне, даже хозяин, и испугалась, что он сейчас поднимет руку на белого, но, когда тот заговорил, голос его прозвучал покорно, как голос слуги.
— Вы правы, доктор. Если тетушка Роза ее спасет, по крайней мере, мы получим ребенка, — решил он, касаясь рукояткой хлыста окровавленного живота Серафимы.
Существо, которое не является человеком…
Сад в Сен-Лазаре, идея создания которого импульсивно возникла у Вальморена вскоре после женитьбы, с годами превратился в его любимое детище. Он сам его спроектировал, вдохновленный картинками в книге о дворцах Людовика XIV. Однако на Антильских островах цветы Европы росли плохо, и пришлось выписать с Кубы специалиста-садовника, приятеля Санчо Гарсиа дель Солара, чтобы тот обогатил сад ботаническим разнообразием. Сад получился многоцветным и обильным, но требовал защиты от стремившейся заполонить все вокруг тропической растительности, борьбой с которой занимались три неутомимых невольника, в чьи обязанности входил еще и уход за орхидеями, произрастающими только в тени. И каждый день до наступления жары Тете шла в сад срезать цветы для дома.
Однажды утром Вальморен прогуливался с доктором Пармантье по узкой садовой дорожке, разделявшей две геометрически правильные куртины с кустарниками и цветами. Вальморен рассказывал, что после прошлогоднего урагана пришлось полностью изменить планировку сада, но мысли доктора бродили далеко от этой темы. Пармантье не обладал артистическим чувством, чтобы по достоинству оценить декоративные растения; он считал их расточительством природы. Гораздо больше его интересовали неэстетичные заросли в огороде тетушки Розы — растения, которые могли лечить или убивать. Интриговали его и заговоры знахарки, потому что он уже имел возможность убедиться в их благотворном воздействии на рабов. Доктор признался Вальморену, что уже не раз и не два испытывал искушение применить в лечении пациента методы черных колдунов, но в этом ему препятствовал французский прагматизм и боязнь показаться смешным.
— Эти предрассудки не заслуживают внимания ученого, и вашего в первую очередь, доктор, — улыбнулся Вальморен.
— Но я был свидетелем чудесных исцелений, топ ami, и видел, как люди умирают без видимой причины — только из-за того, что они считают себя жертвами черной магии.
— Африканцы очень легко поддаются внушению.
— И белые тоже. Ваша супруга, например. Далеко ходить не надо…
— Между африканцем и моей женой, какой бы неустойчивой психикой она ни отличалась, есть огромная разница, доктор! Не думаете же вы, что негры такие же люди, как мы? — перебил его Вальморен.
— С биологической точки зрения очевидно, что такие же.
— Вот и видно, что вы мало с ними имеете дело. Негры сложены для тяжелой работы, они не так чувствительны к боли и усталости, мозг их ограничен, они не способны различать вещи, они жестоки, неорганизованны, ленивы, и у них нет ни честолюбия, ни благородных чувств.
— То же самое можно было бы сказать о белом человеке, доведенном рабством до скотского состояния, месье.
— Какой странный довод! — презрительно улыбнулся Вальморен. — Неграм просто необходима твердая рука. И учтите, я говорю о твердости, а не о жестокости.
— А в этом нет промежуточных стадий. Как только принимаешь институт рабства, любое обращение с рабами будет давать один и тот же результат, — опроверг его аргумент доктор.
— Не согласен. Рабство — это неизбежное зло, единственный способ держать плантацию, но можно делать это и по-человечески.
— Не может быть человеческим владение и эксплуатация другого человека, — возразил Пармантье.
— У вас никогда не было раба, доктор?
— Нет. И в будущем никогда не будет.
— Поздравляю. Вам повезло — не пришлось быть плантатором, — произнес Вальморен. — Мне вовсе не нравится рабство, уверяю вас, и еще менее того — жить здесь, но ведь кто-то должен управляться с колониями, чтобы вы могли подсластить свой кофе и выкурить сигару. Франция пользуется нашей продукцией, но никто не желает знать, как это все производится. Мне больше импонирует честность англичан и американцев: они весьма практичные люди и поэтому спокойно принимают рабство, — подвел итог Вальморен.
— В Англии и Соединенных Штатах тоже есть те, кто вполне серьезно подвергает сомнению необходимость рабства и отказывается потреблять произведенную на островах продукцию, в особенности сахар, — напомнил ему Пармантье.
— Их очень мало, доктор. Я только что прочел в одном научном журнале, что негры относятся к другому виду, не тому, что мы.
— А как же объясняет автор тот факт, что два разных вида скрещиваются и имеют потомство? — поинтересовался врач.
— Скрести жеребца с ослицей — получишь мула, который не то и не другое. От смешения белых и негров рождаются мулаты, — сказал Вальморен.
— Мулы не могут размножаться, месье, а мулаты могут. Вот скажите мне, ваш общий с рабыней ребенок будет человеком? Будет у него бессмертная душа?
В раздражении Вальморен повернулся к собеседнику спиной и направился к дому. Больше до вечера они не виделись. Пармантье переоделся к ужину и появился в гостиной с неотступной головной болью, мучившей его с самого приезда на плантацию тринадцать дней назад. Он страдал от мигреней и слабости, говорил, что организм его не выносит островного климата, но не подхватил ни одной из тех болезней, что косили других белых. На него давила сама атмосфера в Сен-Лазаре, а спор с Вальмореном ввергнул в дурное расположение духа. Он предпочел бы вернуться в Ле-Кап, где его ожидали другие пациенты и скромное утешение в обществе его сладчайшей Адели, но он взялся ухаживать за Эухенией и намеревался сдержать слово. Этим утром он осмотрел ее и сделал вывод, что роды совсем близко. В гостиной его ожидал гостеприимный хозяин, встретивший его улыбкой, как будто бы неприятной утренней перебранки никогда не было. Во время обеда разговор шел о книгах и европейской политике, с каждым днем все менее понятной. Они сошлись в том, что американская революция 1776 года оказала огромное влияние на Францию, в которой некоторые группировки атаковали монархию теми же разрушительными словами, какие использовали американцы в своей Декларации независимости. Пармантье не скрывал своего восхищения Соединенными Штатами, да и Вальморен склонен был его разделять, хотя бился об заклад, что Великобритания восстановит контроль над своей американской колонией огнем и мечом, как поступила бы любая империя, не намеренная с этим статусом распрощаться. «А если бы Сан-Доминго отделился от Франции, как американцы от Англии?» — вопросил Вальморен, тут же пояснив, что это вопрос чисто риторический, ни в коей мере не призыв к сепаратизму. Зашла речь и о происшествии на мельнице, и врач высказал мнение, что несчастных случаев можно было бы избежать, если бы смены были короче, потому что от неимоверно тяжелой работы на дробилках и жара от котлов мутилось сознание. Сказал он Вальморену и о том, что кровотечение Серафимы удалось остановить и что еще слишком рано, чтобы появились признаки заражения, но она потеряла много крови, пережила шок и теперь так слаба, что ни на что не реагирует. Однако доктор воздержался от уточнения, что тетушка Роза своими настоями поддерживает ее в сонном состоянии. Он и не думал возвращаться к теме рабства, столь расстроившей накануне хозяина дома, но после окончания ужина, когда на галерее оба они наслаждались свежестью ночи, коньяком и сигарами, Вальморен сам заговорил об этом.
— Прошу меня простить за мою бестактность сегодня утром, доктор. Боюсь, что здесь, в одиночестве, я утратил старую добрую привычку интеллектуальной беседы. Но я не хотел вас обидеть.
— А вы меня не обидели, месье.
— Вы можете мне не поверить, доктор, но до приезда сюда я восхищался Вольтером, Дидро и Руссо, — поведал ему Вальморен.
— Теперь уже нет?
— Теперь рассуждения гуманистов я ставлю под сомнение. Жизнь на этом острове закалила меня, или, точнее, я сделался большим реалистом. Я не могу принять то, что негры такие же люди, как и мы, даже если у них есть и ум и душа. Нашу цивилизацию создала белая раса. Африка — континент темный и примитивный.
— А вы там бывали, топ ami?
— Нет.
— А мне привелось. Два года я провел в Африке, изъездив ее всю от края до края, — сказал доктор. — В Европе очень мало знают об этой огромной и такой разнообразной территории. В Африке уже существовала высокоразвитая цивилизация, когда мы, европейцы, жили еще в пещерах и одевались в звериные шкуры. Соглашусь с вами в том, что в одном отношении белая раса имеет преимущество: мы более агрессивны и алчны. Этим объясняется и наша власть, и распространение наших империй.
— Задолго до того, как европейцы добрались до Африки, негры порабощали друг друга и продолжают этим заниматься до сих пор.
— Так же, как и белые порабощают друг друга, месье, — сказал ему в ответ доктор. — Не все негры — рабы, и не все рабы — негры. Африка — это континент свободных людей. Есть миллионы африканцев, обращенных в рабство, но гораздо больше свободных. Их судьба — вовсе не рабство, и это так же верно для тысяч белых рабов.
— Я понимаю ваше отвращение к рабству, доктор, — произнес Вальморен. — Меня тоже привлекает идея заменить рабский труд другой системой использования рабочей силы, но я боюсь, что в некоторых случаях — например, на плантациях — это невозможно. Мировая экономика стоит на этом — рабство не может быть упразднено.
— Возможно, не прямо сейчас, с сегодня на завтра, но это могло бы происходить постепенно. В Сан-Доминго же происходит как раз противоположное: здесь число рабов с каждым годом увеличивается. Вы представляете себе, что будет, когда они восстанут? — спросил Пармантье.
— Да вы пессимист, — отозвался собеседник, допивая остатки коньяка.
— И как мне им не быть? Я довольно долго живу в Сан-Доминго, месье, и, честно говоря, уже сыт по горло. Насмотрелся ужасов. За примером далеко ходить не надо — недавно был я на плантации Лакруа, где в последние два месяца покончили с собой несколько рабов. Двое бросились в чан с кипящей патокой — от безысходности и отчаяния.
— Так вас же ничто здесь не держит, доктор. Со своей королевской лицензией вы можете заниматься врачеванием везде, где пожелаете.
— Наверное, я когда-нибудь уеду отсюда, — ответил врач, думая, что не может привести ту единственную причину, которая удерживает его на острове: Адель и дети.
— Я тоже хочу увезти семью в Париж, — прибавил Вальморен, зная, что возможность эта весьма отдаленная.
Франция переживала кризис. В этом году министр финансов созывал Ассамблею высших сословий с целью возложить на дворянство и духовенство обязанность платить налоги и побудить дворян взять на себя часть экономической нагрузки, но его инициатива поддержки не встретила. Из своего далека Вальморен видел, как распадается политическая система. Сейчас был не самый лучший момент для возвращения во Францию, да и оставить плантацию в руках Проспера Камбрея он не мог. Камбрею он не доверял, но и не выгонял, потому что тот уже много лет на него работал, и сменить этого человека было труднее, чем терпеть его дальше. Правда, в которой Вальморен никогда не признался бы себе, заключалась в том, что он боялся своего работника.
Доктор тоже допил свой коньяк, смакуя муравьиное покалывание нёба и иллюзию благополучия, нахлынувшую на несколько мгновений. В висках сильно пульсировало, вся боль собралась в глазницах. Он вспомнил о тех словах Серафимы, что ему удалось уловить на мельнице, когда она просила тетушку Розу, чтобы та помогла ей вместе с ее пока не рожденным ребенком уйти туда, где обитают Мертвые и Тайны, — обратно в Гвинею. «Не могу, детка». Он спрашивал себя, что бы сделала эта женщина, если бы его не было рядом. Может, и помогла бы, даже с риском, что ее поймают на месте преступления и она дорого за это заплатит. Ведь есть не привлекающие внимания способы сделать это, подумал доктор, чувствуя себя очень и очень усталым.
— Извините меня, месье, за наш утренний разговор. Ваша супруга считает себя жертвой вуду, говорит, что ее сглазили рабы. И я полагаю, что это ее убеждение мы можем обратить в ее же пользу.
— Не понимаю вас, — произнес Вальморен.
— Мы могли бы убедить ее, что тетушка Роза способна противостоять черной магии. Если мы попробуем, хуже не будет.
— Я подумаю об этом, доктор. После того как Эухения родит, займемся ее нервами, — вздохнул Вальморен.
В этот момент через двор проскользнула фигурка Тете, освещаемая светом луны и факелов, которые горели всю ночь для безопасности. Мужчины проводили ее взглядом. Вальморен свистом позвал ее, и секунду спустя она была уже на галерее, молчаливая и легкая, как кошка. На ней была старая юбка ее госпожи, вылинявшая и в заплатах, но хорошего покроя, и сложной конструкции, в несколько оборотов, тюрбан на голове, прибавлявший ей роста на полголовы. Это была стройная молодая девушка, с выступающими скулами, миндалевидными глазами с золотыми зрачками под слегка прикрытыми веками. Она отличалась природной грацией точных и быстрых движений и излучала энергию, которую доктор ощутил всей кожей. Он почувствовал, что под суровой внешностью прячется сдерживаемая сила львицы в покое. Вальморен указал ей на стакан, и она направилась к буфету в столовой, вернувшись с бутылкой коньяка, и налила обоим.
— Как себя чувствует мадам?
— Она спокойна, господин, — ответила девушка и подалась назад, намереваясь удалиться.
— Постой, Тете. Ну-ка, посмотрим, не поможешь ли ты нам разрешить сомнение. Доктор Пармантье полагает, что негры такие же люди, как и белые, а я говорю, что нет. А ты что думаешь? — спросил ее Вальморен тоном, который доктору показался скорее отеческим, чем саркастическим.
Она молчала: глаза в пол, руки сложены.
— Ну же, Тете, отвечай, не бойся. Я жду…
— Хозяин всегда прав, — прошептала она наконец.
— Другими словами, ты придерживаешься мнения, что негры не совсем люди…
— Существо, которое не человек, не имеет мнения, хозяин.
Доктор Пармантье не смог удержаться от внезапно накатившего на него хохота, и Тулуз Вальморен, мгновение поколебавшись, тоже засмеялся. Махнув рукой, он отпустил рабыню, которая тут же растаяла в темноте.
Зарите
На следующий день под вечер донья Эухения родила. Все было довольно быстро, хотя она не помогала до самого последнего момента. Доктор находился рядом — сидел на стуле и смотрел на нее, ведь вытягивать из матерей младенцев — не мужское дело, — так он нам и сказал. Хозяин Вальморен думал, что врачебная лицензия с королевской печатью стоит больше опытности, и не хотел звать тетушку Розу — лучшую повитуху северной части острова: даже белые женщины прибегали к ее услугам, когда приходил их час рожать. Я держала свою хозяйку, обмахивала ее, молилась с ней по-испански, дала ей выпить чудодейственной святой воды, привезенной с Кубы. Доктор отчетливо слышал удары сердца ребенка, готового родиться, но донья Эухения отказывалась ему в этом помочь. Я объяснила ему, что моя хозяйка вот-вот родит зомби и что Барон Самди[9] уже здесь — пришел, чтобы забрать его, а доктор стал смеяться, да так, что слезы из глаз. А этот белый уже несколько лет изучает вуду, знает, что Барон Самди — служитель и соратник Беде, лоа царства мертвых! Вот уж не знаю, что показалось ему таким смешным. «Какая странная мысль! Не вижу здесь никакого барона!» Барон не показывается тем, кто его не уважает. Вскоре доктор понял, что вопрос не был таким комичным, потому что донья Эухения была очень возбуждена. И он послал меня за тетушкой Розой. В гостиной я нашла хозяина, он сидел в кресле и дремал после нескольких рюмок коньяка, но он разрешил мне позвать крестную, и я помчалась за ней. Она уже ждала меня, полностью готовая: в своем белом ритуальном платье, с сумкой, ожерельями и асо. И, ни о чем меня не спрашивая, она направилась к большому дому, поднялась на галерею и прошла в дверь для рабов. Чтобы добраться до комнаты доньи Эухении, ей нужно было пройти через гостиную, и удары ее клюки по дощатому полу разбудили хозяина. «Осторожнее там, с мадам», — предупредил он ее своим гнусавым голосом, но она не обратила на него никакого внимания. Только шла дальше, на ощупь одолевая коридор, и добралась наконец до комнаты, где ей приходилось бывать довольно часто, оказывая помощь донье Эухении. На этот раз она была здесь не как лекарка, а как мамбо, и ей предстояло помериться силами с компаньоном Смерти.
Тетушка Роза с порога увидела Барона Самди, и ее охватила дрожь, но она не отступила. Она с почтением приветствовала его, потряхивая постукивающим косточками асо, и попросила у него позволения подойти к кровати. Лоа кладбищ и перекрестков, с белым лицом черепа и в черной шляпе, отошел, приглашая ее подойти к донье Эухении. Та билась с разинутым ртом, как рыба на суше, вся мокрая, с красными от ужаса глазами, борясь со своим телом, которое старалось вытолкнуть ребенка, а она сама изо всех сил зажималась, удерживая его. Тетушка Роза повесила ей на шею одно из своих ожерелий из семян и ракушек и произнесла несколько успокоительных слов, которые я повторила по-испански. Потом она обернулась к Барону.
Доктор Пармантье смотрел как зачарованный, хотя сам он видел только ту часть сцены, где была тетушка Роза, но я-то видела все. Моя крестная зажгла сигару и стала ею размахивать, наполняя воздух дымом, который затруднял дыхание, потому что окно здесь всегда было закрыто, чтоб не залетали комары. И тут же она нарисовала мелом круг вокруг кровати и принялась кружить в танце, отмечая асо все четыре угла комнаты. Когда же она закончила приветствовать духов, то принялась сооружать алтарь, доставая из сумки священные предметы, и возложила на него приношения — тафию и камешки, и наконец уселась в изножье кровати, готовая к переговорам с Бароном. Оба пустились в долгие торги на креольском, таком приглушенном и быстром, что я мало что поняла, хотя и слышала не раз произнесенное имя Серафимы. Они спорили, сердились, смеялись, она курила сигару и выдыхала дым, который он глотал целыми клубами. Это продолжалось долго, и доктор Пармантье начал терять терпение. Он попытался открыть окно, но, так как им уже очень долго не пользовались, рама не поддалась. Кашляя и плача от дыма, доктор пощупал пульс доньи Эухении, как будто бы не знал, что дети выходят снизу, очень далеко от запястья.
Наконец тетушка Роза и Барон пришли к согласию. Она подошла к двери и с глубоким почтением простилась с лоа, который покинул комнату, прыгая, как лягушка. После этого тетушка Роза объяснила хозяйке: то, что в ее животе, — не плоть для кладбища, а самый обычный ребенок, которого Барон Самди не заберет. Донья Эухения перестала сопротивляться и стала тужиться, приложив к этому делу все свое усердие и душевные силы, и вскоре струя желтоватой жидкости, смешанной с кровью, залила простыни. Когда показалась головка ребенка, крестная аккуратно обхватила ее и помогла выйти тельцу. Она протянула мне новорожденного и объявила матери, что это мальчик, но та даже не захотела на него взглянуть, отвернула голову к стене и в изнеможении закрыла глаза. Я прижала его к груди, держа крепко-крепко, потому что он весь был покрыт слизью — очень скользкий. У меня возникла полная уверенность в том, что мне придется любить этого ребенка, как будто бы он был мой собственный, и теперь, после стольких лет и такой любви, я знаю, что не ошиблась. И я заплакала.
Тетушка Роза подождала, пока хозяйка не вытолкнет из своего тела то, что там еще оставалось, и обмыла ее. Потом она выпила глоток тафии из поставленной на алтарь бутылки, сложила свои пожитки в сумку и вышла из комнаты, опираясь на палку. Доктор быстро записывал что-то в своей тетрадке, а я тем временем плакала и обмывала ребенка — он был легонький, как котенок. Я завернула его в одеяльце, которое я вязала вечерами на галерее, и понесла его отцу — чтобы он познакомился с сыном, но к тому времени у хозяина в теле было уже столько коньяка, что я не смогла его разбудить. В коридоре уже ждала рабыня с набухшими грудями, только что выкупанная и с бритой головой — от вшей. Она должна будет кормить своим молоком хозяйского сына в большом доме, ее же собственному ребенку достанется рисовая водичка в негритянской деревне. Ни одна белая женщина не кормит своих детей — так я тогда думала. Женщина уселась на корточках на пол, расстегнула блузку и взяла ребенка, который тут же присосался к груди. Я почувствовала, что кожа моя горит, а соски отвердели — мое тело было готово для этого ребенка.
В этот же час, в хижине тетушки Розы, умерла Серафима — одна, даже не заметив этого, потому что спала. Так это было.
Наложница
Его назвали Морисом. Отец ребенка до мозга костей был растроган этим нежданным подарком Небес, посланным ему, дабы противостоять одиночеству в старости и возродить честолюбивые планы. Сын продолжит династию Вальморенов. В тот день никто на плантации не работал: Вальморен объявил выходной, велел зажарить несколько туш животных и послал к тетушке Матильде троих помощников, чтобы всем хватило обжигающе острых кушаний из маиса и обширного набора пирогов и овощей. Он дал разрешение устроить календу на главном дворе, прямо напротив господского дома, и двор тут же наполнился шумной толпой. Рабы украсили себя тем немногим, что у них было — цветная тряпочка, ожерелье из ракушек, цветочек, — принесли свои барабаны и другие предметы, тут же ставшие инструментами, и вскоре уже звучала музыка, и народ плясал под насмешливыми взглядами Камбрея. Хозяин велел выставить две бочки дешевого рома — тафии, и каждый раб получил приличную порцию в свою тыкву — выпить за новорожденного. На галерее появилась Тете с завернутым в одеяло ребенком, отец взял из ее рук сверток и поднял над головой, показывая рабам сына. «Вот мой наследник! Его зовут Морис Вальморен, как моего отца!» — провозгласил он хриплым от волнения, потускневшим после вчерашней выпивки голосом. Его слова были встречены молчанием морской пучины. Испугался даже Камбрей. Этот невежественный белый совершил немыслимую ошибку, дав своему сыну имя покойного деда: тот, услышав свое имя, может выйти из могилы и умыкнуть внука, чтобы взять его с собой в царство мертвых. Вальморен решил, что молчание вызвано почтением, и распорядился второй раз обнести всех тафией и продолжить веселье. Тете забрала новорожденного и бегом покинула место действия, обильно орошая его личико слюной, чтобы отвести от него несчастье, накликанное неосторожностью отца.
На следующий день, когда дворовые убирали оставшийся после этого грандиозного карнавала мусор на главном дворе, а остальные рабы уже снова работали в тростниках, доктор Пармантье засобирался обратно в город: малютка Морис сосал грудь кормилицы, как теленок, а у Эухении не было никаких симптомов смертельно опасной брюшной лихорадки. Тете натерла ей груди снадобьем из жира и меда и перетянула их красной суконной тряпицей — метод, применяемый тетушкой Розой, чтобы молоко пропало еще до того, как начнет вытекать. На ночном столике Эухении выстроились в ряд пузырьки: со снотворными каплями, облатками от тоски и сиропами от страха, — ни одно из этих средств вылечить ее не могло, что признавал и сам доктор, но все вместе они облегчали ее существование.
Испанка стала тенью: кожа цвета золы и черты лица, искаженные даже не столько душевным расстройством, сколько чрезмерным употреблением опиумной настойки. Как объяснил Вальморену врач, Морис в утробе матери тоже пострадал от действия наркотика, потому-то и родился таким маленьким и слабым: наверняка он будет болезненным ребенком. Ему нужны воздух, солнце и хорошее питание. Доктор велел давать кормилице по три сырых яйца в день, чтобы молоко у нее стало пожирнее. «Теперь на твоем попечении и госпожа, и ребенок, Тете. И в лучших руках мне трудно их себе представить», — прибавил он.
Тулуз Вальморен щедро оплатил доктору его услуги и с сожалением распрощался, потому что по-настоящему ценил этого образованного и покладистого человека, в обществе и при участии которого долгими вечерами в Сен-Лазаре он наслаждался бесчисленными партиями в карты. Ему будет недоставать их бесед, особенно тех, в которых обнаруживались разногласия, потому что такие споры побуждали его упражняться в свое удовольствие в подзабытом уже искусстве аргументации. Сопровождать доктора на обратном пути в Ле-Кап Вальморен отрядил двух вооруженных надсмотрщиков.
Когда Пармантье уже паковал вещи — рабам это дело он не доверял, поскольку к своим вещам относился с особым педантизмом, — Тете осторожно постучалась в дверь его комнаты и едва слышно, тоненьким голоском спросила, не может ли она переговорить с ним по личному вопросу. Пармантье частенько приходилось общаться с Тете: он пользовался ее услугами толмача для общения с Эухенией, которая, казалось, начисто забыла французский, а также с рабами, особенно с тетушкой Розой. «Ты очень хорошая медсестра, Тете, но не обращайся с госпожой как с инвалидом, она должна сама справляться», — сказал он ей как-то раз, когда стал свидетелем того, как она с ложечки кормит хозяйку кашей, и узнал, что девушка высаживает госпожу на горшок, чтобы та не испачкалась, делая эти дела стоя, а потом подтирает ее. Тете четко отвечала на его вопросы на совершенно правильном французском, но никогда первой не заводила разговор и не смотрела ему в лицо, что ему самому давало возможность разглядывать ее в свое удовольствие. Ей, должно быть, было лет семнадцать, хотя тело ее было не девичьим, а женским. Вальморен рассказал доктору историю Тете во время одной из их совместных вылазок на охоту. И теперь он знал, что мать рабыни прибыла на остров уже беременной и была куплена одним офранцуженным, коннозаводчиком Ле-Капа. Женщина попыталась спровоцировать аборт, за что получила больше ударов плетью, чем вынесла бы в ее положении любая другая, но ребенок в ее чреве оказался упрямым и родился в положенное время и вполне здоровым. Едва мать смогла встать на ноги, она попыталась размозжить младенцу голову об пол, но дочку у нее вовремя отобрали. В течение нескольких недель о девочке заботилась другая рабыня — пока хозяин не принял решение оплатить младенцем проигрыш в карты французскому чиновнику по фамилии Паскаль, но мать об этом уже не узнала, бросившись в море с парапета. Вальморен сказал доктору, что покупал Тете в качестве горничной для жены, но получил гораздо больше, ведь из девушки получилась не только горничная, но еще и сиделка, и экономка сразу. По всей видимости, теперь ей предстояло стать еще и нянькой Мориса.
— Что тебе, Тете? — спросил у нее доктор, аккуратно складывая свои ценные инструменты из серебра и бронзы в лакированную шкатулку.
Она закрыла дверь и немногословно, без всякого выражения на лице рассказала ему, что чуть больше года назад родила сына, которого видела лишь одно мгновенье — сразу после его рождения. Пармантье показалось, что у нее дрогнул голос, но когда она заговорила вновь, поясняя, что ребенок родился как раз тогда, когда ее хозяйка отдыхала от жизни на плантации в одном из монастырей Кубы, он услышал тот же нейтральный тон, что и раньше.
— Хозяин запретил мне упоминать о ребенке. Донья Эухения ничего не знает, — закончила Тете.
— Месье Вальморен поступил правильно. Его супруге не удавалось родить ребенка, и она очень переживала, когда видела детей. Кто-нибудь еще знает о твоем сыне?
— Только тетушка Роза. Думаю, что догадывается об этом и главный надсмотрщик, но у него нет доказательств.
— Теперь, когда мадам родила собственного ребенка, положение изменилось. Наверняка твой господин захочет получить твоего ребенка назад, Тете. В конце концов, этот ребенок является его собственностью, не так ли? — проговорил Пармантье.
— Да, это его собственность. К тому же это его сын.
«Как же мне не пришла в голову такая очевидная вещь!» — подумал доктор. Он не замечал ни намека на близкие отношения между Вальмореном и рабыней, но ведь можно же было предположить, что, имея жену в таком состоянии, в котором находилась его супруга, мужчина будет искать утешения с любой другой доступной ему женщиной. Тете была очень привлекательна, в ней было что-то загадочное и сексуальное одновременно. Такие женщины, как она, — драгоценные камни, разглядеть которые среди булыжников может только тренированный глаз, подумал он; это плотно закрытые шкатулки, которые, чтобы оценить их тайны, любовнику следует открывать постепенно. Любой мужчина мог бы почувствовать себя счастливцем рядом с таким сокровищем, но доктор сомневался, что Вальморен сможет ее оценить. Он с грустью вспомнил свою Адель. Она тоже была природным алмазом. Подарила ему троих детей и многие годы совместной жизни — такой скромной, что ему никогда не приходилось в чем-либо оправдываться перед мелочным и корыстным обществом, в котором он осуществлял свою врачебную практику. Если бы стало известно, что у него есть цветная сожительница и дети, белые тотчас бы отвернулись от него. И напротив, самым естественным образом принимались слухи о том, что доктор — гомосексуалист и поэтому холостой, а также тот факт, что он частенько пропадал в кварталах офранцуженных, где сутенеры предлагают юношей на любой вкус. Из-за любви к Адели и детям доктор и не мог вернуться во Францию, в какое бы отчаяние ни впадал на этом острове. «Так, значит, у малютки Мориса есть брат… Да, моя профессия позволяет узнавать многое», — пробормотал сквозь зубы доктор. Вальморен отправил свою жену на Кубу вовсе не поправить здоровье, как объявил в свое время доктору, а для того, чтобы скрыть от супруги то, что творилось в ее собственном доме. Но к чему все эти ухищрения? Подобная ситуация была вполне обычной и всеми принятой, остров кишел бастардами-полукровками, да и среди рабов Сен-Лазара, как успел заметить доктор, бегала парочка маленьких мулатов. Единственным объяснением могло быть то, что Эухения не потерпела бы, что муж спит с Тете — ее единственным якорем в омуте безумия. Вальморен, должно быть, почувствовал, что это добило бы ее, но при этом его цинизма не хватало, чтобы признать, что жене его действительно лучше бы умереть. В конце концов, решил доктор, это не его ума дело. Вальморен, по-видимому, имел свои резоны, а докапываться до них не входит в его обязанности. Но ему очень захотелось узнать, продал ли Вальморен ребенка или всего лишь имел намерение держать его какое-то время в отдалении.
— И что же могу сделать я, Тете? — задал вопрос Пармантье.
— Пожалуйста, доктор, не могли бы вы спросить у месье Вальморена? Я должна знать, жив ли мой сын, продан ли он и кому…
— Мне нельзя спрашивать, это было бы проявлением невоспитанности. На твоем месте я бы больше о нем не думал.
— Да, доктор, — ответила она еле слышно.
— Не волнуйся, я уверен, что он в хороших руках, — прибавил Пармантье печально.
Тете вышла из комнаты и бесшумно закрыла дверь.
С рождением Мориса жизнь в доме переменилась. Если Эухения просыпалась спокойной, Тете одевала ее, выводила прогуляться по двору, а потом устраивала ее на галерее с Морисом в колыбели. Издалека Эухения казалась нормальной матерью, оберегавшей сон своего сына, если бы не москитные сетки, окружавшие обоих. Но эта иллюзия рассеивалась вблизи, стоило обратить внимание на отсутствующее выражение лица женщины. Через несколько недель после родов с ней случился очередной припадок, и она больше не желала выходить на свежий воздух, поскольку была совершенно уверена в том, что рабы подкарауливают ее, чтобы убить. Она целые дни проводила в своей комнате, переходя из опиумной заторможенности к горячечному бреду и обратно, столь далекая от реальности, что очень редко вспоминала о сыне. Она никогда не интересовалась, как его кормят, и никто ей не говорил, что Морис рос, присосавшись к груди африканки, иначе она немедленно решила бы, что молоко отравлено. Вальморен надеялся, что неумолимый материнский инстинкт сможет вернуть жене рассудок — как ветрянка, что проймет ее до костей и сердца, очистив изнутри. Но когда он увидел, что жена трясет Мориса как тряпичную куклу, пытаясь заставить его замолчать, и вот-вот сломает ребенку шею, он понял, что самую серьезную угрозу для малыша представляет его собственная мать. Он отобрал у нее сына и, не в силах сдержаться, отвесил ей такую пощечину, что она опрокинулась на спину. До тех пор он никогда не бил Эухению и сам удивился своей жестокости. Тете подняла с пола свою хозяйку, рыдавшую, не в силах понять, что случилось, уложила ее в постель и пошла приготовить настойку от нервов. Тулуз перехватил ее на полдороге и вложил ей в руки младенца:
— С этого дня заниматься моим сыном будешь ты. И очень дорого заплатишь, если с ним хоть что-нибудь случится! Не позволяй Эухении даже прикасаться к нему! — прорычал он.
— А что мне делать, если госпожа будет требовать дать ей ребенка? — спросила Тете, прижимая к себе тельце Мориса.
— Мне плевать, что ты будешь делать! Морис — мой единственный сын, и я не допущу, чтобы эта ненормальная причинила ему вред.
Тете выполнила приказ наполовину. Она приносила ребенка Эухении на короткое время и давала его подержать, но только в своем присутствии. Мать застывала в неподвижности, удивленно глядя на сверток у себя на коленях, но вскоре ею овладевало нетерпение. Через несколько секунд она возвращала сверток Тете, ее внимание обращалось на что-то другое, и сознание уплывало. Тетушке Розе пришла в голову мысль завернуть в одеяльце Мориса тряпичную куклу, и они убедились, что мать не заметила подмены. Вот так и получилось сделать встречи матери с сыном более редкими, пока необходимость в них не исчезла совсем. Мориса разместили в другой комнате, где он спал подле своей кормилицы, а днем Тете по-африкански носила его у себя на спине, привязав косынкой. Если Вальморен был дома, она укладывала ребенка в колыбельку и ставила ее в гостиной или на галерее, чтобы отец мог его видеть. Запах Тете был единственным, что узнавал Морис в первые месяцы своей жизни: кормилице приходилось надевать ношенные Тете блузки, чтобы ребенок брал ее грудь.
В десятых числах июля Эухения незаметно вышла из дома до рассвета, босая и в одной сорочке, и, пошатываясь, направилась к реке по обсаженной кокосовыми пальмами аллее, начинавшейся от большого дома. Тете забила тревогу, и тут же были организованы для ее поисков бригады, объединившие свои усилия с охранными патрулями плантации. Собаки привели их к реке, где ее и нашли — в воде по шею, ноги ушли в топкое дно. Никто не мог понять, как она, боявшаяся темноты, смогла уйти так далеко. По ночам завывания безумной были слышны даже в невольничьих хижинах, и у рабов мурашки бегали по коже. Вальморен сделал вывод, что Тете дала ей недостаточно капель из синего флакона, поскольку под воздействием опия она бы не убежала, и в первый раз пригрозил ей поркой. Она несколько дней провела в ужасном ожидании наказания, но он так и не отдал о нем распоряжения.
Вскоре Эухения окончательно порвала все связи с внешним миром и признавала только Тете, которая проводила подле нее ночи, свернувшись калачиком на полу, всегда наготове — спасать от кошмаров. Когда же свою рабыню желал Вальморен, то за ужином он делал ей условный знак. Она дожидалась, пока больная уснет, потом бесшумно шла через весь дом и добиралась до главной комнаты, расположенной в противоположном конце дома. Как раз в одну из таких ночей, проснувшись и никого не найдя рядом с собой в своей спальне, Эухения и сбежала на реку. Быть может, именно по этой причине ее муж и не взыскал с Тете за эту оплошность. Эти ночные, при плотно закрытых дверях, объятия хозяина и рабыни на супружеском ложе, выбранном несколькими годами ранее Виолеттой Буазье, никогда не упоминались при свете дня, они существовали только в мире снов. При второй попытке Эухении совершить самоубийство — на этот раз при помощи пожара, который едва не уничтожил дом, — ситуация стала понятной всем, и никто уже не пытался соблюсти приличия. В колонии стало известно, что мадам Вальморен не в себе, и мало кто удивился, потому что вот уже несколько лет ходили слухи, что испанка происходила из семьи, отмеченной случаями полного помешательства. Кроме того, нередко случалось и так, что белые женщины, приехавшие на остров из других мест, лишались рассудка уже здесь, в колонии. Мужья отправляли их восстанавливать здоровье в места с другим климатом, а сами находили утешение в объятиях девушек всех оттенков кожи, которых остров предлагал им в самом широком ассортименте. Креолки же, напротив, процветали в этой упаднической атмосфере, где можно было уступить искушениям, не расплачиваясь за последствия. В случае Эухении было уже поздно посылать ее куда-либо, за исключением, пожалуй, сумасшедшего дома — вариант, который Вальморен из чувства ответственности и высокомерия никогда всерьез не рассматривал: грязное белье стирается дома. А в его доме было много комнат — гостиная и столовая, контора и два винных подвала, — так что он неделями мог не встречаться со своей женой. Он отдал ее на попечение Тете, а сам все силы души направил на сына. Раньше он даже представить себе не мог, что способен с такой силой любить другое существо: сильнее, чем если сложить все его прошлые привязанности, больше, чем самого себя. Ни одно чувство не походило на то, которое вызывал в его душе Морис. Вальморен часами мог любоваться сыном, то и дело ловил себя на том, что думает о нем, и даже как-то раз, направляясь в Ле-Кап, развернул коня и галопом вернулся назад, прислушавшись к сильнейшему предчувствию, что с ребенком случилось несчастье. Чувство облегчения, которое он испытал, убедившись, что все в порядке, было таким щемящим, что он заплакал. Вальморен устроился в кресле с сыном на руках, ощущая сладкую тяжесть детской головки на своем плече и горячее дыхание на шее, вдыхая запах кислого молока и детского пота. Он дрожал от мысли о несчастных случаях и заразных болезнях, которые могли отнять у него ребенка. Каждый второй ребенок в Сан-Доминго умирал, не дожив до пяти лет: именно дети становились первыми жертвами эпидемий. И это не считая таких нематериальных опасностей, как сглазы, над которыми на публике он только подшучивал, или же мятежи рабов, при которых погибнут все белые до последнего, что вот уже много лет пророчила Эухения.
Рабыня на все случаи жизни
Душевное заболевание жены служило Вальморену прекрасным оправданием для его неучастия в общественной жизни, которая неизменно наводила на него скуку, и через три года после рождения сына он вконец сделался отшельником. Дела вынуждали его совершать поездки в Ле-Кап и время от времени на Кубу, но передвигаться по острову было небезопасно: путников на дорогах поджидали черные банды спускавшихся с гор грабителей. Сожжение пойманных беглых рабов в 1780 году, как и все последующие публичные казни, не достигло своей цели — вытравить из рабов стремление бежать, а из беглых — нападать на плантации и путников. И он предпочитал оставаться в Сен-Лазаре. «Мне никто не нужен», — сам себе твердил Вальморен с тайной гордостью убежденных одиночек. С течением лет он все больше разочаровывался в людях, и всех, за исключением доктора Пармантье, считал либо глупцами, либо продажными. Он поддерживал исключительно деловые отношения — например, со своим коммерческим агентом, евреем в Ле-Капе, или с банкиром на Кубе. Еще одним исключением, помимо Пармантье, был его шурин Санчо Гарсиа дель Солар, с которым он состоял в оживленной переписке, но виделись они крайне редко. Санчо его развлекал, и те дела, которые они затевали на двоих, приносили выгоду обоим. Как охотно признавался Санчо, это было настоящим чудом, потому что у него-то до знакомства с Вальмореном никогда ничего путного не выходило. «Готовься, родственничек, когда-нибудь я ввергну тебя в разорение», — шутил Санчо, но продолжал брать у шурина кредиты и по истечении некоторого времени возвращал их с лихвой.
Тете руководила дворовыми вежливо, но твердо, сводя проблемы к минимуму, чтобы не приходилось прибегать к вмешательству хозяина. Казалось, будто ее стройная фигурка, облаченная в темную юбку и перкалевую блузку, в накрахмаленном тюрбане на голове, появлялась под аккомпанемент позвякивания связки ключей на поясе одновременно в самых разных частях дома. Постоянным ее спутником был Морис, который в первые месяцы путешествовал у нее на закорках, примотанный длинным куском ткани, а потом, уже научившись ходить, семенил, вцепившись в ее юбку. Ничто не ускользало от ее внимания — ни распоряжения кухарке, ни отбеливание белья, ни работа швей, ни срочные нужды господина или ребенка. Ей удалось сложить с себя часть забот, обучив нужным навыкам рабыню, уже не годившуюся для работы в тростниках, чтобы та помогала ухаживать за Эухенией и избавила ее от необходимости спать в комнате больной. Рабыня находилась при Эухении постоянно, но Тете сама давала госпоже лекарства и обмывала ее, потому что Эухения больше никому не позволяла к себе прикасаться. Единственное, что Тете не доверила никому, — это воспитание Мориса. Она как родного сына любила этого капризного мальчонку, хрупкого и чувствительного. К этому времени кормилица уже давно отправилась обратно в невольничий переулок, и теперь одну комнату с ребенком делила Тете. Она ложилась спать на тюфяке, брошенном на пол, и Морис, который отказывался спать в своей кроватке, сворачивался калачиком возле нее, прижимаясь к ее большому горячему телу, к ее роскошной груди. Иногда от сопения мальчика она просыпалась и в темноте ласкала его, до слез растроганная детским запахом, растрепанными кудрями, слабыми ручонками, погруженным в сон тельцем, и думала о своем ребенке, о том, что, возможно, где-то другая женщина так же не жалеет любви и ласки для ее сына. Она давала Морису все то, чего не могла ему дать Эухения: сказки, песенки, улыбки, поцелуи и порой подзатыльник, чтобы слушался. В тех редких случаях, когда она его ругала, мальчик бросался на пол, дрыгая ногами и угрожая, что пожалуется на нее отцу, но ни разу не привел эту угрозу в исполнение, потому что каким-то образом предчувствовал, что последствия будут очень серьезны для женщины, которая была всей его вселенной.
Просперу Камбрею не удалось распространить свои террористические правила и нормы на домашнюю прислугу, и причиной тому была незримая граница, что пролегла между небольшой территорией Тете и остальной плантацией. Ее часть плантации жила по законам школы, его — по законам тюрьмы. В доме существовал набор точно расписанных занятий, закрепленных за каждым рабом, и все выполнялось быстро и спокойно. В тростниках люди двигались рядами, под всегда готовым к удару хлыстом командора, повиновались беспрекословно и пребывали в постоянной тревоге, потому что за любую небрежность платить приходилось кровью. Камбрей занимался дисциплиной лично. Вальморен руку на рабов не поднимал, считал это для себя унизительным, но на наказаниях присутствовал, чтобы показать, у кого здесь власть, да и присмотреть за главным надсмотрщиком — не хватил бы через край. На людях Вальморен никогда не делал Камбрею замечаний, но присутствие хозяина возле столба наказаний обязывало его к соблюдению меры. Дом и поле представляли собой разные миры, но у Тете и главного надсмотрщика не было недостатка в возможностях столкнуться нос к носу, и тогда воздух мгновенно насыщался грозовой энергией. Камбрей искал с ней встречи, возбужденный очевидным презрением девушки, а она его избегала, встревоженная его неприкрытой похотливостью. «Если Камбрей будет слишком много себе позволять по отношению к тебе, я желаю знать об этом немедленно, поняла?» — не раз предупреждал ее Вальморен, но она не воспользовалась этим ни разу: провоцировать ярость главного надсмотрщика было ей невыгодно.
По приказу хозяина, который не желал, чтобы его сын учился болтать по-негритянски, в доме Тете всегда использована французский. С другими людьми на плантации она объяснялась на креольском, а с Эухенией — на испанском, который у хозяйки постепенно сокращался, пока не свелся к нескольким необходимым словам. Больная была погружена в такую стойкую меланхолию и такую полную атрофию всех чувств, что, если бы Тете ее не кормила и не мыла, она умерла бы с голоду, грязная как свинья; если бы не принуждала ее изменить положение, то у нее слиплись бы кости; если бы не заводила с ней разговоры, хозяйка бы онемела. Приступов панического ужаса Эухения уже не испытывала, а проводила все дни полусонная, сидя в кресле с упертым в одну точку взглядом, как большая кукла. Она пока еще могла читать молитвы, перебирая четки, которые всегда носила в кожаном кошельке на шее, но значений слов уже не понимала. «Когда я умру, мои четки останутся тебе, и ты никому их не отдавай, их благословил сам Папа», — говорила она Тете. В редкие минуты ясности своего сознания она молила Бога забрать ее. По словам тетушки Розы, ti-bon-ange[10] Эухении увяз в этом мире и, чтобы освободить его, требовался специальный ритуал, — ничего болезненного и сложного, но Тете не могла решиться на такое необратимое решение проблемы. Она бы очень хотела помочь своей несчастной хозяйке, но ответственность за ее смерть легла бы на ее душу слишком тяжелым бременем, даже если и разделить его с тетушкой Розой. Может, ti-bon-ange доньи Эухении должен был еще что-то сделать в ее теле, и следовало дать ему время это сделать и освободиться самому.
Тулуз Вальморен так часто навязывал свои объятия Тете скорее по привычке, чем из любви или похоти, уже без горячки той поры, когда она стала подростком и внезапная страсть к ней все в нем перевернула. Только безумием Эухении можно было объяснить, что она ничего не замечала из того, что происходило прямо у нее на глазах. «Госпожа догадывается, но что она может сделать? Запретить она не может», — высказалась по этому поводу тетушка Роза — единственный человек, которому Тете решилась довериться, когда забеременела. Она боялась реакции хозяйки, когда беременность станет заметна, но, прежде чем это случилось, Вальморен отвез свою жену на Кубу, где с удовольствием оставил бы ее навсегда, если бы монахини взяли на себя обязанность за ней ухаживать. К тому времени, когда он привез ее обратно на плантацию, новорожденный Тете уже исчез, а Эухения ни разу не спросила, отчего из глаз ее рабыни крупными алмазами сыплются слезы. Чувственность Вальморена была ненасытной, а в постели — торопливой. Он насыщался, не тратя времени на преамбулы. Любовные игры казались ему таким же бесполезным ритуалом, как и ритуал ужина с непременными атрибутами в виде длинной скатерти и серебряных канделябров, который прежде навязывала ему Эухения.
Для Тете это была еще одна работа, которую она выполняла всего за несколько минут, за исключением тех случаев, когда в хозяина вселялся дьявол, чего она всегда ожидала со страхом и содроганием. Однако, к счастью, с Вальмореном такое бывало не слишком часто. Она благодарила свою судьбу: например, Лакруа, хозяин соседней с Сен-Лазаром плантации, держал в бараке целый сераль прикованных цепями девочек для удовлетворения фантазий, в реализации которых также принимали участие его гости и несколько негров, которых он называл «мои жеребцы». Вальморен побывал раз на одной из этих жестоких вечеринок и был так глубоко потрясен, что больше там не появлялся. Он не был слишком щепетильным человеком, но полагал, что за смертные грехи рано или поздно приходится расплачиваться, и не хотел бы оказаться возле Лакруа, когда тому придется платить по своим счетам. Это был его друг, их связывали общие интересы — от разведения скота до одалживания рабов в период уборки тростника. Он бывал у Лакруа на праздниках, на родео, на боях животных, но больше никогда не желал входить в этот барак. Лакруа полностью ему доверял, давал свои деньги под гарантию всего лишь простой расписки, с тем чтобы Вальморен положил их на некий секретный счет на Кубе, подальше от хищных лап жены и родственников. И Вальморену пришлось применять весь свой такт, снова и снова отклоняя приглашения на оргии соседа.
Тете научилась отдаваться с овечьей покорностью и полной пассивностью — тело расслаблено, никакого сопротивления, а ее разум и душа уносятся в это время вдаль; так хозяин кончал быстро и тут же проваливался в мертвецкий сон. И еще она знала, что в союзниках у нее — алкоголь, если точно отмерить дозу. От одной или пары рюмок хозяин возбуждался, с третьей нужно было быть осторожнее, потому что после нее он свирепел, после четвертой его обволакивал туман опьянения, и если она от него тихонько уклонялась, то он засыпал, не тронув ее и пальцем.
Вальморен никогда не задавался вопросом, что во время этих встреч чувствует она, так же как ему и в голову не пришло бы поинтересоваться ощущениями лошади под его седлом. Он привык к ней и очень редко искал других женщин. Иногда он с какой-то смутной тоской просыпался в пустой кровати, где еще оставался еле приметный след теплого тела Тете, и вспоминал о своих уже таких далеких ночах с Виолеттой Буазье или же о любовных приключениях юности во Франции, в которых, казалось, принимал участие не он, а совсем другой мужчина — кто-то, чье воображение пускалось вскачь от одного вида женской лодыжки, и он с новыми силами возрождался для любовных утех. Теперь для него это было невозможно. Тете уже не возбуждала его так, как раньше, но заменить ее другой женщиной даже не приходило ему в голову; с ней ему было удобно, а он был человеком привычки. Иногда на скаку он подхватывал какую-нибудь юную рабыню, но дело не заходило дальше поспешного насилия, доставлявшего меньшее удовольствие, чем прочитанная страница очередной книги. Он списывал угасание желания на малярию, приступ которой чуть не отправил его на тот свет и серьезно ослабил организм. Доктор Пармантье предупреждал его о возможных последствиях злоупотребления алкоголем, столь же пагубных, как и тропическая лихорадка, но ведь он не пил чрезмерно, в этом он был абсолютно уверен, — только необходимое для сглаживания тоски и одиночества — и совершенно не замечал настойчивости Тете, наполнявшей ему рюмку. Раньше, когда он еще частенько наведывался в Ле-Кап, он использовал эти поездки, чтобы порезвиться с модной кокоткой, одной из тех симпатичных курочек, что возбуждали в нем страсть, но оставляли разочарованным. По дороге он предвкушал наслаждения, о которых потом никак не мог вспомнить, отчасти по той причине, что во время таких вылазок по-настоящему напивался. Этим девицам он платил за то же самое, что делал с Тете, — те же грубые объятия, та же торопливость, и в конце концов все шло кое-как, так что после каждой такой встречи он чувствовал себя обманутым. С Виолеттой все было по-другому, но она оставила свою профессию, когда стала жить с Реле. И Вальморен возвращался в Сен-Лазар раньше намеченного, думая о Морисе и горя желанием вернуться к устойчивости и непоколебимости своей рутинной жизни.
«Я старею», — шептал Вальморен, разглядывая себя в зеркало, пока раб брил ему щеки, отмечая и тонкую сеть морщинок вокруг глаз, и растущий второй подбородок. Ему было сорок — столько же, сколько и Просперу Камбрею, но такой энергией, как Проспер, он не обладал и уже располнел. «Во всем виноват этот чертов климат», — добавлял он. Он чувствовал, что жизнь его была похожа на плавание без руля и компаса, его несло течение, а он все ждал чего-то, а чего — и сам не мог определить. Он ненавидел этот остров. Днем он занимался объездом плантации, но вечера и ночи тянулись бесконечно. Садилось солнце, наступала темень, и начинали медленно тянуться часы, наполненные воспоминаниями, страхами, раскаянием и призраками. Время он убивал, читая и играя в карты с Тете. Только в эти минуты она и скидывала свою броню, отдаваясь азарту игры. Вначале, когда он только научил ее играть, он все время выигрывал, но потом догадался, что она поддавалась, опасаясь его разозлить. Он, удивленный, задавался вопросом, как могла эта мулатка на равных соревноваться с ним в игре, требовавшей логики, хитрости и расчета. Тете никто не обучал арифметике, но она считала карты инстинктивно, так же как и вела хозяйственные счета. Возможность того, что она так же умна, как и он, выбивала его из колеи и спутывала все карты.
Хозяин ужинал рано, в столовой: три простых и сытных блюда, самый главный прием пищи за день, подаваемый двумя молчаливыми рабами. Выпивал несколько бокалов хорошего вина, того самого, которое посылал контрабандой своему шурину Санчо и которое позже продавалось на Кубе вдвое дороже, чем стоило ему в Сан-Доминго. После десерта Тете приносила бутылку коньяка и рассказывала ему все домашние новости. Босая девушка передвигалась бесшумно, словно плыла над землей, но он улавливал мелодичное позвякивание ключей, шуршание юбок и тепло ее кожи еще до того, как она входила. «Сядь, мне не нравится, что ты говоришь поверх моей головы», — повторял он ей каждый вечер. Она ждала этого приказания и садилась на стул недалеко от него: очень прямо, руки сложены на коленях, веки прикрывают глаза. Ее миндалевидные, чуть сонные глаза отливают золотом. Она отвечает на его вопросы бесстрастно, кроме тех, которые касаются Мориса: тогда она оживляется и каждую проделку малыша отмечает как подвиг. «Все мальчишки гоняются за курами, Тете», — смеется он, но в глубине души разделяет ее уверенность в том, что они растят гения. В первую очередь за это и ценит ее Вальморен: его сын не мог оказаться в лучших руках. Вопреки самому себе — сторонником телячьих нежностей он не был — он каждый раз бывал растроган, увидев их вдвоем в этом сообщничестве ласки и общих секретов матери и ее ребенка. Морис воздавал Тете за ее любовь с такой исключительной верностью, что зачастую вызывал ревность отца. Вальморен запретил ему называть ее мамой, но Морис этого запрета не слушался. «Мамочка, пообещай мне, что мы никогда-никогда не расстанемся», — приходилось слышать Вальморену у себя за спиной шепот сына. «Обещаю тебе, мой мальчик». За неимением другого собеседника Вальморен стал поверять Тете свои тревоги, связанные с коммерческими операциями, управлением плантацией и рабами. Но разговорами это назвать было нельзя, поскольку ответа от нее он не ожидал; скорее, это были монологи с целью выговориться и услышать звук человеческого голоса, даже и своего собственного. Порой они обменивались мыслями, и ему казалось, что она ничего не добавляла к его решениям, однако при этом он не замечал, как всего лишь несколькими фразами она умела им манипулировать.
— Ты видела товар, что доставил вчера Камбрей?
— Да, хозяин. Я помогала тетушке Розе их осмотреть.
— Ну и как?
— Выглядят они плохо.
— Только что приехали, а в дороге они очень худеют. Камбрей купил их по случаю, всех по одной цене. Это ужасный метод, осмотреть товар толком нельзя, и всегда подсовывают кота в мешке. Эти торговцы черным товаром — настоящие доки в плутовстве. Но, в конце концов, полагаю, что главный надсмотрщик знает, что делает. Что говорит тетушка Роза?
— Двое с поносом, на ногах не стоят. Она говорит, чтобы их отдали ей на неделю, подлечить.
— На неделю!
— Лучше, чем потерять их, хозяин. Это слова тетушки Розы.
— А в этой партии женщины есть? Нам на кухню одна нужна.
— Нет, но есть один паренек лет четырнадцати…
— Тот, которого Камбрей высек по дороге? Он мне сказал, что парень навострился бежать и пришлось проучить его прямо на месте.
— Так говорит месье Камбрей, господин.
— А ты, Тете, как думаешь, что там случилось?
— Не знаю, хозяин, но я думаю, что от парня больше толку будет на кухне, чем в поле.
— Здесь он опять попробует сбежать, надзор-то в доме не очень.
— Ни один дворовый раб пока не сбегал, хозяин.
Разговор не получал завершения, но потом, когда Вальморен осматривал свои новые приобретения, он выделил парня и принял решение. После ужина Тете отправлялась к Эухении — убедиться, что она чистая и спокойная лежит в постели, и побыть с Морисом, пока тот не уснет. Вальморен усаживался на галерее, если погода позволяла, или в полутемной гостиной, смакуя третью рюмку коньяка в тусклом свете масляной лампы с книгой или газетой в руках. Новости доходили с опозданием в несколько недель, но его это не очень волновало: описываемые события происходили в другой вселенной. Он отпускал прислугу, потому что к концу дня уже уставал оттого, что кто-то угадывает его мысли и желания, и оставался читать в одиночестве. Позже, когда небо становилось непроницаемым черным одеялом и только слышался немолчный шелест тростника, шепоток теней в доме и порой тайная вибрация далеких барабанов, он уходил к себе в комнату и раздевался при свете одинокой свечи. Скоро придет Тете.
Зарите
Так я это запомнила. Снаружи цикады и уханье совы, внутри — лунный свет, лежащий четкими полосками на его спящем теле. Такой молодой! Храни его для меня, Эрцули, лоа самых глубоких вод, молила я, прижимая к себе свою куклу, ту самую, что дал мне мой дедушка Оноре, ту самую, что с тех пор всегда со мной. Приди, Эрцули, мать, возлюбленная, с твоими ожерельями из чистого золота, с твоей накидкой из перьев тукана, с твоей цветочной короной и тремя кольцами, по одному на каждого супруга. Помоги нам, лоа снов и надежд. Защити его от Камбрея, сделай его невидимым в глазах хозяина, осторожным со всеми другими, но яростным в моих объятиях, смиряй его сердце дикого скакуна при свете дня, чтобы он выжил, и придавай ему смелости по ночам, чтобы он не утратил волю к свободе. Обрати на нас дружелюбные взоры, Эрцули, лоа ревности. Не завидуй нам, ведь это счастье хрупко, как мушиное крылышко. Он уйдет. А если не уйдет, то умрет, ты это знаешь, но не забирай его у меня раньше времени, позволь мне ласкать его худую спину юноши, пока не превратится она в спину мужчины.
Он — любовь моя — был воином, ведь и имя, данное ему отцом, — Гамбо, что означает воин. Я шептала его запретное имя, когда мы были наедине: Гамбо, и это слово отзывалось в моих венах. Ему стоило многих ударов хлыста научиться отвечать на то имя, что дали ему здесь, и скрывать свое настоящее имя; Гамбо, сказал он мне, указывая на свою грудь, в тот первый раз, когда мы друг друга любили. Гамбо, Гамбо, повторял он, пока я не осмелилась произнести его. Тогда он заговорил на своем языке, а я отвечала ему на своем. Прошло некоторое время, пока он выучился креольскому языку и научил меня немного говорить на его языке, на том, который моя мать не смогла передать мне, но и с самого начала говорить для нас — нужды не было. У любви есть немые слова, и они прозрачней речной воды.
Гамбо только что прибыл на остров; он казался ребенком — кожа да кости, напуганный. Другие пленники, больше и сильнее его, остались плыть по течению в горьком море, ища дорогу в Гвинею. Как ему удалось вынести это путешествие? Он был весь покрыт ранами, следами хлыста — метод Камбрея, чтобы сломить новичков, тот же самый, что применял он к собакам и лошадям. На груди, на сердце, у него красное клеймо со знаком негровладельческой компании, которое поставили ему в Африке перед посадкой на корабль. Оно еще не зарубцевалось. Тетушка Роза сказала мне, чтобы я промыла ему раны водой — большим количеством воды — и наложила на них пластыри из черного паслена, алоэ и жира. Рапы должны были заживать изнутри наружу. А на ожог — ни капли воды, только жир. Никто не умел врачевать лучше ее, даже доктор Пармантье пытался вызнать ее секреты, и она их ему открывала, хотя они и должны были послужить облегчению страданий других белых. И делала это потому, что знание идет от Папа Бондьё, оно принадлежит всем и, если его не давать другим, оно теряется. Это так. В те дни она была очень занята рабами, которые попали к нам больными, и лечить Гамбо выпало мне.
В первый раз я увидела его в госпитале для рабов; он лежал на животе, весь облепленный мухами. Я с трудом приподняла его, чтобы дать ему немного тафии и ложечку капель хозяйки, которые я украла из синего пузырька. И тут же приступила к нелегкой работе — обмыть его. Раны не были чересчур воспалены, поскольку Камбрей не мог посыпать их солью и облить уксусом, но боль, верно, была ужасной. Гамбо кусал губы, но не жаловался. Потом я села с ним рядом, чтобы спеть ему, ведь слов утешения на его языке я не знала. Хотела объяснить ему, как нужно делать, чтобы не дразнить руку, сжимающую хлыст; как работают и слушаются, пока вскармливается месть — тот костер, что горит внутри. Моя крестная убедила Камбрея, что у парня холера и лучше бы держать его отдельно, а то как бы не заразил всю бригаду. Главный надсмотрщик позволил ей забрать его к себе в хижину, потому что до сих пор не потерял надежду, что тетушка Роза подхватит какую-нибудь смертельную заразу, но к ней ни одна болезнь не прилипала: у нее был договор с Легбе, лоа колдовства. А я тем временем начала внушать хозяину мысль оставить Гамбо при кухне. В тростниках долго бы он не протянул, потому что главный надсмотрщик с самого начала держал его на прицеле.
Тетушка Роза оставляла нас в своей хижине во время лечения наедине. Она все предвидела. И на четвертый день это случилось. Гамбо был так оглушен и удручен — и болью, и безмерностью того, что он потерял свою землю, свою семью, свою свободу, — что мне захотелось обнять его, как сделала бы это его мать. Любовь помогает выздоровлению. Одно движение потянуло за собой другое, и я скользнула под него, не касаясь его спины, чтобы он положил голову на мою грудь. Тело у него горело, он все еще был в жару, и я не думаю, что он понимал, что мы делаем. Я любви не знала. То, что делал со мной хозяин, было чем-то темным и постыдным. Так я ему сказала, но он мне не верил. С хозяином моя душа, мой ti-bon-ange, отделялась от меня и улетала куда-то в другое место, и в кровати было только мое тело, corps-cadavre.[11] Гамбо. Его легкое тело на моем, его руки на моей талии, его дыхание на моих губах, его глаза, глядящие на меня с другой стороны моря, из Гвинеи, — это была любовь. Эрцули, лоа любви, храни его от всякого зла, защити его. Так я молила.
Смутные времена
Больше тридцати лет прошло с тех пор, как Макандаль, этот легендарный колдун, посеял зерно мятежа, и с того времени дух его ветром летал из конца в конец острова, просачивался в невольничьи бараки и поднятые на сваи хижины, проникал на мельницы, дразня рабов обещанием свободы. Он оборачивался змеей, жуком, обезьяной, красным попугаем ара, утешал шелестом дождя, взывал раскатами грома, подстрекал к восстанию гулким ревом бури. Белые тоже его чувствовали. Каждый раб — враг, а их уже больше полумиллиона, и две трети их попали сюда прямиком из Африки, принеся с собой безмерный груз оскорбления: они живут лишь для того, чтобы порвать свои цепи и отомстить. Тысячи рабов прибывали в Сан-Доминго, но все равно не могли насытить вечного спроса плантаций. Хлысты, голод, работа. Ни постоянная охрана, ни самые жестокие репрессии не могли остановить бегства многих из них: некоторые решались на него уже в порту, едва сойдя на берег, когда перед крещением с них снимали цепи. Они умудрялись убегать голыми и больными, с одной лишь мыслью: подальше от белых. Пересекали равнины, ползком преодолевая выгоны, входили в джунгли и взбирались по горам этой незнакомой страны. Если им удавалось присоединиться к бандам беглых рабов, они спасались от рабства. Война, свобода. Необъезженные жеребцы, рожденные в Африке свободными и готовые умереть, чтобы вновь ими стать, свое мужество они передавали тем, кто родился на острове, тем, кто не знал свободы, тем, для кого Гвинея была призрачным царством на дне морском. Плантаторы жили с оружием в руках, начеку. Полк Ле-Капа был усилен четырьмя тысячами французских солдат, которые, едва ступив на эту землю, валились, сраженные холерой, малярией и дизентерией.
Рабы верили, что комары — разносчики смертельных болезней — были войсками Макандаля, сражавшимися с белыми. Ведь Макандаль спасся от пламени, став комаром. Макандаль вернулся, как и обещал. В Сен-Лазаре сбегало меньше рабов, чем в других местах, и причиной этому Вальморен считал то, что он не практиковал истязания: ничего похожего на такие штуки, как обмазать негра патокой и выставить его на съедение красным муравьям, что было в ходу у Лакруа. В своих странных ночных монологах он говорил Тете, что никто не сможет обвинить его в жестокости, но, если ситуация продолжит ухудшаться, ему придется дать Камбрею карт-бланш. Она старалась при нем не произносить слово «бунт». Тетушка Роза убедила ее, что общее восстание рабов было только вопросом времени и Сен-Лазар, как и все остальные плантации острова, сгинет в огне.
Проспер Камбрей обсудил со своим хозяином этот невероятный слух. С тех пор как он себя помнит, всегда говорили об одном и том же, и никогда ничего такого не случалось. Что могли сделать несколько жалких невольников против жандармов и настоящих мужчин, подобных ему, готовых на все? Как они собирались организоваться и вооружиться? Кто ими будет командовать? Невозможно. День он проводил в седле, ночью не расставался с парой пистолетов, что были всегда под рукой, и спал вполглаза, всегда начеку. Хлыст был продолжением его кулака — это был язык, знакомый ему лучше всего, тот, которого боялись все, и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как ужас, от него исходивший. Только щепетильность хозяина мешала ему применять более изобретательные репрессивные методы, но это должно было поменяться — с тех пор, как участились вспышки мятежа. Пришла пора, когда возникла возможность показать, что он способен управлять плантацией даже в тяжелейших условиях: он уже слишком много лет дожидался должности управляющего. Жаловаться он не мог, ведь за это время ему удалось сколотить завидный капитал путем взяток, кражи и контрабанды. Вальморен понятия не имел, сколько добра пропадало из его кладовых. Камбрей выставлял себя добрым папочкой: ни одна девочка не была освобождена от обязанности ублажать его в гамаке, и никто в эти дела не вмешивался. Пока не трогал Тете, он мог блудить сколько душе угодно, но той единственной, что разжигала его сладострастие и злобу, была именно она, поскольку оставалась недоступной. Он следил за ней издалека, шпионил вблизи, подкарауливал при малейшей ее оплошности, но она всегда от него ускользала. «Осторожнее, месье Камбрей. Если вы меня тронете, я скажу хозяину», — предупреждала его Тете, стараясь унять дрожь в голосе. «Это ты поосторожнее, шлюха, — как только окажешься у меня в руках, за все мне заплатишь. Что ты о себе воображаешь, паршивка? Тебе уже двадцать, скоро хозяин возьмет себе молоденькую, а тебя выкинет, и тут придет мой черед. Я выкуплю тебя. Куплю дешево — ты ничего не стоишь, даже рожать не рожаешь. Или у твоего хозяина яйца отсохли? А со мной узнаешь, что значит удовольствие. Твой хозяин будет счастлив тебя продать», — угрожал он ей, поигрывая кожаным плетеным хлыстом.
А между тем французская революция добралась, как удар драконова хвоста, до колонии и потрясла ее до самого основания. Большие белые, консерваторы и монархисты, с ужасом смотрели на перемены, но маленькие белые поддержали революцию, покончившую с классовыми различиями: свобода, равенство и братство для белых людей. Офранцуженные же послали в Париж делегации — требовать для себя гражданских прав в Национальном собрании, ведь в Сан-Доминго ни один белый, ни богатый, ни бедный, не был расположен им эти права предоставить. Вальморен, поняв, что ничто уже не связывает его с родиной, отложил свое возвращение во Францию на неопределенное время. Раньше его бесила расточительность монархии, а сейчас те же эмоции вызывал в нем республиканский хаос. После стольких лет его жизни наперекор колонии он дошел до осознания, что место его — в Новом Свете. Санчо Гарсиа дель Солар со своей обычной откровенностью написал ему, чтобы он оставил мысли о Европе вообще и Франции в частности, что там нет места для предприимчивых людей, что будущее — за Луизианой. Он мог рассчитывать на свои хорошие связи в Новом Орлеане, и единственное, чего ему недоставало, так это капитала. Вместе они могли бы заняться делом, в котором был заинтересован не один человек, но он желал бы отдать предпочтение именно Вальморену, имея в виду их семейные связи и тот факт, что где бы они вдвоем ни прикладывали палец, оттуда прорастало золото. Он пояснял, что вначале Луизиана была французской колонией и, хотя уже двадцать лет принадлежала Испании, население упорно хранило верность своим корням. Правительство было испанским, но культура и язык по-прежнему французские. Климат там похож на климат Антил, хорошо растут те же культуры, но есть и одно преимущество: места с избытком, и земля идет по бросовым ценам. Они могли бы купить огромную плантацию и выжимать из нее деньги без каких бы то ни было политических проблем и бунтующих рабов. За несколько лет они сколотят целое состояние, обещал ему шурин.
Потеряв своего первого сына, единственное, чего желала Тете, — быть стерильной, как мулы на мельнице. Чтобы испытывать материнскую любовь и переживания, ей хватало Мориса, этого хрупкого мальчонки, готового расплакаться от волнения при звуках музыки и описаться от ужаса при виде жестокости. Камбрея Морис боялся: ему было достаточно заслышать стук его сапог на галерее, чтобы опрометью броситься прочь. Тете прибегала к снадобьям тетушки Розы, чтобы избежать еще одной беременности, так же как и другие рабыни, но средства эти не всегда оказывались эффективными. По словам лекарки, есть младенцы, которые очень стремятся прийти в этот мир, поскольку ничуть не подозревают, что ждет их здесь. Таким был и второй ребенок Тете. Не подействовали ни пропитанные уксусом пучки пакли, ни окуривание горчицей, ни петух, принесенный в жертву лоа, чтобы вызвать аборт. Не дождавшись менструации в третий раз, она пошла умолять крестную, чтобы та решила ее проблему с помощью заостренной палочки, но та отказалась: риск занести инфекцию был огромный, да и если бы их застали за таким делом — покушением на собственность хозяина, — Камбрей получил бы в свои руки замечательный повод спустить с обеих шкуру плетьми.
— Полагаю, что этот тоже ребенок хозяина, — проговорила тетушка Роза.
— Не знаю точно, крестная. Он может быть и Гамбо, — смущенно прошептала Тете.
— Чей-чей?
— Помощника кухарки. Его настоящее имя — Гамбо.
— Он сопляк еще, но, как видно, умеет по-взрослому, как мужчина. Он ведь, похоже, лет на пять-шесть моложе тебя.
— Разве это важно? Важно то, что, если ребенок окажется черным, хозяин убьет нас обоих!
— Полно детей от смешанных союзов, которые получаются темными — в бабушек и дедушек, — успокоила ее тетушка Роза.
В страхе перед возможными последствиями этой беременности Тете придумала себе, что внутри ее растет опухоль, но на четвертый месяц стала ощущать голубиное трепетание, упрямое веяние — первый, который ни с чем не спутаешь, признак живой жизни, и она уже не могла избегнуть любви и сострадания к свернутому в ее животе существу. По ночам, устроившись рядом с Морисом, она шепотом просила у этого существа прощения за ужасную обиду — родить его рабом. На этот раз не было нужды ни прятать живот, ни чтобы хозяин срочно, как из пушки, отправлялся с супругой на Кубу, потому что несчастная Эухения уже не понимала абсолютно ничего. Она уже давно не виделась с мужем, и в тех редких случаях, когда ей удавалось различить его силуэт в переливах своего бреда, задавалась вопросом, кто такой этот мужчина. Не узнавала она и Мориса. В лучшие свои минуты она возвращалась в юность: ей снова было четырнадцать, и она снова играла вместе с другими ученицами в мадридском монастыре, ожидая, пока на завтрак им подадут горячий шоколад. В остальное время она бродила по туманному пейзажу с неясными очертаниями, где уже не страдала так сильно, как раньше. Тете на свой страх и риск решила постепенно отменить ей опий, и это не вызвало никаких изменений в ее состоянии. По мнению тетушки Розы, госпожа, родив Мориса, выполнила свою земную миссию и ей уже нечего было делать в этом мире.
Вальморен знал тело Тете лучше, чем ему довелось узнать тело Эухении или какой-нибудь из его мимолетных любовниц, и вскоре он увидел, что талия ее полнеет, а груди тяжелеют. Он спросил ее об этом в постели, после одного из тех сношений, которые она терпеливо сносила, а для него они были всего лишь ностальгическим снятием напряжения, и Тете расплакалась. Это его поразило, ведь ее слез он не видел с того самого дня, когда отнял у нее первого ребенка. Он слышал, что негры обладают меньшей способностью к страданиям, доказательством чему служило то обстоятельство, что ни один белый не вынес бы того, что терпели они. И поэтому точно так же, как отбирают щенят у собак или телят у коров, можно было забирать у невольниц их детей: вскоре они приходили в себя от этой потери и больше о ней не вспоминали. Он никогда не думал о чувствах Тете, но исходил из предположения, что они были очень ограниченны. Когда ее не было рядом с ним, она растворялась, расплывалась, уходила в никуда — до тех пор, пока он не требовал ее к себе. Тогда она материализовалась снова: она вообще существовала только для того, чтобы служить ему. Она уже не была девочкой, но ему казалось, что она не изменилась. Он смутно припоминал образ худой девчонки, которую передала ему Виолетта Буазье несколько лет назад; образ цветущей девушки, которая вдруг вышла из этого столь мало обещавшего бутона и которую он одним хищным движением лишил девственности в той самой комнате, где под действием опия спала Эухения; образ молодой женщины, родившей ребенка без единой жалобы, стискивая зубами кусок дерева, — шестнадцатилетней матери, что поцелуем в лобик навсегда простилась с ребенком, которого ей не суждено было увидеть больше ни разу в жизни; образ женщины, с бесконечной нежностью укачивавшей Мориса, — той, что закрывала глаза и кусала себе губы, когда он брал ее, той, что порой засыпала подле него, уставшая от дневных забот, но вскоре просыпалась с именем Мориса на устах и убегала. И все эти образы Тете сплавлялись в один, словно время для нее не существовало. Той ночью, когда он на ощупь узнал об изменениях в ее теле, он велел ей зажечь лампу, чтобы рассмотреть ее. То, что увидел, ему понравилось: тело, обрисованное длинными и четкими линиями, бронзовая кожа, пышные бедра, чувственные губы, и он заключил, что это его самое ценное приобретение. Пальцем подобрал он слезу, скользившую вдоль ее носа и, не раздумывая, отправил ее себе в рот. Она была соленой, как слезы Мориса.
— Что с тобой? — спросил он ее.
— Ничего, хозяин.
— Не плачь. На этот раз можешь оставить себе ребенка, потому что Эухении это уже не может повредить.
— Если это так, хозяин, почему вы не вернете моего сына?
— Это было бы очень неудобно.
— Скажите мне, жив ли он…
— Естественно, он жив, женщина! Ему сейчас, наверное, года четыре-пять, так ведь? Твой долг — заниматься Морисом. Не смей больше упоминать этого мальчика в моем присутствии и довольствуйся тем, что я позволяю тебе воспитывать того, что ты носишь.
Зарите
Гамбо вместо унизительной для него работы на кухне предпочел бы резать тростник. «Если бы видел меня сейчас отец, то восстал бы из мертвых, чтобы плюнуть на мои ноги и отречься от меня, своего старшего сына, который занимается женской работой. Он-то погиб в бою, защищая нашу деревню, — самой правильной для мужчины смертью». Так он мне говорил. Охотники за невольниками были из другого племени, они пришли издалека, с запада, у них были лошади и мушкеты, как здесь у главного надсмотрщика. Другие деревни к тому времени уже исчезли в пожарах, эти люди забирали молодых, убивали стариков и маленьких детей, но отец его думал, что сами они в безопасности — они же далеко, за лесами. Охотники продавали своих пленников тварям с железными клыками и крокодильими когтями, что питались человечиной. И никто ни разу не вернулся. Гамбо оказался единственным членом семьи, кого схватили живьем, на мое счастье и его несчастье. Он выдержал первую часть пути, длившуюся две полные луны, на ногах, прикрученный к другим пленникам веревками и с деревянным ярмом на шее, почти без еды и воды. Когда он уже не был способен сделать ни шагу вперед, перед их глазами возникло море, которого никогда раньше не видел ни один из длинной вереницы пленников, и величественный замок на песке. Они даже не успели поразиться шири и цвету воды, на горизонте переходившей в небо, потому что их заперли. Тогда-то Гамбо в первый раз и увидел белых и подумал, что это дьяволы; потом он узнал, что они были людьми, но никогда не верил, что они человеческого рода, как мы. На них были потные тряпки, железные нагрудники и кожаные сапоги, они кричали и наносили удары без всякого смысла. Ничего похожего на клыки или когти, но на лице у них росли волосы, в руках они держали оружие и хлысты, и запах их был таким отвратительным, что вызывал тошноту даже у птиц в небе. Так он мне рассказывал. Его отделили от женщин и детей, втолкнули в сарай, где днем было пекло, а в ночи — холод, к сотням других мужчин, которые не говорили на его языке. Он не знал ни сколько времени там провел, потому что забыл отслеживать лунные циклы, ни сколько их умерло, потому что ни у кого не было имени и никто не вел счета. Вначале было так тесно, что они не могли прилечь на земле, но по мере того как вытаскивали трупы, места стало больше. А потом пришло самое ужасное — то, о чем он не хотел вспоминать, но что приходило к нему во сне: корабль. Они плыли, лежа друг на друге, как дрова, на многоярусных дощатых нарах, с железными ошейниками и в цепях, не зная ни куда их везут, ни почему раскачивается эта огромная тыква и они в ней: стонут, блюют, исходят поносом, умирают. Вонь стояла такая, что, верно, доходила до страны мертвых и ее мог слышать его отец. Но и там Гамбо не мог следить за ходом времени, хотя и был под солнцем и звездами несколько раз, когда их группами выведши на палубу, чтобы облить из ведер соленой морской водой и заставить плясать — чтобы не разучились шевелить руками и ногами.
Матросы швыряли за борт мертвецов и больных, а потом выбирали наудачу живых и для развлечения стегали. Самых дерзких подвязывали за руки и медленно опускали в кишащую акулами воду, а когда поднимали, оставались только руки. Гамбо видел и то, что вытворяли с женщинами. Он искал возможности броситься за борт, полагая, что после акульего пиршества — а акулы сопровождали корабль от берегов Африки до Антил — душа его вплавь отправится прямиком к подводному острову, чтобы соединиться с отцом и другими родственниками. «Если бы мой отец узнал, что я намеревался умереть без борьбы, он еще раз плюнул бы мне на ноги» — так он мне рассказывал.
Единственное его оправдание тому, что он все еще остается на кухне тетушки Матильды, заключалось в подготовке к побегу. Риски были известны. В Сен-Лазаре можно было видеть рабов без носа и ушей или с кандалами на щиколотках: снять их было невозможно, как и бежать в них. Я думаю, что свой побег он откладывал из-за меня: из-за того, как мы друг на друга смотрели, из-за наших посланий, сложенных из камешков в курятнике, гостинцев, которые он таскал для меня с кухни, ожидания объятий, что бежало перечным покалыванием по всему телу, и из-за тех редких моментов, когда мы наконец оставались наедине и касались друг друга. «Мы станем свободными, Зарите, и будем всегда вместе. Люблю тебя так, как никого не любил: больше отца и его пяти жен, моих матерей, больше братьев и сестер, больше, чем всех их, вместе взятых, но не больше моей чести». Воин делает то, что должен делать, и это важнее любви, как же я не понимаю. Мы, женщины, любим глубже и дольше, и это я тоже знаю. Гамбо был горд, а для раба нет большей опасности, чем гордость. Я умоляла его оставаться на кухне, если он хочет жить, чтобы он сделался незаметным, не попадался на глаза Камбрею, но это значило просить слишком многого, это означало просить, чтобы он влачил жалкое существование труса. Жизнь записана в нашей з’этуаль, и изменить ее мы не властны. «Пойдешь со мной, Зарите?» Но пойти с ним я не могла — была слишком тяжелой, и вместе далеко бы мы не ушли.
Любовники
Прошло уже несколько лет с тех пор, как Виолетта Буазье покинула ночную жизнь Ле-Капа — и вовсе не потому, что красота ее увяла, ведь она все еще могла конкурировать с любой из своих соперниц, а из-за Этьена Реле. Их связь переросла в подобие любовного сообщничества, крепко замешенного на его страсти и ее легком характере. Вместе они были уже около десяти лет, но оба и оглянуться не успели, как эти годы пролетели. Вначале они жили раздельно и могли видеться только во время коротких наездов Реле в город, случавшихся в перерывах между военными кампаниями. Какое-то время Виолетта еще продолжала профессиональную деятельность, но свои роскошные услуги предоставляла только узкому кругу клиентов — самым щедрым. Она сделалась такой разборчивой, что Луле пришлось исключить из клиентского списка буйных, до отвращения безобразных и с дурным запахом изо рта. Но оказывалось и предпочтение — старикам: они-то умели быть благодарными. Спустя несколько лет после знакомства с Виолеттой Реле получил звание подполковника, ему было поручено обеспечивать безопасность на севере французской части острова, и отлучки его перестали быть столь долгими. Едва обосновавшись в Ле-Капе, он прекратил ночевать в казарме и женился на Виолетте. С его стороны это был вызов обществу: пышная свадьба с венчанием и объявлением в газете, как было принято в случаях бракосочетания больших белых. Это вызвало замешательство его товарищей по оружию, которые решительно не понимали его резонов: к чему было брать в жены цветную женщину, к тому же с сомнительной репутацией, если он прекрасно мог иметь ее содержанкой. Но ни один из них не задавал подобных вопросов ему лично, а сам он в объяснения не пускался. Реле рассчитывал на то, что никто не осмелится выказать неуважение его супруге. Виолетта оповестила своих «друзей», что более она недоступна, раздала другим кокоткам нарядные платья, которые не смогла переделать во что-нибудь более скромное, продала квартиру и вместе с Лулой переехала в снятый Реле дом в квартале маленьких белых и офранцуженных. Ее новыми друзьями стали мулаты: некоторые из них были довольно богатыми, это были владельцы земель и рабов, к тому же католики, хотя втайне они и оставались приверженцами вуду. Это были потомки тех самых белых, что так их презирали, — их дети или внуки, и мулаты подражали им буквально во всем, до последней возможности открещиваясь от африканской крови своих матерей. Реле не отличался приветливостью: он чувствовал себя в своей тарелке исключительно в грубой обстановке казарменного братства, но иногда и он сопровождал жену на светские рауты. «Улыбнись, Этьен, чтобы мои друзья перестали наконец бояться сторожевого пса Сан-Доминго», — просила она. Виолетта говорила Луле, что скучает по блеску вечеринок и спектаклей, заполнявших собой когда-то все ее ночи. «Тогда у тебя были деньги, и ты развлекалась, мой ангелочек, теперь же ты бедна и скучаешь. И чего ты добилась с этим твоим солдатом?» Обе женщины жили на жалованье подполковника, но втайне от него проворачивали и кое-какие делишки: немного контрабанды, иногда — деньги в рост. Так они увеличивали тот капитал, который Виолетта сумела заработать, а Лула умела инвестировать.
Этьен Реле не оставил своих планов вернуться во Францию, особенно теперь, когда республика обеспечила правами и простых граждан, таких как он. Жизнью в колонии он был сыт уже по горло, но, чтобы оставить армию, ему не хватало накоплений. Он не жеманился, не уклонялся от войны, был участником многих баталий, привык и страдать сам, и заставлять страдать других, но он устал от хаоса. Ситуации в Сан-Доминго он не понимал: всего за несколько часов образовывались и распадались союзы, белые боролись друг с другом и против офранцуженных, но никто не придавал значения все ширившемуся мятежу негров, а это, с его точки зрения, и было самым важным. Несмотря на анархию и насилие, супружеская пара обрела тихое счастье, которого до тех пор не знал ни тот, ни другая. Разговоров о детях они избегали: она забеременеть не могла, а его дети не интересовали. И когда в один навсегда запомнившийся им вечер в их доме с завернутым в одеяльце младенцем появился Тулуз Вальморен, ребенка они приняли как домашнюю зверюшку, что должна заполнить досуг Виолетты и Лулы, нимало не подозревая, что впоследствии он станет сыном, о котором они и мечтать не смели. Вальморен привез ребенка Виолетте, потому что ему в голову не пришло никакого другого решения, которое позволило бы избавиться от младенца до возвращения Эухении с Кубы. Он должен был не допустить, чтобы его жена узнала, что ребенок Тете был и его ребенком. Ничьим еще он не мог быть, поскольку в Сен-Лазаре он был единственным белым. Вальморен и понятия не имел, что Виолетта вышла замуж за военного. Он не нашел ее в квартире на площади Клюни, которая теперь принадлежала другому владельцу, но установить местонахождение Виолетты трудности для него не составляло, и он явился, уже по новому адресу, с ребенком и кормилицей, раздобытой при помощи соседа Лакруа. Супругам он сказал, что речь идет о временном пристанище для младенца, хотя сам не имел ни малейшего понятия, как будет впоследствии разбираться с этой проблемой. Поэтому для него несказанным облегчением оказалось то, что Виолетта с мужем приняли ребенка, не спрашивая ничего, кроме его имени. «Я его еще не окрестил, можете назвать его как хотите», — сказал он им в ответ.
Этьен Реле оставался таким же первобытным, могучим и здоровым, как и в юности. Это был все тот же клубок мускулов и нервов, увенчанный гривой седых волос и снабженный стальным характером, тем самым, что привел его в армию и к нескольким наградам. Прежде он служил королю, теперь, все так же верно, — республике. Он по-прежнему неотступно желал и любил Виолетту, а она охотно подыгрывала ему во время любовных шалостей, которые, по мнению Лулы, были совершенно неподобающими для зрелых супружеских пар. Бросался в глаза контраст между его репутацией безжалостного человека и сокровенной нежностью, с которой он относился к жене и ребенку, очень скоро завоевавшему его сердце — тот орган, которого, как полагали в казарме, у него вовсе не было. «Этот малец мог бы быть моим внуком», — частенько говаривал он, и, похоже, как раз дедовское помешательство в нем и проявилось. Виолетта и мальчик были единственными в мире существами, кого он любил. Если его поприжать, он допустил бы, что любит еще и Лулу — негритянку с замашками командира, которая в самом начале встретила его в штыки и попортила ему немало крови, когда еще держалась той мысли, что Виолетте следовало бы найти себе жениха получше. Когда Реле предложил ей свободу, то получил следующую реакцию: Лула бросилась на пол, рыдая и причитая, что от нее хотят избавиться, как от тех бедняг, стариков и больных, которые уже ни на что не годятся и которых хозяева бросают на улице, чтоб больше не кормить; что она всю жизнь положила на то, чтобы ходить за Виолеттой, и что уж если она больше им не нужна, пусть отправят ее просить милостыню или обрекут на голодную смерть; ну и дальше в том же духе, и все криком. Наконец Реле удалось заставить себя слушать, и он заверил ее, что она может и дальше быть рабыней — до своего последнего вздоха, раз уж ей этого хочется. После этого обещания поведение женщины изменилось, и, вместо того чтобы подкладывать ему под кровать утыканные булавками куклы, она из кожи вон лезла, готовя ему любимые кушанья.
Виолетта созревала медленно, как плоды манго. С годами она не потеряла ни своей свежести, ни гордой поступи, ни звонкого смеха, только немного пополнела, что очень нравилось ее мужу. К жизни она относилась доверчиво — как те, кому знакомо наслаждение любовью. Со временем и с помощью умения Лулы распускать слухи она превратилась в легенду, и куда бы она ни направилась, ее провожали взгляды и перешептывания, причем даже тех людей, кто у себя ее не принимал. «Должно быть, они вспоминают о голубином яичке», — смеялась Виолетта. Самые надменные господа снимали перед ней шляпу, когда шли без спутниц, ведь многие помнили жгучие ночи в квартире на площади Клюни, а вот женщины, причем вне зависимости от цвета их кожи, отводили от нее взгляд: в них говорила зависть. Виолетта одевалась ярко, но единственным ее украшением был перстень с опалом, подарок мужа, и тяжелые золотые кольца в ушах, выгодно подчеркивающие ее великолепные черты лица и кожу оттенка слоновой кости — результат стараний всей ее жизни: ни один луч солнца не должен был упасть на ее тело. Других драгоценностей у нее не оставалось, потому что все были проданы: нужно было увеличить капитал, совершенно необходимый, чтобы давать деньги в рост. Годами она хранила свои сбережения в тяжеловесных золотых монетах, зарытых во дворе дома, причем муж ее не имел об этом ни малейшего понятия, — хранила до того самого момента, когда им пришлось уезжать. Как-то во время воскресной сиесты они лежали на ложе, не касаясь друг друга, потому что было слишком жарко, и вдруг она заявила, что если он и вправду хочет вернуться во Францию, как твердит вот уже целую вечность, то у них для этого есть достаточно средств. Той же ночью, под прикрытием темноты, они с Лулой выкопали свое сокровище. Когда подполковник взвесил кошель с монетами, а потом пришел в себя от изумления и еще чуть позже отвел возражения униженного женской хитростью мужчины, он решил подать в отставку. Долг Франции он отдал сполна. И вот супруги принялись планировать отъезд, а Луле пришлось примириться с мыслью о том, что она станет свободной: во Франции рабство было отменено.
Хозяйские дети
Этим вечером супруги Реле ожидали самого важного в их жизни визита, как объявила Виолетта Луле. Дом офицера был несколько просторнее, чем ее прежняя трехкомнатная квартира на площади Клюни, — удобный, но без излишеств. Простота, принятая Виолеттой в одежде, распространялась и на их жилище, обставленное мебелью работы местных мастеров, без изысков, так прельщавших ее когда-то. Дом выглядел уютным: фрукты в вазах, цветы, певчие птицы в клетках и несколько кошек. Первым их посетителем в тот вечер стал нотариус, которого сопровождал молодой секретарь с синей тетрадкой. Виолетта пригласила их в смежную с большой гостиной комнату — она служила Реле кабинетом — и предложила кофе с тончайшими оладьями от монахинь, которые, по мнению Лулы, были всего лишь жареным тестом: она бы испекла то же самое гораздо лучше. Вскоре в дверь постучал Тулуз Вальморен. Он поднабрал лишних килограммов и выглядел куда более потрепанным и широким, чем его запомнила Виолетта, однако он в полной мере сохранял надменность большого белого, которая всегда казалась ей несколько комичной. Ведь она отлично умела раздевать мужчин одним лишь взглядом, а голыми они не имели титулов, власти, состояния или расы — при них оставались только их физическая форма и намерения. Вальморен приветствовал ее притворным, без касания губами, целованием руки, что было явной неучтивостью в присутствии Реле, и принял предложение присесть и выпить стакан сока.
— Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы в последний раз виделись, месье, — сказала она, стремясь скрыть сжимавшую ей сердце тревогу, вежливо-формальным тоном, который был для них внове.
— Время для вас остановилось, мадам: вы все та же.
— Не обижайте меня, я стала лучше, — улыбнулась она, удивившись тому, что он покраснел: похоже, он нервничал не меньше ее.
— Как вам известно из моего письма, месье Вальморен, вскоре мы думаем перебраться во Францию… — вступил в разговор Этьен Реле, в военном мундире, сидевший на своем стуле очень прямо, словно аршин проглотил.
— Да-да, — прервал его Вальморен. — Прежде всего мой долг — поблагодарить вас обоих за то, что все эти годы вы заботились о мальчике. Как его зовут?
— Жан-Мартен, — сказал Реле.
— Он, наверно, уже совсем взрослый. Мне бы хотелось взглянуть на него, если можно.
— Чуть позже. Сейчас они с Лулой гуляют, но скоро вернутся.
Виолетта расправила юбку своего строгого темно-зеленого крепового платья с фиолетовой оторочкой и подлила сока в стаканы. Руки у нее дрожали. Две бесконечно долгие минуты никто не открывал рта. Прервав тяжелое молчание, в клетке запела канарейка. Вальморен исподтишка разглядывал Виолетту, отмечая перемены в этом теле, любить которое он когда-то так жаждал, хотя теперь уже и припомнить не мог, чем там они занимались в постели. Он задавался вопросом о ее возрасте и о том, использует ли она для сохранения красоты некие таинственные бальзамы, подобные тем, которые, как он где-то прочел, были в древности в ходу у египетских цариц, что в конце концов превращались в мумии. При мысли о счастье Реле с этой женщиной его кольнула зависть.
— Мы не можем забрать с собой Жан-Мартена в его нынешнем состоянии, Тулуз, — произнесла наконец Виолетта, положив свою ручку ему на плечо, тем теплым домашним тоном, которым обращалась к нему, когда они еще были любовниками.
— Он не наш, — прибавил подполковник, с горькой складкой возле рта и взглядом, устремленным в лицо своего старого соперника.
— Мы очень любим этого мальчика, и он думает, что мы его родители. Я всегда хотела иметь детей, Тулуз, но Бог мне их не дал. Поэтому мы хотели бы выкупить Жан-Мартена, оформить ему вольную и забрать его с собой во Францию уже под фамилией Реле, как нашего законного сына, — сказала Виолетта и вдруг расплакалась, содрогаясь от рыданий.
Ни один из двоих мужчин не стал даже пытаться ее успокоить. Чувствуя себя в высшей степени неудобно, оба разглядывали канареек, пока она не успокоилась сама как раз к тому моменту, когда в комнату вошла Лула, ведя мальчика за ручку. Он был красив. Ребенок тут же подбежал к Реле, зажав что-то в кулачке, возбужденно щебеча; на его щечках играл румянец. Реле показал ему на гостя, и мальчик подошел, протянул ему пухлую ручку и, ничуть не смущаясь, поздоровался. Вальморен с удовольствием оглядел его, убеждаясь, что мальчик ни в чем не походил ни на него самого, ни на его сына Мориса.
— Что это у тебя там такое? — спросил он ребенка.
— Ракушка.
— Ты мне ее подаришь?
— Не могу, это для моего папа́, — ответил Жан-Мартен, снова подбежав к Реле с явным намерением забраться к нему на колени.
— Пойди к Луле, сынок, — велел ему подполковник.
Ребенок тут же послушался, ухватился за юбку женщины, и оба вышли.
— Если ты согласен… В общем, мы пригласили нотариуса — на случай, если ты примешь наше предложение, Тулуз. Потом еще нужно будет пойти к судье, — всхлипнула Виолетта, снова едва не расплакавшись.
Вальморен пришел на эту встречу, не имея никакого заготовленного плана действий. Он знал, о чем пойдет разговор, ведь Реле написал ему об этом в письме, но решения не принял — сначала хотел увидеть мальчика. Тот произвел на него очень благоприятное впечатление: он был красив, да и характера ему было не занимать, то есть стоил он немало, но для него продажа мальчика стала бы занозой в сердце. Его баловали с самого рождения — это сразу было заметно, — и о своем истинном положении в обществе он не догадывался. Что бы сам он стал делать с этим маленьким цветным бастардом? Первые годы его пришлось бы держать дома. Как поведет себя Тете, ему страшно было даже представить; конечно же, она все свое внимание сосредоточит на своем сыне, и Морис, бывший до этого момента единственным ребенком, тут же почувствует себя покинутым. Хрупкое равновесие его дома покатится в тартарары. Подумал он и о Виолетте Буазье, о той смутной уже тени любви, которую он к ней испытывал, об услугах, что оказывали они друг другу на протяжении этих лет, и о той простой истине, что она в гораздо большей степени стала матерью для Жан-Мартена, чем Тете. Супруги Реле дали ребенку то, чего сам он давать ему не собирался: свободу, воспитание, фамилию и уважение в обществе.
— Пожалуйста, месье, продайте нам Жан-Мартена. Мы заплатим столько, сколько попросите, хотя, как вы видите, мы и не очень богаты, — молил его Этьен Реле, с судорожным выражением на лице, весь напрягшись, а Виолетта дрожала всем телом, опершись на дверь, отделявшую их от нотариуса.
— Скажите, месье, сколько стоило вам содержание ребенка за все эти годы? — поинтересовался Вальморен.
— Я никогда не вел этих подсчетов, — ответил Реле, застигнутый таким вопросом врасплох.
— Ну и хорошо. Вот ровно столько мальчик и стоит. По рукам. Получайте своего сына.
Беременность Тете не означала для нее никаких изменений: она так же, как обычно, работала от зари до зари и оказывалась на ложе своего хозяина всякий раз, как у того возникало желание. Теперь, когда живот у нее вырос и превратился в серьезное препятствие, любовью приходилось заниматься по-собачьи. Гете в душе проклинала его, но, с другой стороны, опасалась, как бы он не сменил ее на другую рабыню и не продал Камбрею, что для нее было худшим из возможных жребиев.
— Не волнуйся, Зарите, если до этого дойдет, я сама займусь главным надсмотрщиком, — пообещала ей тетушка Роза.
— Почему же вы не делаете этого прямо сейчас, крестная? — спросила ее молодая женщина.
— Потому что не следует убивать человека без очень веской причины.
В тот вечер Тете, распухшая, с ощущением, что внутри себя она носит арбуз, шила в уголке гостиной, неподалеку от сидевшего в кресле Вальморена, а он читал и курил. Пряный запах табака, который в ее обычном состоянии ей даже нравился, сейчас выворачивал ей желудок. Уже несколько месяцев в Сен-Лазар никто не приезжал — даже Пармантье, самый постоянный их гость, страшился опасностей дороги: путешествовать без надежной охраны на севере острова было невозможно. Вальморен завел обычай, в соответствии с которым после ужина Тете должна была составлять ему компанию — еще одна обязанность вдобавок ко всем прежним, а их и так было немало. В то время единственным ее желанием было лечь, свернуться калачиком возле Мориса и заснуть. Она едва терпела свое постоянно горячее, усталое, потное тело, давившего на кости ребенка, боль в спине, набухшие груди, пылающие соски. Этот день выдался особенно тяжелым, ей едва хватало воздуха. Было еще рано, но, поскольку гроза приблизила ночь и вынудила ее закрыть ставни, дом казался давящим, как тюрьма. Эухения уже полчаса как спала, при ней была сиделка, а саму Тете ждал Морис, но мальчик научился не звать ее, чтобы не сердить отца.
Гроза закончилась так же внезапно, как и началась: вдруг смолкли стук воды и порывы ветра, сменившись целым лягушачьим хором. Тете подошла к одному из окон и распахнула ставни, глубоко вдыхая влагу и свежесть, ворвавшуюся в комнату. День ей казался бесконечным. Пару раз она заглядывала на кухню, будто искала тетушку Матильду, но Гамбо там не видела. Куда подевался парень? Она тряслась от страха за него. До Сен-Лазара из других мест острова доходили определенные слухи о положении в метрополии: их передавали из уст в уста негры, а источником служили белые, которые открыто обсуждали все новости — они же никогда не сдерживались в беседах на любые темы в присутствии своих рабов. Последней была провозглашенная во Франции Декларация нрав человека. Белые почувствовали под собой горячие угли, зато офранцуженные, вечные маргиналы, наконец увидели для себя возможность встать наравне с белыми. Права человека не имели отношения к черным, как растолковала тетушка Роза собравшимся на календу людям: свобода даром не давалась, за нее нужно сражаться. Все знали, что с соседних плантаций уже бежали сотни рабов, чтобы присоединиться к отрядам мятежников. Из Сен-Лазара сбежало двадцать, но Проспер Камбрей со своими людьми устроил на них облаву, и удалось вернуть четырнадцать. Остальные шестеро, по словам главного надсмотрщика, погибли от нуль, но тел никто не видел, и тетушка Роза полагала, что им удалось уйти в горы. Это укрепило Гамбо в его намерении совершить побег. Тете уже не могла его удерживать, и для нее началась пытка прощанием, стремлением вырвать его из своего сердца. Нет худшего страдания, чем любить и бояться, как говорила тетушка Роза.
Вальморен отвел от страницы глаза, чтобы отпить коньяку, и взгляд его остановился на рабыне, которая уже довольно долго стояла у открытого окна. В слабом свете лампы он видел, что она, вся потная, тяжело дышит, обхватив руками живот. Вдруг Тете издала стон и поддернула юбку выше щиколоток, в смятении глядя на расплывавшуюся у нее под ногами лужу. «Уже сейчас», — прошептала она и вышла из комнаты на галерею, хватаясь за мебель. Через две минуты другая рабыня прибежала затирать пол.
— Позови тетушку Розу, — велел ей Вальморен.
— За ней уже пошли, хозяин.
— Когда он родится, скажешь мне. И принеси еще коньяка.
Зарите
Розетта родилась в тот день, когда исчез Гамбо. Так это было. Розетта помогла мне перенести ужасные мысли о том, что его схватят живьем, и ту пустоту, что он оставил во мне. Я была поглощена дочкой. Бегущий по лесу Гамбо, а за ним псы Камбрея, занимал лишь часть моих мыслей. Эрцули, лоа-мать, храни эту девочку! Никогда не испытывала я такой любви, ведь первого сына приложить к груди мне не пришлось. Хозяин предупредил тетушку Розу, что я не должна даже видеть его — так будет легче расстаться, но она дала мне его подержать — одну минуту, пока он не забрал ребенка. Потом она, пока мыла меня, сказала, что мальчик здоровый и крепкий. С Розеттой я лучше поняла то, что потеряла. Если бы у меня отняли и ее, я сошла бы с ума, как донья Эухения. Я старалась не думать об этом, потому что мысли могут сделать, что так все и сбудется, но ведь рабыня всегда живет с этой неизвестностью. Мы не можем защитить своих детей, не можем обещать им, что всегда, пока мы нужны им, будем рядом. Мы слишком рано их теряем, поэтому гораздо лучше не давать им жизнь. Наконец я простила свою мать: она не хотела этой муки.
Я всегда знача, что Гамбо уйдет без меня. Головой оба мы это понимали, но не приняли сердцем. Гамбо мог спастись один, если так было написано в его з’этуаль и если позволят лоа, но даже все лоа, вместе взятые, не смогли бы уберечь его от поимки, если он будет со мной. Гамбо клал руку мне на живот, чтобы ощутить, как шевелится ребенок, в полной уверенности, что ребенок его и что его будут звать Оноре — в память о рабе, вырастившем меня в доме мадам Дельфины. Я не могла дать ребенку имя отца Гамбо, что был уже там, где Мертвые и Тайны, а Оноре не был мне родственником по крови, поэтому взять его имя не было неосторожностью. Оноре — подходящее имя для того, кто ставит честь превыше всего, даже превыше любви. «Без свободы нет чести для воина. Пойдем со мной, Зарите». С раздутым животом я не могла этого сделать, да и не могла оставить донью Эухению, которая к тому времени была уже всего лишь куклой в кровати, а тем более — Мориса, моего мальчика, которому я обещала, что мы с ним никогда не расстанемся.
Гамбо так и не узнал, что я родила, ведь, пока я тужилась в хижине тетушки Розы, он бежал как ветер. Он все спланировал прекрасно. Пустился в бега он с наступлением вечера, до того как вышли со своими собаками охранники. Тетушка Матильда не стала поднимать шум до следующего полудня, хотя и заметила его отсутствие на рассвете, и это дало ему еще несколько часов форы. Она была крестной Гамбо. В Сен-Лазаре, как и на других плантациях, к новеньким прикрепляли другого раба, чтобы обучал его послушанию, это и был крестный, но так как Гамбо отправили на кухню, в крестные ему дали тетушку Матильду, а она была уже в годах, успела потерять своих детей и полюбила парня, поэтому ему и помогла. А Проспер Камбрей вместе с жандармами в тот день преследовал других рабов, сбежавших раньше. Так как он уверял, что застрелил их, никто не понимал его упорного желания продолжать поиски. Гамбо отправился как раз в противоположном направлении, и главному надсмотрщику пришлось потратить время, чтобы перестроиться, включив в число тех, за кем шла охота, и Гамбо. Он сбежал именно той ночью, потому что так ему велели лоа, как раз когда не было Камбрея и сияла полная луна — ведь бежать в безлунную ночь невозможно. Я так думаю.
Дочка моя родилась с открытыми миндалевидными глазами того же цвета, что мои. Она не сразу начала дышать, но, когда задышала, ее дыхание заставило колебаться пламя свечи. Прежде чем обмыть девочку, тетушка Роза положила ее, все еще соединенную с моим телом толстой пуповиной, мне на грудь. Я назвала ее Розеттой — в честь тетушки Розы, которую я попросила быть моей дочке бабушкой, раз уж у нас не было других родственников. На следующий день хозяин окрестил девочку, налив воды на ее лобик и пробормотав какие-то христианские слова, но в ближайшее воскресенье тетушка Роза устроила для Розетты настоящую церемонию Рада.[12] Хозяин позволил нам устроить календу и даже дал пару козочек — зажарить. Так это было. И это честь, ведь на плантации никогда не устраивались праздники по случаю рождения рабов. Женщины приготовили еду, а мужчины зажгли костры и факелы и били в барабаны в хунфо[13] тетушки Розы. Крестная тонкой линией из кукурузной муки нарисовала на земле священный символ веве вокруг центрального столба, пото-митана, и вот туда и спустились лоа и вошли в нескольких служителей, но не в меня. Тетушка Роза принесла в жертву курицу: сначала сломала ей крылья, а потом оторвала голову — зубами, как и полагается. Я передала свою дочь Эрцули. Я плясала и плясала: с тяжелыми грудями, воздетыми к небу руками, будто взбесившимися бедрами и ногами, которые полностью вышли из-под контроля разума и подчинялись только ритму барабанов.
Сперва хозяин совсем не интересовался Розеттой. Его раздражал ее плач и то, что я на нее отвлекаюсь, но носить ее за спиной, как я поступала с Морисом, он мне тоже не позволял: пока работала, я должна была оставлять ее в коробке. Очень скоро хозяин снова стал звать меня в свою спальню, потому что его возбуждали мои груди: они выросли вдвое, и стоило на них только взглянуть, как начинало бежать молоко. Потом он стал замечать и Розетту, потому что к ней очень привязался Морис. Когда Морис родился, он был всего лишь бледным тихим мышонком, который помещался у меня на ладони, совсем не такой, как моя дочка — крупная и к тому же крикунья. Морису пошло на пользу то, что в первые месяцы я привязывала его к своей спине, как делают с африканскими детьми: они ведь, как мне рассказывали, пока не научатся ходить и земли не касаются, все время на руках. Согретый жаром моего тела, да с его хорошим аппетитом, он вырос здоровеньким, и его миновали хвори, что уносят столько детей. Он был умным, все понимал и уже с двух лет задавал вопросы, на которые не мог ответить и его отец. Креольскому языку его никто не учил, но на нем он говорил так же хорошо, как и на французском. Хозяин не разрешал ему общаться с рабами, но ему удавалось улизнуть, чтобы поиграть с теми немногими негритятами, что жили на плантации, и я не могла бранить его за это, ведь нет ничего более печального, чем одинокий ребенок. С самого начала Морис стал для Розетты ангелом-хранителем. Он просто не отходил от нее, кроме тех случаев, когда отец брал его с собой, чтобы объехать плантацию и показать ему свои владения. Хозяин всегда очень заботился о том, что он оставит наследнику, потому-то так и переживал, уже много лет спустя, из-за измены сына. Морис часами мог играть в свои кубики и деревянную лошадку рядом с коробкой Розетты. Он плакал, если плакала она, и строил ей рожицы, и умирал со смеху, если она как-то на это отзывалась. Хозяин запретил мне говорить, что Розетта его дочь, да мне это самой никогда и в голову бы не пришло, но Морис об этом догадался или сам это родство выдумал и звал ее сестричкой. Отец за это совал ему в рот мыло, но так и не смог отбить у сына эту привычку, подобно тому как когда-то ему удалось отучить Мориса звать меня мамой. Своей настоящей матери мальчик боялся, не хотел ее видеть и называл «больная госпожа». Морис стал звать меня Тете, как и все вокруг, кроме тех немногих, кто знает меня близко и зовет Зарите.
Воин
Через несколько дней, занятых преследованием Гамбо, Проспер Камбрей стал красным — от гнева. От парня ни следа, а на руках у него свора обезумевших, наполовину ослепших псов, чьи морды сплошь покрывали язвы. И ответственность за все это он возлагал на Тете. В первый раз он обвинял ее напрямую, сознавая, что в этот момент в его отношениях с Вальмореном открывалось что-то новое, глубокое, как пропасть, и при этом самое основное. До тех пор одного его слова хватало, чтобы обвинение раба не подлежало обжалованию, а наказание свершалось немедленно, но по отношению к Тете раньше он на такое не осмеливался.
— В доме другие порядки, не такие, как на плантации, Камбрей, — привел свой довод Вальморен.
— Но за дворовых отвечает она! — настаивал тот. — И если мы ее не проучим, будут сбегать другие.
— Я решу это дело по-своему, — ответил хозяин плантации, не слишком расположенный поднимать руку на Тете, которая только что родила и к тому же всегда была образцовой экономкой.
Хозяйство в доме велось мягко, спокойно, прислуга выполняла свои обязанности безукоризненно. К тому же ему следовало, конечно же, помнить о Морисе и о той любви, которую малыш испытывал к этой женщине. Высечь ее, как хотел Камбрей, означало высечь Мориса.
— Я давно ее предупреждал, патрон, что у этого негра дурной нрав. Ведь не зря я пытался сломать его, как только купил, но, верно, мне не хватило жесткости.
— Хорошо, Камбрей, когда поймаешь его — можешь делать с ним все, что сочтешь нужным, — уполномочил его Вальморен, а в это время Тете, которая слушала все это стоя в углу, как преступница, пыталась скрыть свой ужас.
Вальморен был слишком занят своими делами и ситуацией в колонии в целом, чтобы взваливать на себя еще и заботу о каком-то там рабе: одним больше, одним меньше. Он совершенно его не помнил и не смог бы выделить одного из сотен других рабов. Пару раз Тете упоминала при нем «мальчика с кухни», и у него создалось впечатление, что это сонливый мальчишка, но раз уж парень отважился на такое, это становилось неправдоподобным, — чтобы совершить побег, требовалось мужество. Вальморен был уверен, что Камбрей скоро его поймает, ведь опыта в деле охоты за неграми ему не занимать. Его главный надсмотрщик прав: им нужно усилить дисциплину. На острове достаточно проблем и со свободными людьми, не хватало еще попустительствовать дерзости рабов. Во Франции Национальное собрание лишило свою колонию тех немногих прав автономии, которыми она обладала раньше. То есть какие-то бюрократы в Париже, нога которых ни разу не ступала на Антилы и которые, как утверждал Вальморен, едва научились сами подтирать себе задницу, решали теперь вопросы огромной важности. Ни один большой белый не был расположен признавать те абсурдные декреты, которые приходили в голову этим парижским недоумкам. Надо ж быть такими невеждами! А в результате — треск и хаос, как та история, что случилась с неким Винсентом Оже, богатым мулатом, что отправился в Париж требовать равенства в правах для офранцуженных, а возвратился, как и следовало ожидать, с поджатым хвостом, потому что куда же мы придем, если будут стерты естественные границы между классами и расами. Оже и его сообщник Шаванн с помощью аболиционистов, а их всегда хватало, подняли мятеж на севере, совсем рядом с Сен-Лазаром. Три сотни хорошо вооруженных мулатов! Потребовалась вся мощь гарнизона Ле-Капа, чтобы их разбить, рассказывал Вальморен во время одного из своих обычных вечерних разговоров с Тете. И добавил, что героем дня оказался ее давний знакомец — подполковник Этьен Реле, опытный и храбрый офицер, но с республиканскими идеями в голове. Уцелевших в бою взяли в плен в ходе молниеносного маневра, и за несколько дней в центре города выросли сотни виселиц: целый лес повешенных, понемногу распадавшихся кусками от жары, настоящее пиршество для стервятников. Обоих предводителей подвергли медленной мучительной казни на площади, прилюдно, не снизойдя до милосердного удара топора. И не то чтобы он был сторонником кровожадных казней, но для населения иногда они оказываются в достаточной степени поучительными. Тете слушала молча, думая о Реле, том капитане, которого она когда-то знала, а теперь едва помнила и, встретив его, не смогла бы признать, ведь виделись они всего-то пару раз много лет назад в квартирке на площади Клюни. И если этот человек до сих пор любит Виолетту, ему вовсе не так просто сражаться с офранцуженными. Оже вполне мог бы оказаться ее другом или родственником.
До своего побега Гамбо несколько раз поручалось ухаживать за пойманными Камбреем беглецами, пока они находились в том свинарнике, что звался госпиталем. Работавшие на плантации женщины подкармливали их кукурузой, бататом, окрой, маниокой и бананами из своих собственных запасов. Но прямиком к хозяину, поскольку с Камбреем этот номер все равно бы не прошел, отправился не кто иной, как тетушка Роза, которая заявила ему, что эти рабы не выживут без сваренного на костях и приправленного травами супа, а также печенки, которая все равно идет в отходы — остатки от тех туш, что съедаются в большом доме. Вальморен, недовольный тем, что его отвлекли, поднял глаза от страниц своей книги о садах короля-солнца, но этой странной женщине удавалось внушить к себе боязливое почтение, и он ее выслушал. «Эти негры свой урок уже получили. Корми их своим супом, женщина, и, если тебе удастся их спасти, я, пожалуй, ничего не потеряю», — ответил он ей. Поначалу Гамбо приходилось кормить их с ложечки, ведь сами они есть не могли, и еще он давал им пасту из листьев и пепла рисовой лебеды, которую, скатанную шариком, следовало — так велела тетушка Роза — держать во рту, перекатывая: чтобы перенести боль и прибавить себе немного силы. Это был секрет аравакских касиков, которые каким-то образом выживали на протяжении почти трехсот лет, не зная другой медицины, кроме доступной их знахарям. Растение это было редким, на рыночных прилавках колдунов-магов не продавалось, да и у себя в огороде тетушка Роза его не выращивала, потому и берегла — для самых тяжелых случаев.
Гамбо использовал эти минуты своего общения с истерзанными рабами без свидетелей, чтобы узнать, как они сбежали, почему были пойманы и что случилось с теми шестерыми, которых теперь с ними не было. Те, что могли говорить, рассказали, что, покинув плантацию, они разошлись и некоторые отправились к реке, думая поплыть вверх по течению, но против течения далеко не уплывешь, оно всегда побеждает. Они слышали выстрелы, но не знали точно, значит ли это, что других, тех, что побежали не к реке, убили или же нет, но какой бы ни выпал им жребий, он, конечно, был лучше доставшегося им самим. Гамбо расспросил их о лесе, о деревьях, о лианах, о трясине, о камнях, о силе ветра, о температуре и даже об освещенности. Камбрей и другие охотники за неграми знали местность как свои пять пальцев, но кое-куда заходить они не любили — в болота, а также на перекрестки мертвецов, куда не совались и беглецы, какими бы отчаявшимися они ни были; избегали люди Камбрея и мест, недоступных для мулов и лошадей. Они полностью зависели от своих животных и ружей, которые порой становились обузой. Лошади спотыкались и ломали себе щиколотки, и их приходилось забивать. Чтобы зарядить мушкет, требовалось несколько секунд, к тому же пули в них иногда перекашивало или порох отсыревал, и тогда голый человек с ножом для резки тростника получал преимущество. Гамбо понял, что самой неотвратимой угрозой были собаки, способные почуять человека за километр. И не было ничего другого столь же устрашающего, как приближающийся хор лающих собачьих глоток.
В Сен-Лазаре псарни располагались за конюшнями, в одном из дворов большого дома. Охотничьи и сторожевые собаки днем сидели взаперти, чтобы не привыкали к людям, а ночью их выпускали. Обе овчарки, родом с Ямайки, — сплошь покрытые шрамами, выдрессированные, чтобы убивать, — принадлежали Просперу Камбрею. Купил он их для собачьих боев, которые имели для него двойную ценность: они удовлетворяли его склонность к жестокости и приносили доход. Этими спортивными развлечениями он заменил турниры рабов-гладиаторов — развлечение, от которого пришлось отказаться, поскольку их запретил Вальморен. А между тем хороший негр-чемпион, способный убить соперника голыми руками, приносил хозяину неплохой доход. У Камбрея были свои подходы к этому делу: он кормил борцов сырым мясом, сводил их с ума смесью дешевого рома, пороха и острого перца чили перед каждым турниром, после победы поощрял женщинами, а вот за поражения им приходилось дорого платить. Со своими двумя чемпионами — конголезцем и мандинго — в те времена, когда он еще занимался охотой на негров, ему удалось прилично подзаработать, но потом он их продал и купил двух овчарок, слава которых дошла до самого Ле-Капа. Собак он держал голодными и без воды, на привязи — чтобы не сожрали друг друга. Гамбо во что бы то ни стало следовало от них избавиться, но если бы он псов отравил, Камбрей за каждого из них подверг бы пыткам пятерых негров, пока кто-нибудь не признался бы.
Во время сиесты, когда Камбрей обычно отправлялся на реку освежиться, парень отправился в дом главного надсмотрщика, расположенный в конце кокосовой аллеи — поодаль и от большого дома, и от хижин дворовых рабов. Он заранее разузнал имена обеих наложниц, которых главный надсмотрщик выбрал себе на эту неделю, — двух девчонок, что едва вступили в подростковый возраст, но уже были похожи на побитых собак. Встретили они его недоверчиво, но украденный на кухне и принесенный кусок пирога их успокоил. Гамбо к пирогу спросил у них кофе. Девочки принялись раздувать во дворе огонь, а он тем временем проскользнул в дом. Он был небольшой, но удобный, подставленный всем ветрам, да и стоял он, как и большой дом, на пригорке — чтобы паводки не смогли причинить большого урона. Мебели было мало, и она была совсем простой — из той, от которой Вальморен избавился, когда готовился к женитьбе. Чтобы обойти весь дом, Гамбо хватило минуты. Он думал украсть одеяло, но, увидев в углу корзину с грязным бельем, быстро вытащил из нее рубашку, принадлежащую главному надсмотрщику, смял ее в комок и выбросил через окно в заросли кустов. А потом выпил не торопясь свой кофе и распрощался с девчонками, пообещав принести им еще пирога, как только представится случай. Когда стемнело, он вернулся за рубашкой. В кладовой, ключи от которой висели на поясе у Тете, хранился мешок с острым перцем чили — ядовитым порошком, предназначенным для борьбы со скорпионами и грызунами: понюхав его, наутро они иссыхали. Если Тете и заметила, что перец стал расходоваться чересчур быстро, то ничего не сказала.
В указанный лоа день, под вечер, уже в сумерках, парень отправился в путь. Ему нужно было пройти через деревню негров, напомнившую ему ту, в которой он прожил первые пятнадцать лет своей жизни и которую он видел в последний раз, когда она пылала, как огромный костер. Люди еще не вернулись с полей, и деревня стояла почти пустой. Женщина, которая тащила два огромных ведра с водой, не удивилась, увидев незнакомое лицо: рабов было много и всегда появлялись новые. Эти первые часы после выхода за пределы плантации отметят для Гамбо различие между свободой и смертью. Тетушка Роза, которой случалось ходить по ночам там, куда другие не отваживались отправиться даже днем, описала ему все места в округе под предлогом разговоров о растениях — лекарственных и тех, что следовало избегать: ядовитых грибов, деревьев, листья которых сдирают с человека кожу лоскутьями, и анемонов с сидящими внутри жабами, чья слюна вызывает слепоту. Она рассказала ему, как выжить в лесу, питаясь плодами, орехами, корнями и стеблями, такими же сытными, как кусок жареной козлятины, и как ориентироваться по летучим мышам, звездам и свисту ветра. Гамбо никогда не выходил за границы Сен-Лазара, но благодаря тетушке Розе он смог разместить в своей голове всю эту землю с ее мангровыми зарослями и болотами, в которых ядовитыми были все змеи, и с перекрестками, где сходятся два мира и поджидают Невидимые. «Я была там и собственными глазами видела Калфоу и Геде,[14] по я не испугалась. Нужно вежливо, с почтением поздороваться с ними, попросить позволения пройти и спросить у них дорогу. Если час твоей смерти еще не пришел, они тебе помогут. Решают-то они», — сказала ему лекарка. Парень спросил ее о зомби, о которых в первый раз услышал уже на острове, — в Африке никто даже не подозревал об их существовании. Она пояснила, что их можно узнать по виду — выглядят они как трупы, пахнут гнилью — и еще по походке, ведь руки и ноги у них как деревянные. «Некоторых живых, таких как Камбрей, нужно опасаться больше, чем зомби», — прибавила она. И это предупреждение Гамбо не пропустил мимо ушей.
Как только взошла луна, парень бросился бежать — зигзагами. Через приблизительно равные интервалы он оставлял на ветках, в кустах куски рубашки главного надсмотрщика, чтобы запутать овчарок, которые только его запах и знали, ведь никто другой к ним никогда не приближался, и сбить с толку остальных псов. Часа через два он был уже у реки. Со стоном облегчения вошел он по шею в холодную воду, но сумку держал на голове, и она осталась сухой. Смыл пот и кровь от царапин, оставленных сучьями, и порезов на ногах от камней, а также воспользовался случаем и попить, и помочиться. Пошел по воде вперед, не приближаясь к берегу, и хотя это и не смогло бы сбить собак со следа — они рыскали кругами, с каждым разом все более широкими, пока вновь не нападали на след, — но могло их задержать. Перебраться через реку и выйти на другой берег он не пытался. Течение реки было стремительным, и мест, где хороший пловец мог бы решиться переплыть ее, было не много, но он этих мест не знал, да и плавать не умел. По луне он определил, что было уже около полуночи, и прикинул пройденный путь; потом вышел на берег и принялся посыпать землю острым перцем чили. Усталости он не чувствовал, только опьянение свободой.
Он шел три дня и три ночи, без какой-либо еды, кроме чудесных листьев тетушки Розы во рту. От черного комка за щекой задубели десны, но он помогал не спать и не чувствовать голода. Заросли тростника сменились лесом, сельвой, болотами; ими он обходил долину, держа путь к горам. Собачьего лая он не слышал, и это придавало сил. Пил он из луж, если они попадались, но третий день пришлось провести без капли воды и с огненным солнцем над головой, окрасившим мир вокруг него в безжалостно белый цвет. Но когда Гамбо уже не был способен сделать ни шагу, с неба посыпался дождь — короткий и холодный, и этот дождь явился вернувшим жизнь спасением. Тогда он шел уже по чистому полю — дорогой, которую выбрал бы только безумец, и именно по этой причине Камбрей не примет ее во внимание. Гамбо не мог терять времени на поиски пищи, а если бы он решил отдохнуть, то уже не смог бы встать на ноги. Ноги его двигались сами по себе, толкаемые вперед безумием надежды и комом жеваных листьев во рту. Он уже не думал, не чувствовал боли, забыл к тому времени и страх, и все, что оставил позади, даже изгибы тела Зарите; помнил он только свое имя воина. Ему показалось, что в какой-то момент по лицу его покатились крупные слезы, но уверен он не был — это могло быть и воспоминание о росе с листьев или каплях дождя на коже. Попалась ему на глаза и блеявшая коза со сломанной ногой, застрявшая между двух валунов, но он не поддался искушению отрезать ей голову и напиться крови. Избежал он и соблазна укрыться в поросших лесом холмах, до которых, казалось, было рукой подать, подавил в себе желание повалиться и заснуть на минутку под покровом тихой ночи. Он знал, куда должен дойти. И каждый шаг, каждая минута были на счету.
Наконец он добрался до подножия гор и начал нелегкое восхождение — с камня на камень, не оглядываясь назад, вниз, чтобы не кружилась голова, и не глядя вперед, чтобы не отчаяться. Он выплюнул последний комок листьев, и его снова стала мучить жажда. Губы распухли и потрескались. Воздух клубился от жары, в голове все смешалось, его мутило, он едва мог припомнить инструкции тетушки Розы и молился о тени и воде, но все полз и полз вверх, цепляясь за камни и корни. Вдруг он оказался возле своей деревни, на бескрайней равнине, пастухом — со стадом животных с красивыми длинными рогами: он спешит к обеду, который накрывают его матери под отцовской крышей, в самом центре большой семьи. Только он, Гамбо, старший сын в семье, обедал рядом с отцом, на равных. С рождения он готовился заменить отца: когда-нибудь и он станет судьей и вождем. Удар и острая боль — напоролся на камни — вернули его в Сан-Доминго: исчезли коровы, деревня, семья, и его ti-bon-ange вновь оказался пленником дурного сна о плене, длившемся уже целый год. Он взбирался по крутым склонам гор час за часом, и вот уже тем, кто двигается, оказывается не он, а другой — его отец. Голос отца повторяет его имя — Гамбо. И это отец удерживает на безопасном для сына расстоянии черную птицу с голой шеей, кружащую над его головой.
Он добрался до крутой и узкой тропы, что окаймляет пропасть, извиваясь среди скал и расщелин. На одном из поворотов он наткнулся взглядом на еле видные, высеченные в скале ступени — одну из потайных дорог индейских касиков, которые, по словам тетушки Розы, вовсе не сгинули, когда их убили бледнолицые, а остались жить в горах, потому что индейцы бессмертны. Перед самой темнотой Гамбо оказался на одном из опасных перекрестков. Об этом его заранее предупредили знаки: крест из двух палок, человеческий череп, кости, комок перьев и волос, еще один крест. Ветер доносил отзвуки волчьего воя, метавшегося между скалами, и к первой хищной птице, следящей за ним сверху, присоединились еще две. Страх, грозивший ему со спины все эти дни, вдруг атаковал спереди, а отступать было некуда. Зубы застучали, вдруг прошиб холодный пот. Еле заметная тропа касиков внезапно исчезла перед торчащим из земли копьем, обложенным грудой камней: пото-митан, столб-граница между небом и дольним миром, между миром лоа и миром людей. И тут он их увидел. Сперва две тени, потом блеск металла, ножей или мачете. Глаз он не поднял. Смиренно поздоровался, повторяя пароль, данный ему тетушкой Розой. Ответа не было, но он ощутил тепло этих существ, таких близких к нему, что протяни он руку — мог бы их коснуться. От них не разило ни гнилью, ни кладбищем, пахли они точно так же, как люди в тростниках. Он попросил у Калфоу и Геде разрешения продолжить путь, но ответа не получил. Наконец тоненьким голосом, который ему удалось протащить сквозь крупный песок, закрывший горло, он задал вопрос о дороге, по которой ему можно продолжить путь. И почувствовал, что его схватили за руки.
Гамбо проснулся в темноте, времени прошло уже немало. Хотел встать, но у него болела каждая клеточка тела, и он не мог даже шевельнуться. Он застонал, снова закрыл глаза и погрузился в таинственный мир, из которого выходил и в который возвращался помимо своей воли, то сжавшись от боли, то паря в темном и глубоком, как небо в безлунную ночь, пространстве. Мало-помалу к нему вернулось сознание, но не ясное, а окутанное облаками, замутненное. Он не двигался и напрягал зрение, стараясь что-нибудь увидеть во тьме. Ни луны, ни звезд, ни дуновения ветра: тишина, холод. Единственное, что он помнит, — копье на перекрестке. Тут он видит какой-то огонек, он двигается неподалеку, и вскоре фигура человека с лампой склоняется рядом и женский голос обращается к нему с непонятными словами, потом чья-то рука помогает приподняться и подносит к губам тыкву с водой. Он пьет все до последней капли. Так он узнал, что дошел до своей цели: он находился в одной из священных пещер араваков, служившей беглым рабам сторожевым постом.
В последующие дни, недели и месяцы Гамбо откроет для себя мир беглецов, существовавший на том же острове и в то же самое время, но как бы в другом измерении, — этот мир был как в Африке, но гораздо более примитивный и жалкий. Он услышит знакомые языки и известные с детства истории, будет есть фуфу, кашу своих матерей, снова сядет у костра точить боевое оружие, как делал это вместе с отцом, но под другими звездами. Лагеря беглецов разбросаны по самым труднодоступным уголкам в горах; это настоящие деревни — тысячи и тысячи мужчин и женщин, сбежавших от рабства, и их дети, рожденные свободными. Жили они обороняясь и не доверяли сбежавшим с плантаций рабам, потому что те могли их предать, но тетушка Роза сообщила им по своим таинственным каналам связи, что Гамбо уже в пути. Из двадцати человек, сбежавших из Сен-Лазара, до перекрестка добрались только шестеро, но двое были так тяжело ранены, что не выжили. Тогда и подтвердилось подозрение Гамбо, что тетушка Роза служит связующим звеном между рабами на плантациях и лагерями беглых в горах. Но никакая пытка не смогла вырвать имя тетушки Розы из тех мужчин, которых Камбрею удалось поймать.
Заговор
Восемь месяцев спустя в большом доме имения Сен-Лазар тихо, без боли и страха, скончалась Эухения Гарсиа дель Солар. Ей был тридцать один год, семь из которых она прожила с душевной болезнью, четыре — в опиумной дремоте. Сиделка в то утро уснула, и именно Тете, пришедшей, как обычно, покормить хозяйку кашей и одеть, выпало обнаружить среди огромных подушек ее свернувшееся калачиком, как у новорожденного, тело. Хозяйка улыбалась, и в этой удовлетворенности смертью к ней словно вернулись черты былой красоты и молодости. Только Тете и пожалела о ее смерти: после стольких лет, посвященных заботам об этой женщине, она и вправду по-настоящему ее полюбила. Тете обмыла тело, одела и в последний раз причесала хозяйку, а потом вложила ей в скрещенные на груди руки молитвенник. Убрала благословленные папой четки в замшевый чехол — оставленное ей хозяйкой наследство — и повесила его себе на шею, заправив под корсет. И прежде чем попрощаться, сняла с ее груди маленький медальон с изображением Девы Марии — с ним Эухения никогда не расставалась, — чтобы отдать его Морису. И пошла звать Вальморена.
Маленький Морис так и не узнал о смерти своей матери: вот уже несколько месяцев «больная госпожа» не выходила из своей комнаты, а тело ему не показали. Пока из дома выносили орехового дерева гроб с серебряными уголками, который Вальморен купил у одного американца-контрабандиста еще в ту пору, когда Эухения пыталась покончить с собой, Морис вместе с Розеттой устраивал во дворе похороны сдохшей кошки. Ему никогда не приходилось присутствовать на подобной церемонии, но воображение у него имелось с избытком, и ему удалось похоронить животное с большим чувством и торжественностью, чем достались его матери.
Розетта была храброй и не по возрасту развитой. С поразительным проворством она передвигалась по полу на своих пухленьких коленках, а за ней — Морис, не оставлявший ее ни на минуту, как тень. Тете велела закрыть на замки все сундуки и тумбочки, куда дети могли бы засунуть пальцы, и перегородить все выходы с галереи сеткой из курятника, чтобы они не могли выкатиться наружу. Она примирилась с существованием мышей и скорпионов, лишь бы избавить дочку от возможности засунуть нос в смертоносный порошок чили: в отличие от осторожного Мориса, Розетте в голову вполне могла прийти и такая идея. Малышка была красавицей. Ее мать отмечала это про себя с горечью, потому что красота — несчастье для рабыни: гораздо выгоднее быть незаметной. Тете, так страстно мечтавшая в свои десять лет быть Виолеттой Буазье, с удивлением убеждалась в том, что в результате какого-то странного трюка фокусницы-судьбы на эту прекрасную женщину походила Розетта — те же волнистые волосы и обворожительная улыбка с ямочками на щеках. Но сложной расовой классификации острова девочка считалась квартеронкой, дочерью белого и мулатки, и от отца в ней было больше, чем от цветной матери. В ту пору Розетта изъяснялась на какой-то странной тарабарщине, на слух — наречии еретиков, но Морис переводил ее без малейших затруднений. Мальчик сносил ее капризы с терпением дедушки, переросшим позже в горячую привязанность, которая в дальнейшем ознаменует их жизнь. Он станет ее единственным другом, будет утешать в горестях и учить всему самому необходимому: от умения не попадаться злой собаке до различения букв в азбуке, но это будет потом. Самое главное, чему он научил ее с самого начала, — это прямой дорожке к сердцу отца. Морис сделал то, на что не решалась Тете, — самым безапелляционным образом всучил девочку Тулузу Вальморену. Хозяин перестал смотреть на нее как на еще одну принадлежавшую ему вещь и принялся искать в ее чертах и характере что-то свое. И не нашел, но тем не менее привязался к ней той снисходительной любовью, которую вызывают в своих хозяевах домашние питомцы, и оставил жить в большом доме, вместо того чтобы отправить девочку туда, где ютились рабы. В отличие от своей матери, серьезность которой граничила с недостатком, Розетта оказалась очаровательной болтушкой и настоящим вихрем, развлекавшим весь дом, и это было лучшим противоядием от царившей в те годы неопределенности.
Когда Франция распустила Колониальный совет Сан-Доминго, патриоты, как называли себя колонисты монархического толка, подчиняться парижским властям отказались. Довольно долго прожив на своей плантации практически в изоляции, Вальморен теперь стал поддерживать знакомства и вращаться в обществе равных себе. Так как в Ле-Кап он наведывался частенько, то снял там полностью меблированный дом, принадлежавший одному богатому португальскому коммерсанту, временно отъехавшему на родину. Дом стоял невдалеке от порта и был для Вальморена вполне удобным, он даже подумывал в ближайшем будущем выкупить этот дом себе в собственность с помощью своего торгового агента по продаже сахара — того старого честнейшего еврея, что служил еще его отцу.
Секретные переговоры с англичанами начал не кто иной, как Вальморен. Он еще в юности свел знакомство с моряком, который теперь командовал британским флотом на Карибах и имел приказ своего правительства высадиться во французской колонии, как только представится хоть малейшая возможность. К тому времени столкновения между белыми и мулатами достигли уже невиданной ранее степени жестокости, а негры между тем использовали возникший хаос для мятежей, сначала на западе острова, потом — на севере, в Лимбе. Патриоты следили за этими событиями с неослабевающим вниманием, нетерпеливо ожидая благоприятного стечения обстоятельств, чтобы предать французское правительство.
Вальморен уже целый месяц жил в Ле-Капе с Тете, детьми и гробом с телом Эухении. Он всегда брал в поездки сына, а Морис, в свою очередь, никуда не желал перемещаться без Розетты и Тете. Политическая же ситуация была слишком нестабильной, чтобы расставаться с сыном, да и оставлять Тете на милость Проспера Камбрея, который положил на нее глаз и даже пытался ее выкупить, Вальморен тоже не хотел. Он допускал, что любой другой на его месте продал бы ее претенденту, чтобы не ссориться и заодно избавиться от рабыни, которая его уже не возбуждала, но Морис любил ее, как мать. Кроме того, это дело уже давно превратилось в молчаливую борьбу двух воль: хозяина и его главного надсмотрщика. В те недели Вальморен участвовал в политических совещаниях патриотов, проходивших в его доме в обстановке строгой секретности и конспирации, хотя за ними никто и не думал шпионить. Он также намеревался подыскать наставника Морису, которому скоро должно было исполниться пять лет, проведенных вдали от света цивилизации. На будущего наставника предполагалось возложить обязанность дать мальчику начатки образования, которые позволили бы ему поступить в одну из закрытых школ Франции. Тете молилась про себя, чтобы этот момент не наступил никогда, уверенная в том, что вдали от нее и Розетты Морис непременно погибнет. Нужно было также решить вопрос и с Эухенией. Дети уже привыкли натыкаться в коридорах на гроб и самым естественным образом приняли известие о том, что в нем покоятся бренные останки «больной госпожи». Они даже не спросили, что это такое — бренные останки, избавив Тете от необходимости объяснять то, что неизбежно спровоцировало бы новые кошмары у Мориса. Но когда Вальморен застал их однажды за увлекательным занятием — дети пытались открыть кухонным ножом крышку гроба, — он понял, что настала пора принимать решение. Он велел своему агенту отправить гроб на кладбище при женском монастыре на Кубе, где уже давно Санчо купил место, потому что Эухения заставила его поклясться, что ее ни в коем случае не похоронят в Сан-Доминго, на острове, где ее костям грозит участь оказаться в негритянском барабане. Агент запланировал отправить гроб с первым же направлявшимся на Кубу кораблем, а пока что поставил его стоймя в углу винного погреба, где гроб и простоит, всеми позабытый, до тех пор, пока его, двумя годами позже, не поглотят языки пламени.
Восстание на севере
Проспер Камбрей проснулся на плантации с рассветом: на одном из полей бушевал пожар и слышались вопли рабов. Многие из них не имели ни малейшего понятия о происходящем, потому что в секреты подготовки восстания их никто не посвящал. Камбрей воспользовался всеобщей неразберихой, чтобы окружить жилую зону и подчинить себе людей, не успевших ничего понять. Дворовые ни в чем замешаны не были: они сбились в кучку возле большого дома, ожидая самого худшего. Камбрей приказал закрыть в домах детей и женщин и сам занялся зачисткой среди мужчин. Жалеть было особенно не о чем: пожар остановили быстро, сгорело всего лишь два участка с сухим тростником. На других плантациях севера ущерб был куда более серьезный. Когда в Сен-Лазаре появились первые отряды жандармов, целью которых было установить в регионе порядок, Просперу Камбрею осталось лишь сдать им тех, кто попал под его подозрение. Он бы предпочел разделаться с этими рабами лично, но главной общей целью было объединить усилия и задавить бунт на корню. Их увезли в Ле-Кап — выбивать имена главарей.
Главный надсмотрщик заметил исчезновение тетушки Розы только на следующий день, когда в Сен-Лазаре возникла необходимость лечить тех, кого подвергли порке.
Тем временем в Ле-Капе Виолетта Буазье и Лула закончили паковать семейные пожитки и перевезли их на хранение в одно из портовых складских помещений, где все это предполагалось хранить до прихода корабля, который доставит всю семью во Францию. Наконец-то, после почти десяти лет ожиданий, работы, экономии, ростовщичества и терпения, вот-вот должен был исполниться план, задуманный Этьеном Реле в самые первые годы его отношений с Виолеттой. Они уже начали прощаться с друзьями, когда офицер был вызван в дом военного губернатора, виконта Бланшланда. Здание было лишено роскоши, отличавшей резиденцию гражданского правителя, несло на себе печать казарменной суровости и благоухало кожей и металлом. Виконт был уже человеком в годах, с внушающей почтение военной карьерой за плечами: прежде чем получить назначение в Сан-Доминго, он успел послужить и фельдмаршалом, и губернатором острова Тринидад. Виконт прибыл накануне, только начинал прощупывать обстановку и еще ничего не знал о том, что прямо в окрестностях города зреет революция. Он располагал верительными грамотами Национального собрания Франции, переменчивые депутаты которого могли отказать ему в доверии с той же быстротой, с которой этим доверием его облекли. Благородное происхождение и состояние виконта говорили не в его пользу в глазах наиболее радикальных групп — якобинцев, намеревавшихся покончить со всеми остатками монархического режима. Этьена Реле провели в кабинет виконта сквозь череду почти пустых залов, с темными прямоугольниками многофигурных батальных полотен, почерневших от копоти масляных ламп. Губернатора, в гражданском платье и без парика, было трудно увидеть за грубым казарменным столом, испещренным отметинами многих лет нелегкой службы. За его спиной поник увенчанный гербом революции флаг Франции, по левую руку на стене красовалась претенциозная карта Антильских островов, снабженная изображениями морских чудовищ и старинных галеонов.
— Подполковник Этьен Реле, гарнизон Ле-Капа! — доложил офицер в полной парадной форме и со всеми наградами, чувствуя всю смехотворность своего внешнего вида перед простотой вышестоящего.
— Садитесь, подполковник. Полагаю, чашечка кофе вам не помешает, — вздохнул виконт с видом человека, проведшего дурную ночь.
Он вышел из-за стола и подвел Реле к паре довольно потрепанных кожаных кресел. Тут же, как из-под земли, возник ординарец в сопровождении трех рабов — итого четыре человека на две чашечки: один из невольников держал поднос, другой наливал кофе, третий предлагал сахар. Налив кофе, рабы тотчас же попятились и удалились, но ординарец вытянулся в струнку между креслами. Губернатор был мужчиной среднего роста, худощавым, с глубокими морщинами и редкими седыми волосами. Вблизи он выглядел гораздо менее внушительно, чем верхом на лошади, в увенчанной перьями шляпе, сплошь покрытый медалями и с орденской лентой на груди. Реле чувствовал себя весьма неудобно на краешке кресла, неумело держа в руках фарфоровую чашку, которая грозила разбиться вдребезги от одного его вздоха. Он не был привычен к строгому военному этикету, положенному ему по рангу.
— Вы, вероятно, задаетесь вопросом, для чего я вызвал вас, подполковник Реле, — произнес Бланшланд, помешивая сахар в кофе. — Что вы думаете о ситуации в Сан-Доминго?
— Что я думаю? — эхом отозвался сбитый с толку Реле.
— Часть колонистов выступает за независимость, к тому же прямо из порта виден английский флот, готовый прийти к ним на помощь. Для Англии Сан-Доминго — лакомый кусок! Вы должны понимать, о чем и о ком я говорю, и сможете назвать бунтовщиков по именам.
— Список включил бы в себя около пятнадцати тысяч человек, маршал: все имеющие собственность и деньги — как белые, так и офранцуженные.
— Этого я и опасался. Мне не хватит солдат, чтобы защитить колонию и заставить исполнять новые французские законы. Буду с вами откровенен: кое-какие декреты мне представляются абсурдными, как, например, от пятнадцатого мая — тот, что дает мулатам политические права.
— Он имеет отношение только к офранцуженным, детям свободных родителей и землевладельцев: их менее четырехсот человек…
— Дело совсем не в этом! — прервал его виконт. — Дело в том, что белые никогда не примут равенства в правах с мулатами, и я их за это не осуждаю. Это расшатывает ситуацию. В политике Франции все очень неясно, и мы пожинаем плоды этой неразберихи. Декреты меняются чуть ли не ежедневно, подполковник. Один корабль привозит мне инструкции, а уже следующий доставляет мне их опровержение.
— А еще есть проблема восставших негров, — прибавил Реле.
— А, негры!.. Сейчас я не могу этим заниматься. Восстание в Лимбе было подавлено, а вскоре мы получим и главарей.
— Ни один из пленников не назвал их имен, месье. Они не заговорят.
— Посмотрим. Маршоссе умеет решать такие задачи.
— При всем уважении, маршал, я полагаю, что это заслуживает вашего внимания, — настаивал Этьен Реле, ставя чашку на столик. — Ситуация в Сан-Доминго не такая, как в других колониях. Здесь рабы никогда не смирялись со своей участью, они восставали раз за разом на протяжении целого века, и в горах скопились десятки тысяч беглых. В настоящее время у нас около полумиллиона рабов. Они знают, что республика отменила рабство во Франции, и намерены бороться, чтобы то же самое получить и здесь. Маршоссе не сможет держать их под контролем.
— Вы предлагаете нам бросить армию против негров, подполковник?
— Чтобы навести порядок, придется использовать и армию, господин маршал.
— И как вы это себе представляете? Мне присылают десятую часть того, о чем я прошу, к тому же едва солдаты пополнения ступают на эту землю, они заболевают. А теперь я подхожу к своей цели, подполковник Реле: в такой момент я не могу принять вашу отставку.
Этьен Реле, побледнев, встал. Губернатор тоже, и оба они несколько секунд смотрели друг на друга.
— Господин маршал, я начал службу в армии в семнадцать, прослужил тридцать пять лет, шесть раз был ранен, и мне уже сорок один, — произнес Реле.
— А мне пятьдесят пять, и я тоже хотел бы удалиться в свое поместье в Дижоне, но я нужен Франции, так же как и вы, — сухо ответил виконт.
— Моя отставка была принята вашим предшественником, губернатором де Пейне. У меня уже нет дома, месье, я с семьей живу в пансионе в ожидании четверга, когда мы взойдем на борт шхуны «Мария Тереза».
Бланшланд устремил ледяной взгляд прямо в глаза подполковника, и тот в конце концов опустил взор и отдал честь.
— Я в вашем распоряжении, губернатор, — подчинился, смирившись, Реле.
Бланшланд еще раз вздохнул и в изнеможении потер глаза, а потом жестом приказал ординарцу позвать секретаря и направился к столу.
— Не беспокойтесь, канцелярия губернатора предоставит вам дом, подполковник Реле. А теперь идите сюда и покажите мне на карте самые уязвимые точки острова. Никто не знает этих мест лучше вас.
Зарите
Так мне рассказывали. Так все было в Буа-Каймане. Так записано в преданиях и легендах той земли, что теперь зовется Гаити, первой независимой негритянской республики. Не знаю, что стоит за этими словами, но, должно быть, что-то важное, раз уж негры, говоря о ней, аплодируют, а белые дрожат от ярости. Буа-Кайман лежит на севере, недалеко от великих равнин, по дороге в Ле-Kan, всего в нескольких часах езды от плантации Сен-Лазар. Буа-Кайман — это лес — огромный, полный перекрестков и священных деревьев, бескрайний лес, где в своем змеином облике живет Дамбала, лоа родников и рек, хранитель леса. В Буа-Каймане обитают духи природы и души тех умерших рабов, что не нашли дороги в Гвинею. В ту ночь в лес прибыли и другие духи, которым неплохо жилось между Мертвыми и Тайнами, но теперь, готовые к борьбе, они слетелись на зов. Целая армия из сотен тысяч духов боролась вместе с неграми, потому-то в конце концов они и разгромили белых. В этом все мы сходимся, даже французские солдаты, которым привелось ощутить на себе их неистовство. Хозяин Вальморен, который не верит в то, чего не понимает, а так как понимает очень немного, то и ни во что не верит, тоже убедился в том, что мертвые помогают восставшим. В этом — объяснение того, что они смогли победить лучшую армию Европы, как он говорил. Сходка рабов в Буа-Каймане произошла в середине августа, одной горячей ночью, увлажненной потом земли и людей. Как прошел слух? Говорят, что весть передавалась с барабанной дробью — от праздника календы к календе, от храма хунфорта к хунфорту, от крытого соломой навеса, айупы, к айупе; звон барабанов разлетается дальше и быстрее, чем гром во время грозы, и все понимают его язык. Пришли рабы и с северных плантаций, несмотря на то что и хозяева, и Маршоссе — все были начеку со времени восстания в Лимбе, случившегося несколькими днями раньше. Некоторых участников того восстания удалось взять живьем, и предполагалось, что информацию из них вырвут: никому не удавалось смолчать в застенках Ле-Капа. Всего за несколько часов беглые рабы перенесли свои лагеря к самым высоким вершинам, подальше от всадников Маршоссе, и поторопились с созывом схода в Буа-Каймане. Они не знали, что никто из пленников не заговорил и не заговорит.
Тысячи беглых рабов спустились с гор. Гамбо пришел вместе с группой Замбо Букмана, настоящего гиганта, который внушал к себе двойное уважение: он был и военачальником, и хунганом. За те полтора года, что Гамбо жил на свободе, он стал настоящим мужчиной: широкоплечий, с неутомимыми ногами и грозным мачете в руках. Гамбо заслужил доверие Букмана. Он пробирался на плантации — за продуктами, инструментами, оружием и скотом, но ни разу не попытался встретиться со мной. Это было слишком опасно. Известия о нем приходили ко мне через тетушку Розу. Моя крестная и не думала пояснить мне, каким образом получала она эти новости, и я уж стала бояться, что она все это выдумывает, чтоб меня успокоить, потому что как раз в то время ко мне вернулась потребность быть вместе с Гамбо и она жгла меня как угли. «Дай мне какое-нибудь снадобье от этой любви, тетушка Роза». Но от этой напасти не существует снадобья. Измученная домашними делами, я ложилась спать, а Розетта и Морис устраивались возле меня по бокам. Но заснуть я не могла. Часами слушала я неспокойное дыхание Мориса и посапывание Розетты, шорохи в доме, лай собак, кваканье лягушек, крики петухов, и когда я наконец засыпала, то словно погружалась в патоку. Вот о чем мне стыдно говорить: иногда, когда я была в постели с хозяином, я представляла себе, что я не с ним, а с Гамбо. Я закусывала губы, чтобы не сорвалось с них его имя, и в темном пространстве под закрытыми веками воображала, что спиртные испарения белого были на самом деле пахнувшим зеленым лугом дыханием Гамбо, у которого зубы еще не начали гнить от кормежки дурной рыбой; я представляла себе, что этот волосатый и грузный, пыхтящий поверх меня мужчина — это он, Гамбо, стройный и ловкий, с его молодой, иссеченной шрамами кожей, что это его сладкие губы, его испытующий язык, его шепчущий голос. И тогда тело мое раскрывалось и начинало ходить волнами, вспоминая наслаждение. А потом хозяин шлепал меня по попе и, довольный, смеялся, и тогда мой ti-bon-ange возвращался в эту постель, и я вдруг понимала, где нахожусь. И бежала во двор, и яростно плескалась там водой, прежде чем пойти лечь спать возле моих детей.
Чтобы дойти до Буа-Каймана, люди шли часами: кто-то вышел со своих плантаций еще засветло, кто-то пускался в путь с изрезанного бухтами побережья, но добрались все уже глубокой ночью. Говорят, что одна группа беглых пришла даже из самого Порт-о-Пренса, но это очень далеко, я в это не верю. Теперь лес был населен мужчинами и женщинами, неотличимыми от мертвых и теней, бесшумно, в полной тишине скользившими среди деревьев; но когда эти люди начинали чувствовать у себя под ногами вибрацию первых барабанов, то оживлялись и убыстряли шаг, переговариваясь сперва шепотом, а потом и громко, здороваясь, окликая друг друга по именам. Лес осветился светом факелов. Некоторым дорога была знакома, и они повели остальных к большой поляне, которую выбрал Букман, хунган. Ожерелье из костров и факелов освещало храм хунфорт. Мужчины уже подготовили священный пото-митан — толстый высокий столб, ведь дорога для лоа должна быть широкой. Появилась длинная череда одетых в белое девушек, хунси, они сопровождали тетушку Розу, также в белых одеждах, с церемониальным асо в руках. Люди склонялись пред ней, чтобы коснуться обруча ее юбки или позвякивающих на руках браслетов. Тетушка Роза помолодела, ведь с тех пор, как она покинула плантацию Сен-Лазар, ее сопровождала Эрцули; кроме того, она стала неутомимой и теперь могла ходить без палки, а еще сделалась невидимой для Маршоссе. Слышался призыв стоящих полукругом барабанов: там-там-там! Люди собирались кучками и говорили о том, что случилось в Лимбе, и о страданиях пленников в Ле-Капе. Букман взял слово — обратиться к главному богу, Папа Бондьё, и попросить его указать им всем дорогу к победе. «Слушайте голос свободы, поющий в наших сердцах!» — прокричал он, и ему ответил хор рабов, от которого содрогнулся остров. Так мне об этом рассказывали.
Начали переговариваться барабаны, задавая ритм церемонии. Хунси, как фламинго, закружились в танце вокруг пото-митана, то склоняясь до земли, то устремляясь вверх: шеи изогнуты, руки словно крылья, — и запели, призывая лоа, сначала Легбе, как это всегда и делается, а потом по очереди всех остальных. Мамбо, тетушка Роза, нарисовала вокруг священного столба круг, веве, рассыпая смесь из муки и золы: чтобы накормить лоа и почтить мертвых. Барабаны зазвучали еще громче, их ритм усилился, и вот уже весь лес трепетал — от самых глубоких корней до самых высоких звезд. И тогда сошел воинственный Огун, Огун-Ферале, мужественный бог оружия, воинственный, раздраженный, опасный, и Эрцули покинула тетушку Розу, чтобы уступить место богу, и бог вселился в нее. Все увидели это преображение. Тетушка Роза распрямилась, стала в два раза выше своего роста, и не осталось в ней ни хромоты, ни прожитых лет за плечами, а глаза стали пустыми. И вдруг бог в теле тетушки Розы совершает невообразимый прыжок и приземляется за три метра от того места, где она раньше стояча, возле одного из костров. Изо рта Огуна вырывается громовой рев, и он пускается в пляс, отрываясь от земли, падая и отскакивая, как мяч, со свойственной всем лоа силой, под грохот барабанов. Приближаются двое мужчин, самых смелых, — дать ему сахару и успокоить, но лоа хватает их, как тряпичных кукол, и отшвыривает далеко от себя. Он пришел передать людям послание войны, справедливости и крови. Огун берет пальцами горящий уголь, кладет его себе в рот, делает полный круг вокруг столба, изрыгая огонь, и потом выплевывает уголек, даже не обжегши губ. И тут же выхватывает из рук ближайшего к себе мужчины огромный нож, оставляет асо на земле, бросается к черному жертвенному борову, привязанному к дереву, и одним движением руки воина перерезает его горло, отделяя тяжелую голову от туловища и вымазываясь свиной кровью. К тому моменту уже многие служители стали одержимы, и лес наполнился Невидимыми, Мертвыми и Таинствами, лоа и духами, смешавшимися с человеческими существами, и все возбуждены, все поют, танцуют, прыгают и катаются по земле с барабанами, наступают на горячие угли, лижут нагретые докрасна лезвия ножей и поглощают горстями острый перец чили. Воздух той ночи был полон электричества, как в самую страшную грозу, но не было ни ветерка. Факелы освещали все вокруг, как полуденное солнце, но жандармы Маршоссе, отряд которых кружил поблизости, их не замечали. Так мне об этом рассказывали.
Прошло много времени, и вот когда огромная толпа содрогалась уже как один человек, Огун издал львиный рык, требуя тишины. Барабаны вдруг смолкли, все, кроме мамбо, вновь стали сами собой, а лоа вернулись в кроны деревьев. Огун-Ферале поднял асо к небу, и глас самого могущественного лоа вознесся в устах тетушки Розы, требуя конца рабства, призывая к всеобщему восстанию и называя имена вождей: Букман, Жан-Франсуа, Жанно, Буссо, Белее: тин и еще одно-два. Он не назвал Туссена, потому что тогда этот человек, который станет позднее душой восстания, все еще был на плантации в Бреде, где служил конюхом. Он не присоединился к восстанию, пока не вывез в безопасное место всю семью своего хозяина. Имя Туссена я услышала годом позже.
Так началась революция. Прошло много лет, но все еще льется кровь, пропитывающая землю Гаити, но на ней уже нет меня, чтобы эту кровь оплакивать.
Месть
Едва разнеслась весть о восстании рабов и о пленниках из Лимбе, которые погибли, ни в чем не признавшись и не выдав имен, Тулуз Вальморен велел Тете срочно готовиться к возвращению в Сен-Лазар, не обращая никакого внимания на предостережения друзей, особенно доктора Пармантье, по поводу тех рисков, которым белые подвергаются на плантациях. «Не преувеличивайте, доктор. Негры — они ведь всегда склонны к мятежам. Но Проспер Камбрей держит их под контролем», — громко заявил Вальморен, хотя в душе и сомневался. Пока эхом отзывалась по всему северу дробь барабанов, приглашая рабов последовать призыву Буа-Каймана, карета Вальморена под усиленной охраной гвардейцев рысью мчалась на плантацию. Приехали они в облаке пыли, уставшие от жары, возбужденные, дети — в полуобморочном состоянии, Тете — почти потеряв рассудок от страшной тряски. Хозяин выскочил из кареты и закрылся в кабинете с главным надсмотрщиком, чтобы выслушать его отчет о потерях, бывших, в общем-то, минимальными. Затем он отправился на плантацию — осмотреть свои владения и встретиться с теми рабами, которые, по словам Камбрея, выражают сочувствие мятежникам, но не настолько, чтобы отдать их в руки Маршоссе, к чему он уже прибег в отношении других. Это была как раз одна из тех ситуаций, когда Вальморен чувствовал себя не в своей тарелке, а в последнее время такие ситуации возникали все чаще. Главный надсмотрщик стоял на страже интересов Сен-Лазара в большей степени, чем сам хозяин. Он действовал решительно, без особых церемоний и раздумий, Вальморен же колебался, не желая марать руки кровью. И еще раз обнаруживал собственную несостоятельность. За все двадцать два года, проведенные им в колонии, он так и не стал своим в этом мире: в нем все еще жило ощущение, что на острове он проездом, а рабы были для него самой главной головной болью. Он не был способен приказать, чтобы человека зажарили на медленном огне, хотя Камбрею эта мера представлялась абсолютно необходимой. Аргументация Вальморена перед главным надсмотрщиком и большими белыми, поскольку в их присутствии ему уже не раз приходилось оправдываться, сводилась к тому, что жестокость неэффективна, что невольники при каждом удобном случае занимаются вредительством, начиная с порчи лезвий ножей для рубки тростника и кончая разрушением собственного здоровья, что они лишают себя жизни или едят падаль, исходя потом рвотой и поносом, — а этих крайностей он всячески старался избегать. Он задавался вопросом, сослужили ли эти его соображения хоть какую-то добрую службу, или его ненавидят так же, как Лакруа. Возможно, Пармантье был прав: насилие, страх и ненависть неразрывно связаны с рабством и плантатор не может позволить себе такую роскошь, как щепетильность. В тех редких случаях, когда он ложился спать трезвым, ему не спалось: его обступали страшные видения. Состояние его семьи, начало которому было положено отцом, а им самим многократно увеличено, было замешено на крови. В отличие от других больших белых, он не мог не прислушиваться к раздававшимся в Европе и Америке голосам, требовавшим объявить вне закона тот ад, что царил на плантациях Антильских островов.
В конце сентября восстание на севере стало всеобщим: рабы бежали толпами, а перед уходом поджигали все подряд. На полях не хватало рабочих рук, но плантаторы уже не хотели покупать новых невольников, сбегавших при первой же возможности. Невольничий рынок в Ле-Капе оказался практически парализован. Проспер Камбрей удвоил количество командоров и ввел экстремальные формы охраны и дисциплины, Вальморен же полностью подчинился кровожадности своего служащего. В Сен-Лазаре никому не удавалось спать спокойно. Жизнь, которую и раньше нельзя было назвать беззаботной, превратилась в одно непрерывное преодоление и страдание. Календы были отменены, как и часы отдыха в середине дня, хотя в невыносимом полуденном пекле работа не была продуктивной. С тех пор как исчезла тетушка Роза, уже не было никого, кто мог вылечить, дать совет или оказать моральную поддержку. Единственным человеком, довольным отсутствием мамбо, был Проспер Камбрей, который даже не попытался ее преследовать, потому что чем дальше была от него эта ведьма, способная превратить в зомби живого человека, тем лучше. Для чего же еще было ей собирать могильную пыль, печень рыбы-собаки, жаб и ядовитые травы, если не для подобных дел? Потому-то главный надсмотрщик никогда не снимал сапог. Ведь эти колдуньи разбрасывают по земле битое стекло, отрава попадает в порезы на ступнях, а на следующую после похорон ночь выкапывают труп, ставший зомби, и оживляют его посредством монументальной норки. «Неужто ты веришь в эти сказки?!» — засмеялся как-то раз Вальморен, когда разговор свернул на эту тему. «О вере речи нет, месье, но что зомби существуют, так это точно», — сказал в ответ главный надсмотрщик.
В Сен-Лазаре, как и на всем острове, наступила пауза. До Тете доходили кое-какие слухи — из уст хозяина или ходившие среди невольников, но без тетушки Розы она уже не была способна правильно их истолковать. Плантация замкнулась сама в себе, сжалась как кулак. Дни давили, ночи казались бесконечными. Даже о безумной Эухении вспоминали с тоской. Ее смерть оставила после себя какую-то пустоту, вдруг стало слишком много и времени, и пространства, дом оказался огромным, и даже дети с их шумными играми не могли его заполнить. В эту хрупкую пору нормы и правила ослабели, а расстояния уменьшились. Вальморен привык к присутствию Розетты и в конце концов снизошел до особого рода фамильярности по отношению к ней. Она звала его не хозяином, а месье, звучавшим кошачьим «мяу». «Когда я вырасту, то женюсь на Розетте», — повторял Морис. Еще будет впереди время, чтобы расставить все по своим местам, думал его отец. Тете предприняла попытку разъяснить детям фундаментальное различие между ними. Морис обладал привилегиями, для Розетты недостижимыми: входить в комнаты, не спрашивая на то разрешения, или забираться на колени хозяина без приглашения. Мальчик был как раз в том возрасте, когда дети требуют объяснений, и Тете всегда отвечала на его вопросы правдиво, ничего не скрывая. «Потому что ты — законный сын хозяина, ты мужчина, ты белый, свободный и богатый, а Розетта — нет». Совершенно не удовлетворяя Мориса, эти слова приводили к бурным слезам. «Почему, почему?» — повторял он, рыдая. «Потому что так устроена эта чертова жизнь, мой мальчик. Иди сюда, я вытру тебе нос», — отвечала Тете. Вальморен полагал, что его сын уже давно достиг того возраста, когда мальчик должен спать один, но каждый раз, когда его пытались к этому принудить, с ним случались судороги и подскакивала температура. И он продолжать спать с Тете и Розеттой — только пока ситуация не войдет в норму, как объявил ему отец, но напряженная атмосфера на острове была весьма далека от нормальной.
Однажды вечером на плантацию нагрянуло несколько милиционеров, объезжавших северную часть острова в целях борьбы с анархией, а с ними и доктор Пармантье. Доктор редко выбирался за пределы Ле-Капа, виной чему были подстерегающие в пути опасности и его долг перед французскими солдатами, лежащими в агонии у него в госпитале. В одной из казарм случилась вспышка желтой лихорадки; ее еще можно было взять под контроль и не дать перерасти в эпидемию, а вот малярия, холера и лихорадка денге людей просто выкашивали. Пармантье примкнул к группе милиционеров, что было единственной возможностью передвигаться по острову с некоторой гарантией безопасности, не столько для того, чтобы повидать Вальморена, с которым он периодически виделся в Ле-Капе, сколько с целью получить консультацию тетушки Розы. Он был ужасно разочарован, когда узнал об исчезновении своей наставницы. Вальморен предложил свое гостеприимство и старому другу, и милиционерам, которые добрались до плантации, будучи покрыты толстым слоем пыли, страдая от жажды и крайней усталости. В течение пары дней большой дом заполняла бьющая ключом жизнь, звучали мужские голоса и даже музыка, потому что кое-кто из гостей играл на струнных инструментах. Наконец-то подвернулся случай использовать музыкальные инструменты, которые из чистого каприза купила некогда Виолетта Буазье, занимаясь тринадцать лет назад обстановкой дома. Инструменты были расстроены, но в дело годились. Вальморен приказал позвать тех рабов, что выказывали особый талант в игре на барабанах, и устроил бал. Тетушка Матильда опустошила на самую лучшую часть содержимого кладовки и напекла фруктовых тортов, наготовила сложнейших креольских блюд, жирных и острых, чего с ней не случалось уже очень давно. Проспер Камбрей взялся зажарить ягненка — из тех немногих, что еще оставались, потому что каким-то таинственным образом они исчезали. Также бесследно пропадали и свиньи, а так как для беглых не было никакой возможности умыкать столь тяжелых животных без помощи рабов с плантации, то в случае обнаружения пропажи очередной свиньи Камбрей наудачу отбирал десять негров и задавал им порку: кто-то же должен был заплатить за пропажу. В эти месяцы главный надсмотрщик, облеченный небывалой прежде властью, вел себя так, как если бы настоящим хозяином Сен-Лазара был он, и его наглость по отношению к Тете, с каждым разом все более развязная, служила ему особого рода вызовом по отношению к патрону, совсем съежившемуся с начала этого восстания. Неожиданный визит милиционеров — а все они были мулатами, как и он, — еще больше увеличил его самоуправство: он разливал ликер Вальморена, не спрашивая на то разрешения, отдавал в его присутствии безотлагательные приказы домашним рабам и отпускал на его счет шутки. Доктор обратил на это внимание, как и на то, что Тете и дети трепещут перед главным надсмотрщиком, и уж было собрался сообщить о своих наблюдениях хозяину дома, но опыт помог ему сдержаться. Каждая плантация представляла собой обособленный мир, со своей собственной системой человеческих отношений, своими секретами и своими пороками. Вот, например, Розетта. У этой девочки такая светлая кожа, что она просто не может быть дочерью никого иного, кроме как Вальморена. А что сталось с другим ребенком Тете, ее сыном? Ему очень хотелось бы выяснить это, но он никогда не отважился бы задать подобные вопросы Вальморену: отношения белых с их рабынями в хорошем обществе были запретной темой.
— Я полагаю, вы имели возможность оценить масштабы восстания, доктор, — произнес Вальморен. — Банды мятежников опустошили весь север.
— Это правда. По пути сюда мы видели дым пожаров на плантации Лакруа, — принялся рассказывать Пармантье. — Подъехав поближе, мы заметили, что тростник на полях все еще горит. И вокруг — ни души. Жуткое молчание кругом.
— Знаю, доктор, ведь я одним из первых оказался в поместье Лакруа после нападения, — подхватил Вальморен. — Вся семья Лакруа целиком, бригадиры и домашние рабы — все были уничтожены, а остальные рабы исчезли. Мы выкопали ров и погребли в нем тела — на время, пока власти не возьмутся за расследование того, что там произошло. Не могли же мы оставить их валяться, как падаль. Негры устроили там настоящую кровавую оргию.
— А вы не боитесь, что нечто подобное произойдет и здесь? — задал вопрос Пармантье.
— Мы вооружены и все время начеку, к тому же я полагаюсь на способности Камбрея, — сказал в ответ Вальморен. — Но я должен признаться, что мне очень тревожно. С Лакруа и его семьей негры отвели душу…
— Ваш приятель Лакруа славился своей жестокостью, — перебил его доктор. — И это еще больше распалило нападавших, однако правда и то, что в этой войне никто ни с кем особо не церемонится, друг мой. Нужно готовиться к худшему.
— Доктор, а вы знаете, что знаменем мятежникам служит поднятый на штык белый малыш?
— Все это знают. Франция с ужасом реагирует на эти подробности. В Народном собрании не осталось уже ни одного человека, кто бы относился к рабам с симпатией, даже Общество друзей негров замолчало. Но ведь эта жестокость не что иное, как соразмерный ответ на те преступления, что мы совершали против них.
— Не включайте нас, доктор! — воскликнул Вальморен. — Ни вы, ни я никогда в жизни не позволяли себе таких крайностей!
— Я не имел в виду конкретно кого-то, а только те нормы жизни, которые мы ввели. Реванша и мести негров избежать было невозможно. Мне стыдно за то, что я француз, — печально проговорил Пармантье.
— Если уж речь идет о мести, то мы дошли до той точки, что нужно выбирать: либо они, либо мы. Мы, плантаторы, защищаем наши земли и наши инвестиции. И мы в любом случае вернем себе колонию. И уж точно не будем сидеть сложа руки!
Сложа руки они не сидели. Колонисты, Маршоссе и армия вышли на тропу войны и с каждого схваченного беглого негра живьем сдирали кожу. С Ямайки завезли полторы тысячи псов и вдвойне — мулов с Мартиники, обученных передвигаться в горах, таща за собой пушки.
Террор
Одна за другой запылали плантации севера. Пожары длились месяцами, отблески пламени по ночам видны были даже с Кубы, а густой дым душил Ле-Кап и, как поговаривали рабы, добрался до Гвинеи. Подполковник Этьен Реле, в чьи обязанности входило информирование губернатора о потерях, в конце декабря насчитывал убитыми более двух тысяч белых, и, если его подсчеты были верны, еще десять тысяч приходилось на негров. Когда стало известно о выпавшей белым колонистам в Сан-Доминго доле, ветер во Франции подул в противоположную сторону, и Национальное собрание аннулировало недавно изданный декрет о предоставлении политических прав офранцуженным. Как сказал Виолетте в ответ на эту новость Реле, решение это было начисто лишено логики, потому что кто-кто, а мулаты не имели ничего общего с восстанием, они были самыми заклятыми врагами негров и естественными союзниками больших белых, с которыми их не разделяло ничто, кроме цвета кожи. Губернатор Бланшланд, не симпатизирующий республиканцам, был вынужден использовать армию для подавления приобретавших катастрофически массовый характер волнений рабов, а также вмешаться в ужасный конфликт между белыми и мулатами, начавшийся в Порт-о-Пренсе. Маленькие белые инициировали массовое убийство офранцуженных, а те в свой черед ответили еще худшими жестокостями и зверствами, чем позволяли себе негры и белые, вместе взятые. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Весь остров содрогался от подземных толчков застарелой ненависти, ожидавшей лишь предлога, чтобы вырваться на поверхность пламенной лавой. Белый сброд Ле-Капа, разгоряченный событиями в Порт-о-Пренсе, стал на улицах нападать на цветных, совершать грабительские набеги на их дома, насиловать женщин, отрезать головы детям и вешать мужчин на их собственных балконах. Трупный запах чувствовался даже на кораблях, стоявших на якоре за пределами порта. В одной из записок, которую Пармантье послал Вальморену, он описывал городские новости так: «Нет ничего более опасного, чем безнаказанность, друг мой! Вот когда люди сходят с ума и совершаются самые ужасные зверства! И цвет кожи здесь ни при чем, все одинаковы. Если бы вам привелось видеть то, чему был свидетелем я, то вы вынуждены были бы подвергнуть сомнению превосходство белой расы, о чем нам с вами столько раз приходилось дискутировать».
Ужаснувшись этой разнузданности, доктор испросил аудиенцию и явился в спартанский кабинет Этьена Реле, с которым был знаком по своей работе в военном госпитале. Доктор знал, что подполковник был женат на цветной женщине и появлялся с ней рука об руку на людях, нимало не заботясь о злых языках, на что сам доктор никогда бы не решился по отношению к Адели. Он рассчитывал на то, что этот человек лучше кого бы то ни было поймет его положение, и приготовился раскрыть ему свою тайну. Офицер указал доктору на единственный стул в своем кабинете.
— Прошу меня простить за то, что я решился потревожить вас делом личного характера, подполковник… — начал, запинаясь, Пармантье.
— Чем могу помочь вам, доктор? — любезно отреагировал Реле, который чувствовал себя в долгу перед врачом за несколько спасенных им жизней его подчиненных.
— Дело в том, что у меня есть семья. Жену мою зовут Адель. В общем, строго говоря, она не является моей супругой, Вы меня понимаете, не так ли? Но мы уже много лет живем вместе, у нас трое детей. Она из офранцуженных.
— Я знаю об этом, доктор, — сказал Реле.
— Как вы узнали? — воскликнул тот в растерянности.
— Должность обязывает меня быть информированным, к тому же моя супруга, Виолетта Буазье, знакома с Аделью. Она заказывала у нее платья.
— Адель — великолепная портниха, — добавил доктор.
— Полагаю, что вы пришли ко мне, чтобы поговорить о нападениях на офранцуженных. Не могу обещать, что ситуация в скором времени улучшится, доктор. Мы пытаемся держать под контролем население, но армия не располагает достаточными для этого ресурсами. Я сам очень обеспокоен. Моя жена и носа не показывает на улицу вот уже две недели.
— Я боюсь за Адель и детей…
— Что касается моей семьи, то я полагаю, что единственный способ защитить ее — это отослать жену на Кубу, пока здесь все не успокоится. Корабль отправляется завтра. Могу то же самое предложить и вам, если вас это устроит. Удобным путешествие не будет, но путь недолог.
Тем же вечером под охраной взвода солдат женщины и дети поднялись на борт корабля. Адель была довольно темнокожей и грузной мулаткой, на первый взгляд не слишком привлекательной, но она обладала неистощимыми запасами мягкости и хорошего настроения. Никто не преминул бы отметить различие между нею, одетой как служанка и полной решимости жить в тени, ограждая тем самым репутацию отца своих детей, и прекрасной, царственной Виолеттой. Они не принадлежали к одному социальному классу: друг от друга их отделяли несколько степеней различий в цвете кожи, что в Сан-Доминго определяло всю судьбу человека, а также тот факт, что одна из них была портнихой, а другая — ее клиенткой. Но обнялись они с взаимным чувством симпатии, поскольку вскоре обеим предстояло переносить тяготы изгнания. Лула, за чью руку держался Жан-Мартен, всхлипывала. Мальчику она надела католические образки и талисманы вуду под рубашку, чтобы Реле, убежденный атеист, их не заметил. Рабыня никогда до тех пор не ступала даже в лодку, не то что на корабль, и перспектива отправиться в кишащее акулами море на этом пучке плохо связанных бревен с парусами, похожими на нижние юбки, приводила ее в ужас. Пока доктор Пармантье стыдливо издалека в знак прощания махал своей семье, Этьен Реле на глазах своих солдат простился с Виолеттой — единственной женщиной, которую он любил в своей жизни, — отчаянным поцелуем и клятвенным обещанием очень скорой встречи. Больше он ее никогда не увидит.
В лагере Замбо Букмана уже никто не голодал, люди начинали крепнуть: у мужчин больше не торчали ребра, те немногие ребятишки, что жили в лагере, перестали походить на скелеты с раздутыми животами и глубоко запавшими глазами, а женщины начали беременеть. До мятежа, когда беглые рабы прятались в расщелинах гор, голод старались обмануть сном, а жажду — каплями дождя. Женщины выращивали рахитичную кукурузу, участки которой частенько приходилось оставлять до того, как будет снят урожай, и ценой собственной жизни защищали нескольких коз, ведь в лагере были дети, рожденные свободными, но жизнь их могла оказаться слишком короткой, если им не будет хватать молока этих гордых животных. Гамбо и еще пятеро самых отважных мужчин занимались добычей продовольствия. Один из них был вооружен мушкетом, что давало возможность подстрелить на бегу зайца с невообразимого расстояния, но дробь, которой было так мало, берегли для самой крупной добычи. По ночам мужчины пробирались на плантации, где рабы — по доброму ли согласию или вынужденно — делились с ними своими продуктами, но всегда существовала страшная опасность оказаться либо преданными, либо застигнутыми врасплох. Если удавалось пробраться поближе к кухне или хижинам домашних рабов, можно было разжиться парой мешков муки или бочонком с сушеной рыбой — не много, но все-таки лучше, чем жевать ящериц. Гамбо, обладавшему магическим даром общения с животными, частенько удавалось увести какого-нибудь старого мула с мельницы, который шел потом в дело до последней косточки. Это требовало столько же везения, сколько и отваги, потому что если мул заупрямится, сдвинуть его с места нет никакой возможности. Если же животное оказывалось послушным, то нужно было скрытно довести его до леса, где Гамбо сначала просил у него прощения за то, что лишает его жизни, как учил его когда-то отец перед охотой, а потом забивал. И все вместе тащили они тушу вверх в горы, уничтожая за собой следы, чтобы избежать преследования. Эти рискованные вылазки стали теперь совсем другими. Уже никто не противостоял им на плантациях, теперь почти все они были покинуты, и добытчики были вольны брать все, что уцелело после пожаров. Благодаря этому в лагерях теперь не было недостатка в свиньях, курах, имелось больше сотни голов коз, мешки кукурузы, юкки, сладкого картофеля и фасоли, даже рома и кофе было сколько душе угодно, а еще — сахара, которого многие никогда раньше не пробовали, хотя провели на этой земле годы, занимаясь его производством. Бывшие беглецы стали теперь революционерами. Речь шла уже не о полумертвых от голода бандитах, а об отважных воинах, ведь дороги назад у них не было: умрешь или в бою, или под пытками. Ставить они могли только на победу.
Лагерь окружали позорные столбы с черепами и посаженными на кол телами, которые подвяливались на солнце. На большом дворе держали белых пленников, ожидавших своей очереди отправиться на казнь. Женщин превращали в рабынь и наложниц — тех, кем раньше на плантациях были негритянки. Гамбо не чувствовал сострадания к пленникам, он мог бы своими руками лишить их жизни, если бы представилась такая возможность, но подобного приказа ему не давали. Ценя в Гамбо быстроту, ум и хорошую память, Букман посылал его гонцом с сообщениями к другим командирам, а также на разведку. Вся северная область была нашпигована бандами, которые юноша хорошо знал. Худшим для белых лагерем был лагерь Жанно, в котором каждый день отбирали нескольких пленников, чтобы казнить их медленной и мучительной смертью, и казни эти брали свое начало в той жестокой традиции, что была заложена самими колонистами. Жанно, как и Букман, был могущественным хунганом, но война преобразила его, и жажда жестокости сделалась в нем неутолимой. Жанно похвалялся тем, что пьет кровь своих жертв из человечьего черепа. Он внушал ужас своим же людям. Гамбо слышал разговоры других командиров, в которых шла речь о том, что от него нужно избавиться, пока его ненормальные выходки не раздражили Папа Бондьё, но он не стал об этом рассказывать, потому что, как разведчик, уважал конфиденциальность.
В одном из лагерей Гамбо познакомился с Туссеном, выполнявшим двойную роль — одновременно военного советника и доктора. Туссен разбирался в лекарственных травах, а также оказывал серьезное влияние на вождей, хотя в то время еще и держался на заднем плане. Он был один из немногих, умевших читать и писать, и через него хотя и с опозданием, но становилось известно о событиях на всем острове и во Франции. Никто не был знаком с мышлением белых лучше этого человека. Он родился и жил рабом на плантации Бреда, был самоучкой, всем сердцем принял христианство и завоевал уважение своего хозяина, который даже доверил ему свою семью, когда им пришлось бежать с плантации. Эти его отношения давали почву для подозрений, ведь многие думали, что Туссен предан хозяевам как слуга. Но Гамбо не раз слышал из уст Туссена, что цель его жизни — покончить с рабством в Сан-Доминго и что ничто и никто не сможет его заставить отступиться от этой цели. Личность этого человека оказалась для Гамбо притягательной с самого начала, и он решил, что если Туссен станет вождем, то он, не раздумывая, перейдет в его отряд. Букман, этот гигант с громовым голосом, избранник Огуна-Ферале, был той искрой, что зажгла пламя восстания в Буа-Каймане, но Гамбо предчувствовал, что самой яркой звездой на небе станет звезда Туссена — неказистого человека с толстыми щеками и кривыми ногами, который говорит как проповедник и молится Иисусу белых людей. И он не ошибся, потому что всего через несколько месяцев Букман, непобедимый Букман, грудью встававший навстречу вражескому огню, отводивший от себя пули ударами хлыста из бычьего хвоста, словно это мухи, в бою был взят в плен французскими солдатами. Этьен Реле отдал приказ казнить его немедленно, предвосхищая реакцию восставших рабов из других лагерей. Солдаты взяли с собой его голову, насаженную на нику, и установили ее в центре главной площади Ле-Капа, где никому не удалось бы ее не заметить. Гамбо был единственным, кто избежал смерти в той западне благодаря своей поразительной быстроте. Он-то и рассказал остальным о случившемся. Позже он присоединился к лагерю, в котором был Туссен, несмотря на то что в лагере Жанно людей было гораздо больше. Он знал, что дни Жанно сочтены. И действительно, его лагерь на рассвете был атакован, и его вздернули, не применив к нему всех тех ужасных пыток, которые сам он практиковал в отношении своих жертв, — просто потому, что на это не было времени: велась подготовка к переговорам с неприятелем. Гамбо решил, что после гибели Жанно и его офицеров настал черед белых пленников, но верх взяла мысль Туссена, что лучше бы сохранить им жизнь и использовать в качестве заложников.
Осознав масштабы охватившей колонию катастрофы, Франция выслала в Сан-Доминго комиссию, задачей которой было провести переговоры с предводителями негров, в знак доброй воли выразившими намерение отпустить заложников. Место встречи было назначено на одной из плантаций севера. Когда белые пленники, пережившие несколько месяцев созданного Жанно ада, вновь оказались недалеко от своих домов и поняли, что их привели на плантацию не для того, чтобы каким-нибудь ужасным образом умертвить, а чтобы отпустить на свободу, началась давка, и мужчины, расталкивая женщин с детьми, бросились спасаться бегством. В суматохе Гамбо постарался оказаться возле Туссена и других переговорщиков. Полдюжины больших белых, игравших роль представителей всех колонистов, сопровождали представителей власти, только что прибывших из Парижа и еще не полностью понимавших, как в Сан-Доминго ведутся дела. Чуть не подпрыгнув от неожиданности, Гамбо узнал среди них своего старого хозяина и попятился, стремясь спрятаться, но тут же сообразил, что Вальморен не обратил на него никакого внимания и что даже если бы тот его и заметил, то не узнал бы.
Переговоры проводились под открытым небом, в тени росших во дворе деревьев, и с первых же слов напряжение стояло такое, что его можно было пощупать руками. Со стороны восставших преобладали недоверие и злопамятство, а колонисты были объяты слепым высокомерием. В полном изумлении выслушал Гамбо условия мира, предложенные его вождями: свобода для них самих и горстки их приспешников в обмен на то, что остальные мятежники молча вернутся в рабство на свои плантации. Члены парижской комиссии приняли эти условия незамедлительно — трудно было представить себе более выгодное предложение, но большие белые Сан-Доминго не были намерены уступить ничего: они требовали, чтобы рабы сдались все сразу и без всяких условий. «Что они себе вообразили! Что мы будем торговаться с неграми? Пусть довольствуются тем, что спасут свою жизнь!» — воскликнул один из них. Вальморен попытался урезонить своих собратьев, но большинство в конце концов победило, и было решено ничего не уступать этим мятежным рабам. Лидеры мятежников удалились, чувствуя себя оскорбленными, и Гамбо вместе с ними. Внутри у него все пылало от возмущения, ведь он узнал, что вожди готовы были предать тех, с кем бок о бок жили и сражались. «При первой же возможности убью их всех, одного за другим», — пообещал он сам себе. Теперь он утратил веру в революцию. Но он и представить себе не мог, что в этот самый момент определялось будущее острова, потому что непреклонность колонистов вынудит восставших продолжить войну в течение еще многих лет — до победы и ниспровержения рабства.
Члены комиссии, ввиду полной невозможности совладать с анархией, сочли за благо покинуть Сан-Доминго, и вскоре прибыли другие три делегата, во главе которых стоял Сонтоно, молодой, но раздобревший адвокат. И прибыли они с шестью тысячами солдат подкрепления и новыми инструкциями из Парижа. Закон снова был изменен: теперь он наделял свободных мулатов всеми правами французского гражданина, в чем совсем недавно мулатам было отказано. Некоторые офранцуженные были назначены боевыми офицерами, и многие белые военные тут же отказались служить под их началом, выполнять их приказы и дезертировали из армии. Это подогрело страсти, и веками тлевшая ненависть между белыми и офранцуженными приобрела прямо-таки библейские масштабы. Колониальное собрание, которое до тех пор решало внутренние вопросы жизни колонии, было упразднено. Его сменила комиссия, в составе которой было шестеро белых, пятеро мулатов и один свободный негр. В обстановке все усиливавшегося насилия, контролировать которое уже было не под силу никому, губернатор Бланшланд был обвинен в неподчинении указам республиканского правительства и потворствовании монархистам. Его депортировали во Францию, закованного в ножные кандалы, и очень скоро он лишился головы на гильотине.
Вкус свободы
Так обстояли дела летом следующего года, когда однажды ночью Тете проснулась, ощутив на своем лице твердую руку, зажимавшую ей рот. Она подумала, что вот наконец и случилось то самое нападение на плантацию, которого все так долго боялись, и принялась молиться о том, чтобы смерть была быстрой, хотя бы для Мориса и Розетты, которые спали подле нее. Она ждала, не пытаясь защищаться, чтобы не разбудить детей, а также все еще смутно надеясь, что все происходящее не более чем кошмарный сон, пока в слабом свете горевших во дворе факелов, проникавшем сквозь вощеную бумагу окна, не смогла разглядеть склоненную над собой фигуру. Она не узнала его, ведь за те полтора года, которые они прожили порознь, юноша стал другим. Но он прошептал ее имя — Зарите, и она ощутила в груди вспышку — на этот раз не ужаса, а счастья. Подняла руки, привлекая его к себе, и наткнулась на лезвие ножа, зажатого в зубах. Она отобрала у него нож, и он со стоном упал на ее тело, уже готовое раскрыться ему навстречу. Губы Гамбо искали ее губы с накопленной за столь долгую разлуку жаждой, язык проскользнул в ее рот, а руки сами легли на прикрытые тонкой сорочкой груди. Она ощутила между ног его твердую плоть и уже стала раскрываться, но тут вспомнила о детях, о которых на какое-то мгновение позабыла, и оттолкнула его. «Иди за мной», — шепнула она.
Они осторожно поднялись и перешагнули через Мориса. Гамбо снова взял свой нож и заложил его за полосу козьей шкуры, которой был опоясан, а она между тем накрыла детей москитной сеткой. Тете показала ему жестом, чтобы он подождал, и вышла проверить, в своей ли спальне хозяин, которого она оставила там всего пару часов назад, потом задула в коридоре лампу и вернулась за своим любовником. На ощупь она повела его в другой конец дома — в комнату своей сумасшедшей хозяйки, пустующую со времени ее смерти.
Слившись в объятиях, они упали на матрас, подпорченный влажностью и забвением, и любили друг друга в темноте и полной тишине, задыхаясь от невысказанных слов и возгласов наслаждения, таявших во вздохах. Во время их разлуки Гамбо в лагере отводил душу и с другими женщинами, но ему так и не удалось обмануть жажду неутоленной любви. Ему было семнадцать, и он жил, терзаемый пламенем неотступного желания любви Зарите. Он запомнил ее высокой, обильной, щедрой, но она оказалась ниже его, а эти груди, которые раньше представлялись ему огромными, теперь запросто помещались в его ладонях. Зарите под ним превращалась в пену. В спешке и алчности столь долго сдерживаемой любви ему даже не удалось войти в нее, как внезапно в одно мгновение вся его жизнь вышла наружу в одном мощном содрогании. И он погрузился в пустоту, пока дыхание Зарите, обдающее его ухо жаром, не возвратило его в комнату безумной хозяйки. Она принялась ласкать его, похлопывая по спине, как всегда поступала с Морисом, чтобы утешить малыша. А когда почувствовала, что он начинает оживать, перевернула его в постели, придавив одной рукой его живот, а другой, помогая себе искусанными губами и алчущим языком, массировала и лизала, поднимая его к самым небесам, где он вновь затерялся в мелькающих звездах любви. Той самой, о которой он мечтал каждое мгновение своего отдыха, и во время каждой передышки в бою, и каждый день на рассвете, встреченном в тысячелетних туманных расщелинах касиков, где столько раз ему приходилось стоять на страже. Неспособный сдерживаться дольше, юноша приподнял ее за талию, и она уселась на него верхом, нанизываясь на этот горящий член, которого так страстно желала, наклоняясь вперед, чтобы покрыть поцелуями его лицо, облизать уши, коснуться его сосками, чтобы качаться, как на качелях, на его потерявших чувствительность ногах, крепко сжимая его бедрами амазонки, извиваясь волнами, подобно морскому угрю на песчаном морском дне. Так они любили друг друга, словно в первый и одновременно последний раз, изобретая все новые па этого старинного танца. Воздух в комнате наполнился запахом семени и пота, впитав в себя благоразумное насилие наслаждения и надрывность любви, насытился приглушенными стонами, подавленным смехом, отчаянными атаками и предсмертными хрипами, которые тут же оборачивались веселыми поцелуями. Возможно, они и не делали ничего такого, что не было уже опробовано другими, но заниматься любовью любя — это совсем другое дело.
Устав от счастья, они заснули в тесном переплетении рук и ног, измученные тяжелой духотой июльской ночи. Через несколько минут Гамбо проснулся в тревоге оттого, что настолько утратил осторожность, но, почувствовав рядом с собой оставшуюся в одиночестве женщину, тихо посапывающую во сне, он принялся осторожно, стараясь не разбудить, ощупывать ее, чтобы узнать о происшедших с этим телом изменениях, ведь, когда он уходил, оно было искажено беременностью. В груди все еще было молоко, но она уже стала мягче, с вытянутыми сосками, талия показалась ему очень тонкой, ведь он не помнил, какой она была до беременности, а живот, бедра, ягодицы и ляжки были воплощением роскоши и плавности. Запах Тете тоже изменился: теперь она пахла уже не мылом, а молоком и в тот момент источала еще их общий запах. Он зарылся носом в ее волосы на шее, ощутив ток крови по венам, ритм ее дыхания, стук сердца. Тете с довольным вздохом вытянулась. Ей снился Гамбо, и хватило одного мгновения, чтобы осознать, что они и вправду вместе и ей вовсе не нужно его выдумывать.
— А я пришел за тобой, Зарите. Нам пора уходить, — шепнул ей Гамбо.
Он рассказал, что раньше прийти никак не мог, потому что ему было некуда забрать ее, но больше ждать было нельзя. Он не знал, смогут ли белые подавить восстание, но для этого им явно придется убить всех негров до самого последнего, прежде чем объявить о своей победе. Никто из восставших не был расположен вернуться в рабство. Смерть гуляла по острову свободно и подкарауливала свои жертвы. Не было ни одного безопасного уголка, но худшим злом, чем страх и война, была разлука. Он рассказал ей, что не верит вождям, даже Туссену, и что он ничего им не должен и думает бороться по-своему, переходя из лагеря в лагерь, или дезертировать, там уж видно будет. Какое-то время жить вместе они могли бы в его лагере, сказал он; у него уже построена хижина-навес, айупа, сооружение из палок и пальмовых листьев, а еды им хватит. Он не мог предложить ей ничего, кроме нелегкой жизни, а она привыкла к удобствам дома белого человека, но она ни за что не раскается, потому что, когда ты попробовал свободы, назад вернуться уже не можешь. И почувствовал горячие слезы на лице Тете.
— Я не могу оставить детей, Гамбо, — сказала она в ответ.
— Мы возьмем с собой моего ребенка.
— Это девочка, ее зовут Розеттой, и она не твоя дочка, она дочь хозяина.
Гамбо поднялся в изумлении. Все эти полтора года он думал о своем сыне, черном мальчике по имени Оноре, ему и в голову не могло прийти, что есть альтернатива: что это мулатка и она дочь хозяина.
— Мы не можем взять с собой Мориса, ведь он белый, и Розетту не можем, она слишком мала, чтобы подвергать ее таким тяготам, — пояснила Тете.
— Ты должна пойти со мной, Зарите. И именно сейчас, сегодня ночью: завтра будет уже поздно. Эти ребятишки — дети белого. Забудь о них. Думай о нас и детях, которые будут у нас с тобой, подумай о свободе.
— А почему завтра будет поздно? — спросила она, утирая слезы тыльной стороной ладони.
— Потому что на плантацию нападут. Эта плантация — последняя, остальные уже разорены.
Только тогда она поняла масштабы того, о чем просит ее Гамбо: речь шла не только о том, чтобы расстаться с детьми, а чтобы бросить их, предоставив ужасной участи. Ее охватила ярость — той же силы, что и страсть, владевшая ею всего несколько минут назад: никогда она их не бросит, ни ради него, ни ради свободы. Гамбо прижал ее к груди, словно хотел поднять и унести. Он сказал, что Морис в любом случае погибнет, а вот Розетту в лагере смогли бы принять, если только она не слишком светлокожая.
— Ни тот, ни другая не сможет выжить в лагере, Гамбо. Единственный способ спасти их — сделать так, чтобы их забрал хозяин. Я уверена, что Мориса он будет защищать даже ценой своей жизни, а вот Розетту — нет.
— Для этого нет времени. Твой хозяин уже труп, Зарите, — ответил он.
— Если умрет он, умрут и дети. Нам нужно всех троих вытащить из Сен-Лазара еще до рассвета. Если ты не хочешь мне помочь, я сделаю это сама, — решила Тете, натягивая рубашку в темноте.
План ее был по-детски бесхитростен, но она изложила его с такой решимостью, что Гамбо в конце концов сдался. Он не мог заставить ее уйти с ним, но не мог и оставить на плантации. Он знал местность, умел скрываться, мог передвигаться по ночам, избегать опасностей и защищаться, а она — нет.
— Ты думаешь, что белый на это пойдет? — спросил он под конец.
— А что ему остается? Если он останется здесь, то и ему, и Морису выпустят кишки. Он не только согласится, но и заплатит мне за это. Подожди меня здесь, — сказала она.
Зарите
Влажное тело мое горело, лицо распухло от поцелуев и слез, а от кожи исходил запах того, чем мы занимались с Гамбо, но мне было все равно. В коридоре я зажгла масляную лампу, отправилась в его комнату и вошла без стука, чего раньше никогда не было. Он, отупленный алкоголем, лежал на спине: рот приоткрыт, нитка слюны на заросшем двухдневной щетиной подбородке, светлые волосы растрепаны. Все отвращение, которое он во мне вызывал, нахлынуло вдруг и сразу, и я испугалась, что сейчас меня вырвет. Мое присутствие и зажженный свет пробудили его не сразу — понадобилось несколько мгновений, чтобы пробить коньячный туман. Проснулся он с криком и одним движением руки выхватил из-под подушки пистолет. Узнав меня, он отвел дуло, но пистолета из рук не выпустил.
— Что такое, Тете? — строго спросил он, поспешно встав с постели.
— Я пришла с одним предложением, хозяин, — сказала я ему. Мой голос, не дрожал, как не дрожала и рука с лампой. Он не поинтересовался, с какой стати мне пришло в голову разбудить его среди ночи, — почувствовал, верно, что дело-то серьезное. Сел на кровать, положив пистолет на колени, и я сказала ему, что через несколько часов мятежники нападут на Сен-Лазар. Поднимать по тревоге Камбрея бесполезно: чтобы их остановить, понадобится целая армия. Как это происходило повсюду, его рабы присоединятся к атакующим, будет бойня, потом пожар, поэтому нам с детьми нужно бежать немедленно, в противном случае уже завтра мы будем мертвы. И то, если повезет: хуже будет, если смерть будет не быстрой, а медленной. Так я ему сказала. А откуда мне это известно? Один из его рабов — он сбежал больше года назад — вернулся меня предупредить. Этот человек нас и поведет, потому что одни мы ни за что не доберемся до Ле-Капа — все вокруг уже в руках у мятежников.
— Кто он? — спросил он, поспешно одеваясь.
— Его зовут Гамбо, и он мой любовник…
Он с размаху отвесил мне такую пощечину, что я чуть не потеряла сознание, но, когда он собрался ударить меня еще раз, я схватилась за его запястье, да с такой силой, о которой и сама не подозревала. До самого этого момента я никогда не смотрела ему в лицо и не знала, что глаза у него светлые, цвета затянутого облаками неба.
— Мы постараемся спасти жизнь вам и Морису, но цена — моя свобода и свобода Розетты, — сказала я, четко выговаривая каждое слово, чтобы он хорошо меня понял.
Он вцепился мне в руку, вонзив в нее пальцы, и в ярости приблизился к моему лицу. У него скрипели зубы, пока он осыпал меня оскорблениями, сойдя со всех катушек от лютой злобы. Прошло много времени, просто бесконечность, и я снова почувствовала приступ тошноты, но глаз не отвела. Наконец он снова сел, обхватив руками голову: он сдался.
— Иди прочь с этим подонком. Не нужна тебе от меня свобода.
— А Морис? Вы не сможете защитить его. А я не хочу прожить всю жизнь в бегах, я хочу быть свободной.
— Хорошо, ты получишь то, о чем просишь. Давай, поторапливайся, одевайся и готовь детей. Где этот раб? — спросил он.
— Он уже не раб. Я позову его, но сперва напишите мне вольную — на меня и на Розетту.
Не прибавив больше ни слова, он сел за стол и принялся быстро строчить на листе бумаги, потом присыпал текст тальком, сдул его и приложил к капле сургуча свой перстень, точно так же — мне доводилось это видеть раньше, — как поступал со всеми важными документами. Он вслух прочитал мне этот текст, сама-то я не могла его прочесть. У меня перехватило горло, в груди заколотилось сердце: этот кусок бумаги обладал властью над моей жизнью и жизнью моей дочери, он мог все изменить. Я осторожно сложила лист вчетверо и убрала его в чехол от четок доньи Эухении, который я всегда носила на груди под рубашкой. Четки пришлось оставить — надеюсь, что донья Эухения простит мне это.
— Теперь дайте мне пистолет, — попросила я.
Расставаться с оружием он не захотел: мне он сказал, что не собирается использовать его против Гамбо, ведь он наше единственное спасение. Я уже не очень хорошо помню, как мы поладили, но уже через несколько минут он был вооружен еще двумя пистолетами и успел вынести из конторы все золотые монеты, а я тем временем поила детей опиумной настойкой из одного из синих флаконов доньи Эухении, которые еще у нас оставались. Они стали похожи на мертвых, и я испугалась, что дала им слишком много. О рабах на плантации я не беспокоилась: завтрашний день станет их первым днем свободы, — однако судьба домашней прислуги при таких нападениях могла быть столь же ужасной, как и судьба их хозяев. Гамбо решил предупредить тетушку Матильду. Кухарка подарила ему в день бегства фору в несколько часов, и за это ее наказали. Теперь он имел возможность отблагодарить ее. Через полчаса, когда мы уже отойдем на приличное расстояние, она разбудит домашних рабов и смешается с неграми плантации. Мориса я привязала к спине отца, Гамбо дала два свертка с едой, а сама взяла Розетту. Хозяин посчитал чистым безумием идти пешком, мы могли бы взять с конюшни лошадей, но, по мнению Гамбо, это привлекло бы внимание сторожей, да и дорога, по которой нам предстояло двигаться, не годилась для лошадей. Мы прошли через двор, прижимаясь к стенам дома, обошли стороной кокосовую аллею, по которой расхаживал ночной дежурный, и гуськом направились к тростникам. Крысы с мерзкими хвостами, разоряющие поля, выскакивали прямо нам под ноги. Хозяин заколебался, но Гамбо приставил ему к горлу нож, но не зарезал, потому что я удержала его руку. Он нужен нам, чтобы защитить детей, напомнила я ему.
Мы погрузились в жуткий шелест колышущегося на ветру тростника. Слышались свистки, удары ножами: мы оказались среди спрятавшихся в зарослях демонов, змей, скорпионов — в лабиринте, где искажаются звуки и свертываются расстояния, где легко можно потеряться, причем навсегда, и тогда кричи не кричи — никто никогда тебя уже не найдет. Поэтому тростниковые заросли и делят на квадраты, или кварталы, и резать тростник всегда начинают с краев, двигаясь к центру. Одно из придуманных Камбреем наказаний заключалось в том, что раба оставляли на ночь в тростниках, а на рассвете спускали собак. Не знаю, как уж вел нас Гамбо — может, руководствуясь инстинктом, а может, опытом воровства на других плантациях. Мы шли гуськом, почти приклеенные друг к другу, чтобы не потеряться, защищаясь как могли от острых листьев, пока наконец после бесконечно долгого пути не оказались за пределами плантации и не вошли под своды сельвы. Мы были в пути уже несколько часов, но ушли не слишком далеко. На рассвете мы ясно увидели оранжевое зарево пожара над Сен-Лазаром и ощутили удушливый, острый и сладковатый запах, принесенный ветром. Спящие дети оттягивали нам плечи, словно камни. Эрцули, лоа-мать, помоги нам.
Я всегда ходила босиком, но оказалась непривычной к таким поверхностям и в кровь сбила ноги. Я просто падала от усталости, хозяин же, напротив, несмотря на то что был на двадцать лет старше меня, шагал, не останавливаясь, с Морисом за спиной. Наконец Гамбо, самый молодой и сильный из нас троих, сказал, что нужно отдохнуть. Он помог нам отвязать детей, и мы положили их на кучу листьев, но сначала потыкали в нее палками, чтобы выгнать гадюк. Гамбо хотел получить пистолеты хозяина, но тот убедил его, что в его руках они будут полезнее, потому как Гамбо в таком оружии не разбирается. Пришли к соглашению, что Гамбо возьмет один из пистолетов, а хозяин — два других. Мы были возле болота, и в этой местности лучи солнца едва просачивались сквозь густую листву. Воздух был похож на горячую воду. Зыбучая топь за пару минут может поглотить человека, но Гамбо, казалось, это не беспокоило. Он нашел лужу, и мы напились и смочили одежду — себе и детям, они все еще были в забытьи, потом съели по хлебу из взятой провизии и немного отдохнули.
Вскоре Гамбо снова нас поднял, и хозяин, который никогда и ни от кого не слышал приказаний, послушался беспрекословно. Эти болота оказались не топкой трясиной, как я себе представляла, а грязной стоячей водой с вонючими испарениями. Илистое дно было топким. Мне вспомнилась донья Эухения — она бы, верно, предпочла попасть в руки мятежников, чем идти через эту густую тучу комарья. К счастью, она была уже на своих христианских небесах. Гамбо знал все тропинки, но следовать за ним с тяжестью детских тел на плечах было непросто. Эрцули, лоа воды, спаси нас. Гамбо разодрал мой тиньон,[15] сделал мне из листьев подошвы и привязал их тряпками к моим ногам. На хозяине были высокие сапоги, а что касается Гамбо, то он полагал, что мозоли на его ступнях не смогут прокусить даже клыки хищных зверей. Так мы и гили.
Первым проснулся Морис, когда мы еще шли по болоту, и испугался. Когда очнулась Розетта, я ненадолго, не останавливаясь, приложила ее к груди, и она снова уснула. Мы шли целый день и пришли в Буа-Кайман, где нам уже не грозила опасность потонуть в трясине, но зато здесь на нас могли напасть. Именно здесь начиналось восстание, и Гамбо тоже был здесь, когда моя крестная, со вселившимся в ее тело Огуном, призвала к войне и назначила вождей. Так мне рассказывал Гамбо. С тех пор тетушка Роза переходила из лагеря в лагерь и лечила, служила службы лоа, предсказывала будущее, и все ее боялись и уважали. Так она исполняла свою судьбу, прочерченную для нее ее звездой, ее з’этуаль. Это она посоветовала Гамбо пойти под крыло Туссена, потому что тому суждено стать королем, когда кончится война. Гамбо спросил, будем ли мы тогда свободными, и она уверила его, что да, но сначала нужно будет убить всех белых, даже младенцев, и что на землю прольется столько крови, что кукуруза взойдет красной.
Я дала детям еще капель, и мы уложили их между корнями огромного дерева. Гамбо больше опасался стай диких собак, чем людей или духов, но мы не решились развести костер, который держал бы псов на расстоянии. Оставив хозяина с детьми и тремя заряженными пистолетами, уверенные в том, что он не отойдет от Мориса, мы с Гамбо отошли чуть подальше, чтобы сделать то, что мы хотели делать. Ненависть исказила лицо хозяина, когда я направилась вслед за Гамбо, но он ничего не сказал. Я со страхом думала о том, что будет со мной потом, ведь я знаю жестокость белых людей в час мести, и этот час рано или поздно для меня наступит. Я очень устала, все тело у меня болело из-за Розетты, но единственным, чего я желала, были объятия Гамбо. И в эту минуту все остальное на свете для меня не означало ровном счетом ничего. Эрцули, лоа наслаждения, сделай так, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Так я это запомнила.
Беглецы
Мятежники напали на Сен-Лазар в тот зыбкий час, когда отступает ночь, за несколько секунд до того, как обычно просыпался колокол, поднимающий людей на работу. Сначала появились световые точки факелов, перемещающиеся одна за другой быстро, как блещущий хвост кометы. Тростник скрывал человеческие фигуры, но когда они стали выскакивать из густой растительности, оказалось, что их — сотни. Одному из охранников удалось добраться до колокола, но два десятка рук, потрясая ножами, тут же превратили этого человека в неопознаваемую кровавую мякоть. Самыми первыми загорелись участки с сухим тростником, потом от их жара занялись все остальные, и не прошло и двадцати минут, как горели уже все поля и огонь подбирался к большому дому. Языки пламени скакали повсюду — такие высокие и мощные, что свободные участки двора перед домом остановить их не смогли. С гулом огня смешивались оглушительные крики нападавших и мрачный вой морских раковин: в них дудели мятежники, это был знак войны. Они бежали голые или едва прикрытые какими-то лохмотьями, вооруженные мачете, цепями, палками, штыками, незаряженными мушкетами, поднятыми повыше, как дубины. Многие были разрисованы сажей, кто-то — в состоянии транса или опьянения, но цель в этой полнейшей анархии существовала, и этой единственной целью было уничтожение — всего. Рабы, обычно занятые на полевых работах, смешавшись с домашними — их вовремя предупредила кухарка, — покинули свои хижины и присоединились к орущей ораве, чтобы принять участие в этой оргии отмщения и опустошения. Поначалу некоторые еще колебались, опасаясь исходящей от мятежников неудержимой жажды насилия и неизбежной мести хозяина, но выбора у них уже не было. Если бы они отступили, их бы тоже ждала смерть.
Командоры один за другим попали в руки этой орды, но Просперу Камбрею и еще двоим удалось забаррикадироваться в винном подвале большого дома с оружием и боеприпасами, которых хватило бы на оборону в течение нескольких часов. Они надеялись, что пожар привлечет внимание Маршоссе или отрядов солдат, патрулировавших эти места. Нападения негров обладали яростью и скоростью тайфуна: они длились пару часов, а потом утихали и рассеивались. Главного надсмотрщика удивило, что дом пуст; он даже подумал, что Вальморен заранее приготовил на такой случай какое-нибудь подземное убежище и теперь притаился там с сыном, Тете и ее девочкой. Он оставил своих людей и отправился в контору, которая обычно запиралась на ключ, но она оказалась открытой. Шифра сейфа он не знал и собирался вскрыть его при помощи нескольких пуль — никто потом не узнает, кто именно украл золото, но сейф тоже был открыт. И тогда у него впервые зародилось подозрение, что Вальморен покинул плантацию, не предупредив его. «Трус проклятый! — воскликнул он в ярости. — Сбежал, спасая свою жалкую шкуру!» Но времени на жалобы не было — он вернулся к своим людям как раз в тот момент, когда дикий рев нападавших послышался совсем рядом.
Камбрей услышал ржание лошадей и лай собак и смог по голосу узнать своих двух свирепых овчарок — их лай отличался особой хрипотой и яростью. Он подумал, что его бесценные животные, прежде чем сдохнуть, возьмут за свою жизнь несколько чужих. Дом был окружен, нападавшие уже наводнили дворы и вытоптали сад, не оставив ни одной из хозяйских орхидей ценных сортов. Главный надсмотрщик почувствовал, что нападавшие уже на галерее: они снимали двери с петель, влезали в окна и превращали в пыль все, что попадалось на пути, вспарывая французскую мебель, разрезая голландские гобелены, вываливая содержимое испанских сундуков, разбивая в щепки китайские ширмы и вдребезги — венецианские зеркала, — все то, что когда-то купила для этого дома Виолетта Буазье. И когда они устали разрушать, то принялись искать семью хозяина. Камбрей и двое командоров к тому времени уже заложили подвальную дверь мешками, заставили ее бочками и мебелью и начали стрелять, просунув дула между железными прутьями решеток, которыми были забраны маленькие подвальные окна. Только дощатые стены защищали их от мятежников, опьяненных свободой и невосприимчивых к пулям. В свете утренней зари они увидели, как некоторые упали, так близко, что можно было чувствовать их запах, несмотря на тошнотворный дым горящего тростника. Одни падали, другие по их телам наступали, шли вперед, а Камбрей и его люди не успевали перезарядить свои ружья. Вот они услышали удары в дверь, и доски задрожали, сотрясаясь от урагана ненависти, сотню лет набиравшего силу на Карибах. Через десять минут дом уже пылал, как один огромный костер. Восставшие рабы ждали во дворе, и когда командоры выскочили, спасаясь от пламени, их взяли живыми. С Проспера Камбрея, однако, они не смогли получить старые долги муками, которых он заслуживал: он предпочел засунуть себе в рот дуло пистолета и пулей разнести голову на куски.
Между тем Гамбо и его маленький отряд взбирались вверх по скалам, цепляясь за камни, стволы, корни и лианы, пересекали ущелья и погружались до пояса в бурлящие горные ручьи. Гамбо не преувеличивал: это была дорога не для всадников, а для обезьян. В этой темной зелени иногда неожиданно появлялись цветные мазки: желто-оранжевый клюв тукана, радужное оперение больших попугаев и ярко-красных ара, повисших на ветвях деревьев тропических цветов. Вода была везде: речушки, лужи, дождь — расцвеченные радугой хрустально чистые потоки, что падают с неба и исчезают под густым пологом сверкающих папоротников. Теге смочила платок и повязала им голову, закрывая фиолетовое пятно затекшего после пощечины Вальморена глаза. Гамбо она сказала, что ее ужалило в веко какое-то насекомое, — она хотела предотвратить стычку между мужчинами. Вальморен снял размокшие сапоги: ноги были стерты в кровь, и Гамбо, увидев их, расхохотался — он не понимал, как это белые могут идти по жизни на этих мягких розовых ступнях, похожих на освежеванных кроликов. Сделав несколько шагов, Вальморен был вынужден снова натянуть сапоги. Нести Мориса он уже не мог. Мальчик немного шел сам, держась за руку отца, но большей частью ехал на плечах Гамбо, вцепившись в его жесткие волосы.
Несколько раз им приходилось прятаться от мятежников, бродивших повсюду. Один раз Гамбо оставил своих спутников в гроте, а сам вышел навстречу знакомому отряду, с которым ему приходилось встречаться в лагере Букмана. На одном из мятежников было надето колье из человеческих ушей: некоторые были уже засохшими, как выделанная кожа, другие — свежими и розовыми. Люди из отряда поделились с Гамбо своей провизией — вареной картошкой и несколькими ломтями копченой козлятины. Они немного посидели, побеседовали о жестокостях войны и обсудили слухи, ходившие о новом вожде, Туссене. Говорили, что он не похож на человека, что у него сердце дикой собаки — хитрое сердце одиночки; что он безразличен к таким искушениям, как алкоголь, женщины и позолоченные медали, которых вожделели другие вожди; что он не спит, питается фруктами и может провести два дня и две ночи верхом на коне. Он никогда не повышает голоса, но люди в его присутствии трепещут. Он дока в лекарственных растениях и ясновидящий, умеет читать послания природы, знаки на звездах и самые секретные намерения человека — потому ему и удается избегать предательства и ловушек. К вечеру, едва стало свежеть, они расстались. Гамбо не сразу нашел своих, ведь от грота он ушел довольно далеко, но в конце концов оказался с ними: уже в полуобморочном состоянии от жажды и жары они так и не решились выйти наружу, чтобы поискать воды. Он подвел всю компанию к ближайшей луже, и они напились, отведя душу, но вот еды не хватало — пришлось вводить пайки.
Ступни Вальморена внутри сапог представляли собой одну сплошную рану, и острая боль пронзала ему ноги по всей их длине. Он плакал от ярости, мечтая умереть, но шел вперед — из-за Мориса. На закате второго дня пути они увидели пару вооруженных мачете мужчин, на которых из одежды были лишь самодельные кожаные пояса, чтобы было куда заткнуть нож. Путникам удалось вовремя укрыться в папоротниках, где пришлось провести больше часа, пока те люди не скрылись в чаще. Гамбо направился к кокосовой пальме, верхушка которой вздымалась на несколько метров выше всей остальной растительности, вскарабкался по ее прямому стволу, цепляясь за чешуйчатую кору, и сбросил вниз несколько кокосов, которые почти бесшумно попадали в папоротники. Дети смогли напиться кокосового молока и разделили между собой нежную мякоть ореха. Гамбо сказал, что сверху видел равнину: Ле-Кап уже близко. Ночь они провели под деревьями, отложив скудные остатки провизии на завтра. Морис и Розетта уснули, свернувшись калачиком, их сон охранял Вальморен. За последние дни он состарился на тысячу лет: он чувствовал себя разбитым, он утратил свою честь, мужество, саму душу. Он оказался низведенным до уровня животного: только плоть и страдание, кусок кровавого мяса, какая-то бессловесная тварь, которая, как пес, тащится по пятам проклятого негра, а тот, ничуть не стесняясь, развратничает с его же рабыней. Вальморен слышал их этой ночью, как и в предыдущие: они даже и не думали скрываться — хотя бы из чувства приличия или же из страха перед ним. До него очень отчетливо доносились стоны наслаждения, вздохи желания, придуманные ими слова, подавляемый смех. Они совокуплялись раз, другой, третий — как звери, потому что такое желание и столько энергии. Это что-то нечеловеческое, рыдал от унижения хозяин. Он представлял себе знакомое тело Теге, ее ноги, привыкшие к ходьбе, ее сильный зад, тонкую талию, полные груди, ее гладкую, мягкую, сладкую кожу, влажную от пота, желания и греха, от дерзости и провокации. Ему казалось, что он видит ее лицо в эти минуты: прикрытые глаза, размягченные, готовые давать и принимать губы, дерзкий язык, раздутые ноздри, втягивающие в себя запах этого мужчины. И, несмотря ни на что, несмотря на мучительно болевшие ноги, ни с чем не сравнимую усталость, растоптанную гордость и страх смерти, Вальморен возбуждался.
— Завтра мы оставим белого и его сына на равнине. Оттуда всего-то и нужно, что идти все время прямо, — сказал Гамбо в темноте Тете между двумя поцелуями.
— А если на них наткнутся мятежники, пока они еще не дойдут до Ле-Капа?
— Я свою часть договора выполнил: вывел их живыми с плантации. Теперь уж пусть сами справляются. А мы с гобой пойдем в лагерь Туссена. Его з’этуаль — самая яркая на всем небе.
— А Розетта?
— Пойдет с нами, если ты захочешь.
— Я не могу, Гамбо, я должна пойти вместе с белым. Прости меня… — прошептала она, сгибаясь от тоски.
Юноша отодвинул ее от себя, не веря своим ушам. Ей пришлось два раза повторить ему свои слова, чтобы он осознал наконец твердость этого решения, единственно возможного для нее, потому что среди мятежников Розетта была бы всего лишь жалкой бледной квартеронкой — всеми гонимой, голодной, беззащитной перед всеми превратностями революции, а с Вальмореном, наоборот, будущее ее было гораздо более обеспеченным. Она сказала ему, что не может расстаться с детьми, но Гамбо не услышал ее доводы, он понял лишь то, что его Зарите предпочитает ему белого.
— А свобода? Это для тебя не важно? — Он схватил ее за плечи и встряхнул.
— Я свободна, Гамбо. Вольная у меня в этой сумочке, подписанная и с печатью. Розетта и я — свободны. Я послужу еще немного хозяину, пока война не кончится, а потом уйду с тобой куда захочешь.
Они расстались на равнине. Гамбо взял себе пистолеты, повернулся и припустил бегом назад, к густой зелени леса, не прощаясь и не оборачиваясь, чтобы этот последний взгляд не подтолкнул его поддаться сильнейшему искушению убить Вальморена и его сына. Он сделал бы это без колебаний, но в то же время знал, что если причинит хоть какой-нибудь вред Морису, то навсегда потеряет Тете. Вальморен, женщина и дети вышли на дорогу — широкую, рассчитанную на тройку лошадей и слишком открытую для тех случаев, когда приходится столкнуться нос к носу с мятежными неграми или настроенными против белых мулатами. Вальморен и шагу не мог уже ступить на своих сбитых в кровь, со снятой кожей ногах, он еле плелся, стеная, а за ним шел Морис и плакал вместе с отцом. Тете нашла тень под кустами, отдала последний кусок съестного Морису и объяснила ему, что она за ним обязательно вернется, но может задержаться, и что он должен терпеливо ждать. Поцеловала его, оставила подле отца и зашагала по дороге с Розеттой за спиной. Теперь все было делом случая. Лучи солнца свинцом падали на ее непокрытую голову. Земля вокруг, удручающе монотонная, покрытая толстым ковром из короткой и жесткой травы, была утыкана валунами и низкими, прибитыми ветром кустами. Почва иссохла и походила на крупу, воды нигде не было. Этой дорогой, довольно оживленной в нормальные времена, с начала восстания пользовались только солдаты регулярной армии и жандармы Маршоссе. У Тете были некие туманные представления о расстоянии, но она не могла подсчитать, сколько часов еще нужно идти, чтобы добраться до ближайших к Ле-Капу укреплений, потому что раньше она всегда ездила туда в карете Вальморена. «Эрцули, лоа надежды, не оставь меня». Она решительно зашагала вперед, стараясь думать не о том, сколько оставалось, а о том, что уже оставила за своей спиной. Пейзаж был пустынный: глазу было не за что ухватиться, все вокруг одинаковое, как будто она приросла к одному месту, как в кошмарном сне. Розетта своими засохшими губками и застывшими глазами молила о воде. Тете дала ей еще несколько капель из синего флакона, покачала ее, пока малышка не уснула, и снова пошла вперед.
Три или четыре часа она шла не останавливаясь, в голове — ни одной мысли. «Воды… Без воды дальше идти не смогу». Шаг, другой, еще один. «Эрцули, лоа пресных и соленых вод, не дай мне умереть от жажды». Ноги двигались сами собой, ей слышались барабаны: призывная дробь баула, контрапункт сегопа, глубокий, ломающий ритм вздох мешан[16] и другие. Вот они снова вступают, вот вариации, подхваты, взлеты, вдруг — веселый звон погремушек марак и снова — невидимые руки, колотящие по натянутой коже барабанов. Звук заливает ее изнутри, и она начинает двигаться под музыку. Еще один час. Она плывет в раскаленном пространстве, с каждым мгновением все свободнее; она уже не чувствует ни резких ударов в костях, ни стука камней в голове. Еще шаг, еще час. «Эрцули, лоа сострадания, помоги». Внезапно, когда колени у нее уже подгибались, удар молнии сотряс ее тело, от макушки до пяток — огонь, лед, вихрь, тишь. И тогда, как мощный шквал, сошла богиня Эрцули и вошла в Зарите, свою слугу.
Первым ее заметил Этьен Реле, ехавший во главе конного отряда. Темная и тонкая линия на дороге, иллюзия, неверный силуэт в вибрации безжалостного света. Он пришпорил коня и подъехал взглянуть, кому это пришло в голову предпринимать такое опасное путешествие в этом безлюдье и по такой жаре. Приблизившись, он увидел женщину со спины — прямую, гордую, с вытянутыми, словно для полета, руками, изгибающуюся в ритме танца, тайного и победоносного. Он заметил и узел у нее за спиной и понял, что это ребенок, возможно уже мертвый. Он окликнул ее, но она не ответила и продолжала парить, как призрак, пока он не остановил коня прямо перед ней. Увидев ее закатившиеся глаза, он понял, что она или безумна, или в трансе. Ему приходилось видеть эту экзальтацию — на календах, но он думал, что такое возможно только в случае коллективной истерии барабанного боя. У Реле, французского офицера, прагматика и атеиста, такие случаи одержимости вызывали отвращение, он рассматривал их как еще одно доказательство примитивности африканцев. Эрцули вытянулась перед всадником: соблазнительная, прекрасная, язык гадюки в окружении красных-красных губ, тело — само воплощение порыва. Офицер поднял плетку, дотронулся ею до ее плеча, и тут же волшебство рассыпалось в прах. Эрцули исчезла, и Теге без единого вздоха рухнула без чувств — куча тряпок в дорожной пыли. Солдаты подъехали к своему командиру, и лошади окружили лежащую женщину. Этьен Реле спрыгнул на землю, склонился над женщиной и начал тормошить ее импровизированный рюкзак, пока ему не удалось высвободить груз: девочку — то ли спящую, то ли без сознания. Потом он перевернул тело и увидел мулатку, совсем не походившую на ту, что танцевала посреди дороги: бедная девушка, покрытая грязью и потом, черты лица искажены, один глаз заплыл, губы растрескались от жажды, из лохмотьев одежды торчат окровавленные ноги. Один из солдат тоже спешился и наклонился, чтобы влить немного воды из фляжки в ротик девочки, а потом — в рот женщины. Тете открыла глаза и несколько минут не могла ничего вспомнить: ни о своем марш-броске по дороге, ни о дочке, ни о барабанах, ни об Эрцули. Ей помогли подняться и дали еще воды, пока она не напилась и видения в ее голове не стали обретать некий смысл. «Розетта…» — пробормотала она. «Она жива, но не отвечает, и мы не можем ее добудиться», — сказал ей Реле. Тут ужас последних дней всплыл в памяти рабыни: опиумная настойка, плантация в огне, Гамбо, ее хозяин и Морис, которые ждут ее возвращения.
Вальморен увидел на дороге столб пыли и сжался в кустах в полном помрачении от животного ужаса, который зародился в нем еще в ту минуту, когда он увидел труп своего соседа Лакруа без кожи. Ужас все рос и рос, до самого того момента, когда Вальморен полностью потерял представление о времени, пространстве и расстоянии и не понимал ничего: ни по какой причине он прячется здесь, в кустах, как заяц, ни кто этот мальчонка без чувств рядом с ним. Отряд остановился неподалеку, и один из всадников стал выкрикивать его имя. Тогда он осмелился выглянуть и увидел людей в форме. Жалобный возглас облегчения вырвался откуда-то из глубины его тела. Он выполз на четвереньках, весь всклокоченный, оборванный, покрытый царапинами, струпьями и засохшей грязью, рыдая, как дитя, да так и остался стоять на коленях перед лошадьми, повторяя: спасибо, спасибо, спасибо. Ослепленный ярким светом и будучи в состоянии обезвоженности, он не узнал Этьена Реле и не осознал, что все остальные солдаты отряда были мулатами; ему было достаточно увидеть форму французской армии, чтобы понять, что он спасен. Он вытащил кошель, привязанный к поясу, и выбросил горсть монет перед солдатами. Золото осталось сверкать в пыли: спасибо, спасибо. Испытывая отвращение перед этой сценой, Этьен Реле приказал ему собрать свои деньги, потом сделал знак своим подчиненным, и один из них спешился дать Вальморену воды и уступить свою лошадь. Тете, сидевшая на другой лошади, с трудом слезла с нее, поскольку не привыкла ездить верхом и у нее за спиной была Розетта, и пошла искать Мориса. Она нашла его свернувшимся в клубок в зарослях кустарника, он бредил от жажды.
Они находились вблизи Ле-Капа и через несколько часов уже въезжали в город, избежав каких-либо происшествий. За это время Розетта пришла в себя после дурмана опия, измученный Морис отоспался на руках одного из солдат, а Тулуз Вальморен обрел свое прежнее достоинство. Образы этих трех дней начали тускнеть, а история — обретать в его мозгу другие контуры. Когда ему представилась возможность рассказать о происшедшем, его версия была довольно далека от той, которую Реле услышал от Тете: Гамбо полностью исчез со сцены, это он сам предугадал нападение мятежников и, ввиду невозможности защитить плантацию, бежал, чтобы спасти сына, прихватив с собой рабыню, которая растила Мориса и свою дочку. Это он, и только он спас всех. Реле от комментариев воздержался.
Париж Антильских островов
Ле-Кап был заполнен беженцами, покинувшими свои плантации. Дым пожарищ, приносимый ветром, держался в воздухе неделями. Париж Антильских островов вонял мусором и экскрементами, смердел трупным запахом тел казненных, разлагающихся на эшафотах, к нему добавлялся смрад от братских могил жертв войны и эпидемий. Снабжение стало в высшей степени нерегулярным: питание населения города зависело от кораблей и рыбачьих лодок, однако большие белые жили с прежней роскошью, с единственной поправкой на то, что теперь она подорожала. Их столы все так же ломились от изобилия, а для всех остальных существовала карточная система. Продолжались и праздники, хотя и с вооруженной охраной в дверях, не закрылись ни театры, ни бары, и ослепительные кокотки по-прежнему оживляли ночи. В городе не оставалось уже ни одной свободной комнаты, где можно было бы разместиться, но Вальморен полагался на выкупленный еще до восстания дом португальца, в котором он и устроился — приходить в себя после пережитого страха, а также телесных и душевных синяков. Ему прислуживали шесть рабов, взятых по требованию Тете напрокат; не слишком пристало покупать их как раз тогда, когда он собрался изменить свою жизнь. Купил он только повара, учившегося своему ремеслу во Франции; его он потом сможет продать, не потеряв в деньгах: цена на хорошего повара была одной из тех немногих стабильных вещей, что еще оставались. Вальморен был уверен в том, что собственность его к нему вернется: это было далеко не первое восстание на Антилах, и все предыдущие были подавлены, да и Франция не позволит, чтобы какие-то черные бандиты смели колонию. В любом случае, даже если ситуация и вернется в привычное русло, он уедет из Сан-Доминго. Решение уже принято. О гибели Проспера Камбрея ему уже было известно, поскольку жандармы обнаружили тело главного надсмотрщика среди руин плантации. «Другим способом я бы от него не отделался», — подумал Вальморен. Имение представляло собой пепелище, но земля-то была на месте, ее никто не мог забрать. Раздобудет управляющего, кого-нибудь привычного к климату и с опытом — времена сейчас не для привезенных из Франции администраторов. Так объяснял он своему другу Пармантье, пока тот занимался его ногами, прикладывая к ним заживляющие травы, которыми когда-то пользовала больных тетушка Роза.
— Вы, верно, думаете вернуться в Париж, топ ami?
— Скорее, нет. У меня интересы на Карибах, не во Франции. Я стал компаньоном Санчо Гарсиа дель Солара, брата Эухении, да упокоит Господь ее душу, и мы приобрели земли в Луизиане. А у вас какие планы, доктор?
— Если ситуация здесь не улучшится, я собираюсь перебраться на Кубу.
— У вас там семья?
— Да, — признался доктор, краснея.
— Мир в колонии зависит от правительства во Франции. Это республиканцы полностью виноваты в том, что здесь случилось: король никогда не допустил бы, чтобы все зашло так далеко.
— Полагаю, что французская революция необратима, — высказался доктор.
— Республика даже не подозревает, как следует управлять этой колонией, доктор. Присланные комиссары депортировали половину гарнизона Ле-Капа и заменили ее мулатами. А это провокация, ведь ни один белый солдат не будет служить под началом цветного офицера.
— Возможно, настал тот момент, когда белые и офранцуженные научатся жить рядом друг с другом, раз уж у них общий враг — негры.
— Меня мучает вопрос: чего эти дикари добиваются? — проговорил Вальморен.
— Свободы, топ ami, — пояснил Пармантье. — Один из их главарей, Туссен — так его зовут, мне кажется, — стоит на позиции, что плантации могут существовать, применяя наемный труд.
— Даже если им будут платить, негры не станут работать! — воскликнул Вальморен.
— Этого никто гарантировать не может, потому что пока не попробовали. Туссен говорит, что африканцы — крестьяне, они близки к земле, и возделывать ее — это то, что они умеют и хотят делать, — настаивал Пармантье.
— То, что они умеют и хотят делать, — это убивать и разрушать, доктор! Кроме того, этот Туссен переметнулся на сторону испанцев.
— Он встал под защиту испанского флага только потому, что французские колонисты отказались вести переговоры с восставшими, — напомнил ему доктор.
— Я был там, доктор. И предпринял бесплодную попытку убедить других плантаторов, что нам лучше принять условия мира, предложенные неграми, которые всего-то и просили что свободы для своих главарей и их помощников, то есть человек для двухсот, — сообщил Вальморен.
— В таком случае вину за эту войну следует возлагать не на некомпетентность республиканского правительства во Франции, а на спесь колонистов Сан-Доминго, — подвел итог Пармантье.
— Готов согласиться с вами в том, что нам следует быть более благоразумными, но мы не можем вести переговоры с рабами на равных, это было бы очень плохим прецедентом.
— Следовало бы искать взаимопонимания с Туссеном: он кажется самым разумным из всех мятежных вождей.
Тете прислушивалась, когда заходила речь о Туссене. Любовь к Гамбо она запрятала поглубже, в самый дальний уголок своей души, смирившись с тем, что не увидит его очень долго, может, больше никогда, но он навсегда останется в ее сердце, а она полагала, что он воюет в рядах последователей этого Туссена. Ей уже приходилось слышать от Вальморена, что история не знает победы ни одного невольничьего мятежа, но она все же осмеливалась мечтать об этой победе и спрашивать себя, какой могла бы быть жизнь без рабства. Домашнее хозяйство она стала вести так, как делала это всегда, но Вальморен сказал, что они не могут жить в городе так же, как в Сен-Лазаре, где во главу угла ставилось удобство и было абсолютно не важно, в перчатках слуги или нет. В Ле-Капе нужно жить стильно. Как бы ни бушевал мятеж за воротами города, Вальморену необходимо было отдавать долги вежливости тем семьям, которые частенько приглашают его к себе в дом, взяв на себя заботу о поиске ему новой жены.
Хозяин навел справки и раздобыл для Тете наставника: им стал мажордом мэрии. Этот был тот самый африканский Адонис, который служил в особняке, когда в 1780 году Вальморен с больной Эухенией обратился туда с просьбой о гостеприимстве, только человек этот стал еще более привлекательным, поскольку необыкновенно красиво возмужал. Звали его Захарией, родился и вырос он в этих самых стенах. Его родители были рабами прежнего интенданта, который, когда пришло время возвращаться во Францию, продал их семье своего преемника; так эти рабы стали частью инвентаря мэрии. Отец Захарии, такой же красавец, как и сын, с ранних лет готовил его для престижной должности мажордома, потому что разглядел в сыне необходимые для этого поста добродетели: ум, хитрость, достоинство и осторожность. Захария старался держаться как можно дальше от откровенных притязаний белых женщин, ведь связанные с ними риски были хорошо ему известны; а так он избегал многих проблем. Вальморен предложил интенданту оплачивать ему услуги его мажордома, но тот об этом не захотел и слышать. «Дайте ему на чай, этого будет достаточно. Захария копит деньги — хочет выкупить свою свободу, хотя я совершенно не понимаю, на что она ему сдалась. Нынешнее его положение столь выгодно, что лучшего он и желать не может», — ответил ему интендант. И они условились, что Тете каждый день будет приходить в дом интенданта, чтобы приобрести более утонченные манеры.
Захария встретил ее холодно, с самого начала установив между ними известную дистанцию, раз уж он обладал самым высоким рангом в иерархии домашней прислуги Сан-Доминго, а она являлась рабыней без всякого ранга. Но вскоре его стало подводить собственное педагогическое рвение, и дело кончилось тем, что он передавал ей секреты своего мастерства с щедростью, намного превосходившей чаевые Вальморена. Его очень удивило, что эта девушка вовсе не казалась впечатленной его внешностью, ведь он был привычен к женскому обожанию. Ему приходилось изворачиваться всеми силами, избегая женских комплиментов и отвергая их авансы, но в отношениях с Тете он смог расслабиться — это были отношения без всякой задней мысли. Обращались они друг к другу формально; месье Захария, мадемуазель Зарите.
Тете поднималась на рассвете, планировала работу рабов, распределяя домашние дела, оставляла детей на попечении временной няньки, нанятой хозяином, и выходила из дома, отправляясь на уроки, в своей самой лучшей блузке и хрустящей свежим крахмалом нижней юбке. Она так и не узнала, сколько же слуг было в доме интенданта: только на кухне работали три повара и семеро поварят, но по ее прикидкам число прислуги не могло быть ниже полусотни. Захария вел бюджет и служил связующим звеном между хозяевами и службами: главным авторитетом в этой сложной организации был он. Ни один раб не решался обратиться к нему, если его не звали, и по этой самой причине всех возмущали визиты Тете, которая уже через несколько дней бесцеремонно нарушала все установленные правила, направляясь с порога прямиком в запретный храм — тесный кабинет мажордома.
Не отдавая себе в этом отчета, Захария стал ждать ее прихода: учить ее доставляло ему удовольствие. Она приходила точно в назначенное время, они вместе выпивали по чашке кофе, и он тут же выкладывал ей свои познания. Вместе обходили все службы этого дома, наблюдая за прислугой. Ученица все схватывала на лету и вскоре уже управлялась со всеми восьмью бокалами и рюмками, необходимыми на любом банкете; видела разницу между вилкой для улиток и другой, очень похожей, но предназначенной для лангустов; знала, с какой стороны подается рукомойник; выучила порядок подачи разных сортов сыра и как самым скромным и незаметным образом раздать на праздничном вечере горшки и что делать с опьяневшей дамой; а также усвоила строгую иерархию гостей за столом. Закончив урок, Захария вновь приглашал ее на чашку кофе и пользовался этим, чтобы поговорить о политике: эта тема представляла для него наибольший интерес.
Вначале она слушала его из вежливости, думая, что раздоры свободных людей не имеют никакого значения для раба, пока он не упомянул о возможности отмены рабства. «Представьте себе, мадемуазель Зарите, я вот уже много лет коплю деньги на свою свободу, но может статься, что мне ее предоставят еще до того, как я смогу ее выкупить», — засмеялся Захария. Он знал обо всем, о чем говорилось в мэрии, даже содержание переговоров, проходивших при закрытых дверях. Ему было известно, что в Париже в Национальном собрании обсуждался вопрос о несправедливой нелепости положения, когда в колониях сохраняется рабство после того, как его уже упразднили во Франции. «Вы знаете что-нибудь о Туссене, месье?» — спросила его Тете. Мажордом выложил ей всю его биографию, прочитанную в одной из секретных папок интенданта, и прибавил, что посланник Сонтонакс и губернатор должны будут прийти с ним к некоему соглашению, ведь помимо того, что под его началом находится очень хорошо организованная армия, он еще может рассчитывать на поддержку испанцев — с другой части острова.
Ночи несчастья
Благодаря взятым Зарите урокам через пару месяцев в доме Вальморена жизнь была налажена с утонченностью, которой он не имел возможности наслаждаться со времен своей парижской юности. Вальморен задумал дать бал, воспользовавшись услугами очень дорогого и престижного банкетного агентства месье Адриена, свободного мулата, рекомендованного Захарией. За два дня до праздника месье Адриен наводнил дом толпой слуг, отставил повара и заместил его пятью властными толстухами, которые сотворили меню из четырнадцати блюд по мотивам банкетов в доме интенданта. Хотя дом и не был предназначен для празднеств высшей категории, он стал выглядеть вполне элегантным, когда убрали ужасный декор, оставшийся от португальца, и украсили крыльцо и парадные комнаты карликовыми пальмами на консолях, букетами цветов и китайскими фонариками. В назначенный вечер устроитель банкетов явился с несколькими дюжинами слуг, наряженных в синие ливреи с золотом и занявших свои места так же быстро и четко, как батальон хорошо обученных солдат занимает оборонительные позиции. Расстояние между домами больших белых редко превышало пару кварталов, однако гости прибывали в каретах, и, когда закончился этот парад пышных выездов, улица представляла собой топкую трясину из конского навоза, за уборку которого тут же взялись лакеи, не позволяя этой вони смешаться с дамским парфюмом.
«Как я выгляжу?» — поинтересовался у Тете Вальморен. На нем был парчовый жилет с золотой и серебряной нитью, а кружев на запястьях и воротнике было столько, что их хватило бы на целую скатерть; на ногах же красовались розовые чулки и бальные туфли. Она ничего не ответила, оторопев при виде парика цвета лаванды. «Эти невежи-якобинцы пытаются покончить с париками, однако они — совершенно необходимый штрих элегантности для приемов подобного рода. Так говорит мой парикмахер», — заявил Вальморен.
Месье Адриен уже дважды предлагал гостям шампанское, а оркестр уже во второй раз заиграл менуэт, когда примчался один из секретарей губернатора с невероятным известием: во Франции гильотинировали Людовика XVI и Марию-Антуанетту. Королевские головы были провезены по улицам Парижа, как провозили в Ле-Капе голову Букмана и ему подобных. События, имевшие место в январе, дошли до Сан-Доминго только в марте. Началось паническое бегство: гости опрометью выбегали из дома. Так закончился, едва успев начаться, первый и единственный бал Тулуза Вальморена в этом доме.
Тем же вечером, уже после того, как фанатичный роялист месье Адриен, всхлипывая, удалился вместе со своими людьми, Тете подобрала с полу лавандовый парик, растоптанный Вальмореном, убедилась, что с Морисом все в порядке, закрыла на засовы двери и окна и отправилась отдыхать в свою комнатушку, отведенную ей с Розеттой. Вальморен воспользовался сменой дома, чтобы извлечь своего сына из комнаты Тете, с мыслью, что мальчику следует спать одному. Однако Морис всегда был настоящим клубком нервов, и, опасаясь того, что он снова свалится в лихорадке, отец устроил сына в углу своей комнаты на походной складной кровати. С тех пор как они оказались в Ле-Капе, Вальморен ни разу не упомянул Гамбо, но и Тете к себе по ночам не звал. Тень любовника стояла между ними. Чтобы зажили ноги, понадобились недели, и едва Вальморен смог передвигаться, он стал выходить каждый вечер из дому, чтобы развеяться и забыть пережитые ужасы. По его платью, пропитавшемуся стойкими цветочными ароматами, Тете поняла, что он захаживает к кокоткам, и сделала вывод, что для нее наконец унизительные объятия хозяина закончились. Потому-то она и огорчилась, обнаружив его в домашних туфлях и зеленом бархатном халате на краю своей постели, на которой, раскинув ручки и ножки, в невинном бесстыдстве похрапывала Розетта. «Иди за мной!» — приказал он ей, потянув ее за руку в направлении одной из гостевых комнат. Он повалил ее одним толчком, несколькими движениями сорвал одежду и впопыхах, в темноте, силой овладел ею, с быстротой, больше похожей на порождение ненависти, чем желания.
Воспоминание о соитиях Тете с Гамбо не только приводило Вальморена в ярость, но и вызывало неотступные видения. Этот злодей осмелился наложить свои грязные лапы не на что иное, как на его собственность. Когда он его поймает — убьет. Да и женщина заслуживала примерного наказания, однако прошло уже два месяца, а он так и не заставил ее заплатить за невообразимую наглость. Сучка. Жгучая сучка. Он не мог предъявлять требования морали и достоинства какой-то рабыне, но его долг — заставить ее подчиняться его воле. Почему он до сих пор не сделал этого? Нет ему оправдания. Она бросила ему вызов, и это нарушение правил следовало исправить. С другой стороны, он был перед ней в долгу. Его рабыня отказалась от свободы для себя ради спасения его жизни и жизни Мориса. В первый раз он задавался вопросом: какие чувства испытывает к нему эта мулатка? Ему не составляло труда вызвать в своем воображении те унизительные ночи в лесу, когда она забавлялась со своим любовником: объятия, поцелуи, возобновленный пыл, даже запах их тел, когда они возвращались. Тете — настоящий демон, само желание: вот она лижет, потеет, стонет. Пока он насиловал ее в комнате для гостей, эта сцена не выходила из его головы. И он снова на нее набросился и зло вошел в нее, удивляясь своей собственной силе. Она застонала, и он начал бить ее кулаком, ощущая ярость ревности и наслаждение реванша: «Желтая сучка, я продам тебя, шлюха, подстилка, и дочку твою иродам». Тете закрыла глаза и отдалась его власти: тело расслаблено, ни единой попытки оказать сопротивление или избежать ударов, а душа ее тем временем была уже далеко. «Эрцули, лоа желания, сделай так, чтобы он скорее кончил». Вальморен во второй раз излился поверх нее, весь мокрый от пота. Тете подождала, не двигаясь, несколько минут. Дыхание обоих постепенно успокаивалось, и она потихоньку стала соскальзывать с кровати, но он ее остановил.
— Никуда ты не пойдешь, — приказал он ей.
— Желаете, чтобы я зажгла свечу, месье? — спросила она надломленным голосом: воздух в легких пылал под избитыми ребрами.
— Нет, мне лучше так.
Это был первый раз, когда она обратилась к нему «месье», а не «хозяин», и Вальморен отметил это, хотя и ничего не сказал. Тете села на кровати, отирая кровь с губ и носа остатками разодранной в клочья блузки.
— С завтрашнего дня заберешь Мориса из моей спальни, — сказал Вальморен. — Он должен спать один. Ты его избаловала.
— Ему всего пять лет.
— В этом возрасте я уже умел читать, ездил на охоту с отцом на собственной лошади и учился фехтованию.
Какое-то время они оставались в том же положении, и наконец она решилась задать ему вопрос, который трепетал на ее губах с самого приезда в Ле-Кап.
— Когда я стану свободной, месье? — спросила она, сжимаясь в ожидании удара, но он встал, не тронув ее.
— Ты не можешь быть свободной. На что ты будешь жить? Я тебя содержу и защищаю, со мной ты и твоя дочь будете в безопасности. Я всегда с тобой хорошо обращался — так на что ты жалуешься?
— Я не жалуюсь…
— Ситуация сейчас очень тяжелая. У тебя уже вылетели из головы все те ужасы, что нам пришлось пережить, эти жестокости, которые совершались вокруг? Отвечай!
— Нет, месье.
— Свобода, говоришь? Разве ты хочешь покинуть Мориса?
— Если вы согласны, я могу продолжать ухаживать за Морисом, как и раньше, по крайней мере, до тех пор, пока вы снова не женитесь.
— Жениться? Мне? — рассмеялся он. — Я и с Эухенией хлебнул предостаточно! Это будет последнее, на что я пойду. А если ты продолжишь мне служить, зачем тебе свобода?
— Все хотят быть свободными.
— Женщины никогда ими не бывают, Тете. Им всегда нужен мужчина, который о них заботится. Когда они не замужем, то принадлежат отцу, а когда выходят замуж — мужу.
— Та бумага, которую вы мне дали… Это ведь моя свобода, так? — продолжала настаивать Тете.
— Разумеется.
— Но Захария говорит, что, чтобы она вошла в силу, ее должен подписать судья.
— А это еще кто такой?
— Мажордом интенданта.
— Он прав. Но сейчас не самый подходящий момент. Подождем, пока в Сан-Доминго снова станет спокойно. И больше не будем говорить об этом. Я устал. В общем, ты слышала: завтра я хочу спать в комнате один и чтобы все было как раньше. Ты поняла меня?
Новый губернатор острова, генерал Гальбо, прибыл с четко поставленной целью — справиться с хаосом в колонии. Он был облечен всеми военными полномочиями, по гражданская власть республиканцев воплощалась в лице Сонтонакса и двух других комиссаров. Первый доклад о ситуации в колонии выпало сделать Этьену Реле. Производство на острове было сведено к нулю, его северная часть скрывалась в облаках дыма, на юге не прекращались убийства, а город Порт-о-Пренс был полностью выжжен. Не было ни транспорта, ни эффективно работающих портов, ни безопасности — ни для кого. Мятежные негры опирались на поддержку Испании, британский флот контролировал Карибы и не упускал случая, чтобы завладеть городами на побережье. Колонисты находились в блокаде: не могли получить ни подкрепления войсками, ни боеприпасов из Франции, и держать оборону было практически невозможно. «Не беспокойтесь, подполковник, найдем какое-нибудь дипломатическое решение», — отозвался Гальбо. Он вел секретные переговоры с Тулузом Вальмореном и Клубом патриотов — тайным обществом ярых приверженцев независимости острова и последующей его передачи под протекторат Великобритании. Генерал сходился с заговорщиками в том, что парижские республиканцы ничего не понимают в происходящем на острове и совершают Одну непростительную ошибку за другой. Среди самых серьезных промахов был роспуск Колониального собрания: с ним была потеряна автономия, и теперь они неделями ждали каждого решения — пока оно дойдет из Франции. Гальбо имел на острове земли и был женат на креолке, в которую был все так же влюблен и спустя несколько лет после свадьбы. И он лучше кого бы то ни было разбирался в напряженных отношениях между различными расами и социальными группами.
Члены Клуба патриотов нашли в генерале идеального союзника, которого больше беспокоила борьба между белыми и офранцуженными, чем восстание негров. У многих больших белых имелись коммерческие дела на Карибах и в Соединенных Штатах; во французской родине-матери они совершенно не нуждались и рассматривали независимость острова как наилучший для себя выход, если только, паче чаяния, положение кардинально не изменится и во Франции не будет восстановлена сильная монархия. Казнь короля стала трагедией, но она же явилась прекрасной возможностью заполучить несколько менее глупого монарха. Офранцуженным же, напротив, независимость была ни на грош не нужна, поскольку только французское республиканское правительство демонстрировало готовность видеть в них граждан, чего никогда бы не случилось, если бы Сан-Доминго оказался под протекторатом Великобритании, Соединенных Штатов или Испании. Генерал Гальбо полагал, что, едва будет решена проблема взаимоотношений белых и мулатов, задавить негров станет достаточно просто — вновь заковать их в цепи и установить прежний порядок. Но ни о чем подобном Этьену Реле он не сказал.
— Расскажите мне о комиссаре Сонтонаксе, подполковник, — попросил Гальбо.
— Он исполняет распоряжения правительства, генерал. Декрет от четвертого апреля предоставил политические права свободным мулатам. Комиссар прибыл сюда с шестью тысячами солдат обеспечить выполнение этого декрета.
— Да-да… Это мне известно. Скажите мне, и это, конечно, конфиденциально, что за человек этот Сонтонакс?
— Я мало его знаю, генерал, но говорят, что он очень умен и серьезно относится к интересам Сан-Доминго.
— Сонтонакс делал заявления, что в его намерения не входит освобождение негров, но до меня доходили слухи, что он сможет на это пойти, — говорил Гальбо, внимательно изучая невозмутимое лицо офицера. — Понятно, что это стало бы концом цивилизации на острове, не так ли? Представьте себе этот хаос: бродящие сами по себе негры, выдворенные белые, мулаты, творящие то, что им вздумается, и брошенная земля.
— Я ничего об этом не знаю, генерал.
— Что делали бы в этой ситуации вы?
— Выполнял бы свои обязанности, как всегда, генерал.
В верных армейских офицерах, чтобы противостоять власти метрополии, Гальбо нуждался, но на Этьена Реле рассчитывать в этом не мог. Он уже знал, что тот был женат на мулатке, вероятно, симпатизировал офранцуженным и, но всей видимости, восхищался Сонтонаксом. Реле показался ему человеком недалеким, со взглядами чиновника и без всяких амбиций, потому что требовалось быть лишенным их начисто, чтобы жениться на цветной женщине. Примечательным было лишь то, что он с таким балластом продвинулся-таки по служебной лестнице. Но Реле его весьма интересовал, поскольку подполковник мог рассчитывать на верность солдат: он был единственным, кому удавалось без проблем смешивать в своих подразделениях белых, мулатов и даже негров. Он спрашивал себя: сколько же стоит этот человек, ведь все имеют какую-то цену.
Тем же вечером в казарме появился Тулуз Вальморен, чтобы поговорить с Реле по-дружески, как сам он и объявил. Начал он с благодарности за спасение своей жизни, когда был вынужден бежать с плантации.
— Я перед вами в долгу, подполковник, — сказал он ему тем тоном, в котором скорее звучали нотки высокомерия, чем благодарности.
— В долгу вы не передо мной, месье, а перед вашей рабыней. Я всего лишь проезжал мимо, а спасла вас она, — ответил Реле, чувствуя себя не слишком удобно.
— Вы впадаете в грех скромности. Скажите, а как ваша семья?
Тут Реле немедленно заподозрил, что Вальморен пришел подкупать его и упоминает семью, чтобы напомнить, что отдал ему Жан-Мартена. Они квиты: жизнь Вальморена за усыновленного ребенка. Он напрягся, как перед боем, вонзил в собеседника взгляд, исполненный тем холодом, который заставлял трепетать его подчиненных, и вознамерился ждать, пока не прояснится, чего же именно хочет от него посетитель. Вальморен проигнорировал и стальной взгляд, и молчание.
— Ни один офранцуженный не может чувствовать себя в этом городе в безопасности, — любезно проговорил он. — Ваша супруга подвергает себя риску, поэтому я и пришел к вам предложить свою помощь. А что касается ребенка… Как его зовут?
— Жан-Мартен Реле, — ответил офицер, не разжимая челюсти.
— Конечно, Жан-Мартен… Извините, столько проблем в голове, что я запамятовал. У меня довольно удобный дом напротив порта, в хорошем квартале, где нет беспорядков. Я могу принять вашу уважаемую супругу и сына…
— За них не стоит беспокоиться, месье. Они на Кубе, в полной безопасности, — прервал его Реле.
Вальморен растерялся: он потерял козырную карту в этой игре, но тут же пришел в себя:
— А! Так там живет мой шурин, дон Санчо Гарсиа дель Солар. Сегодня же напишу ему, попрошу оказать поддержку вашей семье.
— В этом нет необходимости, месье, благодарю.
— Конечно же есть необходимость, подполковник. Одинокая женщина всегда нуждается в защите кабальеро, особенно такая красавица, как ваша супруга.
Побледнев от негодования перед этим замаскированным оскорблением, Этьен Реле встал, показывая, что визит окончен, однако Вальморен продолжал сидеть задрав ноги, словно в собственном кабинете, и продолжил объяснять, вежливо, но без обиняков, что большие белые собираются восстановить контроль над колонией, мобилизовав все доступные им ресурсы, и нужно определиться и встать на чью-либо сторону. Никто, и в особенности военный, занимающий такое высокое положение, не может оставаться безразличным или нейтральным ввиду тех ужасных событий, которые уже имели место, и тех, которые последуют в будущем и станут, без всякого сомнения, еще более серьезными. Армия должна помочь избежать гражданской войны. Англичане уже высадились на юге, и провозглашение Сан-Доминго своей независимости с последующим переходом под британский флаг — вопрос всего нескольких дней. Это может быть сделано либо в цивилизованной форме, либо кровью и огнем, и этот выбор зависит от армии. Офицер, поддерживающий благородное дело независимости, будет обладать немалой властью, станет правой рукой губернатора Гальбо, и пост этот, естественно, повлечет за собой соответствующее финансовое и социальное положение. Никто не посмеет выказать пренебрежение человеку, женатому на цветной женщине, если этот человек является, например, новым главнокомандующим вооруженными силами острова.
— Короче говоря, месье, вы склоняете меня к предательству, — отозвался Реле, не в силах сдержать иронической улыбки, которую Вальморен интерпретировал как открытую для продолжения диалога дверь.
— Речь идет не о предательстве Франции, подполковник Реле, а о выборе того, что является наилучшим решением для Сан-Доминго. Мы переживаем эпоху великих изменений, и не только здесь, но и в Европе и в Америке. Нужно соответствовать обстоятельствам. Дайте мне обещание, что, по крайней мере, вы подумаете над тем, о чем шла речь, — произнес Вальморен.
— Я очень тщательно буду это обдумывать, месье, — ответил Реле, провожая его к дверям.
Зарите
Хозяину понадобилось две недели, чтобы приучить Мориса спать в комнате одного. Он обвинил меня в том, что я вырастила мальчика трусливым, как женщина, а я ему в запальчивости ответила, что мы, женщины, не трусливы. Он поднял руку, но не ударил меня. Что-то изменилось. Думаю, что он проникся ко мне уважением. Однажды в Сен-Лазаре на свободе оказался один из этих страшных сторожевых псов; он в один момент во дворе разодрал на куски курицу и приготовился напасть на другую, когда навстречу этому волкодаву выбежала собачка тетушки Матильды. Эта собачонка размером с кошку встала прямо перед ним, рыча, скаля клыки и исходя слюной. Уж не знаю, что там случилось в башке у этого зверюги, но он повернулся и, поджав хвост, побежал прочь, спасаясь от шавки. После этого Проспер Камбрей пристрелил собаку — за трусость. Хозяин, привыкший громко лаять и внушать страх, сжался, как этот пес, перед первым, кто посмел ему противостоять, — Гамбо. Я думаю, что он был так озабочен храбростью Мориса именно потому, что у него самого с этим были проблемы. Едва спускались сумерки, Морис начинал нервничать от мысли, что ему придется остаться одному. Я укладывала его вместе с Розеттой, пока они не засыпали. Она-то проваливалась в сон за пару минут, прижавшись к брату, а вот он все прислушивался к домашним шумам, к звукам на улице. На площади высились эшафоты для приговоренных к казни, и крики этих несчастных проникали сквозь стены и так и оставались в комнатах: мы слышали их спустя много часов после того, как смерть лишала их голоса. «Ты слышишь их, Тете?» — дрожа, спрашивал меня Морис. Я тоже их слышала, но как же я могла это сказать! «Ничего не слышу, мой мальчик, засыпай», — и пела ему песенки. Когда же он наконец засыпал от изнеможения, я уносила Розетту в нашу комнату. Морис как-то в присутствии отца упомянул, что по дому бродят казненные, и хозяин запер его в шкафу, сунул ключ в карман и ушел. Мы с Розеттой уселись рядом со шкафом и принялись рассказывать ему забавные истории, не оставляли его одного ни на минуту, но призраки проникли-таки внутрь, и когда хозяин вернулся и освободил его, у мальчика уже был сильный жар — от слез. Два дня он пылал в жару, отец не отходил от его постели, а я старалась сбить температуру, прикладывая холодные компрессы и отпаивая его липовым настоем.
Хозяин обожал Мориса, но в то время душа его сбилась на сторону: его интересовала только политика, больше он ни о чем не говорил и перестал заниматься сыном. Морис плохо ел и начал писаться по ночам. Доктор Пармантье, единственный настоящий друг хозяина, сказал, что мальчик болен от страха и что ему нужна ласка; тогда хозяин смягчился, и я смогла забрать ребенка к себе в комнату. В тот раз доктор остался с Морисом, ожидая, пока спадет жар, и мы смогли поговорить наедине. Он задал мне много вопросов. Этьен Реле успел рассказать ему, что я помогла хозяину уйти с плантации, но эта версия никак не стыковалась с тем, что говорил хозяин. Доктор хотел знать подробности. Мне пришлось упомянуть Гамбо, но о нашей любви рассказывать я не стала. Я показала ему и свою вольную. «Береги ее, Тете, эта бумага — золотая», — сказал он мне, прочитав ее. Но это я уже и так знала.
Хозяин в своем доме устраивал собрания белых. Мадам Дельфина, моя первая хозяйка, научила меня быть молчаливой, внимательной и предугадывать желания хозяев — рабыня должна быть невидимой, говаривала она. Так я выучилась шпионить. Я не слишком-то понимала, о чем говорит хозяин с патриотами, и меня на самом деле интересовали только новости о восставших, но Захария, чьей приятельницей я продолжала быть и после окончания учебы в доме интенданта, просил меня, чтобы я повторяла все, что они говорили. «Белые думают, что мы, негры, глухи, а женщины — глупы. Это нам очень на руку. Прислушивайтесь и рассказывайте мне, что услышали, мадемуазель Зарите». От Захарии я узнала, что вокруг Ле-Капа стояли лагерем тысячи мятежников. Искушение отправиться на поиски Гамбо не давало мне уснуть, но я знала, что вернуться после этого уже не смогу. А как я могла оставить моих деток? Я попросила Захарию, у которого связи были даже с луной, чтобы он разузнал, был ли среди мятежников Гамбо, но он меня заверил, что никаких сведений об этих мятежниках получить не может. И мне пришлось довольствоваться тем, что свои сообщения Гамбо я отсылала силой мысли. Иногда я вынимала из сумочки свою вольную, разворачивала все ее восемь линий сгиба кончиками пальцев, чтобы не повредить бумагу, и разглядывала ее, словно могла выучить текст наизусть, хотя я даже букв не знала.
В Ле-Капе разразилась гражданская война. Хозяин объяснил мне, что на обычной войне, все воюют против одного общего врага, а на гражданской — люди разделяются, и армия тоже, и тогда они убивают друг друга, что и происходит сейчас между белыми и мулатами. Негры в расчет не принимались — они были не люди, а собственность. Гражданская война случилась не с вечера до утра, она длилась больше недели, и тогда-то прекратились и рынки, и негритянские календы, и светская жизнь белых. Очень редкие лавки открывали свои двери, и даже эшафоты на площади опустели. Несчастье висело в воздухе. «Приготовься, Тете, ситуация вот-вот изменится», — объявил мне хозяин. «И как же мне готовиться?» — задала я вопрос, но он и сам понятия не имел. И я поступила, как Захария, который запасал провизию и паковал самые ценные вещи на тот случай, если интендант с супругой решат погрузиться на отходящий во Францию корабль.
Однажды вечером через черный ход в дом принесли ящик, набитый пистолетами и мушкетами. Теперь оружия у нас на целый полк хватит, сказал хозяин. Жара усиливалась, в доме мы обрызгивали плиточные полы, а дети бегали голышом. И вот тут неожиданно, без предупреждения, явился генерал Гальбо, которого я с трудом узнала, хотя он много раз присутствовал на собраниях патриотов: одет он был не в яркий мундир, увешанный медалями, а в темный дорожный костюм. Этот белый никогда мне не нравился, он был слишком высокомерным, всегда в дурном настроении и смягчался только тогда, когда его крысиные глазки останавливались на его жене, молодой рыжеволосой красавице. Пока я подносила им вино, сыр и холодное мясо, мне удалось услышать, что комиссар Сонтонакс сместил губернатора Гальбо, обвинив его в ведении секретных переговоров с целью свержения законного правительства колонии. Сонтонакс планировал масштабную депортацию своих политических противников: уже около пятисот арестованных сидели в трюмах стоящих в порту кораблей, которые только ждали приказа Сонтонакса, чтобы поднять якорь. Гальбо объявил, что настало время действовать.
Вскоре пришли и другие патриоты, которых успели оповестить. Я услышала, что белые солдаты регулярной армии, а также почти три тысячи моряков в порту были готовы к борьбе на стороне Гальбо. Сонтонакс же мог рассчитывать только на поддержку национальной гвардии и цветной части армии. Генерал обещал, что бой продлится недолго, все решится за несколько часов и Сан-Доминго получит независимость. Сонтонакс проживет свой последний день, права офранцуженных будут аннулированы, а рабы вернутся на плантации. Все встали, чтобы за это выпить. Я снова наполнила бокалы, тихо вышла и побежала к Захарии, который заставил меня повторить все слово в слово. Память у меня хорошая. Чтобы я успокоилась, он дал мне глотнуть лимонада и отправил обратно, велев держать рот на замке и запереть дом на засов. Так я и сделала.
Гражданская война
Комиссар Сонтонакс, обливаясь потом от жары и волнения в своем черном сюртуке и сорочке с тесным воротничком, в двух словах описал сложившееся положение Этьену Реле. Однако он опустил тот факт, что узнал о заговоре Гальбо не через свою сложную шпионскую сеть, а благодаря рассказу мажордома интендантства. К нему в контору пришел очень высокий и очень красивый негр, одетый как большой белый, такой свежий и благоухающий, словно он только что вышел из ванной. Представился он Захарией и стал настаивать на разговоре с глазу на глаз. Сонтонакс провел его в соседнюю комнату — удушливую каморку, без окон с четырьмя голыми стенами, походной койкой, стулом, кувшином воды и тазиком на полу. Уже несколько месяцев эта комната служила комиссару спальней. Он сел на кровать и указал посетителю на единственный стул, но тот предпочел остаться стоять. Сонтонакс, который был невысок ростом и отличался излишней полнотой, с невольной завистью отметил статность и стройность фигуры своего посетителя, задевавшего головой потолок. Захария повторил ему слова Тете.
— Почему вы мне это рассказываете? — недоверчиво поинтересовался Сонтонакс.
Ему не удавалось отнести этого человека, представившегося по имени, без фамилии, ни к одному из известных классов: он не был похож на раба, поскольку отличался апломбом свободного и манерами человека высшего общества.
— Потому что я симпатизирую республиканскому правительству, — прозвучал простой ответ Захарии.
— Каким образом была получена эта информация? Есть ли у вас доказательства?
— Информация исходит напрямую от генерала Гальбо. А доказательства вы получите менее чем через час, когда услышите первые выстрелы.
Сонтонакс смочил в кувшине носовой платок и обтер им лицо и шею. У него болел живот — той самой глухой и неотступной болью, когтистой лапой в кишках, которая обычно мучила его в напряженных ситуациях, то есть с тех самых пор, как он в первый раз ступил на землю Сан-Доминго.
— Приходите ко мне, если узнаете что-то еще. Я приму необходимые меры, — сказал он, давая понять, что разговор завершен.
— Если я вам понадоблюсь, вы знаете, что меня всегда можно найти в доме интенданта, комиссар, — прозвучали прощальные слова Захарии.
Сонтонакс приказал немедленно вызвать Этьена Реле и принял его в той же комнатушке, поскольку все остальные помещения здания кишели гражданскими и военными чиновниками. Реле, самый высокопоставленный офицер, на кого мог рассчитывать комиссар в своем противостоянии Гальбо, в своих действиях всегда проявлял неукоснительную верность очередному французскому правительству.
— Наблюдаются ли случаи дезертирства среди белых солдат, подполковник? — спросил он его.
— Только что я получил информацию, что сегодня на рассвете дезертировали все, комиссар. На данный момент я могу рассчитывать исключительно на подразделения, сформированные из мулатов.
Сонтонакс повторил ему все то, что только что рассказал Захария.
— Другими словами, нам придется воевать с самыми разными белыми, и гражданскими, и военными, плюс моряки Гальбо, а их три тысячи, — подытожил комиссар.
— Мы в очень незавидном положении, комиссар. Нам понадобится подкрепление, — сказал Реле.
— У нас его нет. Организация обороны поручается вам, подполковник. После победы я займусь вашим повышением по службе, — пообещал ему Сонтонакс.
Реле принял поручение с обычной своей серьезностью, предварительно проведя с комиссаром переговоры насчет того, чтобы вместо повышения ему было позволено выйти в отставку. Службе он отдал уже много лет, и, честно говоря, на большее его уже не хватает; жена и сын ждут его на Кубе, и он дождаться не может того часа, когда окажется рядом с семьей, сказал он комиссару. Сонтонакс заверил его, что так и будет, хотя не имел ни малейшего намерения исполнять обещание: не такова была ситуация, чтобы заниматься чьими бы то ни было личными проблемами.
А море меж тем превратилось в муравейник: оно кишело набитыми вооруженными матросами шлюпками, которые атаковали Ле-Кап, подобно пиратским ордам. Это была весьма странная многонациональная компания: толпа не признающих никаких законов людей, которые провели в открытом море многие месяцы и теперь предвкушали несколько дней шумного кутежа и вседозволенности. Сражаться они намеревались не за какие-то там убеждения, поскольку даже не были уверены в том, на чьей стороне выступают, а из чистого удовольствия ступить на твердую землю и предаться погромам и грабежам. Им уже давно не платили жалованья, а этот богатый город предлагал им все — от женщин и рома до золота, если они сумеют его найти.
Гальбо при организации нападения надеялся на свой военный опыт, а также на регулярные белые войска, которые незамедлительно встали на его сторону, устав от унижений, причиняемых цветными офицерами. Большие белые никак не проявлялись, в то время как маленькие белые и матросы обходили за кварталом квартал, сшибаясь с кучками рабов, которые воспользовались ситуацией, чтобы тоже пограбить. Негры провозглашали себя сторонниками Сонтонакса, чтобы бросить вызов своим хозяевам и насладиться несколькими веселыми часами, хотя им было абсолютно безразлично, кто победит в этой драке, в которую они вовлечены не были. Обе группы погромщиков напали на портовые склады, где хранились приготовленные для транспортировки бочки с ромом, и скоро уже спиртное рекой текло по уличным мостовым. Между пьяными бегали крысы и растерянные собаки: налакавшись рома, они оступались и падали. Семьи офранцуженных забаррикадировались в своих домах, пытаясь защищаться по мере своих возможностей.
Тулуз Вальморен отпустил своих рабов, поскольку они в любом случае сбежали бы, как поступило большинство. Лучше не иметь врага в доме, как пояснил он Тете. Рабы были не его собственными, а взятыми напрокат, и проблема их возвращения ложилась на плечи их хозяев. «На коленях приползут, когда все войдет в норму. И в тюрьме сильно прибавится работы», — добавил он. Хозяева в городе предпочитали не пачкать себе руки и отсылали провинившихся рабов в тюрьму, чтобы государственные палачи взяли на себя труд наказать их за весьма умеренную плату. Но повар уходить не захотел и спрятался в дровяном сарае во дворе. Никакими угрозами невозможно было извлечь его из того угла, в который он забился. На него нельзя было рассчитывать даже по части супа, и Тете, которая едва умела разжигать огонь, потому что среди ее многочисленных обязанностей никогда не значилась готовка, была вынуждена покормить детей хлебом, фруктами и сыром. Она рано уложила их спать, стараясь выглядеть спокойной, чтобы не испугать, хотя сама просто дрожала от страха. В последующие часы Вальморен учил ее заряжать огнестрельное оружие — работа непростая, которую любой солдат исполнял за считаные секунды, а у нее это дело занимало несколько минут. Вальморен роздал часть своего оружия другим патриотам, но и себе оставил дюжину — для защиты. В глубине души он был уверен, что необходимости использовать оружие у него не возникнет: не его это дело — сражаться, на это существуют солдаты и матросы Гальбо.
Вскоре после захода солнца три молодых заговорщика, которых Тете частенько видела на политических собраниях, появились с известием, что Гальбо взял арсенал и освободил арестованных, которых Сонтонакс держал на кораблях для последующей депортации, и, естественно, все они поступили в распоряжение генерала. Решено было использовать дом как казарму, в силу его выгодного расположения: он хорошо был заметен из порта, а там можно было рассчитывать на корабли и бесчисленные шлюпки, постоянно перевозящие людей. Перекусив, они отправились сражаться — так они выразились, — но энтузиазма хватило ненадолго: не прошло и часа, как они вернулись обратно, чтобы распить несколько бутылок вина и, установив очередь, улечься спать.
В окна было видно, как прошла толпа погромщиков, но прибегнуть к оружию для защиты дома его обитателям пришлось всего раз, да и то не против негритянских банд или солдат Сонтонакса, а против собственных союзников — группы пьяных матросов, вознамерившихся заняться грабежом. Их отпугнули, выпустив в воздух несколько пуль, а Вальморен и вовсе утихомирил, предложив тафии. Одному из патриотов пришлось высунуть нос на улицу, выкатывая бочку ликера, а другие тем временем держали эту шантрапу на мушке, высунув из окон мушкеты. Матросы тут же откупорили бочку, и после первого же глотка кое-кто свалился на мостовую в последней стадии опьянения: пили-то они с самого утра. Наконец они убрались, возвещая громкими криками, что предполагавшаяся битва — настоящее фиаско, ведь биться-то им было не с кем. И это было верно. Большая часть войск Сонтонакса покинула улицы, не вступая в схватку, и теперь войска стояли в окрестностях города.
Утром следующего дня Этьен Реле, с пулей в плече, но и в окровавленной форме твердо стоящий на ногах, в очередной раз объяснял Сонтонаксу, который переместился со своим Главным штабом на одну из близлежащих плантаций, что без дополнительной помощи разгромить врага они не смогут. Нападение уже не напоминало карнавал, как в первый день: Гальбо удалось организовать своих людей, и он уже практически овладел городом. Накануне вспыльчивый комиссар отказался слушать аргументы, даже когда уже стало очевидным подавляющее превосходство сил противника, но на этот раз он выслушал Реле до конца. Информация Захарии подтверждалась практически буквально.
— Мы будем вынуждены вести переговоры о достойной капитуляции, комиссар, поскольку я не вижу, откуда можно взять подкрепление, — резюмировал Реле, бледный, с темными кругами под глазами, с примотанной к груди рукой на кое-как состряпанной перевязи и свисающим пустым рукавом мундира.
— Я знаю, подполковник Реле. И я хорошо это обдумал. Под Ле-Капом лагерями стоят более пятнадцати тысяч мятежников. Они и станут тем подкреплением, в котором мы так нуждаемся, — ответил Сонтонакс.
— Негры? Не думаю, что они захотят вмешаться в это дело, — высказался Реле.
— Они это сделают — в обмен на освобождение. На свободу для них и их семей.
Эта идея принадлежала не ему, она пришла в голову Захарии, которому удалось увидеться с комиссаром во второй раз. К тому времени Сонтонакс уже навел справки и точно знал, что Захария — раб, и понял, что тот поставил на кон свою жизнь, потому что если бы победил Гальбо, что выглядело уже неизбежным, и если бы стало известно о его роли информатора, то он был бы разъят на куски — прилюдно колесован на площади. Как объяснил Захария, единственным подкреплением, которое мог заполучить Сонтонакс, были мятежные негры. Только нужно предложить им достаточный стимул.
— Кроме того, они получат право на добычу в городе. Что вы думаете об этом, подполковник? — с видом триумфатора заявил Сонтонакс Реле.
— Рискованно.
— Сотни тысяч восставших негров рассеяны по острову, а я добьюсь того, чтобы они присоединились к нам.
— Большая их часть сейчас на испанской стороне, — напомнил ему Реле.
— В обмен на свободу они встанут под французское знамя, уверяю вас. Я знаю, что Туссен, между нами, желает вернуться в лоно Франции. Наберите небольшой отряд чернокожих солдат и сопроводите меня для переговоров с мятежниками. И поберегите руку, братец, как бы не было воспаления.
Этьен Реле, не веривший в успех этого плана, был изумлен, увидев, с какой быстротой восставшие негры приняли их предложение. Белые не раз их предавали, тем не менее они уцепились за эту слабую надежду освобождения. Разграбление города было почти таким же мощным стимулом, как и свобода, потому что они уже неделями сидели без дела и тоска начинала разъедать их души.
Кровь и пепел
Тулуз Вальморен первым с высоты своего балкона увидел черную массу, катившуюся на город с холма. Он не сразу понял, что это такое, ведь зрение его было уже не таким острым, как раньше; к тому же в воздухе висела дымка, а очертания предметов как бы подрагивали от жары и влаги.
— Тете! Иди сюда, — позвал Вальморен. — Скажи мне, что это там такое!
— Негры, месье. Тысячи негров, — ответила она, не удержавшись от дрожи — смеси ужаса перед тем, что на них надвигалось, и надежды на то, что среди них был Гамбо.
Вальморен разбудил храпевших в зале патриотов и отправил их объявить тревогу. Вскоре горожане бросились по домам, закрывая за собой на засовы окна и двери, в то время как люди генерала Гальбо приходили в себя после попойки и спешно готовились к битве, проигранной еще до ее начала, хотя в тот момент они этого еще не знали. На каждого белого солдата приходилось пятеро негров, и эти негры надвигались, воспламененные безумным мужеством, источником которого был Огун. Сначала послышался ужасающий шквал визга, воинственных воплей и режущего слух воя военных раковин, громкость которого все возрастала. Мятежники оказались гораздо более многочисленны и находились гораздо ближе, чем кто-либо мог заподозрить. Они обрушились на Ле-Кап в сопровождении оглушительного шума, почти голые, плохо вооруженные, без порядка и согласованности, готовые сровнять с землей буквально все. Теперь они могли отомстить за себя и отвести душу, разрушая все вокруг при полной безнаказанности. В мгновение ока появились сотни факелов, и город превратился в единый язык пламени: деревянные дома загорались один от другого, улица за улицей, целыми кварталами. Стало невыносимо жарко, небо и море расцвели красными и оранжевыми красками. Среди потрескивания пламени и грохота разваливающихся в дыму домов ясно слышались триумфальные крики негров и проникнутые животным ужасом — их жертв. Улицы наполнились телами, попираемыми и ногами атакующих, от которых в панике бежали их жертвы, и копытами тысяч сбившихся в кучи лошадей, вырвавшихся из конюшен. Никто не мог оказывать сопротивление подобному натиску. Большая часть матросов была уничтожена в первые же часы. Однако регулярные войска Гальбо еще пытались спасти белое гражданское население. Тысячи беглецов устремились к порту. Некоторые пытались нагрузиться узлами, но через несколько шагов бросали их, подгоняемые спешкой бегства.
Из окна второго этажа Вальморен имел возможность с одного взгляда оценить ситуацию. Пожар был уже близко, и одной искры хватило бы, чтобы дом его превратился в костер. По боковым улочкам бежали банды блестящих от пота и крови негров, без всяких колебаний бросающихся на оружие тех немногих солдат, что еще стояли на ногах. Атакующие падали дюжинами, но сзади уже напирали другие, перепрыгивая через груды тел своих товарищей. Вальморен увидел толпу негров, которые окружили белую семью, пытавшуюся добраться до мола: две женщины и несколько ребятишек под защитой пожилого мужчины, по всей видимости отца семейства, и пары юношей. Белые, вооруженные пистолетами, смогли сделать по одному выстрелу в упор, но тут же их поглотила черная орда, и они исчезли. Пока несколько негров повыше поднимали за волосы отрезанные головы, другие выбили дверь уже занявшегося с крыши дома и устремились туда с громкими воплями. И тут же полетели из окон обезглавленное тело женщины, потом мебель и пожитки, пока самих нападавших из дома не выгнали языки пламени. Через несколько секунд Вальморен услышал первые удары в парадную дверь теперь уже своего дома. Ужас, сковавший его, не был для него внове — это чувство ему уже случилось пережить, оно было точно таким же, как когда он бежал с плантации, следуя за Гамбо. Он отказывался понимать, как все могло так быстро перевернуться, как совместное буйство пьяных матросов и белых солдат на улицах, которое, как уверял Гальбо, продлится всего несколько часов и закончится несомненной победой, сменилось этим кошмаром разъяренных негров. Пальцы, которыми он сжимал оружие, были так сведены судорогой, что стрелять он все равно не смог бы. Его заливал кислый нот, зловоние которого было узнаваемо: это запах бессилия и ужаса истязаемых Камбреем рабов. Он чувствовал, что жребий его брошен, как у рабов на его плантации, и выхода у него нет. Накатила сильная тошнота и невыносимое желание забиться в угол в параличе отталкивающей трусости. Горячая жидкость смочила панталоны.
Тете стояла посреди комнаты: в складках юбки спрятались дети, в обеих руках — пистолет дулом вверх. Надежду на встречу с Гамбо она уже потеряла, потому что, даже если он сейчас и в городе, ему не удастся добраться до нее раньше, чем этому отребью. Одной защитить Мориса и Розетту ей не под силу. Увидев, как Вальморен обмочил от страха штаны, она поняла, что ее жертва — расставание с Гамбо — была напрасной, потому что хозяин не способен их уберечь. Лучше было бы пойти вместе с мятежниками и рискнуть взять детей с собой. Картина того, что вот-вот произойдет с ее детьми, придала ей безоглядное мужество и ужасающее спокойствие тех, кто готов умереть. Порт был всего в двух кварталах, и, хотя это расстояние казалось в данных обстоятельствах непреодолимым, другого пути к спасению не было. «Мы выйдем сзади, через черный ход», — заявила твердым голосом Тете. Главная дверь гудела от ударов, уже слышался звон разбиваемых окон первого этажа, но Вальморен полагал, что внутри они будут в большей безопасности, может, им удастся где-нибудь спрятаться. «Они подожгут дом. Я беру детей и ухожу», — сказала она, повернувшись к нему спиной. В эту секунду Морис высунул свою перепачканную слезами и соплями мордочку из складок юбки Тете и побежал обнять отца за ноги. По Вальморену пробежала судорога любви к этому мальчику, и он вдруг осознал всю постыдность своего состояния. Он никак не мог допустить того, что если сын его каким-то чудом выживет, то будет вспоминать отца трусом. Он глубоко вздохнул, стараясь унять в теле дрожь, засунул за пояс один пистолет, взвел курок у другого, взял Мориса за руку и почти волоком потащил его вслед за Тете, которая, с Розеттой на руках, уже спускалась по узкой винтовой лестнице, соединявшей второй этаж с комнатами прислуги в подвале.
Через дверь для прислуги они вышли на заднюю улочку, усеянную обломками и осколками, покрытую пеплом от горящих домов, но безлюдную. Вальморен чувствовал, что ничего здесь не знает, он никогда не пользовался ни этой дверью, ни этим переулком и не знал, куда он ведет, но Тете шла вперед уверенно, прямиком в самое пекло битвы. В тот самый момент, когда встреча с разъяренной толпой казалась уже неминуемой, они услышали выстрелы и увидели небольшой отряд регулярных войск Гальбо, которые уже не пытались спасти город, а отступали к кораблям, обороняясь. Они стреляли, подчиняясь приказу, спокойные, не сминая рядов. Мятежные негры занимали часть улицы, но пули держали их на расстоянии. Тогда-то Вальморен в первый раз обрел способность к здравым суждениям и понял, что для колебаний нет ни секунды. «Бегом! Вперед!» — крикнул он. Они бросились вслед за солдатами, просочились сквозь их ряд и вот так, прыгая между лежащими телами и горящими обломками, преодолели пару самых длинных в их жизни кварталов вслед за прокладывающим им дорогу огнестрельным оружием. Не понимая, как это случилось, они оказались в порту, освещенном, как в ясный полдень, пламенем пожара. Там уже скопились тысячи беженцев, которые все прибывали. Несколько рядов солдат защищали белых, стреляя в наступавших с трех сторон негров, а между тем народ отчаянно сражался за место в оставшихся шлюпках. Организацией отступления никто не занимался — это была объятая страхом толпа. В отчаянии некоторые бросались в воду и пытались добраться до кораблей вплавь, но море кишело акулами, привлеченными запахом крови.
Тут появился генерал Гальбо, верхом, с женой на крупе лошади, в окружении небольшого отряда преторианской гвардии, который служил ему защитой и расчищал путь, колотя прикладами по толпе. Атака негров застала Гальбо врасплох; это было последнее, чего он мог ожидать, но он сразу же понял, что ситуация коренным образом изменилась и единственное, что ему оставалось, — попытаться спастись. Времени ему хватило ровно на то, чтобы забрать жену, которая уже несколько дней лежала в постели, приходя в себя после приступа малярии, и понятия не имела о том, что происходило за стенами дома. Она была в дезабилье, прикрыта лишь шалью, босая, волосы собраны в косу за спиной, на лице — отсутствующее выражение, словно она не воспринимала ни боя, ни пожара. Каким-то чудом она добралась до этого места невредимой, в то время как у мужа ее были подпалены борода и шевелюра, а одежда порвана и покрыта пятнами крови и сажи.
Вальморен бросился к генералу, вынимая на ходу пистолет, смог пробраться между гвардейцами, встал перед мордой лошади и схватился свободной рукой за ногу офицера. «Лодку! Лодку!» — умолял он того, кого считал своим другом, но Гальбо ответил, отпихнув его ногой в грудь. Волна ярости и отчаяния накрыла Вальморена. Он отбросил ходули хороших манер, которые служили ему поддержкой все сорок три года его жизни, и превратился в загнанного дикого зверя. С небывалой для себя силой и ловкостью он подпрыгнул, схватил за талию генеральскую супругу и одним резким движением сдернул ее с коня. Женщина упала, разметав ноги, на горячую мостовую, и, прежде чем охрана генерала успела отреагировать, Вальморен приставил к ее голове пистолет. «Лодку, или я пристрелю ее на месте!» — пригрозил он с таким убеждением в голосе, что ни у кого не возникло сомнений в том, что он так и сделает. Гальбо остановил своих солдат. «Хорошо, дружище, успокойтесь, я достану вам лодку», — произнес он хриплым от дыма и пороха голосом. Вальморен схватил женщину за косу, поднял ее с земли и заставил идти впереди себя, приставив к затылку дуло пистолета. Шаль осталась лежать на земле, и сквозь тонкую ткань сорочки, просвечивающей в огненном свете этой бесовской ночи, виднелось ее тонкое, подвешенное в воздухе на косе тело, продвигавшееся вперед толчками, на кончиках пальцев. Так они добрались до ожидавшей Гальбо лодки. В последний момент Гальбо попытался торговаться — место было только для Вальморена и его сына — и привел свой аргумент: не могут же они оказать предпочтение мулатке, в то время как тысячи белых отталкивают друг друга, стремясь сесть в лодку. Вальморен выставил генеральскую жену на край мола, над красными от отблесков огня и крови волнами. Гальбо понял, что при его малейшем колебании этот обезумевший человек бросит ее на корм акулам, и сдался. Вальморен со своими домашними сел в лодку.
Помочь умереть
Спустя месяц на развалинах Ле-Капа, представлявших собой груды покрытых пеплом обломков, Сонтонакс провозгласил освобождение рабов в Сан-Доминго. Без их поддержки он не мог бороться со своими внутренними врагами и с англичанами, к тому времени уже оккупировавшими южную часть острова. В тот же самый день Туссен в своем лагере на испанской территории также объявил об освобождении. Под документом он поставил подпись: Туссен-Лувертюр — имя, под которым и вошел в историю. Ряды его сторонников все множились, он обладал большим влиянием, чем любой другой вождь мятежников, и к тому времени уже подумывал сменить знамя, потому что только республиканская Франция признает свободу его народа, которую ни одна другая страна не была расположена терпеть.
Захария ждал этого с тех пор, как вошел в разум. И с тех пор он жил с неотступным желанием свободы, хотя его отец и взял на себя труд с самой колыбели вытравливать из сына гордость, подсказанную позицией мажордома — должностью, которую обычно занимали белые. Захария снял униформу опереточного адмирала, взял свои сбережения и поднялся на борт первого корабля, снимавшегося с якоря в тот день, даже не спросив, куда направляется судно. Он осознал, что освобождение рабов — не более чем карта в политической игре, которая в любой момент могла быть отозвана, и решил, что не желает находиться в Сан-Доминго, когда это случится. За столько лет, проведенных бок о бок с белыми, он досконально их изучил и предположил, что если во Франции на ближайших выборах в Национальное собрание победят монархисты, они сместят Сонтонакса с его поста, проголосуют против освобождения и неграм в колонии вновь придется бороться за свободу. А он не желал приносить себя в жертву: война виделась ему безумным расточительством ресурсов и жизней — самым неразумным методом разрешения политических конфликтов. В любом случае его опыт мажордома не имел никакой ценности на этом острове, опустошаемом насилием еще со времен Колумба, и следовало воспользоваться случаем, чтобы открыть для себя другие горизонты. Ему было тридцать восемь лет, и он был готов начать жизнь с начала.
Этьен Реле узнал о двойном провозглашении отмены рабства за несколько часов до смерти. Его рана в плечо быстро воспалилась в те дни, в которые был разграблен и выжжен до фундаментов Ле-Кап, и когда он наконец смог ею заняться, гангрена уже началась. Доктор Пармантье, все эти дни без отдыха лечивший сотни раненых с помощью монахинь, выживших после изнасилований, осмотрел его, когда было уже поздно. У Реле была раздроблена ключица, а расположение раны не позволяло прибегнуть к такой крайности, как ампутация. Средства, которым доктор выучился у тетушки Розы и других лекарей, также оказались в этом случае бессильны. Этьен Реле повидал на своем веку множество самых разных ран, и по тому, как пахла его собственная, знал, что умирает; но более всего он сожалел о том, что уже не сможет защищать Виолетту от тех напастей, что сулит ей будущее. Лежа ничком на голых досках госпитальной койки, он тяжело дышал, покрытый липким потом агонии. Боль его для любого другого была бы невыносима, но он за свою жизнь получил немало ран, жизнь его всегда была полна лишений, и он был исполнен стоическим презрением к низким телесным потребностям. Он не жаловался. Закрыв глаза, он вызывал в памяти образ Виолетты: ее свежие руки, ее хрипловатый смех, ее ускользающую талию, просвечивающие ушки, темные соски и улыбался, чувствуя себя в этом мире самым счастливым мужчиной, ведь он четырнадцать лет обладал Виолеттой — влюбленной, прекрасной, вечной, его собственной. Пармантье не пытался отвлечь его, ограничившись лишь тем, что предложил ему выбор: опий, как единственно доступное обезболивающее, или смертоносную микстуру, способную положить конец этой пытке за несколько минут. Этот выход он, будучи врачом, не должен бы был даже упоминать, но на этом острове он стал свидетелем таких страданий, что клятва спасать жизнь любой ценой потеряла для него всякий смысл: в некоторых случаях более этично помочь человеку умереть. «Яд, если только он не понадобится другому солдату», — сделал свой выбор раненый. Доктор низко склонился, чтобы расслышать его слова, — голоса не было, только шепот. «Найдите Виолетту, передайте ей, что я люблю ее», — прибавил Этьен Реле, пока его собеседник еще не вылил ему в рот содержимое флакона.
В этот момент на Кубе Виолетта Буазье ударилась правой рукой о каменную чашу фонтана, куда пришла за водой, и опал в ее перстне, который она не снимала четырнадцать лет, треснул. Она так и села возле фонтана, испустив приглушенный крик и прижав руку к сердцу. Адель, которая была рядом, подумала, что ее укусил скорпион. «Этьен, Этьен…» — шептала Виолетта, обливаясь слезами.
В пяти кварталах от фонтана, где Виолетта узнала, что она осталась вдовой, Тете стояла под навесом в саду лучшего отеля Гаваны рядом со столиком, за которым Морис и Розетта пили ананасовый сок. Ей не позволялось сидеть в присутствии других гостей, как и Розетте, но девочка сходила за испанку: никто не подозревал о ее истинном происхождении. Морис же способствовал этому обману, обращаясь с ней как с младшей сестрой. За другим столом Тулуз Вальморен беседовал со своим шурином Санчо и его банкиром. Флот с беженцами, который генерал Гальбо вывел из Ле-Капа в ту роковую ночь, подняв все паруса, взял курс на Балтимор, осыпаемый дождем пепла, но некоторые из ста кораблей направились на Кубу, увозя на своем борту тех больших белых, у которых на острове имелись семьи или коммерческие интересы. Одним прекрасным утром на острове высадились тысячи французских семей, намереваясь переждать там политические неурядицы Сан-Доминго. Они были встречены со щедрым гостеприимством кубинцами и испанцами, которые никогда не думали, что перепуганные гости могут со временем превратиться в постоянных эмигрантов. С ними и прибыли Вальморен, Тете и дети. Санчо Гарсиа дель Солар привел их в свой дом, который за эти годы, в отсутствие хоть кого-нибудь, кто взялся бы его поддерживать, пришел в еще большее запустение. Заметив тараканов, Вальморен предпочел поселиться с семьей в лучшем отеле Гаваны, где он с Морисом занимал самый дорогой номер люкс с двумя балконами, обращенными к морю, а Тете с Розеттой спали в комнатушке с земляным полом без окон, предназначенной для рабов, сопровождавших в путешествиях своих хозяев.
Санчо вел беззаботную жизнь завзятого холостяка. Он тратил больше того, что мог себе позволить, на вечеринки, женщин, лошадей и за игорным столом, но, как и в юности, все еще мечтал сколотить состояние и вернуть своей фамилии престиж времен его дедов. Он постоянно охотился за удобными для инвестиций случаями. Собственно, именно так пару лет назад и пришла ему в голову мысль купить земли в Луизиане — на средства Вальморена. Его собственный вклад в предприятие заключался в коммерческом таланте, связях и работе, но при условии, что ее не будет слишком много, как он сказал как-то раз со смехом. Роль зятя заключалась во вложении капитала. С тех пор как эта идея обрела конкретные очертания, Санчо стал довольно часто ездить в Новый Орлеан и купил участок на берегах реки Миссисипи. Вначале Вальморен относился к этому проекту как к сумасшедшей затее, но теперь эта земля была той единственной собственностью, которую он надежно держал в руках, и он вознамерился превратить эту заброшенную землю в огромную плантацию по производству сахара. В Сан-Доминго он потерял довольно много, но кое-какие ресурсы у него еще имелись — благодаря инвестициям, совместным с Санчо делам, а также хорошему коммерческому чутью его еврея-агента и банкира на Кубе. Именно такую версию он изложил Санчо и намеревался предложить любому другому, кто имел бы нескромность задавать ему подобного рода вопросы. Однако наедине, перед зеркалом, он не мог отделаться от правды, которая обвиняла его из глубины его собственных глаз: большая часть этого капитала принадлежала не ему, а Лакруа. Он повторял себе, что совесть его чиста, потому что он никогда не старался ни нажиться на трагедии своего друга, ни завладеть этими деньгами — они просто с неба свалились ему прямо в руки. Когда семья Лакруа была уничтожена мятежниками в Сан-Доминго, а расписки в получении денег, подписанные когда-то его рукой, сгорели во время пожара, он оказался владельцем счета в золотых песо, который он сам и открыл в Гаване, чтобы сохранить сбережения Лакруа по его же просьбе. Вальморен был единственным, кому было известно о существовании этого счета. При каждой поездке на Кубу он привозил деньги, передаваемые ему соседом, и его банкир клал их на счет, имевший только номер. Банкир ничего не знал о Лакруа и не стал возражать, когда позже Вальморен перевел деньги с этого номерного счета на свой именной, ведь он исходил из предположения, что деньги принадлежат Вальморену. У Лакруа во Франции имелись наследники, имевшие полное право на эти деньги, но Вальморен обдумал ситуацию и решил, что не его дело было их разыскивать и что было бы глупо держать золото похороненным в подвале банка. Это был один из тех редких случаев, когда удача стучит в дверь, и только полный дурак позволит ей пройти мимо.
Двумя неделями позже, когда новости из Сан-Доминго не оставляли уже никаких сомнений в воцарившейся на острове кровавой анархии, Вальморен решил ехать в Луизиану вместе с Санчо. Жизнь в Гаване оказалась весьма веселой для тех, кто расположен тратить деньги, но разумный человек не может бесконечно терять время. Вальморен хорошо понимал, что если будет и дальше следовать за Санчо из игорного притона в притон и из борделя в бордель, то дело кончится тем, что он растратит и свои сбережения, и свое здоровье. Гораздо лучше будет увезти этого очаровательного родственника подальше от его друзей-приятелей и дать ему в руки дело, соразмерное его амбициям. Плантация в Луизиане сможет разжечь в Санчо тлеющие угли моральных устоев, которыми обладает каждый, думал он. За эти годы он проникся любовью старшего брата к этому человеку, недостатки и достоинства которого у него самого напрочь отсутствовали. Поэтому они и ладили. Санчо был говорлив, склонен к авантюризму, обладал богатым воображением и недюжинной смелостью. Он был одним из тех, что могут одинаково успешно общаться накоротке с князьями и корсарами, а также неотразимы для женщин, — известный тип ветреного сердцееда. Вальморен не считал Сен-Лазар потерянным навсегда, но, до тех пор пока не представится возможность вернуть себе плантацию, он решил сконцентрировать свою энергию на затее Санчо в Луизиане. Политика его больше не интересовала: фиаско Гальбо послужило хорошим уроком. Пришло время снова взяться за производство сахара — единственное, что он умел.
Наказание
Вальморен уведомил Тете, что через два дня они отплывают на американской шхуне, и дал ей денег, чтобы она купила семье одежду.
— Что с тобой такое? — спросил он, увидев, что женщина не шевельнулась, чтобы взять кошель с монетами.
— Извините, месье, но… у меня нет желания ехать в это место, — прошептала она.
— Что ты такое несешь, идиотка? Слушайся и помалкивай!
— Моя вольная там тоже действует? — осмелилась поинтересоваться Тете.
— Так тебя это беспокоит? Конечно действует, и там, и где угодно. На ней моя подпись и печать, она имеет силу даже в Китае.
— Луизиана ведь очень далеко от Сан-Доминго, верно? — не отступалась Тете.
— Мы не собираемся возвращаться в Сан-Доминго, если ты об этом думаешь. Тебе мало всего того, что нам пришлось там пережить? Да ты еще глупее, чем я думал! — воскликнул в раздражении Вальморен.
Тете, опустив голову, пошла собираться в дорогу. Деревянная кукла, которую когда-то в детстве выточил для нее раб Оноре, осталась в Сен-Лазаре, а именно сейчас этот талисман на удачу был ей очень нужен. «Увижу ли я еще Гамбо, Эрцули? Мы едем еще дальше, еще больше воды ляжет между нами». После сиесты она подождала, пока ветер с моря не принесет вечернюю прохладу, и, взяв с собой детей, отправилась за покупками. По распоряжению хозяина, который не желал видеть, как Морис играет с какой-то маленькой оборванкой, она купила им обоим вещи одного качества, и в чьих угодно глазах они походили на богатых детей в сопровождении няньки. Как планировал Санчо, они будут жить в Новом Орлеане, поскольку новая плантация находится всего в одном дне пути от города. Землей они уже владели, но не было всего остального — мельниц, машин, инструментов, рабов, хижин для рабов и господского дома. Нужно было подготовить почву и провести сев; и раньше чем через два года урожая им не получить, хотя благодаря запасам Вальморена не придется и бедствовать. Ровно так, как любил говорить Санчо: на деньги счастья не купишь, но можно купить почти все остальное. Они не желают явиться в Новый Орлеан в таком виде, как будто спасаются откуда-то бегством: они инвесторы, а не беженцы. Из Ле-Капа они отплыли в том, что было на плечах, на Кубе было куплено все самое необходимое на первый случай, но перед отплытием в Новый Орлеан нужно было обзавестись полным гардеробом, сундуками и чемоданами. «Все самого высшего качества, Тете. Купи пару платьев себе: не хочу, чтоб ты была похожа на нищенку. И обуйся наконец!» — приказал ей хозяин, но единственная имевшаяся у нее пара ботинок была настоящим мучением, и ходить в них она не могла.
В comptoirs[17] центра города Теге купила все, что было нужно, вволю поторговавшись, что было обычаем Сан-Доминго, и она полагала, что и на Кубе дело обстоит точно так же. На улице говорили по-испански, и, хотя она когда-то немного научилась этому языку от Эухении, ей было не понять кубинского акцента — скользящего и певучего, очень непохожего на твердый и звучный кастильский ее ушедшей в мир иной хозяйки. На уличном рынке торговаться бы она не смогла, но в магазинах говорили и по-французски.
Покончив с покупками, она, следуя инструкциям хозяина, попросила отослать их в отель. Дети хотели есть, а она устала, но, выйдя на улицу, они услышали барабаны, и перед этим зовом она не смогла устоять. Из улочки в улочку они вышли на маленькую площадь, где собралась толпа цветных, неистово отплясывая под музыку барабанов. Уже очень давно не доводилось Тете ощущать вулканический импульс танца календы, она больше года прожила на плантации в страхе, ей не давали покоя крики приговоренных в Ле-Капе, все это время она провела убегая, прощаясь, надеясь. Ритм поднимался от ступней босых ног до собранных в узел волос, все тело оказалось во власти барабанов, отзываясь на эту власть тем же ликованием, которым сопровождались минуты любви с Гамбо. Она отпустила руки детей и присоединилась к радостной толпе: раб, когда он танцует, свободен — пока танцует, как учил ее когда-то Оноре. Но она уже не рабыня, она свободна, не хватало только подписи судьи. Свободна, свободна! И давай двигаться: ступни на земле, ноги и бедра — в исступлении, ягодицы провокационно вращаются, руки — словно крылья чайки, груди выпрыгивают из корсета, а голова где-то по ту сторону бытия. Африканская кровь Розетты тоже откликнулась на этот величественно-ужасающий зов музыки, и трехлетняя девчушка скакнула в самый центр танцующих, извиваясь с тем же наслаждением и полной отдачей, что и ее мать. Морис же, напротив, отступал назад, пока не наткнулся на стену. В имении Сен-Лазар ему приходилось присутствовать на невольничьих танцах, но только в роли зрителя, держась за руку отца, в полной безопасности. Но на этой незнакомой площади он был один, его захлестнула неистовая человеческая масса, оглушили барабаны, его позабыла Тете — его Тете, которая превратилась в некий ураган юбок и рук. Он был забыт и Розеттой, которая исчезла среди ног танцоров, его бросили все. Мальчик расплакался навзрыд. Из негров нашелся один шутник, едва прикрытый набедренной повязкой и тремя нитями разноцветных бус: он встал прямо перед мальчиком, прыгая и тряся перед ним погремушкой маракой, думая развлечь ребенка, но вместо этого напугал его еще больше. Морис бросился прочь со всех ног. Барабаны звучали часами, и, быть может, Тете отплясывала бы до тех пор, пока последний из них не затих на рассвете, если бы четыре сильных руки не схватили ее и не выдернули из веселой толпы.
Прошло почти три часа с тех пор, как Морис сбежал с площади и инстинктивно направился к морю, которое виднелось с балкона его номера люкс. На нем лица не было от страха, он не помнил ничего об отеле, где живет, но хорошо одетый светловолосый белый ребенок, съежившийся и громко плачущий на улице, не мог остаться незамеченным. Кто-то остановился ему помочь, спросил, как зовут его отца, зашел в несколько заведений, пока не оказался перед Тулузом Вальмореном, у которого никогда не было времени думать о сыне: с Тете мальчик в полной безопасности. Когда же отцу удалось вытянуть из сына, между всхлипами и рыданиями, что же с ним случилось, он как смерч бросился на поиски этой женщины, но, не пройдя и квартала, понял, что города не знает и найти ее при всем желании не сможет. И тогда он обратился в полицию. Двое мужчин отправились на охоту за Тете, вооружившись смутными указаниями Мориса, и скоро по звукам барабанов вышли на танцующую площадь. Они пинками отправили ее в каталажку, а так как Розетта бежала за ними, визжа и требуя, чтобы отпустили ее маму, ее тоже посадили под замок.
В удушливой темноте камеры, пропитанной зловонными испарениями мочи и дерьма, Тете с Розеттой на руках уселась в дальнем углу. Она поняла, что там были и другие люди, но прошло довольно много времени, пока она смогла различить во тьме фигуры женщины и трех мужчин, молчаливых и неподвижных, ожидавших своей очереди, чтобы получить назначенные их хозяевами розги. Один из мужчин провел здесь уже несколько дней, приходя в себя после первых двадцати пяти ударов, чтобы получить те, которые ему оставались, когда он будет в состоянии их вынести. Женщина о чем-то спросила ее по-испански, но Тете не поняла вопроса. Она только сейчас начинала осознавать последствия того, что натворила: в водовороте танца она оставила Мориса. Если с мальчиком случилось что-то дурное, она заплатит за это жизнью, потому-то ее и арестовали и она теперь здесь, в этой мерзкой дыре. Но больше, чем собственная жизнь, ее волновала судьба мальчика. «Эрцули, лоа-мать, сделай так, чтобы Морис был жив и здоров». А что будет с Розеттой? Она нащупала сумочку с вольной под корсетом. Они еще не были свободными, ведь еще ни один судья не подписывал эту бумагу, и ее дочь может быть продана. Остаток ночи они провели в камере, и это была самая долгая ночь, которую могла припомнить Тете. Розетта устала плакать и просить пить и в конце концов забылась в жару. Безжалостное карибское солнце проникло с рассветом между толстыми прутьями, и черный ворон устроился клевать насекомых на каменный подоконник единственного окошка. Женщина начала стонать, и Тете не знала, была ли причиной черная птица — дурное предзнаменование или то, что в этот день наступала ее очередь. Проходили часы, жара усилилась, воздух стал таким разреженным и горячим, что голова Тете сделалась ватной. Она не знала, как спасти от жажды дочку, попыталась приложить ее к груди, но молока у нее уже не было. Где-то около полудня открылась решетка, огромная фигура заслонила собой дверь и назвала ее имя. Со второй попытки Тете смогла подняться, ноги у нее подгибались, от жажды приходили видения. Не выпуская из рук Розетту, шатаясь, она направилась к выходу. За ее спиной послышались прощальные слова женщины, они были знакомы, их она слышала от Эухении: «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных». Тете ответила про себя, голос из пересохших губ не шел: «Эрцули, лоа сострадания, спаси и сохрани Розетту». Ее привели в маленький, окруженный высокими стенами двор с единственной дверью, где высился эшафот с виселицей, столбом и черным от засохшей крови чурбаном, на котором рубили руки. Палач оказался широким, как шкаф, конголезцем, со щеками, пересеченными ритуальными шрамами, остро заточенными зубами, обнаженным торсом и кожаным передником, испещренным темными пятнами. Прежде чем он к ней прикоснулся, Тете оттолкнула Розетту и велела ей отойти подальше. Девочка, хныча, послушалась: она была слишком слаба, чтобы задавать вопросы. «Я свободная! Свободная!» — выкрикнула Тете, собрав все свои познания в испанском языке и показывая палачу сумочку, которую носила на груди, но хищная мужская лапа схватила ее вместе с блузкой и корсетом, которые распались от первого же рывка. Вторым движением руки он сдернул с нее юбку, и она осталась голой. Прикрыться она не пыталась. Только велела Розетте, чтобы та повернулась лицом к стене и не отворачивалась от нее ни при каких обстоятельствах; потом она позволила подвести себя к столбу и сама протянула руки, чтобы палач связал ей запястья веревками из агавы. Услышала ужасный свист хлыста в воздухе и подумала о Гамбо.
Тулуз Вальморен ждал по другую сторону двери. Он, вручив сначала палачу оговоренную плату и чаевые, дал ему инструкцию: тот только напугает до полусмерти его рабыню, но не причинит ей никакого вреда. С Морисом, слава богу, ничего серьезного не случилось, а через два дня они отправляются в путешествие. Тете была ему нужна сейчас больше, чем когда-либо, а взять ее с собой после порки он не сможет. Удар хлыстом, выбив искры из булыжника двора, обрушился мимо, но Тете почувствовала его своей спиной, сердцем, утробой, душой. Колени ее подогнулись, и она повисла на запястьях. Откуда-то издалека до нее донесся хохот палача и крик Розетты: «Месье! Месье!» Страшным усилием воли смогла она открыть глаза и повернуть голову. Вальморен стоял в нескольких шагах от нее, а Розетта, почти задохнувшись от рыданий, обнимала его колени, засунув мордашку между его ног. Он погладил ее по головке и взял на руки, и там девочка бессильно затихла. Не сказав рабыне ни единого слова, он сделал знак палачу и повернулся к дверям. Конголезец отвязал Тете, собрал ее порванную одежду и отдал ей. Она, которая за несколько секунд до того не могла даже шевельнуться, быстро, покачиваясь, пошла за Вальмореном — с той энергией, что рождена ужасом, обнаженная, прижав к груди свои тряпки. Палач проводил ее к выходу и вручил ей кожаную сумочку с ее свободой.
Часть вторая ЛУИЗИАНА 1793–1810
Креолы хорошей крови
Дом в сердце Нового Орлеана, в районе, в котором жили креолы французского происхождения и древней крови, был находкой Санчо Гарсиа дель Солара. Здесь каждая семья представляла собой отдельное патриархальное сообщество, многочисленное и герметичное, если и готовое смешаться, то только с ровней, из того же слоя социального пирога. Деньги не открывали их дверей, в противоположность тому, что утверждал Санчо, которому следовало бы лучше разбираться в этих вопросах, поскольку не открывали деньги дверей и среди соответствующей касты испанцев; но когда повалили беженцы из Сан-Доминго, возникла щель, а с ней и возможность просочиться. Поначалу, пока беженцы не превратились еще в человеческую лавину, некоторые креольские семьи, проявляя сочувствие и ужасаясь приходившим с острова трагическим известиям, радушно принимали оставшихся без плантаций больших белых. Они не могли даже представить себе ничего худшего, чем восстание рабов. Чтобы войти в общество, Вальморен стряхнул пыль со своего титула шевалье, а его шурин взял на себя труд упоминать при каждом удобном случае о парижском шато, покинутом, к несчастью, с тех пор, как матушка Вальморена обосновалась в Италии, спасаясь от введенного якобинцем Робеспьером террора. От склонности к обезглавливанию людей за их идеи или титулы, чем занимались во Франции, в Санчо переворачивались все внутренности. Он не симпатизировал аристократии, но и всякая шантрапа тоже не вызывала в нем сочувствия: французская республика виделась ему столь же вульгарной, как и американская демократия. Когда же он узнал, что Робеспьеру отрубили голову спустя несколько месяцев на той же самой гильотине, на которой раньше погибли сотни его жертв, то отметил это событие двухдневной пьянкой. И это случилось с ним в последний раз: среди креолов трезвенников не было, но и пьянства они не терпели; человек, нарушивший приличия из-за выпивки, не стоил того, чтобы его хоть где-нибудь принимали. Вальморен, годами пропускавший мимо ушей предупреждения доктора Пармантье относительно алкоголя, также должен был установить для себя ограничения и тогда обнаружил, что пил он не в силу порочности, как подозревал в глубине души, а в стремлении скрасить свое одиночество.
Как и было задумано, оба родственника прибыли в Новый Орлеан не в толпе других беженцев, а как хозяева плантации сахарного тростника, что в кастовой иерархии было самым престижным положением. Идея Санчо купить землю оказалась судьбоносной. «Не забывай, что будущее — за хлопком, зять. Сахар имеет дурную славу», — предупредил он Вальморена. Ходили страшные рассказы о рабстве на Антилах, и сторонники отмены рабства упорствовали в проведении международной кампании, целью которой был саботаж потребления окрашенного кровью сахара. «Поверь мне, Санчо, даже если куски сахара станут ярко-алыми, есть его все равно будут все больше и больше. На сладкое золото подсаживаешься сильнее, чем на опий», — успокоил его Вальморен. На эти темы в тесном кругу хорошего общества не говорил никто. Креолы уверяли, что таких жестокостей, как на островах, в Луизиане не бывает. Среди этих людей, связанных между собой сложнейшим кружевом семейных отношений, в кругу, где не было никакой возможности хоть что-то утаить — все рано или поздно становилось явным, — жестокость порицалась и считалась недопустимой: ведь только болван мог причинять вред своей собственности. Кроме того, клир, возглавляемый испанцем братом Антонио де Седельей, известным как отец Антуан и внушавшим своей славой святого человека всеобщее почтение, взялся отстаивать тезис об ответственности перед Богом за тела и души всех рабов.
Начав заниматься вопросами приобретения рабочей силы для плантации, Вальморен столкнулся с положением дел, очень далеким от того, что он знал по Сан-Доминго: цена на рабов была высока. Это означало, что придется вложить больше денег, чем он рассчитывал, да и с расходами следует быть поосторожнее, однако в глубине души он почувствовал облегчение. Теперь для его бережного отношения к рабам существовали чисто практические основания, а не какие-то там гуманистические угрызения совести, которые могли быть сочтены признаком слабости. Самым худшим для него за двадцать три года жизни в Сен-Лазаре, худшим, чем безумие жены, чем климат, подтачивающий здоровье и разъедающий жизненные принципы даже самого достойного человека, худшим, чем одиночество и острая нехватка книг и общения, — была вдруг оказавшаяся в его руках абсолютная власть над другими жизнями с такими ее последствиями, как искушения и деградация. Как и говорил доктор Пармантье, революция в Сан-Доминго была неизбежным возмездием невольников, ответной реакцией на жестокость колонистов. Луизиана же предоставляла Вальморену возможность оживить идеалы его юности, спавшие в дальних закоулках его памяти. Он начал мечтать об идеальной плантации, способной производить столько же сахара, как и Сен-Лазар, но где рабы вели бы вполне человеческое существование. На этот раз он с большей осторожностью и вниманием отнесется к выбору надсмотрщиков и их начальника. Еще одного Проспера Камбрея он не желал.
Санчо же взялся за дело установления дружеских связей с креолами, без которых успех их дела был весьма сомнителен, и вскоре он стал душой всех вечеров — со своим шелковым голосом, певшим под гитару, своим счастливым талантом проигрывать за карточным столом, своими томными взглядами и отточенным вкусом в обращении с матриархами, которых он улещивал, вылезая из кожи вон: без их одобрения никто не переступил бы порога дома. Он играл в бильярд, нарды, домино и карты, изящно танцевал, ни одна тема не заставала его врасплох, к тому же он обладал даром появляться в нужном месте в нужное время. Его любимым маршрутом для прогулок была обсаженная деревьями дорога по дамбе, защищавшей город от наводнений: там можно было встретить кого угодно — от представителей самых знаменитых фамилий до шумного плебса, состоявшего из матросов, рабов, свободных цветных и неизбежных кентуккийцев, прослывших пьяницами, убийцами и бабниками. Эти люди спускались по Миссисипи из Кентукки и других северных районов, привозя на продажу свои товары: табак, хлопок, кожи, древесину, а поскольку по дороге они встречались с индейцами и тысячей других опасностей, вооружены они были до зубов. В Новом Орлеане кентуккийцы продавали целые лодки дров, пару недель развлекались, а потом пускались в изнурительное обратное путешествие.
Исключительно для того, чтобы его там замечали, Санчо посещал театральные и оперные постановки, и с той же целью ходил на воскресные мессы. Его скромный черный костюм, собранные в хвост волосы и напомаженные усы резко выделялись на фоне пышных парчовых с кружевами нарядов французов, придавая своему владельцу слегка рискованный вид, привлекательный для женщин. Манеры его, этот непременный атрибут высшего света, в котором правильное использование вилки обладало большей значимостью, чем моральные качества человека, были безукоризненны. Такие блестящие добродетели никак бы не помогли этому несколько эксцентричному испанцу, если бы не родственные связи с Вальмореном — французом до мозга костей и богачом; но после того, как он единожды оказался допущен в салоны, никто уже и помыслить не мог выкинуть его оттуда. Вальморен был вдовцом, которому исполнилось всего сорок пять, совсем не дурной наружности, хотя и с нарой-другой лишних килограммов, и, естественно, патриархи Старого квартала всячески старались заполучить его для своей дочки или племянницы. Да и шурин его с непроизносимой фамилией годился, поскольку зять-испанец был все же предпочтительнее, чем головная боль иметь дочь — старую деву.
Разговоры были, но никто не воспротивился ни когда эта пара иностранцев сняла один из особняков квартала, ни когда чуть позже хозяин продал им дом. В нем было два этажа с мансардой, но без подвала: Новый Орлеан строился на воде, и достаточно было углубиться на пядь, чтобы промокнуть. Мавзолеи на кладбище были приподняты, чтобы мертвецы не пускались в плавание при каждой непогоде. Как и многие другие, дом Вальморена был выстроен из кирпича и дерева в испанском стиле: с широким въездом для кареты, мощенным брусчаткой двором, облицованным керамической плиткой фонтаном и прохладными зарешеченными балконами, оплетенными благоухающими вьюнками. Вальморен обставил дом, избегая показной роскоши — признака карьеризма. Сам он даже свистеть не умел, но потратился на музыкальные инструменты, потому что во время светских раутов барышням нужно было блеснуть игрой на фортепьяно, арфе или клавикордах, а кавалеры показывали себя в искусстве игры на гитаре.
Морису и Розетте пришлось учиться музыке и танцам у частных учителей, как и другим богатым детям. Беженец из Сан-Доминго давал им уроки музыки с помощью палки, а жеманный толстяк учил их модным танцам — тоже палкой. В будущем Морису это должно было пригодиться, как и фехтование — драться на дуэлях и для салонных развлечений, а Розетте эти умения должны были сослужить хорошую службу, когда придется забавлять гостей, по, конечно, никогда не состязаясь с белыми девушками. Она обладала изяществом и красивым голосом, Морис же, напротив, унаследовал от отца ужасный слух и посещал уроки с покорностью каторжника. Он предпочитал книги, которые мало чем могли пригодиться в Новом Орлеане — городе, где интеллект вызывал подозрения, а талант вести светский разговор, галантность и умение жить ценились в гораздо большей степени.
Вальморену, привыкшему в Сен-Лазаре вести жизнь отшельника, часы, занятые пустыми разговорами в кафе и барах, по которым таскал его Санчо, казались потерянными. Ему приходилось делать над собой усилия, чтобы принимать участие в играх и пари; он ненавидел петушиные бои, окроплявшие публику кровью, а также лошадиные и собачьи бега, на которых он неизменно проигрывал. Каждый день недели был свой раут в каком-нибудь очередном салоне под председательством матроны, которая вела счет и гостям, и сплетням. Холостяки ходили из дома в дом, вечно с каким-нибудь подарком, как правило — монструозным десертом из сахара и грецких орехов, весившим не меньше коровьей головы. По словам Санчо, рауты были совершенно необходимы в этом закрытом обществе. Танцы, вечера, пикники — вечно одни и те же лица, которым нечего сказать. Вальморен предпочитал плантацию, но понимал, что в Луизиане его склонность к уединению будет воспринята как скупость.
Гостиные и столовая их городского дома располагались на первом этаже, спальни — на втором, а рабы жили на заднем дворе, отдельно. Окна выходили в небольшой, но ухоженный сад. Самой большой комнатой была столовая, как и во всех креольских домах, где жизнь вращалась вокруг стола: гостеприимством гордились. Любая уважаемая семья имела столовой посуды по меньшей мере на двадцать четыре персоны. Одна из комнат первого этажа обычно была с отдельным входом и предназначалась для сыновей-холостяков — так они получали возможность гулять, не оскорбляя дам в своей семье. На плантациях эти гарсоньерки представляли собой восьмиугольные павильоны невдалеке от дороги. Морису недоставало лет двенадцати, чтобы воспользоваться этой привилегией, а пока что, первый раз в жизни, он спал один в комнате, расположенной между апартаментами отца и дяди Санчо.
Тете и Розетта были размещены не там, где другие семь рабов — кухарка, прачка, кучер, швея, две девушки для домашней работы и парень-посыльный, — обе они спали в мансарде, среди семейных сундуков. Как и раньше, дом вела Тете. Колокольчик со шнурком соединял комнаты, и Вальморен не пренебрегал им, чтобы вызывать ее к себе по ночам.
Санчо, едва увидев Розетту, сразу догадался о связи своего шурина с рабыней и счел необходимым предотвратить проблему. «А что ты будешь делать с Тете, когда женишься?» — в упор спросил он Вальморена, который никогда и ни с кем не говорил на эту тему и, застигнутый врасплох, лишь пробормотал, что не собирается жениться. «Раз уж мы живем вдвоем под одной крышей, один из нас просто обязан это сделать, а то решат, что мы извращенцы», — завершил разговор Санчо.
В неразберихе их бегства из Ле-Капа той жуткой ночью Вальморен лишился повара, который не пожелал выходить из своего укрытия, когда они с Тете и детьми пустились в бегство, но об этом он не жалел, потому что в Новом Орлеане ему был нужен не просто искусный повар, а знаток креольской кухни. Новые друзья предупредили его, что не стоило покупать первую же кухарку, предложенную на Масперо-Эшанж, хоть это и лучший невольничий рынок в Америке, а также не следовало обращаться в заведения на улице Шартре, где рабов наряжали в элегантные костюмы, пуская клиентам пыль в глаза, но где не было никакой гарантии качества. Лучшие рабы передавались из рук в руки, частным образом, между родственниками или же друзьями. Вот таким способом он и приобрел Целестину, женщину лет сорока, имевшую просто волшебные руки для готовки обедов и выпекания всяких сладостей, ученицу одного из превосходнейших французских поваров маркиза де Мариньи, которую продали по той причине, что никто не был способен выносить ее гневные вспышки. Она швырнула тарелку с гумбо[18] из морепродуктов к ногам неосторожного маркиза, потому что тот осмелился спросить еще соли. Вальморена эта история не отпугнула, поскольку воевать с кухаркой — это забота Тете. Целестина была тощей, сухой и ревнивой, никому не позволяла переступать порог своей кухни и кладовой, сама выбирала вина и ликеры и не терпела никаких советов в отношении меню. Тете объяснила ей, что не следует слишком налегать на специи, потому что хозяин страдает болями в желудке. «Пусть терпит. Если ему нужен бульон для тяжелобольного, сама его и приготовишь», — бросила она в ответ, но с тех пор, как она воцарилась среди кастрюль и горшков, Вальморен чувствовал себя хорошо. Целестина благоухала корицей и потихоньку, чтобы никто не заподозрил ее в этой слабости, пекла детям легкие, как вздохи, безе, тарт татен с засахаренными яблоками, мандариновые оладьи со сливками, шоколадный мусс с медовым печеньем и другие деликатесы, подтверждавшие гипотезу о том, что человечество никогда не устанет потреблять сахар. Морис и Розетта были единственным обитателями дома, кто не боялся кухарки.
Жизнь кабальеро-креола проходила в постоянном досуге: труд был пороком, свойственным протестантам вообще и американцам в частности. Вальморен с Санчо оказались в непростом положении, поскольку им пришлось скрывать те усилия, которые были необходимы для запуска производства на плантации, бывшей в запустении более десяти лет со времени смерти ее хозяина и череды банкротств его наследников.
Первым делом нужно было раздобыть рабов, около ста пятидесяти для начала, и это гораздо меньше того количества, которое было в Сен-Лазаре. Вальморен устроился жить в одном из углов лежащего в руинах дома, в то время как рядом строился другой — по планам французского архитектора. Бараки рабов, изъеденные термитами и сыростью, были снесены, и вместо них выросли деревянные хижины: с продолженными в виде навесов крышами, чтобы давали тень и защиту от дождя, с тремя комнатами, в каждую по две семьи, они выстроились в ряд вдоль параллельных и перпендикулярных друг другу улиц, с небольшой площадью в центре. Свояки наведались и на соседние плантации, по примеру многих людей, которые заявлялись без приглашения в уик-энд, пользуясь местной традицией гостеприимства. Вальморен пришел к выводу, что в сравнении с рабами Сан-Доминго невольникам в Луизиане было не на что жаловаться, но Санчо приметил, что некоторые рабовладельцы держали своих людей практически голыми, кормили их кукурузной кашей, которая наливалась в большие кормушки, как корм скоту, откуда каждый зачерпывал себе порцию при помощи ракушек, кусков черепицы или просто руками — ложек у них не было.
Два года понадобилось на то, чтобы создать самое необходимое: сделать посадки, поставить мельницу и организовать работу. Вальморен вынашивал грандиозные планы, но вынужден был сконцентрироваться на самом насущном — еще будет время претворить в жизнь его фантазии о саде, террасах и лужайках, декоративном мосте над рекой и других финтифлюшках. У него из головы не шли разные детали, которые он обсуждал с Санчо и в которые посвящал и Мориса.
— Гляди, сынок, все это будет твоим, — говорил он, показывая на поля тростника с высоты своей лошади. — Сахар, он с неба не надает, нужно много трудиться, чтобы получить его.
— Но трудятся-то негры, — вставлял Морис.
— Не обманывай себя. Они выполняют ручной труд, потому что не умеют ничего другого, но только хозяин несет ответственность за все. Успех плантации зависит от меня и, в определенной степени, от твоего дяди Санчо. Ни одна тростинка не будет срезана без того, чтобы я не знал об этом. Смотри внимательней, придет день, когда тебе придется принимать решения и управлять твоими людьми.
— А почему они сами собой не управляют, папа́?
— Они не могут, Морис. Им нужно приказывать, они же рабы, сынок.
— Не хотелось бы мне быть на их месте.
— А ты никогда и не будешь, Морис, — улыбнулся отец. — Ты же Вальморен.
Показывать сыну Сен-Лазар с подобной гордостью он бы не мог. Он был полон решимости исправить ошибки, слабые места и упущения прошлого и — это было его тайной — замолить жестокие грехи Лакруа, капитал которого был использован для покупки этой земли. За каждого замученного пытками мужчину и каждую оскверненную Лакруа девочку будет на плантации Вальморена здоровый раб, с которым обращаются хорошо. Это оправдало бы присвоение денег его соседа, лучшего им применения и найти нельзя.
Санчо планы его шурина не слишком интересовали, поскольку подобного груза на его совести не было, а интересовали его только развлечения. Состав супа для рабов или цвет их хижин нимало его не заботили. Если Вальморен переживал в то время серьезные изменения в своей жизни, то для испанца эта авантюра была одной из многих, за которые он брался с большим энтузиазмом и оставлял без малейших сожалений. Так как терять ему было нечего, поскольку все расходы взял на себя его компаньон, ему в голову приходили разные смелые идеи, которые могли вылиться и в достаточно неожиданные последствия, как, например, установка для очистки сахара, позволившая им продавать рафинад, гораздо более рентабельный, чем сахар-сырец с других плантаций.
Санчо нашел и главного надсмотрщика, ирландца, который помог в покупке рабочей силы. Его звали Оуэн Мерфи, и он с самого начала поставил условием, что рабы должны слушать мессы. Нужно построить часовню и заполучить к себе странствующих монахов, сказал он, чтобы упрочить католицизм до того, как в дело вмешаются американцы, что проповедуют свои ереси, и эти невинные люди окажутся обреченными на вечные муки в аду. «Мораль — вот что самое главное», — заявил он. Мерфи был полностью согласен с идеей Вальморена не злоупотреблять хлыстом. Этот мощный, похожий на янычара мужчина, все тело которого было покрыто черными волосами — и того же цвета были его шевелюра и борода, — душу имел нежную. Со своей многочисленной семьей он устроился в походной палатке, пока не было закопчено строительство его дома. Его жена Линн ростом была ему по пояс, походила на худышку-подростка с личиком мухи, но хрупкость ее была обманчива: она уже родила шестерых сыновей и носила седьмого ребенка. И знала, что он тоже окажется мальчиком, потому что Бог вознамерился испытать ее терпение. Она никогда не повышала голос: одного ее взгляда было достаточно, чтобы ее послушались и муж, и дети. Вальморен подумал, что Морису наконец будет с кем играть и он перестанет ходить хвостом за Розеттой; этот ирландский выводок занимал на социальной лестнице ступень много ниже, чем он, но они были белыми и свободными. Он и представить себе не мог, что все шестеро Мерфи тоже будут покорно следовать за Розеттой, девочкой, которой к тому времени исполнилось пять лет, но обладавшей таким сильным характером, какого отец ее желал бы для Мориса.
Оуэн Мерфи с семнадцати лет занимался тем, что руководил неграми и наизусть знал все ошибки и удачи этой неблагодарной работы. «Нужно обращаться с ними, как с детьми. Власть и правосудие, простые правила, вознаграждения и немного свободного времени: без этого они просто заболевают», — сказал он своему нанимателю и прибавил, что рабы имеют право обратиться к хозяину в том случае, если им будет назначено наказание более пятнадцати ударов. «Я доверяю вам, господин Мерфи, в этом не будет необходимости!» — воскликнул Вальморен, не слишком склонный принимать на себя роль судьи. «Для собственного моего спокойствия я бы предпочел, чтоб было так, месье. Излишек власти разъедает душу любого христианина, моя же душа — слаба», — объяснил ему ирландец.
В Луизиане стоимость рабочей силы равнялась примерно трети стоимости земли: ее следовало беречь. Само производство всегда оставалось зависимым от непредсказуемых несчастий: ураганов, засухи, наводнений, мора, крыс, колебаний цены на сахар, проблем с машинами и животными, банковских кредитов и других неопределенностей; не стоило упускать еще плохое самочувствие или дурное настроение рабов, прибавил Мерфи. Он настолько не походил на Камбрея, что Вальморен задался вопросом, не ошибся ли он с ним, но вскоре убедился, что тот работает без устали и добивается результата одним своим присутствием, без каких-либо жестокостей. Его надсмотрщики, за которыми он наблюдал лично, следовали его примеру, и в результате рабы вырабатывали даже больше, чем в условиях того террора, который практиковал Проспер Камбрей. Мерфи ввел систему работы в несколько смен, чтобы дать людям возможность немного передохнуть во время изматывающего дня в поле. Предыдущий его патрон уволил Мерфи, потому что ему было приказано проучить одну рабыню, но пока она кричала во всю глотку, чтобы создать иллюзию наказания, хлыст надсмотрщика хлестал по земле, не касаясь ее тела. Рабыня была беременна, и, как и поступали обычно в таких случаях, ее положили на землю, разместив ее живот в ямке. «Я обещал своей жене, что никогда не ударю хлыстом ни детей, ни беременных женщин» — таким было объяснение ирландца, когда Вальморен его об этом спросил.
Они предоставили людям два выходных в неделю, чтобы те могли заниматься своими огородами, ухаживать за скотиной и выполнять работу по дому, но в воскресенье все по настоянию Мерфи обязаны были посещать мессу. Они имели право играть на музыкальных инструментах и танцевать в свое свободное время и даже иногда — под присмотром главного надсмотрщика — участвовать в bambousses, скромных невольничьих свадьбах, похоронах или других примечательных событиях. Поначалу рабам не разрешалось посещать другие плантации, но в Луизиане не многие хозяева соблюдали эту норму. Завтрак на плантации Вальморена состоял из супа на мясном бульоне или на сале — ничего похожего на зловонную сушеную рыбу Сен-Лазара, на обед полагалась кукурузная лепешка, солонина или свежее мясо и запеканка, а на ужин — сытный суп. Одну из хижин приспособили под госпиталь, и удалось договориться с врачом, раз в месяц заезжавшим на плантацию в целях профилактики, а также когда его звали в случае необходимости. Беременным женщинам давали больше еды и более продолжительный отдых. Вальморен не знал, потому что никогда об этом не спрашивал, что в Сен-Лазаре рабыни рожали, встав на корточки, прямо в тростниках, что там было больше абортов, чем родов, и что большинство детей умирало, не дожив и до трех месяцев. На новой плантации акушеркой была Линн Мерфи, и она же присматривала за детьми.
Зарите
С борта корабля Новый Орлеан показался плавающим в море месяцем — белым и светящимся. Увидев его, я уже знала, что мне не вернуться в Сан-Доминго. Иногда мне приходят такие предчувствия, и я не забываю их, так что, когда они сбываются, я уже к ним готова. Боль оттого, что я лишилась Гамбо, копьем пронзила мне сердце. В порту нас встречал дон Санчо, брат доньи Эухении, который прибыл несколькими днями раньше нас и уже мог предложить дом, в котором нам и предстояло жить. Улица пахла жасмином, а не дымом и кровью, как Ле-Kan, когда его подожгли мятежники. Потом они ушли из города — продолжать революцию в других местах острова. В первую неделю в Новом Орлеане всю работу по дому делала я одна, иногда мне помогал раб, которого на время нам уступила знакомая дону Санчо семья, но потом хозяин и его шурин купили слуг. К Морису приставили учителя, его зовут Гаспар Северен, он беженец из Сан-Доминго, как и мы, но бедный. Беженцы приезжали постепенно: сначала мужчины, чтобы как-то устроиться, а потом женщины с детьми. Некоторые прибывали со своими цветными семьями и рабами. Но к тому времени приезжих было уже тысячи, и народ Луизианы их отторгал. Учитель рабства не одобрял; думаю, что это был один из тех аболиционистов, которых месье Вальморен презирал. Ему было двадцать семь лет, жил он в пансионе для негров, всегда носил один и тот же костюм, и у него дрожали руки — от страха, пережитого в Сан-Доминго. Иногда, когда хозяина не было дома, я стирала ему рубашку и выводила пятна с сюртука, но мне так и не удалось снять с его одежды запах ужаса. Еще я давала ему с собой еды, украдкой, чтоб его не обидеть. Он принимал ее с таким видом, словно делал мне одолжение, но был мне благодарен и по этой причине разрешал Розетте присутствовать на его уроках. Я умоляла хозяина, чтобы он разрешил ей учиться, и он в конце концов уступил, хотя давать образование рабам было запрещено, но относительно нее он имел свои виды: она должна ухаживать за ним в старости и читать ему, когда глаза станут его подводить. Позабыл он, что ли, что должен был нам свободу? Розетта не знала, что хозяин — ее отец, но все равно обожала его, и я думаю, что по-своему, но он тоже ее любил, ведь никто не мог устоять перед очарованием моей дочки. С самого детства Розетта была чаровницей. И ей нравилось глядеться в зеркало — опасная привычка.
В то время в Новом Орлеане было много свободных цветных, потому что при испанском правительстве получить или выкупить свободу было не очень трудно, а американцы свои законы туда еще не ввели. Я большую часть времени проводила в городе, занимаясь домом и Морисом, которому нужно было учиться, в то время как хозяин оставался на плантации. Я не пропускала воскресные bambousses на площади Конго — барабаны и танцы в нескольких кварталах от того района, в котором мы жили. Bambousses очень похожи на календы в Сан-Доминго, но только без службы лоа, потому что тогда в Луизиане все были католиками. Сейчас многие стали баптистами — это позволяет им петь и плясать в своих церквах, а так гораздо приятнее почитать Иисуса. Вуду там только начиналось, его привезли с собой рабы из Сан-Доминго, и культ этот так смешался с верованиями христиан, что я с трудом его узнавала. На площади Конго мы танцевали с полудня до самой ночи, приходили и белые — повозмущаться: чтоб дать им пищу для дурных мыслей, мы крутили задами, как мельница крыльями, а чтобы вызвать у них зависть, терлись друг о друга, как влюбленные.
По утрам, приняв воду и дрова, которые развозят по домам в телеге, я шла за покупками. «Французский рынок» существовал тогда всего около двух лет, но уже занимал несколько кварталов и был — после дамбы — самым любимым местом, где кипела общественная жизнь. Таким он и остается. Там все еще продают все подряд — от еды до драгоценностей, там имеют свои места гадалки, маги и знатоки трав. Нет недостатка и в шарлатанах, которые лечат при помощи подкрашенной водички и настоя красной смородины от бесплодия, родовых болей, ревматической лихорадки, кровавой рвоты, слабости сердца, ломкости костей и почти всех остальных хворей человеческого тела. Не верю я этому настою. Если бы он был так чудодействен, то его точно использовала бы и тетушка Роза, но она никогда не интересовалась кустами красной смородины, хотя они и росли в окрестностях Сен-Лазара.
На рынке я завела дружбу с другими рабами и так и познакомилась с обычаями Луизианы. Как и в Сан-Доминго, многие свободные цветные образованны, живут своими ремеслами и профессиями, а некоторые владеют плантациями. Говорят, что они обычно более жестоки к своим рабам, чем белые, но мне не пришлось в этом убедиться. Так мне рассказывали. На рынке можно встретить белых и цветных дам вместе с их домашними рабами, нагруженными корзинами. А у самих этих женщин в руках, обтянутых белыми перчатками, нет ничего, кроме расшитого бисером кошелька с деньгами. По закону мулатки должны одеваться скромно, чтобы не бросать вызов белым, но свои шелка и драгоценности они берегут для ночи. Кабальеро носят галстуки в три оборота, шерстяные панталоны, высокие сапоги, замшевые перчатки и кроличьи шапки. По мнению дона Санчо, квартеронки Нового Орлеана — самые красивые женщины в мире. «И ты могла бы быть как они, Тете. Примечай, как они ходят: раскачивая бедрами, соблазнительные, голова — ввысь, зад приподнят, грудь вперед, ну чистой воды вызов. Похожи на чистокровных кобылиц. Ни одна белая женщина не умеет так ходить», — говорил он мне.
Я-то никогда не стану такой, как эти женщины, а вот Розетта, может, и станет. Что будет с моей дочерью? Этот же вопрос задал мне хозяин, когда я снова завела разговор о своей свободе. «Хочешь, чтобы твоя дочь жила в нищете? Нельзя освобождать раба, пока ему не исполнится тридцати лет. Тебе до этого возраста не хватает шести, так что больше не приставай ко мне с этим». Шесть лет! Я этого закона не знала. Для меня это целая вечность, но зато дает возможность Розетте вырасти под защитой ее отца.
Праздники
В 1795-м состоялось открытие плантации Вальморена, отмеченное сельским праздником на целых три дня — настоящее мотовство, — так, как пожелал Санчо и как, по обычаю, и делалось в Луизиане. Прямоугольный двухэтажный дом, спроектированный по древнегреческим мотивам, был по всему периметру окружен колоннами, а также галереей на первом этаже и балконами под навесом на втором. Это был дом со светлыми комнатами и полами красного дерева, выкрашенный в пастельные тона, которым отдавали предпочтение французские креолы и католики, в отличие от домов американских протестантов, неизменно белых. По мнению Санчо, дом являл собой подслащенную копию Акрополя, но общее мнение было таково: особняк этот — один из самых прекрасных в долине Миссисипи. Ему пока не хватало украшений, но он не казался голым: его снизу доверху наполнили цветами и зажгли столько свечей, что все три праздничных вечера было светло как днем. На этом праздновании присутствовала семья в полном составе, даже учитель Гаспар Северен в новом сюртуке, подарке Санчо, и с менее патетическим выражением лица, поскольку за городом он хорошо ел и много времени проводил на солнце. В летние месяцы, когда его брали на плантацию, чтобы Морис продолжал учение, учитель имел возможность отсылать все свое жалованье целиком остававшимся в Сан-Доминго братьям. Вальморен взял в аренду два украшенных разноцветными тентами баркаса с двенадцатью гребцами, чтобы доставить гостей, прибывавших со своими баулами и личными рабами, включая парикмахеров. Нанял он и оркестры свободных мулатов, которые играли по очереди, так что музыка не умолкала, и запасся таким количеством фарфоровых тарелок и серебряных приборов, что их хватило бы на целый полк. Были прогулки, скачки, охота, салонные игры, танцы, и неизменно душой этого веселья был неутомимый Санчо, гораздо более склонный к гостеприимству, чем Валь-морен, ведь Санчо везде был в своей тарелке — что на разгульных сборищах преступников в Эль-Пантано, что на светском рауте. Женщины все утро отдыхали у себя в комнатах, на свежий воздух выходили после сиесты под густыми вуалями и в перчатках, к вечеру же надевали свои самые лучшие наряды. В мягком свете светильников все казались природными красавицами: темные глаза, блестящие волосы и отливающая перламутром кожа — ничего общего с раскрашенными лицами и накладными родинками дам во Франции. Но в укромных будуарах брови подводились углем, к щекам прикладывались лепестки красных роз, губы подводились кармином, седые волосы, если имелись, покрывались кофейной гущей, а добрая половина выставленных напоказ кудрей раньше принадлежала другим головам. Они носили светлые тона и легкие ткани, и даже только что овдовевшие не носили черного — этого мрачного цвета, который ничему не благоприятствует и никого не утешает.
Во время ночных балов дамы состязались в элегантности, и за некоторыми следовал негритенок, который поддерживал шлейф. Морис и Розетта, восьми и пяти лет, продемонстрировали гостям вальс, польку и котильон, оправдав тем самым палочную систему учителя танцев и вызвав восхищенные возгласы собравшихся. До ушей Тете доходили комментарии, что девочка, должно быть, испанка, дочка шурина, как там его зовут? Санчо или что-то в этом роде. Розетта, наряженная в белое шелковое платье, черные туфельки и с розовой лентой в длинных волосах, танцевала уверенно, с апломбом, а Морис в своем выходном костюмчике потел от смущения, считая шаги: два прыжка налево, один направо, поклон и поворот, назад, вперед и реверанс. Повторить. Она вела его, готовая прикрыть на ходу сочиненным пируэтом запинки своего партнера. «Когда я вырасту, Морис, я буду танцевать каждую ночь. Если хочешь на мне жениться, тебе лучше бы научиться», — предупреждала она его на репетициях.
Для плантации Вальморен купил мажордома, а в Новом Орлеане ту же роль безукоризненно исполняла Тете, благодаря урокам красавца Захарии, полученным в Ле-Капе. Оба с уважением относились к границам соответствующих им обоим сфер влияния, и именно на этом празднике им пришлось действовать сообща, чтобы все шло как по маслу. Трех служанок они поставили делать только два дела — доставлять воду и выносить горшки, и еще одного парня — убирать за двумя принадлежащими мадемуазель Гортензии Гизо мохнатыми собачками, у которых случился понос. Вальморен нанял по такому случаю двух поваров, свободных мулатов, а также отрядил нескольких человек в помощники Целестине, домашней кухарке. Все вместе они едва справлялись с приготовлением блюд из рыбы и морепродуктов, домашней птицы и дичи, креольских кушаний и десертов. Забили теленка, и Оуэн Мерфи взялся за шашлыки. Вальморен показал своим гостям сахарный завод, фабрику по производству рома и конюшни, но с наибольшей гордостью он продемонстрировал сооружения, построенные для рабов. Мерфи дал им три выходных дня кряду, одежду и сладости, а потом выставил на улицу распевать гимны Деве Марии. Некоторые господа до слез расчувствовались при виде религиозного пыла негров. Собравшиеся поздравили Вальморена, хотя многие из них высказывали у него за спиной комментарии, что с таким идеализмом он непременно разорится.
Вначале Тете не выделяла Гортензию Гизо из толпы других дам, разве что из-за доставлявших лишние хлопоты собачек с поносом: на этот раз инстинкт ее подвел, и она не разглядела ту роль, которую этой женщине суждено сыграть в ее жизни. Гортензии исполнилось двадцать восемь, и она все еще не была замужем, но вовсе не потому, что была уродкой или бедной, а по той причине, что жених, который был у нее в двадцать четыре, упал с лошади, гарцуя на коне, чтобы произвести на нее впечатление, и сломал себе шею. Это был редкий случай помолвки по любви, а не по договоренности, что практиковалось у креольской знати. Дениза, ее рабыня и личная служанка, рассказала Тете, что Гортензия первой подбежала к упавшему и первой увидела его мертвым. «И проститься с ним не пришлось», — прибавила она. После окончания официального траура отец Гортензии взялся подыскивать ей другого претендента. Имя девушки передавалось из уст в уста по причине безвременной смерти ее жениха, но прошлое ее было безупречно. Она была высокого роста, светлой, розовощекой и полнотелой, как и многие женщины Луизианы, которые кушали в свое удовольствие, а двигались мало. Корсет вздымал ее красовавшиеся в вырезе платья груди, как две дыни, — отдохновение для мужских взглядов. В эти дни Гортензия Гизо меняла платья каждые два или три часа и была весела, поскольку на этом празднике воспоминания о женихе ее не преследовали. Она завладела пианино, пела красивым сопрано и отплясывала до рассвета, доведя до изнеможения всех своих партнеров, за исключением Санчо. Не родилась еще та женщина, что сможет его срезать, как он говаривал, хотя и не мог не признать, что Гортензия оказалась достойным противником.
На третий день, когда баркасы уже отплыли, нагрузившись усталыми гостями, музыкантами, слугами и ручными собачонками, а рабы собирали горы оставленного мусора, пришел Оуэн Мерфи с известием, что банда восставших рабов приближается к ним по реке, убивая белых и подстрекая негров к мятежу. О беглых рабах, оседавших в индейских племенах, было известно, но здесь речь шла о других — тех, что жили на болотах, превратившихся в существ из грязи, воды и водорослей, невосприимчивых к укусам москитов и яду змей, невидимых для глаз их преследователей, вооруженных ножами, ржавыми мачете и остро заточенными камнями, обезумевших от голода и свободы. Сначала пришла весть, что в банде человек тридцать, но уже через пару часов говорили о полутора сотнях.
— Досюда они дойдут, Мерфи? И как полагаете, наши негры могут подняться? — спросил его Вальморен.
— Этого я не знаю, месье. Они близко и вполне могут оказаться здесь. Что касается наших людей, никто не сможет предсказать их реакцию.
— Как это нельзя предсказать? Здесь мы с ними возимся, нигде им не было бы лучше. Поговорите с ними! — воскликнул Вальморен, в сильном волнении расхаживая по гостиной.
— Такие дела разговорами не решаются, месье, — пояснил Мерфи.
— Этот кошмар просто преследует меня! Бесполезно хорошо с ними обращаться! Все эти негры неисправимы!..
— Успокойся, свояк, — прервал его Санчо. — Еще ничего не случилось. И мы ведь в Луизиане, не в Сан-Доминго, где на полмиллиона разъяренных негров приходилась горстка не знавших жалости белых.
— Я должен обеспечить безопасность Мориса. Приготовьте лодку, Мерфи, я сейчас же отправляюсь в город, — приказал Вальморен.
— Вот уж нет! — закричал Санчо. — Отсюда никто не сдвинется. Мы не побежим, как крысы. К тому же река ненадежна: у мятежников тоже есть лодки. Господин Мерфи, мы будем защищать плантацию. Несите сюда все наличное огнестрельное оружие.
На столе в столовой разложили оружие, два старших сына Мерфи, тринадцати и одиннадцати лет, зарядили стволы и после этого распределили их между четырьмя белыми мужчинами, включая Гаспара Северена, которому в жизни не приходилось спускать курок, да и прицелиться толком своими дрожащими руками он не мог. Мерфи распорядился рабами: мужчин заперли в конюшне, а детей — в господском доме; женщины же из хижин без своих ребятишек не выйдут. Мажордом и Тете взяли на себя домашнюю прислугу, возбужденную полученной новостью. Все рабы Луизианы слышали, как белые упоминали об опасности мятежа, но полагали, что такие вещи случаются только в далеких экзотических местах, и не могли себе даже и вообразить мятеж. Тете отправила женщин позаботиться о детях, а потом помогла мажордому запереть на засовы окна и двери.
Целестина отреагировала лучше, чем можно было ожидать, имея в виду ее характер. Она в шесть рук работала весь праздник, хмурая и деспотичная, состязаясь с привезенными чужими поварами, парой наглых слабаков, получавших деньги за то, что сама она должна была делать даром, как ворчала она себе под нос. Когда Тете пришла рассказать, что происходит, она принимала ножную ванну. «Никто не останется голодным», — коротко заявила она и тут же вместе со своими помощниками взялась за дело, чтобы всех накормить.
Они провели в ожидании целый день: Вальморен, Санчо и перепуганный Гаспар Северен с пистолетами в руках, в то время как Мерфи караулил конюшню, а его сыновья следили за рекой, готовые поднять тревогу в случае необходимости. Линн Мерфи успокоила женщин, заверив их, что дети сейчас в полной безопасности в большом доме, где им раздают чашки с горячим шоколадом. В десять вечера, когда уже никто на ногах не стоял от усталости, прискакал верхом Брендан, старший сын Мерфи, — факел в руке и пистолет за поясом — с известием, что приближается патруль. Через десять минут напротив дома уже спешивались всадники. Вальморен, который в эти часы заново пережил ужасы Сен-Лазара и Ле-Капа, принял их с таким видимым облегчением, что Санчо сделалось за него стыдно. Он выслушал доклад командира патруля и приказал раскупорить бутылки со своим лучшим ликером, чтобы отпраздновать. Кризис миновал: девятнадцать мятежных негров были арестованы, одиннадцать были мертвы, а остальных вздернут завтра на рассвете. Остатки банды разбежались и, по-видимому, направляются к своим убежищам на болотах. Один из патрульных, рыжий восемнадцатилетний парень, возбужденный ночными приключениями и выпитым алкоголем, уверял Гаспара Северена, что сам видел, что у повешенных от долгой жизни на болоте выросли жабьи лапы, рыбьи плавники и зубы как у крокодила. Некоторые местные плантаторы с энтузиазмом присоединились к патрулю, предвкушая охоту на людей — вид спорта, который довольно редко удавалось практиковать в подобных масштабах. Они поклялись изничтожить всех восставших негров до последнего. Потери белых оказались минимальными: один убитый надсмотрщик, один плантатор и трое патрульных ранены, и еще одна лошадь подломила ногу. Мятеж смогли задушить так быстро, потому что один из домашних рабов поднял тревогу. «Завтра, когда мятежники будут раскачиваться на виселицах, этот человек станет свободным», — подумала Тете.
Испанский идальго
Санчо Гарсиа дель Солар ездил между плантацией и городом взад и вперед, проводя в лодке или седле куда больше времени, чем в любом из этих двух пунктов назначения. Тете никогда не знала, когда он появится в городском доме — днем или же ночью, на загнанном коне, со своей неизменной улыбкой, шумный, голодный. Однажды в понедельник, на рассвете, он бился на дуэли с другим испанцем, правительственным чиновником, в садах Сен-Антуана, традиционном для кабальеро месте, где можно было убить друг друга или хотя бы поранить — единственный способ очистить запятнанную честь. Это было любимым времяпрепровождением, и сады с их пышными кустами благоприятствовали столь необходимой приватности. В доме об этом ничего не знали — до завтрака, когда объявился Санчо в окровавленной сорочке, требуя кофе и коньяка. С хохотом он заявил Тете, что получил всего лишь царапину на ребрах, его же противник — совсем другое дело — остался с меченой физиономией. «Из-за чего же вы дрались?» — поинтересовалась она, пока промывала ему резаную рану, столь близкую к сердцу, что, если бы шпага вошла чуть поглубже, ей пришлось бы снаряжать его на кладбище. «Он на меня косо посмотрел» — таково было объяснение. Он был счастлив оттого, что на его совести не оказался покойник. Позже Тете узнала, что причиной дуэли явилась Ади Супир, молоденькая квартеронка, обладательница сводящих с ума округлостей, на которую положили глаз оба соперника.
Санчо ничего не стоило разбудить среди ночи детей, чтобы показывать им карточные фокусы, а если Тете возражала, то он хватал ее за талию, пару раз переворачивал в воздухе и принимался внушать ей, что невозможно выжить в этом мире, не умея ставить ловушки, и что чем раньше дети познакомятся с ними, тем лучше. Вдруг в шесть часов утра у него появлялось желание съесть жареного поросенка, и нужно было лететь на рынок искать поросенка. Или же он объявлял, что направляется к портному, пропадал целых два дня и возвращался сам не свой от принятого алкоголя и в компании нескольких собутыльников, которым уже успел предложить и кров и стол. Одевался он хотя и в весьма строгом стиле, но с большой тщательностью: каждая деталь костюма внимательно изучалась в зеркале. Своего четырнадцатилетнего раба, мальчика на посылках, он выучил придавать форму его усам и брить ему щеки испанской навахой с золотой рукояткой, служившей семье Гарсиа дель Солар на протяжении уже трех поколений. «Ты ведь женишься на мне, когда я вырасту, дядя Санчо?» — спрашивала его Розетта. «Завтра же, если захочешь, золотко», — и звучно чмокал ее в обе щечки. С Тете же он обращался как с бедной родственницей — со смесью фамильярности и уважения, осыпая шуточками. Иногда, когда чувствовал, что дошел до края ее терпения, он приносил ей подарок и вручал его, сопровождая комплиментом и целованием ручки, в связи с чем она сильно смущалась. «Быстрее подрастай, Розетта, а то как бы я не женился на твоей маме», — шутил он.
По утрам Санчо появлялся в «Кафе эмигрантов», где подсаживался к игрокам в домино. Его забавные фанфаронские выходки идальго и неизменный оптимизм составляли резкий контраст с манерой держаться французских эмигрантов, униженных и обедневших в изгнании, которые проживали жизнь, оплакивая утрату своих состояний, реальных или мнимых, и споря о политике. К разряду плохих новостей относилось то, что Сан-Доминго все еще был погружен в бездну насилия и что англичане захватили несколько прибрежных городов, но им, однако, не удалось занять центр страны, и по этой причине перспектива объявления независимости колонии несколько отдалилась. Туссен — а как теперь зовут этого проходимца? Лувертюр? Ну и имечко себе выдумал![19] Ладно, так вот, этот Туссен, который раньше был с испанцами, теперь сменил знамена и воюет на стороне французских республиканцев, которым без его помощи давно пришел бы конец. А перед этой перебежкой Туссен уничтожил все испанские войска, что были под его командованием. Вот и судите теперь, можно ли доверять этим людишкам! Генерал Лаво дал ему звание генерала и командора Западного Кордона, и вот теперь эта макака разгуливает в шляпе с пером, со смеху помереть! «До чего мы дожили, земляки! Франция в союзе с неграми! Какое историческое унижение!» — восклицали эмигранты в паузах между двумя партиями домино.
Но было и некоторое количество оптимистичных для беженцев новостей: например, о том, что во Франции влияние колонистов-монархистов усиливалось, и люди больше ни слова не желали слышать о правах негров. Если колонисты наберут необходимое количество голосов, Национальное собрание вынуждено будет послать войска в Сан-Доминго и покончить с мятежом. Остров на карте — просто муха, говорили они, он никогда не сможет противостоять мощи регулярной армии. А после победы эмигранты смогут вернуться, и все снова будет как раньше. И не будет снисхождения к неграм: их всех уничтожат, а потом привезут из Африки свежее «мясо».
Тете, в свою очередь, узнавала о новостях в разговорах на Французском рынке. Туссен — колдун и ясновидящий, он мог насылать проклятие издалека и убивать силой мысли. Туссен выигрывает сражение за сражением, и в него не входят пули. Туссен под защитой самого Иисуса, а Иисус очень могуществен. Тете спросила у Санчо, потому что не осмеливалась касаться этой темы в общении с Вальмореном, вернутся ли они когда-нибудь в Сен-Лазар, и тот ответил ей, что нужно быть полным безумцем, чтобы сунуться в эту мясорубку. Этот разговор послужил подтверждением ее предчувствия того, что она никогда уже не увидит Гамбо, хотя ей и приходилось слышать рассуждения хозяина о том, как он восстановит свою собственность в колонии.
Вальморен сконцентрировал свое внимание на возникшей на руинах своей предшественницы плантации, где он и проводил большую часть года. Зимой он нехотя переселялся в городской дом, поскольку Санчо настаивал на важности поддержания социальных отношений. Тете и дети жили в Новом Орлеане и отправлялись на плантацию только в те месяцы, когда либо стояла жара, либо бушевала эпидемия и все состоятельные семейства срочно выезжали из города. Санчо наносил за город краткосрочные визиты, потому что все еще носился с идеей выращивания хлопка. Он никогда не сталкивался с хлопком в его природном состоянии, только в виде своих накрахмаленных сорочек, и имел относительно этого проекта некое поэтическое представление: затея не предполагала никакого усилия с его стороны. Санчо нанял агронома-американца, но прежде, чем в землю было высажено первое растение, он уже планировал покупку только что изобретенного комбайна по сбору хлопка, который, верилось ему, совершит революцию на этом рынке. Американец же и Мерфи предлагали чередовать культуры: когда земля устанет от тростника, сажать хлопок, и наоборот.
Единственной постоянной привязанностью в переменчивом сердце Санчо Гарсиа дель Солара был его племянник. Родился Морис маленьким и хрупким, но оказался гораздо более здоровым, чем предсказывал доктор Пармантье: мальчик если и страдал лихорадками, то только одним видом — от нервов. Но избыток здоровья уравновешивался недостатком твердости. Он был любознательным, чувствительным и часто плакал, предпочитал наблюдение за муравейником в саду или чтение вслух сказок Розетте участию в жестоких играх братьев Мерфи. Санчо, по характеру — полная противоположность Морису, защищал племянника от критики Вальморена. Чтобы не разочаровывать отца, Морис плавал в ледяной воде, скакал на необъезженных лошадях, подсматривал за рабынями, когда они купались, и кувыркался в пыли с братьями Мерфи, пока из разбитого носа не начинала капать кровь, но был решительно не способен стрелять в зайцев или потрошить живую жабу, чтобы узнать, что у нее внутри. В нем не было ни капли хвастовства, легкомыслия или задиристости, чем обычно отличались другие мальчики, которых воспитывали столь же снисходительно. Вальморен был обеспокоен молчаливостью и мягкосердечием своего сына: Морис всегда был готов встать на защиту самых обездоленных, а это казалось его отцу признаком слабости характера.
Мориса просто шокировало рабство, и ни один аргумент не был способен заставить его изменить свое мнение по этому вопросу. «И откуда он только берет эти идеи, если всю жизнь живет в окружении рабов?» — задавался вопросом его отец. У мальчика было глубокое и неискоренимое стремление к справедливости, но он очень рано научился не задавать слишком много вопросов на эту тему, потому что принимались они неохотно, а ответы его не удовлетворяли. «Это несправедливо!» — повторял он, испытывая боль от столкновения с любой формой произвола. «А кто тебе сказал, что жизнь справедлива, Морис?» — подавал свой голос дядюшка Санчо. И Тете ему говорила то же самое. Отец же разворачивал перед ним сложные речи о различных категориях, созданных природой, о том, что по этим категориям распределены человеческие существа и что они совершенно необходимы для стабильности общества, поскольку понятно же, что приказывать и руководить очень сложно, а подчиняться — всегда проще.
Ребенку не хватало ни зрелости мысли, ни нужных слов, чтобы разбить эти аргументы. У него было некое смутное представление о том, что Розетта не свободная, как он сам, хотя в их жизни этой разницы практически не ощущалось. Он не причислял Розетту и Тете к домашним рабам и уж тем более — к невольникам на плантации. Ему насовали в рот так много мыла, что он перестал звать ее сестрой, но, в общем-то, не из-за вкуса мыла во рту, а потому, что был в нее влюблен. Он любил ее той ужасной, собственнической, абсолютной любовью, какой любят одинокие дети, Розетта же отвечала ему ровной привязанностью — без ревности и тоски. Морис не представлял своего существования без нее, без ее нескончаемой болтовни, любопытства, детских ласк и того слепого восхищения, которое она ему выражала. С Розеттой он чувствовал себя сильным, защитником и мудрецом, потому что в ее глазах он таким и был. Он ревновал ее ко всему. Страдал, если она обращала внимание, хотя бы на мгновение, на любого из братьев Мерфи, если что-нибудь затевала, с ним не посоветовавшись, если что-то держала от него в секрете. Он чувствовал потребность разделять с ней все: самые интимные мысли, страхи и желания; властвовать над ней и в то же время служить ей со всей самоотверженностью. Три разделявших их года заметны не были, потому что она казалась старше своих лет, а он — моложе; она была высокой, сильной, изворотливой, живой и смелой, а он — невысоким, наивным, на чем-то сосредоточенным, стеснительным; она претендовала на то, чтобы завоевать весь мир, а он жил под гнетом окружающей реальности. Он заранее переживал те несчастья, которые могли разлучить их, она же была еще слишком мала, чтобы думать о будущем. Оба инстинктивно понимали, что их союз под запретом, что он как стеклянный — прозрачный и хрупкий и что им нужно защищать его постоянным притворством. В присутствии взрослых они вели себя со сдержанностью, которая казалась Тете подозрительной, и поэтому она за ними шпионила. И если заставала их в углу за ласками, растаскивала обоих за уши в ужасной, несоразмерной происшествию ярости, а потом, уже раскаявшись, зацеловывала каждого до полусмерти. Она не могла объяснить им, почему эти маленькие игры, такие обычные между другими детьми, в их случае были грехом. В те времена, когда они все трое спали в одной комнате, дети на ощупь искали друг друга в темноте, а потом, когда Морис спал уже один, Розетта пробиралась к нему в постель. Тете просыпалась посреди ночи без Розетты возле себя, и ей приходилось на цыпочках идти за ней в комнату мальчика. Она находила их спящими в обнимку, пока что совсем по-детски, невинно, но не настолько, чтобы не понимать, что они делают. «Если я тебя еще хоть раз найду в кровати Мориса, то задам тебе такую трепку, что ты у меня до конца жизни помнить будешь. Ты поняла меня?» — грозила Тете дочке в ужасе перед теми последствиями, в которые грозила вылиться эта любовь. «Да я ведь даже не знаю, как я там оказалась, мама», — плакала Розетта, да так убедительно, что мать ее и вправду поверила, что дочка бродит по дому как лунатик.
Вальморен пристально наблюдал за поведением сына, опасаясь, что он вырастет слабым или что в нем обнаружится склонность к душевному расстройству, как у его матери. Санчо эти опасения зятя казались абсурдными. Он ввел для племянника уроки фехтования, а также вызвался научить его собственной версии бокса: кулачные удары и пинки ногами исподтишка. «Тот, кто бьет первым, бьет дважды, Морис. Не жди, пока тебя спровоцируют, бей первым — ногой прямо по яйцам», — наставлял он его, пока мальчишка хныкал, стараясь увернуться от ударов. Спортсменом Морис был никудышным, зато пристрастился к чтению — привычка, унаследованная от отца, единственного плантатора Луизианы, который включил библиотеку в проект своего дома. В принципе Вальморен ничего не имел против книг, он и сам их собирал, но боялся, что от такого интенсивного чтения сын в конце концов превратится в никчемного франта. «Проснись, Морис! Ты должен стать мужчиной!» — говорил он и пускался в рассуждения о том, что женщины так и рождаются женщинами, а вот мужчинами мальчики становятся благодаря смелости и твердости. «Оставь его, Тулуз. Когда придет время, я сам возьму на себя труд устроить ему инициацию в мужских делах», — шутил Санчо, но Тете такие шутки не нравились.
Мачеха
Гортензия Гизо стала мачехой Мориса через год после праздника на плантации. Стратегию она обдумывала несколько месяцев, заручившись поддержкой дюжины сестер, теток и кузин, твердых в намерении покончить с драмой ее незамужнего положения, а также помощью своего отца, которому пришлась весьма по вкусу перспектива привлечь в свой курятник Вальморена. Семейство Гизо обладало сокрушительной респектабельностью, но было вовсе не таким богатым, каким пыталось себя представить, и союз с Вальмореном был для них чрезвычайно выгодным. Поначалу Вальморен не замечал существования плана, направленного на то, чтобы его женить, и полагал, что все знаки внимания семьи Гизо адресованы Санчо, который был моложе и привлекательнее его. Когда же сам Санчо указал ему на эту ошибку, у него возникло желание сбежать на другой континент: он очень комфортно чувствовал себя в своей уже устоявшейся холостяцкой жизни, и нечто столь непоправимое, как женитьба, его пугало.
— Да я едва знаком с этой барышней, видел ее очень мало, — привел он аргумент.
— Мою сестру ты тоже не знал, но прекрасно на ней женился, — напомнил ему Санчо.
— Ну это и вышло для меня боком!
— Холостые мужчины подозрительны, Тулуз. А Гортензия — прекрасная женщина.
— Ну и женись на ней сам, раз уж она тебе так нравится, — ответил Вальморен.
— Гизо меня уже прощупали, зять. И знают, что я всего лишь бедняк с разнузданными привычками.
— Менее разнузданными, чем привычки многих местных, Санчо. В любом случае жениться я не собираюсь.
Но зерно было брошено, и в последующие недели он уже начал обдумывать эту идею, сначала считая ее бредовой, а затем рассматривал как некую возможность. Он еще мог завести детей; он всегда хотел иметь большую семью, и сладострастная пышнотелость Гортензии виделась ему хорошей для этого предпосылкой: девица была просто создана для материнства и готова к нему. Он не знал, что она скрывала свои годы: на самом деле ей было тридцать.
Гортензия была креолкой с безукоризненной родословной и достаточным образованием: монахини-урсулинки научили ее азам чтения и письма, географии, истории, всяческим домашним искусствам, вышиванию и катехизису. Она изящно танцевала и имела неплохой голос. Никто не сомневался в ее добродетели, и она пользовалась всеобщей симпатией, раз уж из-за жениха, не способного удержаться в седле, ей выпало на долю остаться вдовицей еще до того, как она успела выйти замуж. Гизо являлись столпами традиции: отец унаследовал плантацию, а два старших брата Гортензии владели престижным адвокатским бюро, избрав единственную профессию, работать по которой не было зазорно для людей их класса. Происхождение Гортензии компенсировало скудость ее приданого, Вальморен же имел желание быть принятым в обществе не столько для себя, сколько для облегчения жизненного пути Мориса.
Запутавшись в крепкой паутине, сотканной женщинами, Вальморен согласился на помощь Санчо, взявшегося быть его проводником по трудной дороге ухаживаний, более изощренных в Луизиане, чем в Сан-Доминго или на Кубе, где он влюбился в Эухению. «Пока что никаких подарков или записок Гортензии, направь все свои усилия на ее мать. Ее одобрение — самое важное», — предупредил его Санчо. Девушки на выданье редко показывались на публике, разве что пару раз в опере в сопровождении всей семьи, потому что если они мозолили глаза, то «прогорали» и могли окончить свои дни старыми девами, воспитывая детей своих сестер, однако Гортензия пользовалась несколько большей степенью свободы. Она уже вышла из обычного возраста невесты — от шестнадцати до двадцати четырех — и вошла в категорию «лежалого товара».
Санчо и гарпии-свахи устроили так, что Вальморен и Гортензия были приглашены на один из soirées, как назывались семейные ужины с танцами для друзей, домашние балы, где в частном пространстве семейных очагов потенциальные пары могли перекинуться несколькими словами, хотя и не наедине. Протокол требовал от Вальморена поторопиться с объявлением своих намерений. Санчо сопровождал его в разговоре с господином Гизо, где без посторонних ушей были обговорены финансовые условия этого союза — вежливо, но предельно ясно. Вскоре была отпразднована помолвка — déjeuner de fiançailles — званый обед, в ходе которого Вальморен надел на палец своей невесте модное кольцо: рубин в окружении бриллиантов, оправленный в золото.
Отец Антуан, самый влиятельный священник Луизианы, обвенчал их в соборе во вторник, после обеда, без других свидетелей, кроме тех, что составляли узкий круг семьи Гизо — всего девяносто две персоны. Невеста высказалась за скромную свадьбу. В церковь вошли в сопровождении губернаторской гвардии, Гортензия щеголяла в шелковом платье, расшитом жемчугом, которое до нее в соответствующих случаях надевали ее бабушка, мать и несколько сестер. Оно было ей узко, хотя его и расставили по всем швам. После церемонии букет из флёрдоранжа и жасмина был отправлен монашкам: ему было предназначено лечь в часовне к ногам Пресвятой Девы. Прием был устроен в доме Гизо и являл собой обед с чередой пышных блюд, произведений той же банкетной компании, к которой Вальморен уже обращался, когда устраивал празднование у себя на плантации: начиненный каштанами фазан, гуси в маринаде, раки в пылающем коньяке, свежие устрицы, несколько видов рыбы, черепаховый суп и более сорока видов десерта, не считая свадебного торта — весьма прочного сооружения из марципанов и орехов.
Когда родственники разошлись, Гортензия, облаченная в муслиновую сорочку и с рассыпанной по плечам рыжей гривой, ожидала мужа в своей девичьей комнате, в которой родители заменили ее старую девическую кровать другой — с балдахином. В те годы настоящий фурор производили кровати новобрачной с балдахином из синего шелка, долженствующего изображать чистое небо, и с целым выводком пухленьких купидонов с луками и стрелами, букетиками искусственных цветов и кружевными бантами.
Молодожены провели запертыми в этой комнате три дня, как того требовал обычай; им прислуживала пара рабов, приносивших еду и выносивших ночные вазы. Было бы оскорбительно для новобрачной появляться на публике, даже перед собственной семьей, в то время пока она познавала секреты плотской любви. Задыхаясь от жары и скучая взаперти, мучась головной болью от обилия юношеских прыжков в свои годы и к тому же прекрасно сознавая, что снаружи не меньше полудюжины родственников не отрывают уха от двери, Вальморен понял, что он женился не только на Гортензии, но и на всем племени Гизо. Наконец на четвертый день он смог выйти из своего заточения и вместе с женой уехать на плантацию, где они будут учиться познавать друг друга на просторе, с большей свободой и при большем количестве воздуха. Как раз на этой неделе начинался летний сезон, и все выезжали за город.
Гортензия никогда не сомневалась в том, что заполучит Вальморена. Еще до того, как за дело взялись безжалостные сводни, она заказала монашкам вышивать простыни с их переплетенными инициалами. Но и другие, с инициалами прежнего жениха, что она годами хранила переложенными лавандой в своем сундуке надежды, тоже не пропали: она просто велела нашить на буквы аппликации из цветочков и эти простыни пошли на гостевые комнаты. В качестве части приданого она получила Денизу — рабыню, которая служила ей с пятнадцати лет и была единственной, кто умел ее причесать и выгладить платья по ее вкусу, а также одного домашнего раба, которого отец отдал ей в виде свадебного подарка, когда она выразила свое недоверие к мажордому на плантации Вальморена. Ей был нужен кто-то, кому она могла полностью доверять.
Санчо снова спросил у Вальморена, как он думает поступить с Тете и Розеттой, ведь скрыть это дело не было никакой возможности. Многие белые содержали свободных цветных женщин, но всегда отдельно от своей законной семьи. Случаи же с рабыней-наложницей были особыми. После женитьбы хозяина связь прекращалась, и следовало отделаться от женщины, которую продавали или отправляли работать в поле, чтобы супруга ее не видела. Держать же любовницу и ее дочь в том же доме, что собирался устроить Вальморен, было совершенно недопустимо. Семейство Гизо и сама Гортензия, конечно, поймут, что в годы вдовства он искал утешение в объятиях рабыни, но теперь пришло время эту проблему решить.
Гортензия уже видела Розетту, когда девочка танцевала с Морисом на празднике, и, возможно, у нее и зародились некие подозрения, хотя Вальморен полагал, что в шуме и суматохе она не слишком обратила на это внимание. «Не будь простаком, зять, у женщин нюх на такие дела», — ответил Санчо. В тот день, когда Гортензия с целой свитой своих сестер пришла взглянуть на городской дом, Вальморен приказал Тете увести Розетту и не появляться в доме до конца визита. Он не желал принимать скоропалительных решений, как объяснил он Санчо. Верный своему характеру, он предпочел отсрочить принятие решения, ожидая, что все решится само собой. Гортензии на эту тему он ничего не сказал.
Какое-то время хозяин еще спал с Тете, когда они оказывались под одной крышей, но он не счел нужным сообщить ей, что собирается жениться: она узнала об этом из слухов, разнесшихся с быстротой ветра. На том празднике на плантации и при нескольких случайных встречах на Французском рынке Тете приходилось поговорить с Денизой, рабыней Гортензии. От этой женщины, совершенно не умевшей держать язык за зубами, Тете и узнала, что ее будущая хозяйка по характеру вспыльчива и ревнива. Знала она и то, что любое изменение в ее жизни приведет только к худшему и она не сможет защитить Розетту. И теперь, теряя голову от ярости и страха, Тете еще раз убедилась в том, как мало она может сделать. Если бы хозяин допустил ее до себя, она бросилась бы ему в ноги, из благодарности исполнила бы любые его капризы, что угодно, лишь бы оставить все как было. Но с тех пор как было объявлено о помолвке с Гортензией Гизо, хозяин больше не звал ее в свою постель. «Эрцули, лоа-мать, спаси и сохрани хотя бы Розетту». Понукаемый Санчо, Вальморен придумал временное решение: Тете останется с девочкой в городском доме с июня по ноябрь, пока он с семьей будет жить на плантации; так у него будет время подготовить Гортензию. Для Тете это означало еще шесть месяцев неопределенности.
Гортензия разместилась в комнате, декорированной в голубых имперских тонах, где она спала одна, потому что ни она, ни ее муж не имели привычки делать это в чьей-либо компании; к тому же после удушающего медового месяца каждому из них просто необходимо было собственное пространство. Ее детские игрушки — жуткие куклы со стеклянными глазами и человеческими волосами — украшали комнату, а ее мохнатые собачонки спали на кровати, огромном ложе шириной два метра, с резными опорами, балдахином, подушками, занавесочками, бахромой и помпончиками. На кровати красовалась и думка, собственноручно вышитая юной Гортензией еще в школе при монастыре урсулинок. А сверху нависало все то же синее шелковое небо с толстыми ангелочками, которое подарили ей на свадьбу родители.
Новобрачная вставала после обеда, проводя две трети своей жизни в кровати, откуда она и управляла чужими судьбами. В первую брачную ночь, еще под родительским кровом, она приняла мужа в дезабилье, вырез которого был окаймлен лебяжьими перьями. Выглядел он очень эффектно, но нужного впечатления на Вальморена не произвел, потому что перья вызывали у него безудержное чихание. Однако это неудачное начало не воспрепятствовало тому, чтобы брак совершился: Вальморен был даже приятно удивлен тем, что супруга отвечала на его желания с большей щедростью, чем когда-либо обнаруживали Эухения или Тете.
Гортензия была девственной, но отчасти. Как-то ей удалось посмеяться над семейной бдительностью и разузнать о таких вещах, о которых девушкам знать не положено. Погибший жених лег в могилу, не подозревая, что она с жаром отдалась ему в своем воображении и продолжала отдаваться все последующие годы в укромном уединении своей постели, терзаемая неудовлетворенным желанием и неудачной любовью. Необходимую дидактическую информацию поставляли ей замужние сестры. Экспертами они не были, но, по крайней мере, знали, что любой мужчина ценит некоторые проявления энтузиазма, хотя и ограниченные, чтобы не возбудить подозрений. Гортензия на свой страх и риск решила, что и она, и ее муж уже не в том возрасте, чтобы быть чересчур стеснительными. Сестры сказали ей, что лучший способ прибрать мужа к рукам — притвориться дурочкой и ублажать его в постели. Первое для нее должно было стать гораздо более трудной задачей, чем второе, потому что уж что-что, но глупой она не была.
Вальморен как подарок судьбы принял чувственность жены, не задаваясь вопросами, ответы на которые он предпочитал не знать. Разящим доводом являлись прелести Гортензии, своими округлостями и ямками напоминавшие ему тело Эухении до ее помешательства, когда оно еще выплескивалось из платьев, а без одежды казалось слепленным из миндального теста: бледное, мягкое, благоухающее, само воплощение изобилия и сладости. Потом-то несчастная Эухения вся ссохлась, как чучело, и он мог обнимать ее, только почерпнув смелости в алкоголе и будучи в полном отчаянии. В золотистом отсвете свечей Гортензия ласкала взгляд: пышнотелая нимфа с мифологических полотен. Он почувствовал возрождение своей мужской силы, которую считал уже непоправимо угасшей. Жена возбуждала его, как когда-то Виолетта Буазье в квартире на площади Клюни и Тете в годы своего пышного расцветания, когда она из девочки становилась девушкой. Его изумлял этот жар, приходивший каждую ночь, а иногда и днем, когда он неожиданно являлся к жене в испачканных грязью сапогах и заставал ее с вышивкой в руках, обложенной подушками на кровати, сгонял собачек и набрасывался на нее, радуясь тому, что вновь чувствовал себя восемнадцатилетним. Во время одной из таких атак с чистого неба балдахина свалился точеный ангел, угодив ему прямо в макушку, и он на несколько минут потерял сознание. Очнулся Вальморен в холодном поту, потому что в туманном бессознательном состоянии ему явился его старинный друг Лакруа, чтобы потребовать назад свое сокровище, которое тот у него украл.
В постели Гортензия проявляла лучшие черты своего характера. Она позволяла себе легкомысленные шутки: например, связать крючком изящный чехольчик с завязочками для «штучки» своего мужа или — еще более рискованную — засунуть себе в задний проход куриную кишку и заявить, что у нее выпадают из зада внутренности. В результате стольких кувырканий в расшитых монашками простынях они в конце концов полюбили друг друга, как она и предвидела. Они оказались просто созданы для сообщничества брака, поскольку являли собой полные противоположности: он был боязлив, нерешителен и легко поддавался влиянию, а она обладала той непреклонной решительностью, которой ему не хватало. Вместе они смогут свернуть горы!
Санчо, приложивший столько усилий к женитьбе своего зятя, первым понял, что представляет собой Гортензия, и первым раскаялся. За пределами своей голубой спальни Гортензия становилась совсем другим человеком: мелочной, скупой и занудной. Только музыка была способна ненадолго приподнять ее над свойственным ей сокрушительным здравым смыслом, освещая ее ангельским сиянием в те минуты, пока дом был наполнен трепетными трелями, от которых цепенели рабы и начинали скулить домашние собачонки. Она провела много лет в неблагодарной роли старой девы и была сыта по горло тем обращением к себе, в котором сквозило плохо скрытое презрение. Гортензия желала, чтобы ей завидовали, а для этого муж ее должен был подняться высоко. Вальморену потребуется много денег, чтобы компенсировать и отсутствие корней среди старых креольских фамилий, и тот прискорбный факт, что он явился из Сан-Доминго.
Санчо поставил перед собой задачу избежать таких возможных последствий, как разрушение этой женщиной братско-приятельских отношений между ним и его зятем, и принялся улещивать ее всеми известными ему способами. Однако Гортензия оказалась невосприимчивой к потоку очарования, который в ее глазах не мог привести к немедленным практическим результатам. Санчо ей не нравился, и она держала его на расстоянии, хотя и вела себя с ним вежливо, чтобы не ранить своего мужа, слабость которого к брату первой жены была для нее совершенно необъяснимой. Для чего ему нужен этот Санчо? Плантация и городской дом принадлежали мужу, и он прекрасно мог отделаться от этого партнера, который ничего не принес в дело. «Сам план перебраться в Луизиану принадлежит Санчо, он задумал это еще до революции в Сан-Доминго и тогда же купил землю. Меня бы здесь не было, если бы не он», — объяснил ей Вальморен, когда она об этом спросила. Для Гортензии мужская верность была разновидностью бесполезной и обременительной сентиментальности. Плантация только начинала подниматься, нужно было еще по меньшей мере года три, чтобы можно было считать ее успешной, и пока ее муж вкладывал деньги, трудился и экономил, тот только сорил деньгами, как граф какой-нибудь. «Санчо мне как брат», — заявил Вальморен, собираясь закрыть гему. «Но он им не является», — последовал ответ.
Гортензия все позакрывала на замок, исходя из убеждения, что слуги воруют, и ввела жесткий режим экономии, который парализовал весь дом. Куски сахара, которые откалывались зубилом от твердого как камень конуса, что висел под потолком на крюке, пересчитывались, прежде чем попасть в сахарницу, и кто-то вел учет его расхода. Остававшаяся на столе еда уже не отдавалась рабам, как делалось всегда, а использовалась для приготовления других блюд. Целестина разбушевалась. «Если вы хотите есть остатки от остатков и крошки от крошек, то я вам не нужна: любой негр с плантации сможет быть вашим поваром», — заявила она. Хозяйка терпеть ее не могла, но всем было известно, что приготовленные кухаркой лягушачьи лапки с чесноком, цыплята с апельсинами, гумбо из свинины и корзиночки из слоеного теста с лангустами не имеют себе равных, и когда пару раз к ним поступили заинтересованные предложения купить Целестину за огромные деньги, Гортензия решила оставить ее в покое и обратила свое внимание на рабов в поле. Она сочла, что вполне можно постепенно сократить им питание в той же мере, в какой будет усилена дисциплина, без ущерба для производительности. Если эта система давала неплохой результат с мулами, стоило опробовать ее на рабах. Вальморен сначала воспротивился этим мерам, потому что они не имели ничего общего с его первоначальным проектом, но его супруга аргументировала свою позицию тем, что в Луизиане все так делают. План продержался неделю, пока Оуэн Мерфи не взорвался в такой вспышке ярости, что содрогнулись деревья, и хозяйка была вынуждена скрипя зубами согласиться на то, что поля, как и кухня, не входят в сферу ее влияния. Мерфи победил, но настроение на плантации изменилось. Домашние рабы ходили на цыпочках, а работавшие в поле боялись, что хозяйка рассчитает Мерфи.
Гортензия без конца переводила с места на место и отсылала слуг, будто переставляла фигуры в нескончаемой шахматной партии. Из-за этого никто никогда не знал, у кого что нужно спрашивать и никто не имел четкого представления о своих обязанностях. Это раздражало хозяйку, и дело заканчивалось тем, что она хлестала рабов арапником, который никогда не выпускала из рук, так же как другие дамы не выпускают из рук веера. Она убедила Вальморена продать мажордома и вместо него поставила раба, которого привезла с собой из родительского дома. Этот человек носил все ключи, шпионил за всеми домашними слугами и все доносил своей хозяйке. Процесс изменений в доме занял не так много времени, потому что она пользовалась безусловным одобрением мужа, которого ставила в известность о своих решениях между двумя гимнастическими упражнениями в постели: «Иди ко мне, любовь моя, покажи мне, как развлекаются семинаристы». И вот тогда, когда жизнь в доме уже была устроена по ее вкусу, Гортензия почувствовала себя в силах, чтобы взяться наконец за три все еще не решенные проблемы: Морис, Тете и Розетта.
Зарите
Хозяин женился, уехал со своей женой и Морисом на плантацию, и я осталась на несколько месяцев в городском доме одна с Розеттой. С детьми, когда их разлучали, случилась настоящая истерика, а потом еще несколько недель они ходили надутые, во всем виня мадам Гортензию. Моя дочь не была с ней знакома, но Морис описал ей мадам, насмехаясь над ее пением, ее собачонками, платьями и манерами; она была ведьмой, захватчицей, мачехой, толстухой. Он отказался называть ее maman, а поскольку отец не разрешал ему обращаться к ней по-другому, мальчик вообще перестал с ней разговаривать. Ему велели здороваться с ней поцелуем, а он всегда ухитрялся обслюнявить ей лицо или оставить там остатки пищи, пока сама мадам Гортензия не освободила его от этой обязанности. Морис писал Розетте записки и посылал ей гостинцы, которые попадали к ней через дядю Санчо, а она отвечала ему рисунками и теми словами, что уже умела писать.
Это было время неопределенности, но в то же время и свободы, ведь меня никто не контролировал. Дон Санчо большую часть своего времени проводил в Новом Орлеане, но в детали не вдавался: ему хватало того, что его обслуживали и выполняли то немногое, о чем он просил. Он увлекся той квартеронкой, из-за которой дрался на дуэли, некой Ади Супир, и проводил больше времени с ней, чем с нами. Я навела справки об этой женщине, и мне совсем не понравилось то, что я услышала. В свои восемнадцать она прослыла легкомысленной и корыстолюбивой: о ней говорили, что ей уже удалось обобрать нескольких претендентов. Так мне рассказывали. Я не решилась предупредить дона Санчо: он бы рассердился. По утрам вместе с Розеттой я ходила на Французский рынок, где вместе с другими рабынями мы садились в теньке поговорить. Некоторые мухлевали со сдачей с хозяйских денег и покупали себе стакан прохладительного напитка или дюжину свежих устриц, приправленных лимонным соком, но у меня никто денег не проверял, и воровать мне было не нужно. Это ведь было еще до того, как в городской дом переехала мадам Гортензия. Многие заглядывались на Розетту, которая в своем нарядном платьице и лаковых туфельках выглядела девочкой из хорошей семьи. Мне всегда нравился рынок с его фруктовыми и овощными прилавками, щедро приправленной специями фритангой, галдящей толпой покупателей, предсказателей будущего и шарлатанов, грязными индейцами, что продают корзины, увечными нищими, покрытыми татуировками пиратами, монахами и монахинями, уличными музыкантами.
Однажды в среду я пришла на рынок с опухшими глазами, потому что проплакала всю ночь, думая о будущем Розетты. Подруги меня так расспрашивали, что в конце концов я поведала о страхах, что не давали мне заснуть. Рабыни посоветовали мне обзавестись защитным гри-гри, но у меня уже был один из этих амулетов — изготовленный служителем вуду мешочек с травами, косточками, моими и дочкиными ногтями. И он ничем мне не помог. Кто-то сказал мне об отце Антуане, испанском священнике с большим сердцем, который служит, не делая различий, и господам, и рабам. Народ его обожает. «Сходи-ка к нему на исповедь, он просто волшебник», — посоветовали мне. Я никогда не исповедовалась, потому что в Сан-Доминго те рабы, которые решались на это, расплачивались за свои грехи в этом мире, а не в другом, но мне не к кому было пойти, и поэтому я взяла Розетту и отправилась к нему. Ждать пришлось довольно долго, я была последней в очереди страждущих, и каждый — со своими прегрешениями и просьбами. Когда подошла моя очередь, я не знала, что делать, ведь я никогда не была так близко к католическому хунгану. Отец Антуан был еще довольно молод, но с лицом старика, длинным носом, темными добрыми глазами, жесткой, как конская грива, бородой и черепашьими лапами в потрепанных сандалиях. Он подозвал нас рукой, потом поднял Розетту и усадил ее на колени. Дочка не стала сопротивляться, хотя от него пахло чесноком, а коричневая сутана была очень потертой.
— Мама, смотри! У него волосы в носу, а в бороде — крошки, — объявит, к моему ужасу, Розетта.
— Я очень страшный, — ответил он, смеясь.
— А я красивая, — заявила она.
— Это правда, детка, и в этом случае Бог простит тебе грех тщеславия.
Его французский звучал как простуженный испанский. Пошутив несколько минут с Розеттой, он спросил меня, чем может мне помочь. Я послала дочку играть, чтобы она меня не слышала. Эрцули, лоа-подруга, прости меня, не думала я приближаться к Иисусу белых людей, но полный любви голос отца Антуана разоружил меня, и я снова расплакалась, хотя накануне ночью выплакала много слез. Слезы никогда не кончаются. Я рассказала ему, что наша судьба висит на волоске, что новая хозяйка черства сердцем и, как только заподозрит, что Розетта — дочь ее мужа, станет мстить, но не ему, а нам.
— Откуда ты это знаешь, дочь моя? — спросил он меня.
— Все становится известным, mon pére.
— Никому не дано знать будущее, только Богу. Иногда то, чего мы больше всего боимся, оказывается благом. Двери этой церкви всегда открыты, можешь приходить когда захочешь. Возможно, Господь позволит мне помочь тебе, когда придет время.
— Я боюсь Бога белых людей, отец Антуан. Он еще более жестокий, чем Проспер Камбрей.
— Чем кто?
— Главный надсмотрщик плантации в Сан-Доминго. Я не служительница Иисуса, mon pére. Для меня есть лоа, которые следовали за моей матерью из Гвинеи. Я принадлежу Эрцули.
— Да, дочь моя, я знаком с твоей Эрцули, — улыбнулся священник. — Мой Бог — это твой Папа Бондьё, но под другим именем. Твои лоа — как мои святые. В сердце человека найдется место для разных богов.
— Но вуду запрещено в Сан-Доминго, mon pére.
— Здесь ты можешь продолжать свое вуду, дочь моя, это никого не касается, если только не поднимать шум и не доводить до скандала. Воскресенье — Божий день, приходи утром на мессу, а вечером пойдешь на площадь Конго плясать со своими лоа. В чем проблема?
Он дал мне грязную тряпку — свой носовой платок, чтобы вытереть слезы, но я предпочла подол своей юбки. Когда мы уже уходили, он сказал мне о монахинях-урсулинках. Тем же вечером я поговорила с доном Санчо. Так оно было.
Сезон ураганов
Гортензия Гизо стала ветром обновления в жизни Вальморена, наполнившим его оптимизмом, в противоположность тому, что почувствовали остальные члены семьи и люди на плантации. Иной раз в выходные супружеская пара принимала в загородном доме гостей в полном соответствии с креольскими понятиями о гостеприимстве, по визиты стали сокращаться и очень скоро вовсе иссякли, когда стало очевидным неудовольствие Гортензии в тех случаях, когда кто-то являлся без приглашения. С тех пор Вальморены проводили свои дни в одиночестве. По официальной версии, Санчо, как и множество других связанных со своими семьями холостяков, жил с ними, но виделись они редко. Санчо подыскивал предлоги, чтобы избегать встреч, и Вальморен уже скучал по товарищеским отношениям, связывавшим их с давних пор. Теперь же он проводил часы играя в карты с женой, слушая ее бренчание на пианино или за книгой, пока она одну за другой рисовала картинки с барышнями на качелях или котятами, играющими клубками шерсти. Гортензия порхающим в ее руках крючком торопилась навязать салфеток, чтобы покрыть ими все имеющиеся в доме поверхности. Руки у нее были белые и изящные, округлые, с идеальными ногтями, как нельзя лучше подходящие для таких занятий, как вязание и вышивка, ловко управляющиеся с клавишами, смелые в любви. Говорили супруги мало, но прекрасно понимали друг друга, обмениваясь любящими взглядами и воздушными поцелуями, отсылаемыми из одного кресла в другое в огромной столовой, где они ужинали вдвоем: Санчо появлялся в доме изредка, а Морис, когда был с ними, по предложению Гортензии ел вместе со своим наставником на лужайке в саду, когда погода позволяла, или же в маленькой столовой — так он сможет использовать и это время, чтобы продолжать свое обучение. Морису было девять лет, но вел он себя, по мнению Гортензии, как маленький: у нее была дюжина племянников, и она считала себя настоящим экспертом в воспитании детей. Ему нужно приобрести опыт общения с мальчиками своего класса, не только с этими Мерфи, такими неотесанными. Он слишком избалован, похож на девочку, нужно поставить его лицом к суровой жизни, говорила она.
Вальморен помолодел, сбрил бакенбарды и немного похудел — по причине ночных трюков в постели и рахитичных порций, которые подавались теперь за столом. Он открыл для себя супружеское счастье, какого с Эухенией испытать не пришлось. Даже панический страх перед восстаниями рабов, что последовал за ним из Сан-Доминго, отступил на задний план. Плантация не лишала его сна, потому что Оуэн Мерфи отличался достойной всяческих похвал эффективностью, а то, что не успевал сделать сам, он поручал своему сыну Брендану, крепкому, как и отец, и практичному, как его мать, подростку, который верхом на коне работал с шести лет.
Линн Мерфи родила седьмого ребенка, точно такого же, как и его братья, крепенького и черноволосого, однако она находила время и на госпиталь для рабов, куда отправлялась ежедневно, толкая перед собой коляску с младенцем. Линн терпеть не могла свою хозяйку, не желала видеть ее даже на портрете. В первый же раз, когда Гортензия попыталась сунуться на ее территорию, она встала перед ней со сложенными на груди руками и с выражением ледяного спокойствия. Именно так уже в течение пятнадцати лет подчиняла она себе выводок Мерфи, и тот же эффект дала эта тактика в случае с Гортензией. Если бы главный надсмотрщик не был таким хорошим работником, Гортензия Гизо отделалась бы от них от всех, чтобы только раздавить это ирландское насекомое, но производство интересовало ее в первую очередь. Отец ее, плантатор старого закала, говаривал, что сахар кормит уже несколько поколений Гизо и нет никакой необходимости в экспериментах, но при помощи американского агронома она уяснила себе преимущества хлопка и, как и Санчо, понимала выигрышность этой культуры. Без Оуэна Мерфи ей было не обойтись.
В августе большую часть Нового Орлеана накрыл мощный ураган; ничего серьезного, случалось это часто, и никого особенно не тревожил вид превратившихся в каналы улиц и заполненных грязной водой дворов. Жизнь продолжалась как обычно, с тем единственным отличием, что стало мокро. В этом году пострадавших было немного, разве что мертвецы-бедняки показались из своих могил, плавая на поверхности в грязном месиве, однако мертвые богачи так и покоились в своих мавзолеях с миром, не подвергаясь такому бесчестью, как растаскивание своих костей бродячими псами. На некоторых улицах вода доходила до колена, и появились носильщики, которые за умеренную плату переносили на закорках всех желающих из одного места в другое; дети же наслаждались возможностью поваляться в лужах среди мусора и конского навоза.
Врачи, вечные алармисты, предупредили, что грядет жуткая эпидемия, но отец Антуан организовал процессию со Святыми Дарами, и никто не посмел смеяться над таким способом усмирения погодных катаклизмов, потому что он всегда оказывался действенным. К тому времени священник уже обладал славой святого, хотя в городе он обосновался всего лишь три года назад. Он останавливался здесь и раньше, в 1790-м, когда инквизиция послала его в Новый Орлеан с миссией изгнания евреев, наказания еретиков и распространения истинной веры огнем и мечом; но фанатиком он не был и только обрадовался, когда возмущенные жители Луизианы, мало расположенные терпеть в своих краях инквизитора, без долгих размышлений отправили его обратно в Испанию. Вернулся он в 1795-м как настоятель собора Сен-Луи, только что отстроенного на месте его сгоревшего предшественника. Он приехал с намерением терпимо относиться к евреям, закрывать глаза на еретиков и распространять веру с помощью сострадания и благотворительности. Он принимал всех без разбору, не проводя различий между свободными и рабами, преступниками и законопослушными гражданами, добродетельными дамами и женщинами легкого поведения, а также ворами, корсарами, адвокатами, палачами, ростовщиками и отлученными от церкви. Все помещались, плечо к плечу, в его церкви. Епископы презирали его, считая самовольным, но ведомая им паства неизменно вставала на его защиту. Отец Антуан, в своей сутане капуцина и с бородой апостола, был духовным светочем этого грешного города. На следующий день после его процессии вода ушла с улиц, и в этом году обошлось без эпидемий.
Дом Вальморена был единственным во всем городе, который пострадал от наводнения. Вода до их улицы не дошла, однако она, пузырясь липким потом, выступила из-под пола. Фундамент годами героически сопротивлялся пагубной сырости, но эта коварная атака его сразила. Санчо нанял бригадира с целой армией каменщиков и плотников, и они начали работу, заставив весь первый этаж лесами, ломами и грузоподъемными блоками. Всю мебель подняли на второй этаж, и он оказался сплошь загроможден ящиками и покрытой простынями мебелью. Во дворе пришлось вскрывать брусчатку, устанавливать дренаж и сносить домики домашних рабов, потонувшие в жидкой грязи.
Несмотря на все неудобства и расходы, Вальморен был даже доволен, потому что этот бардак предоставлял ему еще одну отсрочку для решения проблемы Тете. Во время их с женой совместных наездов в Новый Орлеан, которые он совершал по делам, а она — чтобы не пренебрегать светской жизнью, они останавливались в доме Гизо, несколько тесноватом, но все же там было лучше, чем в отеле. Гортензия не изъявила никакого желания взглянуть на работы, но потребовала, чтобы дом был готов к октябрю: так семья сможет провести зимний сезон в городе. Жить в полях, конечно, очень полезно для здоровья, но нужно же и занять свое место среди порядочных людей — людей их социального класса! Они и так уже слишком долго отсутствуют.
Санчо приехал на плантацию, когда ремонтные работы в доме были завершены, — как всегда, шумный, но со сдерживаемым нетерпением человека, которому нужно срочно решить некий неприятный вопрос. Гортензия заметила это и тут же инстинктивно поняла, что это связано с рабыней, чье имя так и висело в воздухе, этой наложницей. Каждый раз, когда Морис спрашивал о ней или о Розетте, Вальморен заливался краской. Гортензия затянула ужин и игру в домино, чтобы не дать мужчинам ни малейшей возможности поговорить с глазу на глаз. Она боялась влияния Санчо, которого считала своим противником, и ей было нужно время, чтобы в постели подготовить своего мужа к любой неожиданности. В одиннадцать вечера Вальморен, зевая, стал потягиваться и объявил, что пора спать.
— Я должен поговорить с тобой наедине, Тулуз, — сказал Санчо, вставая.
— Наедине? У меня от Гортензии секретов нет, — добродушно ответил тот.
— Ну конечно же нет, но речь идет о мужских делах. Пойдем в библиотеку. Прошу прощения, Гортензия, — произнес Санчо, бросая взглядом женщине вызов.
В библиотеке их уже поджидал мажордом в белых перчатках — под предлогом, что им понадобится коньяк, но Санчо приказал ему выйти и закрыть за собой дверь, а потом повернулся к зятю и припер его к стенке, потребовав решить судьбу Тете. До начала октября оставалось одиннадцать дней, а дом был уже готов принять семью.
— Я не собираюсь ничего менять. Эта рабыня будет продолжать служить, как и прежде, и в ее интересах делать это как можно лучше, — объявил загнанный в угол Вальморен.
— Ты обещал ей свободу, Тулуз, даже подписал бумагу.
— Да, но я не желаю, чтобы на меня давили. Я сделаю это в свое время. Когда дойдет до дела, я все расскажу Гортензии. И уверен, что она поймет. Почему тебя так это интересует, Санчо?
— Потому что будет очень и очень жаль, если это нанесет ущерб твоему браку.
— Этого не случится. Неужели язык у кого-нибудь повернется сказать, что я первый, кто спал с рабыней?! Санчо, бога ради!
— А Розетта? Ее присутствие будет унижать Гортензию, — настаивал Санчо. — Ведь в глаза бросается, что она твоя дочь. Но у меня есть идея, как убрать ее с глаз долой. Монахини-урсулинки принимают цветных девочек и дают им такое же образование, как и белым, но раздельно, конечно. Розетта могла бы провести несколько лет в этом монастыре.
— Не вижу в этом необходимости, Санчо.
— Документ, который показала мне Тете, включает и Розетту. Когда она получит свободу, ей нужно будет зарабатывать на жизнь, а для этого требуется хоть какое-то образование, Тулуз. Или ты собираешься содержать ее всю жизнь?
В эти дни в Сан-Доминго вышел декрет, в соответствии с которым все колонисты, проживающие где бы то ни было за пределами острова, исключая Францию, будут сочтены предателями, а их собственность подлежит конфискации. Некоторые эмигранты были готовы вернуться, чтобы потребовать свои земли, но Вальморен колебался: не было никаких оснований полагать, что расовая ненависть утихла. Он решил последовать совету своего старого агента в Ле-Капе, который, чтобы избежать конфискации, предложил ему письмом временно оформить Сен-Лазар на его имя. Гортензия расценила это как верх глупости: ясно же, что человек этот присвоит себе плантацию, но Вальморен доверял старику, который служил его семье на протяжении более чем тридцати лет, и, так как она не могла предложить никакой альтернативы, он так и сделал.
Туссен-Лувертюр стал главнокомандующим вооруженными силами; он напрямую общался с правительством Франции и заявил, что готов дать отставку половине своего войска, с тем чтобы люди вернулись на плантации в качестве свободных работников. Свобода эта была относительной: их принуждали отработать три года под надзором военных, и в глазах многих негров это было не более чем замаскированным возвратом к рабству. Вальморен думал съездить ненадолго в Сан-Доминго, чтобы своими глазами оценить обстановку, но Гортензия подняла крик до небес. Она была на пятом месяце беременности, и муж не может покинуть ее в таком положении и рисковать своей жизнью на этом несчастном острове, да еще и пересекая море в разгар сезона ураганов. Вальморен отложил поездку и обещал ей, что если вернет себе собственность на острове, то отдаст ее в руки управляющего, а сам будет жить с семьей в Луизиане. На пару месяцев это успокоило Гортензию, но затем она вбила себе в голову, что им не стоит вкладывать деньги в Сан-Доминго. Это был тот единственный раз, когда Санчо был с ней вполне согласен. У него об острове осталось самое неблагоприятное впечатление, которое он вынес из тех двух раз, когда приезжал навещать сестру Эухению. Он предложил продать Сен-Лазар первому же желающему и с помощью Гортензии дожал Вальморена, уступившего после нескольких месяцев сомнений. Эта земля связана с отцом, с их фамилией, его юностью, говорил он, но все его аргументы разбивались о жестокую реальность: колония представляла собой арену, на которой люди разных цветов кожи убивали друг друга.
Между тем скромный Гаспар Северен вернулся в Сан-Доминго, не обращая внимания на предупреждения других беженцев, которые продолжали стекаться в Луизиану тонкой печальной струйкой. Новости, которые они привозили с собой, были угнетающими, но Северену не удалось адаптироваться, и он предпочел вернуться к семье, хотя так и не смог избавиться от кровавых кошмаров, да и руки у него по-прежнему дрожали. Он вернулся бы таким же нищим, как и приехал, если бы Санчо Гарсиа дель Солар не вручил ему некую скромную сумму в виде кредита, как он выразился, хотя оба они знали, что кредит этот никогда не вернется. Северен и отвез агенту Вальморена его доверенность на продажу земли. Он нашел его по старому адресу, хотя и в новом доме: от прежнего при пожаре Ле-Капа осталась только зола. И среди складированных для отправки за море товаров, сгоревших в подвалах, был и ореховый гроб с серебряными уголками Эухении Гарсиа дель Солар. Старик продолжал заниматься делами, продавая то немногое, что производила колония, а также ввозя из Соединенных Штатов сборные дома из кипарисового дерева, которые составлялись из деталей наподобие детского конструктора. Спрос на эти дома не иссякал, потому что любая стычка между противниками заканчивалась пожаром. При этом уже не было покупателей на товары, которые приносили ему немалые прибыли в прошлом, — ткани, шляпы, инструменты, мебель, кандалы, котлы для патоки…
Два месяца спустя после отъезда учителя Вальморен получил ответ агента: нашелся покупатель на Сен-Лазар — мулат, офицер армии Туссена. Он мог заплатить очень немного, но был единственным заинтересованным лицом, и агент рекомендовал Вальморену принять это предложение, потому что со времени освобождения негров и гражданской войны за землю никто не дает ни гроша. Гортензии пришлось признать, что она полностью ошиблась в оценке агента и он оказался гораздо более честным, чем можно было бы ожидать в эти бурные времена, когда стрелка морального компаса сошла со своего привычного места. Агент продал собственность, взял свои комиссионные и отправил Вальморену оставшиеся деньги.
Под ударами арапника
С отъездом Северена частные уроки Мориса закончились, и началось его мучение в школе для мальчиков из высшего общества Нового Орлеана, где он ничему не учился, но вынужден был противостоять драчунам, нападавшим на него с жестоким наслаждением. Это сделало его не более решительным, как ожидали отец и мачеха, а лишь более осторожным, о чем и предупреждал дядя Санчо. К нему вернулись мучительные ночные кошмары со сценами казней в Ле-Капе, и пару раз он снова описался в кровати, но об этом никто не узнал, потому что Тете тайком выстирала простыни. Морис был лишен даже сочувствия Розетты, поскольку отец не позволял ему навещать ее в школе урсулинок, а также запретил упоминать о ней в присутствии Гортензии.
Тулуз Вальморен с чрезвычайным страхом ждал встречи Гортензии с Тете, не зная, что по обычаям Луизианы столь банальное дело не стоило ни скандала, ни сцены. Среди Гизо, как и в любой креольской семье, никто не осмелился бы оспорить действия патриарха; женщины всегда смирялись с прихотями мужа, пока эти прихоти не выходили за рамки приличий, а за эти рамки они никогда и не выходили. Только супруга и законные дети имели вес в этом мире, а также и в грядущем; считалось абсолютно недостойным ревновать к рабыне — лучше приберечь это чувство для знаменитых свободных квартеронок Нового Орлеана, способных подчинить себе волю мужчины до самого его последнего хрипа. Но даже в случае наличия дорогих содержанок дама из хорошей семьи притворялась, что ничего не знает, и оставалась нема как рыба — так воспитали и Гортензию. Ее мажордом, оставленный на плантации руководить многочисленным персоналом домашней прислуги, подтвердил ее подозрения относительно Тете.
— Месье Вальморен купил ее, когда ей было около девяти лет и вывез с собой из Сан-Доминго. Это его единственная известная любовница, хозяйка, — сообщил он.
— А девчонка?
— До женитьбы месье обращался с ней как с дочерью, и барчук Морис любит ее, как сестру.
— Моему пасынку еще многому придется научиться, — буркнула Гортензия.
Она увидела плохой знак в том, что муж прибегал к таким сложностям, пытаясь в течение месяцев удержать эту женщину в отдалении от нее: возможно, она его все еще волнует. Однако тот день, когда Вальморены переступили порог своего городского дома, ее успокоил. Перед хозяевами выстроились в ряд служанки с белыми наколками, и во главе этой шеренги стояла Тете. Пока Вальморен с нервной любезностью представлял их друг другу, его жена мерила взглядом рабыню с головы до пят и обратно, чтобы вынести вердикт: эта не представляет соблазна ни для кого и тем более для мужа, который кормится с ее руки. Мулатке было на три года меньше, чем ей, но Тете уже была попорчена работой и отсутствием ухода за собой: ноги — в мозолях, груди обвисли, на лице — мрачное выражение. Гортензия признала, что та стройна и выглядит для рабыни достойно, да и лицо ее не лишено интереса. И пожалела, что муж ее оказался таким мягким: эта женщина просто зазналась. В последующие дни Вальморен окружил Гортензию повышенным вниманием, что она восприняла как явное желание унизить свою бывшую любовницу. «Не стоит тебе даже беспокоиться, — подумала она, — труд поставить ее на место я возьму на себя», — но Тете не давала ни малейшего повода для неудовольствия. Дом ждал хозяйку в безупречном порядке: не осталось ничего, что напомнило бы о грохоте молотков, болоте во дворе, облаках пыли и запахе пота от рабочих. Каждая вещь стояла на своем месте, камины были вычищены, гардины постираны, балконы полны цветов, а комнаты проветрены.
Сначала Тете работала в страхе и молчании, но спустя неделю, изучив привычки и мании своей новой хозяйки, немного расслабилась и только изо всех сил старалась ее не спровоцировать. Гортензия была требовательна и несгибаема: если уж она отдала приказание, то каким бы абсурдным оно ни было, но должно было быть исполнено. Она обратила внимание на руки Тете — удлиненные элегантные кисти — и поставила ее стирать белье, а прачка целыми днями прохлаждалась во дворе, потому что Целестина не хотела брать ее в помощницы: женщина была неуклюжа как медведь и от нее пахло щелоком. Потом Гортензия решила, что Тете не может уходить отдыхать раньше ее, и Тете приходилось ждать одетой, пока хозяева не вернутся домой после светских раутов, хотя вставала она на рассвете и вынуждена была работать целый день, чуть не падая от недосыпа. Вальморен попытался вступиться, сказав, что это излишне, поскольку гасить лампы и закрывать дом — это обязанности мальчика на посылках, а раздевает ее Дениза, но Гортензия настояла. Со слугами она была деспотом, они должны были терпеть ее крики и удары, однако ей не хватало ни ловкости, ни времени, чтобы, как на плантации, взяться за свой арапник — она распухла от беременности и была очень занята выходами в свет, вечерами и спектаклями, а также заботами о своей красоте и здоровье.
После обеда Гортензия несколько часов посвящала голосовым упражнениям, а также одеванию и причесыванию. Она не появлялась на людях до четырех-пяти часов, когда уже была наряжена к выходу и готова к тому, чтобы полностью уделять свое внимание Вальморену. Пришедшая из Франции мода была как раз для нее: платья светлых тонов из легких тканей с греческим орнаментом, высокая талия, широкие юбки со складками и непременная кружевная шаль на плечах. Шляпы представляли собой монументальные конструкции из страусиных перьев, лент и тюля, и Гортензия сама занималась внесением изменений в их внешний вид. В полном соответствии с собственной идеей о том, что можно использовать остатки обеда для приготовления других блюд, обновляла она и шляпы: снимала помпоны с одной, чтобы прикрепить их к другой, убирала цветы со второй, чтобы украсить ими первую, и даже красила перья, да так, что они не теряли формы, и в итоге каждый день щеголяла в новой шляпе.
Однажды субботней ночью, когда они уже недели две прожили в городе, Гортензия, возвращаясь из театра в карете, спросила у мужа о дочке Тете.
— А где эта маленькая мулатка, дорогой? Я не видела ее с тех пор, как мы сюда приехали, да и Морис все время о ней спрашивает, — невинным тоном задала она свой вопрос.
— Ты имеешь в виду Розетту? — произнес Вальморен, заикаясь и ослабляя узел галстука.
— Ее так зовут? Ей, должно быть, столько же лет, что и Морису, верно?
— Ей будет семь. Она довольно высокая. Не думал, что ты о ней вспомнишь, ведь видела ты ее только раз, — ответил Вальморен.
— Она очень мило выглядела, когда танцевала с Морисом. По возрасту ей уже нора работать. Мы можем получить за нее хорошие деньги, — высказалась Гортензия, поглаживая мужа по подбородку.
— В мои планы не входит продавать ее, Гортензия.
— Но у меня уже есть на нее покупатель! Моей сестре Оливии она очень понравилась на том празднике, и сестра хотела бы подарить девочку своей дочке, когда ей исполнится пятнадцать, через пару месяцев. Неужели я должна отказать сестре?
— Розетта не продается, — повторил он.
— Надеюсь, тебе не придется жалеть об этом, Тулуз. От этой соплячки нам нет никакой пользы, а проблемы из-за нее получить мы можем.
— Я больше не желаю это обсуждать! — воскликнул муж.
— Пожалуйста, не кричи на меня… — прошептала Гортензия, обхватив круглый живот затянутыми в перчатки ручками и чуть не плача.
— Извини меня, Гортензия. Как же жарко в карете! Мы примем решение позже, дорогая, спешить незачем.
Она поняла, что совершила промах. Ей нужно было действовать, как ее мать и сестры, которые дергали за ниточки, но в тени, умно, не открываясь перед своими мужьями и заставляя их поверить в то, что они сами принимают решения. Брак — это как идти по хрупкой яичной скорлупе: двигаться приходится очень и очень осторожно.
Когда живот ее стал слишком заметен и она была вынуждена оставаться дома — ни одна дама не показывалась в обществе с наглядным свидетельством того, что она вступала в плотскую связь, — Гортензия заняла позицию: полулежа в кровати, она вязала, как тарантул. Не двигаясь с места, она в точности знала обо всем, что происходило в ее владениях: светские сплетни, местные новости, секреты своих подруг и каждый шаг несчастного Мориса. Только Санчо удавалось избегать ее всевидящего взгляда: он был таким неорганизованным и непредсказуемым, что уследить за ним было невозможно. Гортензия родила на Рождество, в доме, битком набитом женщинами семейства Гизо, а роды у нее принимал лучший врач Нового Орлеана. Тете и другим слугам рук не хватало, чтобы обслуживать гостей. Несмотря на зиму, было душно, и пришлось отрядить двух рабов приводить в движение вентиляторы в гостиной и комнате хозяйки.
Гортензия была уже не первой молодости, и доктор предупредил, что возможны осложнения, но меньше чем за четыре часа родилась девочка — такая же рыженькая, как и все Гизо. Тулуз Вальморен, коленопреклоненный возле постели супруги, объявил, что малютка будет зваться Марией-Гортензией, как и положено перворожденной дочери, и все в умилении захлопали в ладоши, кроме Гортензии, которая разрыдалась от ярости, потому что ждала мальчика, который оспорит у Мориса наследство.
Кормилицу поселили в мансарде, а Тете была вышвырнута в маленькую клетушку во дворе, которую она разделила с двумя другими рабынями. По мнению Гортензии, эту меру следовало применить намного раньше, чтобы отбить у Мориса дурную привычку забираться в кровать к рабыне.
Маленькая Мария-Гортензия отвергала сосок так решительно, что врач посоветовал заменить кормилицу, пока ребенок не погиб от истощения. Этот совет совпал по времени с крестинами, отмеченными обедом из шедевров кулинарного репертуара Целестины: молочным поросенком с черешнями, утками в маринаде, морепродуктами с пряностями, несколькими видами гумбо, черепашьим панцирем, фаршированным устрицами, кондитерскими изделиями французской кухни и многоэтажным тортом, увенчанным фарфоровой колыбелькой. В соответствии с обычаем крестная мать должна была быть из семьи матери ребенка, и в данном случае ею должна была стать одна из сестер, а крестный отец — из семьи отца. Но Гортензия не желала, чтобы такой рассеянный человек, как Санчо, единственный родственник ее мужа, был моральным охранителем ее дочери, и чести этой был удостоен один из ее братьев. В тот день каждый гость получил подарок — наполненную засахаренным миндалем серебряную шкатулочку с именем девочки, а рабам было выдано по нескольку мелких монет. Пока гости уплетали за обе щеки, крещеная малышка ревела от голода, отвергнув и вторую кормилицу. Третья тоже не продержалась больше двух дней.
Тете пыталась не обращать внимания на отчаянный плач ребенка, но сердце ее не выдержало, воли не хватило, и она явилась к Вальморену с рассказом о том, что когда-то тетушка Роза столкнулась с подобным случаем в Сен-Лазаре и вышла из положения при помощи козьего молока. Пока искали козу, она поставила на огонь рис, хорошенько его разварила, добавила туда шепотку соли и ложечку сахара, процедила и дала девочке отвар. Через четыре часа она приготовила похожую кашу, но на этот раз овсяную; и вот так, каша за кашей, да с молоком козы, которую она доила во дворе, спасла малышку, «Порой эти негритянки знают больше, чем кто бы то ни было» — таков был комментарий удивленного доктора. Тогда Гортензия решила, что Тете должна вернуться в мансарду, чтобы ходить за ее дочкой весь день. Поскольку в свет хозяйка все еще не выезжала, Тете не приходилось ждать петухов, чтобы пойти спать, малютка же по ночам не беспокоила, и наконец она смогла отдохнуть.
Хозяйка, обложенная собачками, провела в постели почти три месяца — перед горящим камином и с открытыми гардинами, чтобы впустить зимнее солнце, развеивая свою скуку женскими визитами и поедая сладости. Никогда еще она так не ценила Целестину. Когда же она наконец положила конец своему длительному отдыху — по настоянию матери и своих сестер, обеспокоенных этой ленью одалиски, — то обнаружилось, что на ней не сходится ни одно платье, и ей пришлось носить те, что были в ходу во время беременности, подвергнув их необходимым изменениям, чтобы они сошли за новые наряды. Гортензия вынырнула из своей прострации с новыми претензиями, вознамерившись насладиться всеми городскими удовольствиями, пока сезон не закончился и не пришло время ехать на плантацию. В сопровождении мужа или подруг она отправлялась на долгие неспешные прогулки по широкой дамбе, по праву называемой самой длинной дорогой в мире, — бульвару, изобилующему очаровательными уголками. Там всегда можно встретить прогулочные коляски, барышень под надзором дуэний, совершающих променад верхом молодых людей, которые искоса поглядывали на барышень, а также всякую шантрапу, невидимую взгляду Гортензии. Иногда вперед она высылала пару рабов, которые несли ее собачек и корзину с полдником, а сама медленно шла сзади, сопровождаемая Тете с Марией-Гортензией на руках.
В эти дни маркиз де Мариньи блеснул своим гостеприимством, предложив его Луи-Филиппу, принцу Франции, который жил в изгнании с 1793 года, а в то время находился в Луизиане с продолжительным визитом. Мариньи унаследовал огромное состояние в возрасте пятнадцати лет, и ходили слухи, что он является самым богатым человеком в Америке. Если он таковым и не был, то делал все возможное, чтобы им казаться: сигары он, например, прикуривал от горящих банкнот. Его расточительство и экстравагантность достигали таких масштабов, что столбенел даже декадентский высший класс Нового Орлеана. Отец Антуан со своей кафедры громил это выставляемое напоказ изобилие, напоминая пастве, что скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем богач попадет в рай, но его призывы к воздержанию и умеренности входили прихожанам в одно ухо, а выходили в другое. Самые надменные семейства ползали на коленях, чтобы заполучить приглашение Мариньи, и ни один верблюд, каким бы библейским он ни был, не заставил бы их отказаться от этого торжества.
Гортензия и Тулуз получили приглашение не вследствие своих фамилий, как они того ожидали, а благодаря Санчо, который уже давно стал своим человеком в сообществе гуляк де Мариньи и между двумя глотками шепнул ему на ухо, что его зять с супругой ни о чем другом не мечтают, как познакомиться с принцем. У Санчо с молодым маркизом было много общего — такая же героическая отвага и готовность рискнуть жизнью на дуэли по поводу надуманной обиды, такая же неистощимая энергия, направленная на развлечения, такая же чрезмерная тяга к игре, лошадям, женщинам, хорошей кухне и спиртному — и такое же божественное пренебрежение к деньгам. Санчо Гарсиа дель Солар заслуживает звания чистокровного креола, заявлял Мариньи, который ставил себе в заслугу способность с закрытыми глазами распознать настоящего кабальеро.
В назначенный для бала день дом Вальморена оказался в состоянии чрезвычайной ситуации. Выполняя срочные и категоричные приказы Гортензии, слуги сновали с самого рассвета то вверх, то вниз по лестнице — с ведрами горячей воды для ванны, кремами для массажа, мочегонными настоями, чтобы за три часа избавиться от накопившихся за годы жировых складок; мазью для отбеливания кожи, туфлями, платьями, шалями, лентами, драгоценностями, косметикой. Портниха не справлялась с работой, а парикмахер-француз упал в обморок, и пришлось приводить его в чувство, растирая уксусом. Вальморен, почувствовав, что в этом яростном коллективном сумасшествии ему места нет, отправился вместе с Санчо убивать время в «Кафе эмигрантов», где никогда не было недостатка в приятелях, готовых сделать ставку в карточной партии. Наконец, когда парикмахер и Дениза закончили укреплять башню из кудрей Гортензии, украшенную перьями фазана и золотой брошью с бриллиантами — частью гарнитура, в который входили еще колье и серьги, — наступил торжественный момент ее облачения в выписанное из Парижа платье. Дениза и портниха принялись натягивать его снизу, чтобы не испортить прическу. Это было необыкновенное творение с белыми оборками и обильной драпировкой, придающее Гортензии умопомрачительный вид огромной греко-римской статуи. Когда же они попытались застегнуть на спине хозяйки застежку — тридцать восемь малюсеньких перламутровых пуговиц, то убедились, что, несмотря на все потуги и усилия, платье не сходится, поскольку мочегонное питье не помогло убрать очередные два килограмма, появившиеся за последнюю неделю — от нервов. Гортензия испустила вопль, от которого чуть было не разлетелись вдрызг люстры, и созвала всех обитателей дома.
Дениза и портниха отступили в угол и сползли на пол — дожидаться смерти, но Тете, не так хорошо знавшая свою хозяйку, имела несчастье высказать идею скрепить платье маленькими булавочками и замаскировать их широкой лентой пояса. Гортензия в ответ вновь издала визг расстроенного музыкального инструмента, схватила арапник, который всегда был у нее под рукой, и, изрыгая проклятия забулдыги-матроса, набросилась со всей накопленной злобой на нее — мужнину любовницу, распаляясь к тому же от раздражения, обращенного против самой себя — за то, что растолстела.
Тете упала на колени, сжавшись, закрывая руками голову. Час! Час! — свистел хлыст, и каждый стон рабыни подливал масла в костер ярости хозяйки. Восемь, девять, десять ударов упали как горячие вспышки, а Гортензия, красная, потная, с развалившейся высокой прической, не выказывала никаких признаков насыщения.
В этот момент в комнату, как бешеный бык, влетел Морис, растолкав тех, кто, словно в параличе, наблюдал эту сцену, и ужасной силы толчком, абсолютно неожиданным в мальчике, который все одиннадцать лет своей жизни старательно избегал насилия, швырнул свою мачеху на пол. Потом выхватил у нее арапник и нанес удар, нацеленный прямо в лицо, но попавший Гортензии по шее, лишив ее воздуха и возможности кричать. Он поднял руку, собираясь продолжить, настолько же вне себя, насколько за секунду до этого была его мачеха, но Тете подползла, насколько это было в ее силах, и отдернула его назад. Второй удар хлыста пришелся на складки муслинового платья Гортензии.
Невольничья деревня
Мориса отправили в школу-интернат в Бостон, где строгие американские учителя непременно сделают из него мужчину, о чем уже столько раз предупреждал его отец, а этот результат достигается применением дидактических и дисциплинарных методов по военному образцу. Морис уехал, имея при себе лишь сундучок со скромными пожитками, в сопровождении нанятого для этой цели человека, который оставил мальчика на пороге заведения, похлопав в знак утешения по плечу. Проститься с Тете ему не удалось, потому что на следующее же утро после порки она без всяких рассуждений была отправлена на плантацию вместе с инструкциями для Оуэна Мерфи немедленно поставить ее на резку тростника. Главный надсмотрщик увидел Тете по приезде всю покрытую вздувшимися следами ударов, каждый толщиной с канат, которым привязывают волов (правда, ни один из этих ударов, не попал, к счастью, ей на лицо), и отослал ее в больницу к своей жене. Линн, занятая трудными родами, велела ей наложить на раны мазь алоэ, пока сама она не сможет отойти от молодой рабыни, исходившей криком в ужасе от той бури, что вот уже несколько часов сотрясала ее тело.
Линн, родившая семерых сыновей быстро и без особых усилий — ее цыплячье тело просто выплевывало их меж двух «Отче наш», — поняла, что сейчас у нее в руках весьма серьезная проблема, просто беда. Она отвела Тете в сторонку и шепотом, чтобы не слышала роженица, сказала, что ребенок в неправильном положении и что у него нет ни единого шанса выйти наружу. «Ни одна женщина до сих пор не умирала у меня при родах, эта будет первой», — шепнула она. «Дайте мне взглянуть, мадам», — попросила Тете. Она уговорила мать, чтобы та позволила провести обследование, смазала маслом руку и своими тонкими и опытными пальцами убедилась в том, что роженица готова и что диагноз Линн был точен. Сквозь туго натянутую кожу она угадывала очертания ребенка, словно видела его. Заставила женщину встать на колени, упершись головой в пол и подняв зад, чтобы уменьшить давление на таз, а сама тем временем массировала ей живот, чтобы развернуть ребенка — снаружи. Ей еще не приходилось проделывать все это самой, но она видела, как эти действия совершала тетушка Роза, и не забыла их. Тут вскрикнула Линн: сжатый кулачок показался из родовых путей. Тете аккуратно, чтобы не вывернуть сустав, стала заталкивать ручку обратно, пока она не скрылась в материнском теле, и терпеливо продолжила свое дело. Через какое-то время, показавшееся очень долгим, она почувствовала движение ребенка, который медленно разворачивался, и вот в конце концов показалась головка. Тете не удалось сдержать благодарных слез, и ей показалось, что она видит тетушку Розу, которая стоит возле нее и улыбается.
Они с Линн поддерживали роженицу, которая поняла, что от нее требуется, и помогала, а не отбивалась, полумертвая от ужаса; ее заставили ходить по кругу, разговаривая с ней, ласково поглаживая. Снаружи уже давно село солнце, и тут они поняли, что уже темно. Линн зажгла сальную лампу, и они снова принялись ходить по кругу, пока не настал момент принимать ребенка. «Эрцули, лоа-мать, помоги ему родиться», — вслух взмолилась Тете. «Святой Рамон Нонато, услышь меня, не позволишь же ты, чтобы африканская святая тебя опередила», — в тон ей ответила Линн, и обе расхохотались. Посадили роженицу на корточки над чистым холстом, удерживая под руки, и через десять минут Тете уже держала в руках синюшного младенца, которого она заставила дышать, шлепнув по попке, а Линн перерезала в это время пуповину.
Когда мать была уже чистой и с ребенком на груди, они убрали окровавленные тряпки и другие свидетельства родов и уселись на скамеечку возле двери немного отдохнуть под черным, усыпанным звездами небом. Здесь и нашел их Оуэн Мерфи, подошедший с качающимся в одной руке фонарем и кувшином с горячим кофе в другой.
— Ну как дела? — поинтересовался этот внушительных размеров мужчина, передавая им кофе, но не слишком-то приближаясь, потому что женские секреты внушали ему трепет.
— У твоего патрона уже есть новый раб, а у меня — помощница, — ответила ему жена, показывая на Тете.
— Не усложняй мне жизнь, Линн. У меня приказ поставить ее в рабочую бригаду на тростник, — промямлил Мерфи.
— С каких это пор приказы кого-то другого ты ставишь выше моих? — улыбнулась она, вставая на цыпочки, чтобы дотянуться поцелуем до его шеи, где кончалась черная борода.
Так все и решилось, и никто ни о чем не спросил, потому что Вальморен ничего не хотел знать, а Гортензия сочла для себя закрытым это нудное дело, связанное с любовницей, и выкинула его из головы.
На плантации Тете жила в домике с тремя другими женщинами и двумя детьми. Она поднималась, как и все вокруг, с рассветным колоколом и весь день занималась больницей, кухней, скотиной и тысячей других дел, которые поручали ей главный надсмотрщик и Линн. По сравнению с капризами Гортензии эта работа казалась ей нетрудной. Она всегда прислуживала в доме, и когда ее послали в поле, то подумала, что приговорена к медленной казни, как это было в Сен-Лазаре. И представить себе не могла, что найдет здесь нечто похожее на счастье.
На плантации было почти двести рабов, некоторые родом из Африки или с Антильских островов, но большая часть — местные, из Луизианы, объединенные необходимостью взаимопомощи и несчастьем принадлежать другому человеку. После вечернего колокола, когда бригады возвращались с поля, в деревне начиналась настоящая жизнь. Семьи собирались вместе и, пока еще было светло, проводили время на улице, поскольку в домиках не хватало ни места, ни воздуха. Из общей кухни плантации присылался суп, который развозили на телеге, а люди добавляли к нему овощи, яйца и, если был повод что-то отпраздновать, курятину или зайчатину. У этих людей всегда было чем заняться — приготовить еду, что-то сшить, полить огород, починить крышу. Если не было ни дождя, ни холода, женщины всегда находили время, чтобы поболтать, а мужчины — поиграть в камешки на нарисованном на земле поле или побренчать на банджо. Девушки делали друг другу прически, дети бегали по улицам. Время от времени люди собирались в кружок послушать какую-нибудь историю. Самыми любимыми были сказки о Брасе Купе, одинаково наводившие ужас и на детей, и на взрослых, — истории об одноруком негре-гиганте, что бродил по болотам и уже больше ста раз избежал смерти.
Это общество имело сложную иерархическую структуру. Больше всего ценились хорошие охотники, которых Мерфи посылал на поиски мяса для супа: оленей, птицы, диких свиней. На верхних ступенях также стояли те, кто владел каким-либо ремеслом, — например, кузнецы или плотники, а наименьшей ценностью обладали только что прибывшие. Командовали бабушки, но главным авторитетом пользовался проповедник, которому был поручен уход за мулами, волами и тягловыми лошадьми. Это был человек лет пятидесяти, такого темного оттенка кожи, что она казалась синей. Своим чарующим баритоном он вел религиозные песнопения, рассказывал жития святых своего собственного сочинения и служил арбитром в спорах, ведь никто не хотел выносить свой сор за пределы этой избы. Надсмотрщики, хоть они и сами были рабами и жили вместе с другими, друзей почти не имели. Домашние рабы заглядывали в деревню, но им не были рады, потому что они важничали, одевались и ели лучше и вполне могли быть хозяйскими шпионами. Тете приняли со сдержанным уважением, потому что уже стало известно о том, что она смогла развернуть ребенка в чреве матери. По ее собственным словам, это было чудо, совершенное совместно Эрцули и святым Рамоном Нонато, и это объяснение удовлетворило всех, даже Оуэна Мерфи, который никогда ничего не слышал об Эрцули и принял ее за католическую святую.
В часы отдыха надсмотрщики оставляли рабов в покое: ничего похожего на вооруженные патрули, отчаянный лай огромных псов или крадущегося в тени со свернутым хлыстом Проспера Камбрея, что охотится за одиннадцатилетней девственницей для своего гамака. После ужина появлялся Оуэн Мерфи с Бренданом, своим сыном, — бросить последний взгляд и убедиться, что все в порядке, прежде чем он отправится к себе домой, где ждет семья, чтобы вместе поужинать и помолиться. Он никак не реагировал, если посреди ночи разносился запах жареного мяса — свидетельство того, что в темноте кто-то вышел поохотиться на опоссума. Пока человек появлялся утром на работе вовремя, никаких карательных мер не принималось.
Как и везде, недовольные рабы портили инструменты, поджигали посадки и плохо обращались с животными, но это были всего лишь отдельные случаи. Некоторые напивались, и всегда находился кто-нибудь, кто бежал в госпиталь с выдуманной хворью, чтобы немного отдохнуть. Настоящие же больные скорее доверяли традиционным средствам: пластинам картофеля, приложенным к больному месту, жиру каймана для пораженных артрозом суставов, отвару из рыбьих костей от глистов и индейским корешкам против колик. Попытки Тете использовать некоторые рецепты тетушки Розы ни к чему не приводили: никто не хотел экспериментировать на собственном здоровье.
Тете убедилась в том, что очень немногие из ее товарищей одержимы идеей побега, как в Сан-Доминго, и если они и сбегали, то, как правило, возвращались сами дня через два-три, устав бродить по болотам, или же попадались в руки дорожным патрулям. Их пороли и отправляли назад с позором: горячим сочувствием они ни у кого не пользовались, ведь никто не хотел для себя проблем. Бродячие монахи и Оуэн Мерфи не уставали вдалбливать им понятие о добродетели смирения, воздаяние за которое ожидает их на небесах, где все души будут наслаждаться равным счастьем. Тете казалось, что все это годилось больше для белых, чем для черных, — было бы гораздо полезнее, если бы счастье распределялось поровнее уже в этом мире, — но она не решилась поставить этот вопрос перед Линн по той же причине, по которой отстаивала мессы с самым кротким выражением лица, — чтобы не обижать. Христианству хозяев она не доверяла. Религия вуду, которую она практиковала на свой манер, тоже отличалась фатализмом, но здесь она, по крайней мере, могла ощутить божественную силу на себе — когда в нее вселялись лоа.
До того как Тете стала жить среди других рабов, она и не подозревала, какой одинокой была ее жизнь, не знающая другой любви, кроме любви Мориса и Розетты, без кого бы то ни было, с кем она могла бы разделить воспоминания и надежды. Она очень быстро привыкла к этим людям, вот только скучала по детям. По ночам они снились ей одинокими, испуганными, и у нее разрывалось сердце.
— В следующий раз, когда Оуэн поедет в Новый Орлеан, он привезет тебе весточку от дочки, — пообещала ей Линн.
— А когда он поедет, мадам?
— Только тогда, когда его пошлет в город хозяин, Тете. Поездка в город обходится дорого, а мы экономим каждый сентаво.
Мерфи мечтали купить землю и возделывать ее вместе со своими детьми, как и многие другие эмигранты, некоторые мулаты и свободные негры. Таких больших плантаций, как у Вальморена, было немного, в основном это были средние или маленькие участки, обрабатываемые очень скромными семьями, которые если и владели несколькими рабами, то жили так же, как их рабы. Линн рассказала Тете, что в Америку она попала на руках своих родителей, которые нанялись на плантацию на десять лет, чтобы расплатиться за путешествие на корабле из Ирландии, но на практике это не слишком отличалось от рабства.
— А ты знаешь, Тете, что есть и белые рабы? Они стоят дешевле, чем черные, потому что не такие сильные. За белых женщин платят дороже. Понимаешь, конечно, для чего их используют.
— Я никогда не видела белых рабов, мадам.
— На Барбадосе их много, да и здесь встречаются.
Родители Линн не учли, что их хозяева будут брать с них за каждый съеденный кусок хлеба и высчитывать за каждый день, когда они не вышли на работу, даже если это случалось из-за погодных условий, так что долг, вместо того чтобы уменьшаться, только рос.
— Отец умер после двенадцати лет тяжелой работы, а мы с матерью протянули еще несколько лет, пока Бог не послал нам Оуэна, который влюбился в меня и истратил все свои сбережения, чтобы погасить наш долг. Вот так мы с матерью вновь получили свободу.
— Никогда бы не подумала, что вы были рабыней, — взволнованно проговорила Тете.
— Моя мать тогда уже была больна и вскоре умерла, но она все же увидела меня свободной. Я знаю, что значит рабство. Теряется все — надежда, достоинство и вера, — прибавила Линн.
— А месье Мерфи… — запнулась Тете, не зная, как задать вопрос.
— Мой муж добрый человек, Тете, он старается облегчить жизнь своих людей. Ему не нравится рабство. Когда у нас будет своя земля, мы будем работать на ней сами, только с нашими детьми. Поедем на север, там будет проще.
Желаю всем вам удачи, мадам Мерфи, но, если вы уедете, мы здесь осиротеем.
Капитан Свобода
Доктор Пармантье прибыл в Новый Орлеан в начале 1800 года, три месяца спустя после того, как Наполеон Бонапарт провозгласил себя первым консулом Франции. Из Сан-Доминго доктор уехал в 1794-м, когда уже более тысячи белых — не солдат, а гражданских колонистов — погибли от рук мятежников. Среди них оказалось несколько его знакомых, и это обстоятельство, а также уверенность в том, что больше он не в состоянии жить без Адели и детей, повлияли на его решение. После отправки семьи на Кубу он так и работал в госпитале Ле-Капа, надеясь, вопреки всякому здравому смыслу, что революционная буря утихнет и его близкие смогут вернуться. Ему удалось избежать облав и заговоров, а также уцелеть при нападениях и массовых убийствах только потому, что он был одним из тех немногих медиков, кто еще оставался в Сан-Доминго, и Туссен-Лувертюр, уважавший эту профессию как никакую другую, взял его под свою личную защиту. Но даже больше, чем о защите, речь шла о секретном приказе лишить его свободы передвижения, — приказе, который Пармантье удалось нарушить лишь с помощью тайного сообщничества одного из наиболее приближенных к Туссену офицеров, его доверенного лица капитана Ла Либерте.[20] Несмотря на свою молодость — ему только что исполнилось двадцать, — капитан успел доказать свою абсолютную лояльность, он находился подле своего генерала и днем и ночью вот уже несколько лет, и генерал считал его образцом настоящего воина, храброго и осторожного. Не безрассудные, бросающие вызов смерти герои выиграют в этой долгой войне, говорил Туссен, а те, кто, как Ла Либерте, хочет жить. Он давал капитану самые деликатные поручения, полагаясь на его скромность, и самые рискованные — рассчитывая на его хладнокровие. Капитан был еще подростком, когда пришел воевать под началом Туссена: почти голый и без иного капитала, кроме своих быстрых ног, заточенного, как наваха, ножа для резки тростника и своего африканского имени. Туссен произвел парня в капитаны после того, как тот в третий раз спас ему жизнь. В тот раз вождь другой группировки восставших устроил Туссену засаду под Лимбе. В этой засаде погиб брат Туссена, Жан-Пьер. Месть Туссена была мгновенной и окончательной: лагерь предателя был стерт с лица земли. На рассвете, во время неспешной беседы, пока выжившие копали братские могилы, а женщины собирали трупы, чтобы они не стали поживой стервятников, Туссен спросил юношу, за что тот сражается.
— За то же, за что все мы сражаемся, мой генерал, — за свободу! — ответил он.
— Так она у нас уже есть, рабство отменено. Однако мы можем в любой момент и потерять ее.
— Только если мы все друг друга предадим, генерал. А все вместе мы — сила.
— Путь свободы тернист, сынок. Иногда может казаться, что мы отступаем, заключаем соглашения, теряем из виду революционные принципы… — зашептал генерал, глядя на него своим острым как кинжал взглядом.
— Я был при тех переговорах, когда вожди предложили белым вернуть негров в рабство в обмен на свободу для них самих, их семей и нескольких офицеров, — проговорил в ответ молодой человек, понимая, что его слова могут быть восприняты как упрек или провокация.
— В военной стратегии очень немного ясного, мы движемся среди теней, — пояснил Туссен не моргнув глазом. — Иногда приходится и торговаться.
— Да, мой генерал, но не такой ценой. Ни один из нас, ваших солдат, не вернется в рабство. Все мы предпочтем смерть.
— И я тоже, сынок, — сказал Туссен.
— Сожалею о смерти вашего брага, Жан-Пьера, генерал.
— Мы с Жан-Пьером друг друга очень любили, но частная жизнь должна быть принесена на алтарь общего дела. Ты очень хороший солдат, парень. Я произведу тебя в капитаны. Тебе, верно, захочется получить фамилию? Какую можешь предложить?
— Ла Либерте, мой генерал, — ответил тот без малейшего колебания, отдав честь по всем правилам армейской дисциплины, которую войска Туссена скопировали с французов.
— Хорошо. С этого момента ты станешь Гамбо Ла Либерте, — сказал Туссен.
Капитан Ла Либерте решил помочь доктору Пармантье незаметно покинуть остров, положив на весы строгое выполнение своих обязанностей, которому научил его Туссен, и тот долг благодарности, который он имел перед доктором. Благодарность перевесила. Белые уезжали, как только получали паспорт и решали свои финансовые проблемы. Большая часть женщин и детей уже уехала на другие острова или в Соединенные Штаты, но мужчинам паспорт было получить непросто, потому что Туссену нужны были мужчины — пополнять армию и управлять плантациями. Колония была почти парализована, не хватало ремесленников, крестьян, коммерсантов, чиновников и профессионалов во всех областях, излишек наблюдался только среди бандитов и проституток, которые выживали при любых обстоятельствах. Гамбо Ла Либерте был в долгу перед скромным доктором за руку генерала Туссена и за свою собственную жизнь. После того как с острова эмигрировали монахини, Пармантье наладил работу военного госпиталя с помощью отряда медсестер, обученных им самим. Он был единственным врачом и единственным белым человеком в госпитале.
Во время атаки на форт Белер пушечное ядро раздробило пальцы Туссену — рана сложная и грязная, очевидный повод для ампутации, но генерал полагал, что такое решение должно приниматься только в самом крайнем случае. Еще в бытность «доктором листьев» — а за плечами у него была богатая врачебная практика — Туссен предпочитал сохранять пациентов в целости, насколько это возможно. Он обернул руку лепешкой из трав, сел верхом на своего благородного коня, знаменитого Бель-Аржана, и в сопровождении Гамбо Ла Либерте галопом поскакал в госпиталь Ле-Капа. Пармантье осмотрел рану, удивляясь тому, что без всякого лечения и пропылившись в дороге она не воспалилась. Он попросил пол-литра рома, чтобы одурманить пациента и двоих ординарцев, чтобы держали пациента, но Туссен от помощи отказался. Он был трезвенник и никогда не позволял прикасаться к себе никому, кто не имел отношения к его семье. Пармантье проделал мучительную для пациента работу по очистке раны и одну за другой поставил на место каждую косточку — все это при внимательном взоре генерала, который в качестве единственного утешения стискивал зубами толстый кусок кожи. Когда доктор закончил бинтовать руку и повесил ее на перевязь, Туссен выплюнул изжеванную кожу, вежливо поблагодарил и попросил обслужить и его капитана. Только тогда в первый раз взглянул Пармантье на человека, который сопровождал генерала до госпиталя, и увидел, что тот стоит со стеклянным взглядом, прислонившись к стене, а под ним уже натекла лужа крови.
За те пять недель, которые продержал его в госпитале Пармантье, одной ногой в могиле Гамбо стоял раза два, но каждый раз возвращался к жизни с улыбкой и отчетливыми воспоминаниями о том, что он видел в гвинейском раю. Там ждал его отец и всегда звучала музыка, под тяжестью плодов гнулись фруктовые деревья, овощи росли сами собой, а рыбы выпрыгивали из воды и ловились голыми руками. Там все были свободными: это был остров под морем. Он потерял очень много крови, которая вылилась через три дырки, пробитые в его теле пулями: две угодили в бедро, а третья — в грудь. Пармантье дни и ночи проводил возле него в нелегком поединке со смертью, не думая сдаваться, поскольку капитан пришелся ему по душе. Молодой офицер отличался недюжинной храбростью — той самой, которой хотелось бы обладать самому доктору.
— Сдается мне, что где-то я вас раньше видел, капитан, — сказал он ему во время одной из немилосердных лечебных процедур.
— А! Я вижу, вы из тех белых, что не способны отличить одного негра от другого, — пошутил Гамбо.
— В моем деле цвет кожи мне без надобности, кровь из всех течет одинаково, но должен вам признаться, что порой мне довольно трудно отличить одного белого от другого, — отозвался Пармантье.
— У вас хорошая память, доктор. Меня вы, должно быть, видели на плантации Сен-Лазар. Я был там помощником кухарки.
— Этого я не помню, но лицо ваше мне знакомо, — сказал врач. — В те времена я навещал своего друга Вальморена и тетушку Розу, знахарку. Думаю, что она ушла до того, как на плантацию напали восставшие. Больше я ее уже не видел, но всегда о ней вспоминаю. Попади вы ко мне до знакомства с ней, я бы для начала отрезал вам ногу, капитан, а потом пытался бы лечить с помощью кровопусканий. Убил бы вас моментально, причем с самыми добрыми намерениями. Если вы все еще живы, так благодаря тем методам, которым меня научила тетушка Роза. Вы о ней что-нибудь знаете?
— Она — «доктор листьев» и мамбо. Я видел ее несколько раз, ведь даже мой генерал Туссен обращается к ней за советом. Она ходит из лагеря в лагерь, лечит людей, а также дает советы. А вы, доктор, знаете что-нибудь о Зарите?
— О ком?
— Это одна рабыня белого Вальморена. Все звали ее Тете.
— Да, я знал ее. Она уехала со своим хозяином сразу после пожара Ле-Капа, на Кубу, я думаю, — сказал Пармантье.
— Она не рабыня, доктор. Ее свобода прописана в бумаге — с подписью и печатью.
— Тете показывала мне эту бумагу, но, когда они отсюда уезжали, ее свобода все еще не была легализована, — пояснил доктор.
В течение этих пяти недель Туссен-Лувертюр не забывал интересоваться своим капитаном, и каждый раз ответ Пармантье был одинаков: «Если вы хотите, чтобы я его вам вернул, не торопите меня, генерал». Медсестры были влюблены в Ла Либерте, и, едва он смог сидеть, не одна из них проскальзывала ночью в его постель, забиралась на него сверху, стараясь не давить, и прописывала ему в умеренных дозах лучшее лекарство от анемии, а он тем временем шептал имя Зарите. Пармантье знал об этом, но решил, что если при этом раненый выздоравливает, так пусть себе его любят. Наконец Гамбо поправился настолько, что смог сесть на лошадь, закинуть за плечо мушкет и отправиться к своему генералу.
— Спасибо, доктор. Не думал я, что мне случится встретить достойного белого, — сказал он на прощание.
— А я не думал, что мне случится встретить благодарного негра, — улыбнулся в ответ доктор.
— Я никогда не забываю ни добра, ни обиды. Надеюсь, что смогу отплатить вам за то, что вы для меня сделали. Можете на меня рассчитывать.
— Вы можете отдать мне долг прямо сейчас, капитан, если того пожелаете. Мне необходимо присоединиться к своей семье, она у меня на Кубе, а ведь вам известно, что выехать отсюда сейчас почти невозможно.
Через одиннадцать дней безлунной ночью рыбачья лодка на веслах доставила доктора на борт фрегата, стоявшего на якоре в некотором отдалении от порта. Капитан Гамбо Ла Либерте достал ему пропуск и билет, что явилось одним из тех немногих действий, которые он осуществил за спиной Туссена-Лувертюра за все время своей блестящей военной карьеры. В качестве единственного условия он попросил доктора, чтобы тот, если ему случится увидеться с Тете, передал ей его слова: «Скажите ей, что мое дело — война, а не любовь; пусть не ждет меня, потому что я уже забыл ее». Пармантье только улыбнулся противоречивости этого послания.
Ветры, противные курсу фрегата, на котором отплыл Пармантье вместе с другими французскими беженцами, сносили корабль к Ямайке, но там им не было разрешено выйти на берег, и, сделав не один круг по воле коварных течений Карибского моря, а также стремясь избегнуть встреч с тайфунами и корсарами, они прибыли в Сантьяго-де-Куба. И доктор отправился в Гавану по суше — искать Адель. За время их разлуки у него не было возможности посылать ей деньги, и он понятия не имел, до какого уровня бедности или нищеты дошли его близкие. У него был адрес, который несколько месяцев назад Адель дала ему в письме. И вот он добрался до квартала, застроенного скромными, но опрятными и ухоженными домами. Улица была вымощена брусчаткой, а в домах размещались самые различные лавки и мастерские. Здесь жили шорники, изготовители париков, сапожники, мебельщики, маляры и поварихи, которые готовили у себя во дворах и потом продавали свою стряпню на улице. Огромные царственные негритянки в накрахмаленных ситцевых платьях и тюрбанах самых ярких цветов, пропитанные ароматом специй и сахара, выходили из своих домов, покачивая корзинами и держа подносы с вкуснейшими кушаньями и горячими пирогами, а вокруг них вились голые детишки и собаки. Номера на домах отсутствовали, но у Пармантье было описание, и он довольно быстро нашел дом Адели — кобальтовой синевы строение с красной черепицей на крыше, дверью и двумя окошками, украшенными горшками с бегонией. Прибитая к фасаду табличка жирными буквами провозглашала по-испански: «Мадам Адель, парижская мода». С сильно бьющимся сердцем он постучал, услышал лай, торопливые шаги, затем открылась дверь, и вот перед ним стоит его младшая дочь, на целую пядь выше ростом, чем он ее помнил. Девочка закричала и бросилась ему на шею, с ума сходя от радости, и через секунду уже вся семья окружала доктора, а у него подгибались колени — от усталости и счастья. Ему столько раз думалось, что он не увидит их больше никогда.
Беженцы
Адель совсем не изменилась, на ней даже было то самое платье, в котором полтора года назад она уехала из Сан-Доминго. На жизнь она зарабатывала шитьем, как и всегда. Скромных доходов швеи едва-едва хватало, чтобы заплатить за наем дома и накормить детей, но не в ее характере было жаловаться на то, чего не хватало: она предпочитала быть благодарной за то, что имела. Вместе с детьми она вписалась в многочисленное общество свободных негров города и вскоре приобрела постоянную клиентуру. Искусством иголки и нитки она владела прекрасно, но в моде понимала мало. Фасонами занималась Виолетта Буазье. Обе женщины оказались связаны той степенью близости, какая обычна в изгнании у тех, кто на родине едва раскланивался при встрече.
Виолетта с Лулой, благодаря своей осанке и накопленным в Сан-Доминго сбережениям, разместилась в скромном домике в квартале белых и мулатов, который в классовой иерархии стоял на несколько ступеней выше, чем тот, в котором жила Адель. Виолетта предоставила Луле свободу — вопреки ее воле — и отдала Жан-Мартена в закрытую клерикальную школу, чтобы он мог получить самое лучшее образование. Относительно сына у нее были самые амбициозные планы. В восьмилетием возрасте этот ребенок, мулат бронзового оттенка кожи, уже отличался такими гармоничными чертами и движениями, что, если бы не носил очень короткую стрижку, сошел бы за девочку. Никто — не исключая и его самого — не знал, что он был приемным сыном: эту тайну Виолетта и Лула хранили за семью печатями.
Когда сын ее уже был пристроен в надежные руки святых отцов, Виолетта раскинула сети, чтобы установить контакты с высокопоставленными людьми, которые могли бы облегчить ей жизнь в Гаване. Она вращалась среди французов, потому что испанцы и кубинцы презирали эмигрантов, наводнивших за последние годы остров. Большие белые, располагавшие солидными финансами, вскоре отъехали в провинции, где земли было с избытком и они могли выращивать кофе или сахарный тростник. Остальные же перебивались как могли в городах: некоторые жили на ренту, другие сдавали напрокат своих рабов, третьи работали или занимались предпринимательством, далеко не всегда легальным, а пресса в это время сетовала на создаваемую иностранцами незаконную конкуренцию, угрозу стабильности Кубы.
Виолетте не пришлось выполнять низкооплачиваемую работу, как многим ее соотечественницам, но жизнь была дорогой, и ей приходилось быть очень осторожной со своими накоплениями. Ни подходящего возраста, ни желания заняться вновь своей старой профессией у нее уже не было. Лула настаивала на том, что ей нужно подцепить какого-нибудь богатого мужа, но она все еще любила Этьена Реле, да и не хотела, чтобы у Жан-Мартена появился отчим. Как и раньше, она жила, культивируя умение нравиться, и вскоре уже была окружена целым кружком приятельниц, которым продавала свои лосьоны красоты, изготовленные руками Лулы, и платья, сшитые Аделью, — этим и зарабатывала себе на жизнь. Эти две женщины стали ее самыми близкими подругами, сестрами, которых у нее никогда не было. С ними она распивала в шлепанцах свой воскресный кофе, сидя под навесом в саду, строя планы и подводя итоги.
— Я должен сообщить мадам Реле, что муж ее погиб, — сказал Пармантье Адели, когда выслушал ее рассказ.
— Не обязательно, она уже знает.
— Откуда она может об этом знать?
— Знает, ведь в ее перстне раскололся опал, — объяснила Адель, подкладывая ему еще одну порцию риса с жареными бананами и мелко нарезанным мясом.
Доктор Пармантье, который в свои одинокие ночи в Сан-Доминго клялся воздать Адели по заслугам за ее жертвенную, всегда в тени, многолетнюю любовь, в Гаване воспроизвел ту же двойную жизнь, которую вел в Ле-Капе: он поселился один, скрывая от чужих глаз свою семью. Он стал одним из самых популярных среди эмигрантов врачей, хотя ему и не удалось получить доступ в высшее креольское общество. Только ему было по плечу вылечить холеру водой, супом и чаем; он один обладал достаточной честностью, чтобы признать, что не существует лекарства ни от сифилиса, ни от желтой лихорадки; он был единственным врачом, кто мог остановить воспаление раны и воспрепятствовать тому, чтобы укус скорпиона закончился похоронами. Однако у него был и недостаток: он без разбору лечил людей всех цветов кожи. Его белые клиенты терпели это, потому что в изгнании естественные границы имеют склонность стираться. К тому же сейчас эти люди не могли себе позволить требовать эксклюзивности, но они никогда не простили бы своему доктору наличия супруги и детей смешанной крови. Так он сказал Адели, хотя она и не просила у него объяснений.
Пармантье снял дом в два этажа в белом квартале и первый этаж отвел под приемную и врачебный кабинет, а второй — под жилые комнаты. Никто не догадывался, что ночи он проводит в нескольких кварталах от этого места, в домике темно-синего цвета. По воскресеньям в доме Адели он виделся с Виолеттой Буазье. Эта женщина прекрасно выглядела в свои тридцать шесть лет и в кругу эмигрантов пользовалась заслуженно безупречной репутацией добродетельной вдовы. Если кому-то и начинало казаться, что он узнает в ней знаменитую кокотку Ле-Капа, то это предположение тут же отбрасывалось как совершенно невероятное. Виолетта же продолжала носить кольцо с треснувшим опалом, и дня не проходило, чтобы она не вспомнила об Этьене Реле.
Никто из беженцев не смог адаптироваться к жизни на Кубе, и спустя несколько лет они оставались все такими же иностранцами, как и в первый день. Более того, неприязнь к ним со стороны кубинцев только возрастала: число эмигрантов все увеличивалось, но теперь это были уже не богатенькие большие белые, а разоренный сброд, оседавший в предместьях, где постоянно вызревала преступность и распространялись болезни. Приезжих никто не любил. Испанские власти не давали им покоя, усеивая их путь всевозможными совершенно законными препятствиями, с расчетом на то, что таким образом удастся вынудить их уехать раз и навсегда.
Правительственным декретом были аннулированы все профессиональные лицензии, полученные не в Испании, и Пармантье в одночасье оказался на нелегальном положении: он незаконно занимается врачебной деятельностью. Королевская печать Франции на его пергаменте отныне была абсолютно бесполезна, и в этих обстоятельствах он мог лечить только рабов и бедняков, которые далеко не всегда были в состоянии ему заплатить. Еще одним неудобством было то, что он не выучил ни слова по-испански, в отличие от Адели и своих детей, которые тараторили на этом языке, демонстрируя ярко выраженный кубинский акцент.
Виолетта Буазье, со своей стороны, уступила-таки давлению Лулы и собралась замуж за одного владельца отеля — галисийца лет за шестьдесят, очень богатого и больного человека. По мнению Лулы, он был отличной партией, потому что вскоре отправится на тот свет самым естественным образом, ну или ей придется слегка ему помочь, и он оставит им надежное обеспечение. Хозяин отеля, совсем слетевший с катушек из-за этой поздней любви, не желал разбираться со слухами о том, что Виолетта не была белой женщиной, потому что ему не было до этого дела. Никогда и никого не желал он с такой силой, как эту роскошную женщину, но когда она оказалась наконец в его объятиях, он обнаружил, что эта женщина порождает в нем бессмысленную нежность деда, оказавшуюся для нее весьма удобной, потому что чувство это не вступало в конкуренцию с воспоминанием об Этьене Реле. Галисиец открыл для нее свой кошелек: если она того пожелает, то может тратить деньги, как султанша. Однако об одной детали своей биографии упомянуть он забыл — о том, что он женат. Супруга его осталась в Испании с их единственным сыном, священником-доминиканцем, и ни один из них не чувствовал интереса к этому мужчине, которого они за двадцать семь лет ни разу не видели. Мать и сын предполагали, что он живет в смертном грехе, развлекаясь с толстозадыми женщинами в этих порочных колониях на Карибах, но, пока он регулярно посылал им деньги, их не очень заботило состояние его души. Хозяин отеля решил, что если он женится на вдове Реле, его семья никогда об этом не узнает, и так все и было бы, если б не вмешательство одного корыстолюбивого законника, который разузнал о его прошлом и вознамерился поживиться на этом деле. Бедняга понял, что не сможет купить молчание этого крючкотвора, потому что шантаж повторялся тысячу раз. Разразилась эпистолярная буря, и несколькими месяцами позже вдруг появился сын-монах, имевшей своей целью вырвать бедного отца из лап Сатаны, а свое наследство — из лап этой проститутки. Виолетта, послушавшись совета Пармантье, отказалась от этого брака, хотя и навещала время от времени своего возлюбленного, чтобы он не умер от горя.
В том же году Жан-Мартену исполнилось тринадцать лет, и к этому времени он уже пять лет твердил о том, что хочет получить военное образование во Франции, как его отец. Гордый и упрямый, а таким он был всегда, он отказался слушать доводы Виолетты, которая не желала отпускать его от себя и ужасно боялась армии, где такой красивый мальчик вполне мог быть превращен в содомита каким-нибудь сержантом. Но упорство Жан-Мартена было столь непоколебимым, что матери в конце концов пришлось уступить. Виолетта воспользовалась дружбой с капитаном одного корабля, которого знала еще по Ле-Капу, и отправила сына во Францию. Там его встретил брат Этьена Реле, тоже офицер, который доставил его в кадетский корпус Парижа, где получали образование все мужчины семейства Реле. Он знал, что брат его женился на антильской женщине, поэтому цвет кожи парня не вызвал у него вопросов; к тому же Жан-Мартен был далеко не единственным мулатом в кадетском корпусе.
Ввиду того что ситуация на Кубе с каждым днем становилась для эмигрантов все более и более тяжелой, доктор Пармантье решил попытать счастья в Новом Орлеане и, если дела сложатся хорошо, потом забрать семью. Вот тогда-то Адель впервые за восемнадцать лет совместной жизни вмешалась и заявила, что больше они не расстанутся; или поедут все вместе, или не поедет никто. Она согласна и дальше жить скрытно, как воплощенный грех того, кого любит, но не допустит, чтобы распалась семья. Предложенный ею план был таков; они отправятся в путь на одном корабле, но она с детьми в третьем классе, и на берег сойдут порознь, так что никто вместе их не увидит. Она сама выхлопотала паспорта, подкупив соответствующих чиновников — это было самым обычным делом — и представив доказательства того, что она свободна и что сама содержит детей своим трудом. В Новый Орлеан она не милостыню едет просить — так сказала она консулу со своей обычной мягкостью, — а платья шить.
Когда Виолетта Буазье узнала о том, что ее друзья надумали эмигрировать во второй раз, на нее нашел один из тех сокрушительных приступов ярости и рыданий, которые случались с ней в юности, но были полностью позабыты в последние годы. Она почувствовала, что Адель ее предала.
— Как ты можешь таскаться за этим человеком, который не признает тебя матерью своих детей? — рыдала она.
— Он любит меня так, как может, — ответила Адель, не изменившись в лице.
— Он научил детей притворяться на публике, что они его не знают! — воскликнула Виолетта.
— Но он их содержит, дает им образование и очень их любит. Он хороший отец. И моя жизнь соединена с его жизнью, Виолетта, и больше мы не расстанемся.
— А я? Что будет здесь со мной, когда я останусь одна? — спросила в отчаянии Виолетта.
— Ты могла бы поехать вместе с нами… — предложила ей подруга.
Эта идея показалась Виолетте превосходной. Она слыхала, что в Новом Орлеане процветало общество свободных цветных, где каждый мог достичь успеха. Недолго думая, она посоветовалась с Лулой, и обе решили, что на Кубе их ничто не держит. Новый Орлеан будет для них последней возможностью пустить корни и дожидаться старости.
Тулуз Вальморен, который редкими письмами поддерживал контакты с Пармантье все эти семь лет, предложил ему свою помощь и гостеприимство, но предупредил, что в Новом Орлеане врачей больше, чем булочников, и его ожидает серьезная конкуренция. К счастью, его французская лицензия в Луизиане была действительной. «И здесь нет никакой необходимости говорить по-испански, мой уважаемый доктор, потому что местный язык — французский», — прибавил он в письме. Пармантье сошел с корабля на землю и сразу же попал в объятия своего друга, ожидавшего его на пристани. Они не виделись с 1793 года. Вальморен не помнил, что доктор такой маленький и хрупкий, а Пармантье, в свою очередь, не помнил Вальморена таким округлым. Теперь Вальморен выглядел вполне довольным, в нем ничего не осталось от того страдальца, с которым в Сан-Доминго доктор вел нескончаемые философские и политические споры.
Пока сходили на берег остальные пассажиры, старые приятели дожидались выгрузки багажа. Вальморен не обратил никакого внимания на Адель, темнокожую мулатку с двумя парнишками и девочкой, пытавшуюся нанять тележку, чтобы перевезти свои тюки. Зато он хорошо разглядел в толпе даму в элегантном дорожном костюме цвета киновари, шляпе, перчатках и с сумочкой того же цвета. Красота этой женщины так бросалась в глаза, что пропустить ее было просто невозможно. Вальморен узнал ее мгновенно, хоть эта пристань была самым последним местом, где он ожидал бы вновь ее увидеть. У него вырвалось ее имя, и он с мальчишеской прытью побежал к ней поздороваться. «Месье Вальморен, какой сюрприз!» — воскликнула Виолетта Буазье, протягивая ему свою затянутую в перчатку ручку, но он схватил ее за плечи и трижды, по французскому обычаю, расцеловал в щечки. Он отметил, к своему большому удовольствию, что Виолетта едва изменилась, а возраст сделал ее еще более желанной. Она кратко рассказала ему, что овдовела и что Жан-Мартен учится в Париже. Вальморен не помнил, кто такой этот Жан-Мартен, но, когда он узнал, что она приехала одна, его вновь обуяли юношеские желания. «Надеюсь, что ты удостоишь меня своим приглашением», — попрощался он с ней тем интимным тоном, который не был в ходу в их отношениях уже более десяти лет. Здесь в их разговор вмешалась Лула, которая до этого момента ругалась с парой носильщиков, переносивших их багаж. «Правила не изменились: вам следует занять очередь, если вы желаете быть принятым мадам», — сказала она, отодвинув его локтем.
Адель сняла шале на улице Рампар, где жили свободные мулатки, большинство на содержании белых покровителей, в соответствии с традиционной системой plaçage, то есть размещения, зародившейся еще в первые годы существования колонии, когда было не слишком легко уговорить европейскую девушку поехать за мужчиной в эти дикие земли. В городе было около двух тысяч договоров подобного типа. Дом Адели был такой же, как и другие на этой улице: маленький, уютный, хорошо проветриваемый и с задним двором, огороженным каменными стенами, увитыми бугенвиллеей. Доктор Пармантье поселился в квартире поблизости, всего в нескольких кварталах, где устроил свою клинику, но свободное время он проводил с семьей, что оказалось гораздо проще, чем в Ле-Капе или в Гаване. Единственной странностью в этой ситуации был только возраст участников связи, потому что plaçage обычно был договором между белыми молодыми людьми и пятнадцатилетними мулатками, а доктору Пармантье вскоре должно было исполниться шестьдесят, да и Адель могла сойти за бабушку любой из своих соседок.
Виолетта и Лула заполучили самый большой дом на улице Шартре. Им понадобилось всего несколько раз прогуляться по площади Армас, по дамбе в часы гуляний и посетить церковь отца Антуана в воскресный полдень, чтобы составить себе представление об амбициях местных женщин. Белые дамы добились принятия закона, который под страхом порки запрещал цветным носить шляпы, украшения или пышные платья на людях. В результате мулатки повязывали свои тюрбаны с таким изяществом, которое давало фору самым изысканным парижским шляпкам, щеголяли вырезами столь соблазнительными, что любое украшение только отвлекало бы внимание, и вышагивали с такой грацией, что по сравнению с ними белые выглядели прачками. Виолетта и Лула тут же подсчитали прибыль, которую они смогут получить за свои лосьоны красоты, в особенности за отбеливающий крем из слюней улиток и жемчуга, растворенного в лимонном соке.
Бостонский колледж
Удар арапника, полученный от Мориса, не помешал Гортензии Гизо присутствовать на знаменитом балу Мариньи — все было скрыто под тонкой вуалью: она спускалась позади до самого пола и заодно маскировала булавки на спине, — но на несколько недель оставил на ней отвратительный синюшный след. Этот синяк убедил Вальморена в необходимости отослать сына в Бостон. Был у нее и еще один аргумент. После рождения Марии-Гортензии месячные приходили к ней всего один раз: она вновь беременна и должна беречь нервы, поэтому лучше мальчика удалить — на время. Ее плодовитость не была чудом, как Гортензия пыталась внушить подругам, потому что всего через две недели после родов она уже опять кувыркалась в кровати с мужем с таким же энтузиазмом, как и в медовый месяц. На этот раз будет мальчик, в этом она уверена: мальчик, которому предстоит продолжить род и династию Вальморенов. И никто не осмелился напомнить ей, что уже существует Морис Вальморен.
Морис возненавидел колледж с того самого момента, как переступил порог и за ним захлопнулись обе створки тяжелой деревянной двери. Это тяжелое чувство сохранялось у него в неизменном виде до третьего курса, пока в его жизни не появился необычный учитель. Мальчик приехал в Бостон зимой, под ледяным дождем, и оказался в абсолютно сером мире: небо затянуто тучами, площади покрыты инеем, на голых ветвях рахитичных деревьев застыли редкие птицы. Настоящего холода он еще не знал. Зима длилась бесконечно, у него ныли кости, он ходил с синими ушами и красными от мороза руками, пальто не снимал, даже ложась спать, и жил глаз не отрывая от неба в поисках милосердного луча солнца. В дальнем углу спальни была печка, работавшая на каменном угле, но топили ее только два часа в день по вечерам, чтобы мальчики смогли просушить носки. Простыни всегда были ледяными, стены покрыты пятнами зеленоватой растительности, и по утрам им приходилось разбивать ледяную корку в умывальных тазиках.
Мальчишки, шумные забияки, одетые в форму, такую же серую, как и пейзаж за окном, говорили на языке, который Морис едва мог расшифровывать благодаря своему бывшему наставнику Гаспару Северену: тот знал по-английски несколько слов, а остальное на своих занятиях импровизировал с помощью словаря. Прошло несколько месяцев, прежде чем мальчик смог отвечать на вопросы учителей, и целый год понадобился ему, чтобы начать понимать шутки своих американских товарищей, которые дразнили его «французишкой» и изводили самыми изощренными пытками. Специфические понятия о боксе дядюшки Санчо ему здесь весьма пригодились, потому что позволяли защищаться, пиная противников в пах. Неплохую службу также сослужили ему и занятия фехтованием: он неизменно побеждал в проводимых директором колледжа турнирах, где преподаватели делали ставки на победителя, а за проигрыш полагалось наказание.
Еда в колледже служила исключительно дидактической цели закаливания характера. Тот, кто был способен проглотить вареную печень или куриные гузки с остатками перьев в сопровождении пригоревшей цветной капусты и риса, мог с честью встретить все неожиданные подвохи судьбы, даже войну, к которой американцы готовились постоянно. Морис, привыкший к изысканной кухне Целестины, провел тринадцать дней, постясь, как факир. Однако здесь никому не было до этого ровным счетом никакого дела. Наконец, когда Морис упал в голодный обморок, ему уже не оставалось ничего другого, как есть то, что клали на тарелку.
Дисциплина была в равной степени железной и абсурдной. Бедные мальчики обязаны были вставать на рассвете, разгонять сон ледяной водой, делать три круга бегом по двору, чтобы разогреться, «войти в жар» — если этим жаром можно было счесть покалывание в руках. Затем надлежало изучать латынь в течение двух часов до завтрака, состоявшего из какао, черствого хлеба и неочищенного овса, а после завтрака предстояло вынести несколько часов уроков и занятий спортом, к которому Морис был совершенно не способен. В конце дня, когда жертвы педагогики уже валились с ног от усталости, с ними проводилась морализаторская беседа длиной в час или два — это уже зависело от вдохновения директора. Крестные муки заканчивались хоровым чтением вслух Декларации независимости.
Морис, избалованный Тете, подчинился этому тюремному распорядку без жалоб. Те усилия, которые ему потребовались, чтобы догнать других мальчиков и защитить себя от драчунов, держали его в таком напряжении, что у него прекратились кошмары и больше он не вспоминал о виселицах Ле-Капа. Учиться ему нравилось. Сначала он скрывал свою страсть к книгам, чтобы не впасть в грех заносчивости, но скоро начал помогать делать задания другим и так завоевал уважение одноклассников. Он никому не признавался, что умеет играть на фортепьяно, танцевать кадриль и сочинять стихи, потому что за это одноклассники отделали бы его так, что и мокрого места не осталось. Его товарищи бывали свидетелями того, как он пишет письма — с прилежанием средневекового монаха, но открыто над этим не смеялись, потому что он сказал, что письма предназначались больной матери. Мать же, как и родина, не могла служить объектом шуток: она была священной.
Морис прокашлял всю зиму, но с приходом весны пришел в себя. Он месяцами сжимался в своем пальто, втянув голову в плечи, скрюченный, незаметный. Когда солнце согрело ему кости и он смог снять с себя оба жилета, шерстяные носки, шарф, перчатки, пальто и распрямиться, то понял, что одежда сделалась и узка и коротка. То, что с ним случилось, было классикой для подростка — он вытянулся и из заморыша превратился в одного из самых высоких и сильных юношей в классе. А возможность смотреть на мир сверху вниз, имея фору в несколько сантиметров, придала ему уверенности.
Жаркое и влажное лето никак не затронуло Мориса, привычного к кипящему климату Карибского моря. Колледж опустел, ученики и большинство преподавателей разъехались на каникулы, и Морис остался практически один в ожидании инструкций относительно возвращения в семью. Инструкции так и не поступили; вместо этого отец послал к нему Жюля Белуша, того самого, что сопровождал его в долгом и тягостном путешествии от дома в Новом Орлеане по водам Мексиканского залива вокруг полуострова Флорида, дрейфуя по глади Саргассова моря и противостоя волнам Атлантического океана, до колледжа в Бостоне. Белуш был мужчина средних лет, обедневший дальний родственник семейства Гизо, который проникся жалостью к парню и постарался сделать то путешествие приятным настолько, насколько это было возможно, — но в воспоминаниях Мориса он навсегда остался связанным с изгнанием из отцовского дома.
Белуш появился в колледже с письмом Вальморена, где тот объяснял сыну причины, по которым поездка домой на каникулы в этом году была невозможной. К письму прилагалась достаточная сумма денег, предназначенная для покупки мальчику одежды, книг и — в виде утешения — любых других вещей по желанию Мориса. Согласно распоряжениям Вальморена, Белуш должен был свозить Мориса на экскурсию в исторический город Филадельфию, с которым должен быть знаком любой молодой человек его социального положения, потому что именно там, как помпезно говорилось в письме Вальморена, зародилось зерно американской нации. Морис отправился вместе с Белушем и в течение этих недель вынужденного туризма выглядел молчаливым и безразличным, стараясь скрыть интерес, который возбуждало в нем путешествие, и побороть симпатию, которую начинал чувствовать к бедняге Белушу.
Следующим летом парень снова прождал две недели в колледже, сидя на чемодане, пока перед ним не появился тот же Белуш, чтобы сопровождать его в Вашингтон и по другим городам, которые он не желал видеть.
Харрисон Кобб, один из тех немногих преподавателей, кто оставался в колледже на рождественские каникулы, обратил на Мориса Вальморена внимание потому, что это был единственный ученик, к которому никто не приходил и который не получал подарков, проводя эти праздники за чтением в почти пустом здании. Кобб принадлежал к одной из самых старых семей Бостона, жившей в городе с середины XVII века и имевшей благородное происхождение, о чем знали все, хотя сам Кобб это отрицал. Он был фанатичным сторонником американской республики и питал отвращение к аристократии. Это был первый аболиционист, которого встретил Морис и которому суждено было оказать на него серьезное влияние. В Луизиане к аболиционизму относились хуже, чем к сифилису, но в штате Массачусетс вопрос рабства постоянно дебатировался, потому что конституция штата, созданная двадцать лет назад, содержала статью, запрещавшую рабство.
Кобб нашел в Морисе жадный до знаний ум и горячее сердце, в котором его человеколюбивые взгляды тут же нашли живой отклик. Среди других книг он дал мальчику почитать и «Увлекательную повесть жизни Олаудаха Экиано», опубликованную в Лондоне в 1789 году и пользовавшуюся огромным успехом. Эта драматическая история африканского раба, написанная от первого лица, произвела среди европейской и американской публики потрясение, но в Луизиане о ней знали лишь немногие, и мальчик никогда о ней не слышал. Преподаватель и ученик проводили целые вечера, изучая эту книгу, анализируя и споря. Так Морис смог наконец облечь в слова то неприятие, которое всегда вызывало у него рабство.
— У моего отца более двухсот рабов, которые когда-нибудь станут моими, — признался Морис Коббу.
— А ты этого хочешь, мой мальчик?
— Да, потому что я смогу дать им свободу.
— Тогда появится двести с лишним негров, брошенных на произвол судьбы, и неосторожный разорившийся юноша. И чего ты этим добьешься? — ответил ему преподаватель. — Борьба с рабством не может вестись на одной плантации, потом на другой, потом на третьей, Морис; следует изменить мышление людей и законы в этой стране и во всем мире. Тебе нужно учиться, готовиться и участвовать в политике.
— Но я не гожусь в политики, сэр!
— Как знать? У всех нас внутри есть запас прочности и силы, о котором мы даже и не подозреваем и который проявляется, когда жизнь посылает нам испытания.
Зарите
На плантации я провела, по моим подсчетам, почти два года, пока хозяева не поставили меня снова служить в доме. За все это время я не видела Мориса ни разу, потому что во время каникул отец не позволял ему возвращаться домой; он каждый раз как-то все так устраивал, чтобы отправить сына в какое-нибудь путешествие, а когда мальчик окончил курс, то повез его во Францию знакомиться с бабушкой. Но это было уже позже. Хозяин хотел держать его подальше от мадам Гортензии. Не видела я и Розетту, но месье Мерфи приносил мне новости о ней каждый раз, когда ездил в Новый Орлеан. «И что ты будешь делать с такой красавицей, Тете? Тебе придется держать ее взаперти, чтобы на улице не собирались толпы», — говорил он в шутку.
Мадам Гортензия родила еще одну дочку, Марию-Луизу. Девочка родилась со слабой грудью. Ей не подходил климат, но климат не мог изменить никто, за исключением отца Антуана, да и то в исключительных случаях. Поэтому средств, которые могли бы облегчить ей жизнь, почти не оставалось. Из-за нее-то меня и вернули в городской дом. В том году приехал доктор Пармантье, который провел много времени на Кубе, и он заменил доктора семьи Гизо. Первым делом он отменил пиявки и растирания горчицей, убивавшие девочку, и тут же спросил обо мне. Уж и не знаю, как это он обо мне вспомнил, после стольких лет. Он убедил хозяина, что я лучше всего смогу ухаживать за Марией-Луизой, потому что я многому научилась от тетушки Розы. Тогда они и приказали главному надсмотрщику отослать меня в город. Я с большим сожалением распрощалась со своими друзьями и с Мерфи и в первый раз ехала одна, с письменным разрешением, чтобы меня не арестовали.
Многое изменилось в Новом Орлеане за время моего отсутствия: стало больше мусора, карет и людей, и город сотрясала строительная лихорадка — строились дома и продлевались улицы. Даже рынок разросся. Дон Санчо уже не жил в доме Вальморена, он переехал в квартиру в том же районе. По словам Целестины, он позабыл Ади Супир и теперь был влюблен в одну кубинку, которую никому в доме не представился случай увидеть. Я поселилась в мансарде вместе с Марией-Луизой: малышка была бледненькой и такой слабенькой, что даже не плакала. Я подумала, что хорошо бы привязать ее к себе, потому что это дало хороший результат с Морисом, который родился тоже очень слабым, но мадам Гортензия сказала, что это хорошее средство для негров, но не для ее дочери. В колыбель я класть ее не хотела, она бы просто умерла, и приходилось все время носить ее на руках.
Мне с трудом удалось поговорить с хозяином, чтобы напомнить ему, что в этом году мне исполнится тридцать и что мне нужна моя свобода.
— А кто будет ходить за моими детьми? — спросил он.
— Я, если вы пожелаете, месье.
— То есть все останется так, как есть.
— Не совсем так, месье, потому что, если я буду свободна, я смогу уйти когда захочу и вы не сможете меня бить и должны будете платить мне жалованье — немного, чтобы я могла прожить.
— Платить тебе! — воскликнул он удивленно.
— Так работают извозчики, поварихи, медсестры, швеи и другие свободные люди, месье.
— Ты, я вижу, хорошо информирована. Тогда ты, наверное, знаешь, что никто не нанимает няньку: это всегда кто-то из членов семьи, она ведь как вторая мать, а потом — как бабушка, Тете.
— Но я не член семьи, месье. Я ваша собственность.
— Я же всегда обращался с тобой как с членом семьи! Ладно, если таково твое желание, мне понадобится время, чтобы убедить мадам Гортензию, хотя это очень неприятный прецедент и говорить придется долго. Сделаю что смогу.
Он разрешил мне навестить Розетту. Дочка моя всегда была рослой и в одиннадцать выглядела на все пятнадцать. Господин Мерфи не соврал — она была очень красивой. Монахиням удалось сладить с ее порывистостью, но они не стерли ни ее улыбку с ямочками, ни полный соблазна взгляд. Она приветствовала меня вежливым реверансом, а когда я обняла ее, то она окаменела: думаю, что застеснялась своей матери — рабыни цвета кофе с молоком. Дочь была для меня самым важным в этом мире. Мы жили с ней, склеенные друг с другом, как одно тело, одна душа до тех пор, пока страх, что ее продадут или что собственный отец изнасилует ее еще подростком, как он поступил со мной, не заставил меня с ней расстаться. Не раз я видела, как хозяин щупает ее, как некоторые мужчины, что прикасаются к девочкам, чтобы узнать, созрели ли они. Это было еще до того, как он женился на мадам Гортензии, когда моя Розетта была невинным ребенком и забиралась к нему на колени из-за любви к нему. Холодность дочери меня ранила: желая защитить ее, кажется, я ее потеряла.
От африканских корней у Розетты не осталось ничего. Она знала о моих лоа и о Гвинее, но в школе она забыла обо всем этом и стала католичкой; монахини испытывали перед вуду такой же ужас, как и когда речь шла о протестантах, евреях и кентуккийцах. Как могла я упрекнуть ее в том, что она стремилась к лучшей, чем у меня, жизни? Она хотела быть как Вальморены, а не как я. Говорила она со мной с показной вежливостью, тоном, который я в ней не узнала, как будто я ей чужая. Так я это запомнила. Она сказала, что школа ей нравится, что монахини добрые и они учат ее музыке, религии и писать красивым почерком, но не танцам: танцы — это дьявольское искушение. Я спросила ее о Морисе, и она сказала, что у него все хорошо, но ему очень одиноко, и он хочет вернуться. Она о нем знала, потому что они переписывались, как делали всегда, с того момента, как их разлучили. Письма шли очень долго, но они посылали их чередой, не ожидая ответа, как в разговоре двух глупцов. Розетта сказала, что иногда в один день приходило сразу полдюжины, а потом проходили недели без единой весточки. Сейчас, пять лет спустя, я знаю, что в этой переписке они называли друг друга братом и сестрой, чтобы обмануть бдительность монахинь, вскрывавших корреспонденцию своих учениц. У них был разработан особый религиозный язык, чтобы говорить о своих чувствах: Святой Дух означал любовь, поцелуи звались молитвами, Розетта выступала в образе ангела-хранителя, а он мог оказаться любым святым или мучеником католических святцев, а урсулинки, конечно же, являлись демонами. Типичное послание Мориса говорило о том, что по ночам его посещает Святой Дух, когда ему снится ангел-хранитель, и он просыпается с неутолимым желанием молиться и молиться. Она отвечала ему, что молится за него и что ей нужно быть очень осторожной с теми полчищами демонов, которые ежеминутно осаждают смертных. Я храню эти письма в коробке и хотя читать не умею, но знаю, что́ там написано, потому что Морис прочитал мне оттуда несколько фрагментов, не самых рискованных.
Розетта поблагодарила меня за подарки — сладости, ленты и книги, которые она получала, но не я их ей посылала. Как я могла бы это сделать без денег? Я предположила, что их ей приносил хозяин Вальморен, но она сказала, что он ни разу ее не навестил. Это был Санчо — вот кто делал ей подарки от моего имени. Да благословит Бондьё доброго дона Санчо! Эрцули, лоа-мать, нет у меня ничего, чтобы дать моей дочке. Так оно было.
Исполнение обещания
При первой же возможности Тете отправилась поговорить с отцом Антуаном. Ей пришлось ждать его около двух часов: он был в тюрьме, навещал заключенных. Он носил им еду и сам очищал раны, охранники же не решались ему в этом препятствовать, потому что уже пошел слух о его святости и имелись свидетельства того, что он бывал одновременно в нескольких разных местах, а иногда ходил со светящимся блюдом над головой. Наконец капуцин дошел до каменного дома, служившего ему и жилищем, и конторой, со своей пустой корзиной и огромным желанием лечь отдохнуть, но там его ожидали другие страждущие, и еще оставалось время до заката — часа молитвы, когда кости его покоились, а душа возносилась к небу. «Очень жаль, сестра Люси, что мне не хватает духа, чтобы молиться больше и лучше», — говаривал он монахине, помогавшей ему в доме. «А зачем вам молиться еще больше, mon pére, если вы уже и так святой?» — неизменно ответствовала она.
Отец Антуан принял Тете с распростертыми объятиями, как принимал и всех остальных. Он не изменился: все тот же мягкий взгляд глаз большой собаки и тот же запах чеснока, все та же непотребная сутана, тот же деревянный крест и та же борода пророка.
— Как ты изменилась, Теге! — удивился он.
— У вас ведь тысячи прихожан, mon pére, а вы помните мое имя! — воскликнула она растроганно.
Тете рассказала, что была на плантации, показала ему во второй раз свою вольную — желтую и хрупкую бумагу, которую она хранит годами и от которой до сих пор не было для нее никакой пользы, потому что хозяин каждый раз находил повод, чтобы отсрочить исполнение обещанного. Отец Антуан водрузил на нос толстые очки астронома, приблизил бумагу к единственной свечке и медленно ее прочел.
Кто еще знает об этом, Тете? Я имею в виду кого-нибудь, кто живет в Новом Орлеане.
— Доктор Пармантье видел эту бумагу, когда мы были еще в Сан-Доминго, но теперь он живет здесь. И еще я показывала ее дону Санчо, шурину моего хозяина.
Священник подсел к столику на шатающихся ножках и принялся писать — с трудом, потому что все вещи в этом мире он видел окруженными некой легкой дымкой, хотя все, что касалось другого мира, воспринимал с величайшей ясностью. Он вручил ей два забрызганных чернильными пятнами послания с инструкцией вручить их лично в руки каждому из этих кабальеро.
— О чем идет речь в этих письмах, mon pére? — поинтересовалась Тете.
— Там просьба, чтобы они пришли поговорить со мной. Ты также должна прийти в ближайшее воскресенье после мессы. А до тех пор я оставлю у себя этот документ, — произнес монах.
— Простите меня, mon pére, но я никогда не расстаюсь с этой бумагой… — отозвалась с испугом Тете.
— В таком случае этот раз будет первым, — улыбнулся капуцин, убирая документ в ящик стола. — Не тревожься, дочь моя, здесь она будет в целости и сохранности.
Этот стол-развалюха не производил впечатления наилучшего места для хранения ее самой большой драгоценности, но обнаружить свои сомнения Тете не решилась.
В воскресенье в соборе собралось полгорода. Среди прихожан были и семьи Гизо и Вальморенов с кучей домочадцев. Это было единственное место в Новом Орлеане, за исключением рынка, где смешивались белые и цветные, свободные и рабы, хотя женщины располагались с одной стороны, а мужчины — с другой. Один протестантский пастор, посетивший город с визитом, написал в газете, что церковь отца Антуана — это самое толерантное место во всем христианском мире. Тете не всегда имела возможность посетить мессу — эта возможность зависела от состояния здоровья Марии-Луизы, — но в тот день малышка проснулась в хорошем самочувствии, и ее взяли с собой. После церемонии Тете отдала девочек Денизе и объявила хозяйке, что немного задержится, потому что должна поговорить со святым.
Гортензия не стала возражать, думая, что наконец та собирается исповедаться. Тете привезла с собой из Сан-Доминго сатанинские предрассудки, и никто не обладал большей силой, чем отец Антуан, чтобы спасти от вуду ее душу. Гортензия с сестрами часто говорили о том, что рабы с Антильских островов протаскивали этот страшный африканский культ в Луизиану: они имели возможность убедиться в этом, когда из чистого любопытства ходили на площадь Конго поприсутствовать на оргиях негров. Раньше это было всего лишь дрыганье и шум, а теперь там появилась ведьма, плясавшая как одержимая с длинной и толстой змеей, обвивавшей ее тело, и половина присутствующих впадала в транс. Ее звали Санитё Дедё, она приехала из Сан-Доминго вместе с другими неграми и с дьяволом в теле. Это нужно было видеть — гротеск, чудовищное зрелище! Мужчины и женщины изрыгают пену изо рта, глаза у них невидящие, те же, с какими они потом отползают за кусты, чтобы спариваться там, как животные. Эти люди обожают дикую смесь из африканских богов, католических святых, Моисея, планет и места под названием Гвинея. Только отец Антуан разбирался в этом винегрете и, к несчастью, разрешал его. Если бы он не был святым, она сама начала бы общественную кампанию, чтобы его вышвырнули из собора, уверяла Гортензия Гизо. Ей рассказывали о церемониях вуду: что там пьют кровь жертвенных животных и является дьявол во плоти, чтобы совокупляться с женщинами спереди и с мужчинами сзади. И она не удивится, если окажется, что рабыня, которой она доверила ни больше ни меньше как своих невинных дочек, тоже участвует в этих вакханалиях.
А в каменном домике уже сидели на своих стульях капуцин, Пармантье, Санчо и Вальморен, заинтригованные, потому что не знали, по какому поводу их сюда пригласили. Святой же хорошо знал стратегическую ценность неожиданной атаки. Престарелая сестра Люси, шаркая шлепанцами и с немалым трудом сохраняя равновесие, появилась с подносом в руках, налила им средней руки вино в обшарпанные глиняные чашечки и удалилась. Это был знак, чтобы вошла Тете, — так ей велел священник.
— Я призвал вас в этот дом Божий, чтобы исправить одно недоразумение, дети мои, — произнес отец Антуан, вынимая из ящика стола бумагу. — Эта добрая женщина, Тете, должна была, согласно этому документу, получить свободу семь лет назад. Не так ли, месье Вальморен?
— Семь лет? Но ведь Тете только что исполнилось тридцать! Я не мог освободить ее раньше! — воскликнул Вальморен.
— В соответствии с Черным кодексом раб, который спасет жизнь члену семьи хозяина, имеет право на немедленное освобождение вне зависимости от возраста. Тете спасла жизнь вам и вашему сыну Морису.
— Это недоказуемо, mon pére, — ответил Вальморен с презрительной гримасой на лице.
— Ваша плантация в Сан-Доминго была сожжена, ваши надсмотрщики убиты, все рабы сбежали, чтобы присоединиться к мятежникам. Скажите мне, сын мой, вы и вправду полагаете, что выжили бы без помощи этой женщины?
Вальморен взял бумагу и, бросив на нее взгляд, фыркнул:
— На этом нет даты, mon pére.
— Верно, по-видимому, в спешке и скорбных обстоятельствах побега вы забыли ее поставить. Это очень понятно. К счастью, доктор Пармантье видел эту бумагу в тысяча семьсот девяносто третьем году в Ле-Капе, так что мы можем предположить, что документ датирован этим годом. Но это нам и не нужно. Мы здесь в обществе христиан и кабальеро, людей веры и добрых намерений. Прошу вас, месье Вальморен, именем Господа Бога, чтобы вы выполнили данное слово. — И святой устремил взгляд своих глубоко сидящих глаз прямо в его душу.
Вальморен повернулся к Пармантье, чьи глаза не отрывались от чашечки с вином: бедняга застыл на полпути между верностью другу, которому он столь многим был обязан, и собственной честью, к которой отец Антуан только что так недвусмысленно воззвал. Санчо, напротив, едва мог сдержать улыбку под своими дерзко закрученными усами. Дело это доставляло ему несказанное удовольствие, поскольку он годами напоминал своему зятю о необходимости разрешить проблему с наложницей, но, чтобы он прислушался к его словам, потребовалось не что иное, как Божественное вмешательство. Он не понимал, зачем тот удерживает Тете, если уже ее не желает, притом что для Гортензии эта ситуация была очевидно болезненной. Вальморены могли бы среди своих многочисленных рабынь выбрать для дочек и другую няньку.
— Не беспокойтесь, mon pére, мой зять восстановит справедливость, — вступил он в разговор после непродолжительного молчания. — Доктор Пармантье и я станем его свидетелями. Завтра же мы отправимся к судье, чтобы легализовать освобождение Тете.
— Ну и хорошо, дети мои. В добрый час. Тете, с завтрашнего дня ты станешь свободной, — объявил отец Антуан, поднимая свою чашку в знак тоста.
Мужчины сделали вид, что опустошают свои бокалы, хотя никто из них не смог бы проглотить это зелье, и они встали, намереваясь уйти. Тете их остановила:
— Минуточку, прошу вас. А Розетта? Она тоже имеет право на свободу. Так написано в документе.
Кровь бросилась в голову Вальморена, а воздуха между ребер стало совсем мало. Он так сжал набалдашник своей трости, что побелели костяшки, едва сдерживаясь, чтобы не поднять палку на эту наглую рабыню, но раньше, чем он смог что-то сделать, послышался голос святого:
— Разумеется, Тете. Месье Вальморен знает, что Розетта включена в бумагу. Она тоже завтра станет свободной. Доктор Пармантье и дон Санчо проследят за тем, чтобы все было сделано по закону. Да хранит вас Господь, дети мои…
Трое мужчин вышли, и монах пригласил Тете выпить чашку шоколада, чтобы отпраздновать. Через час, когда она вернулась домой, хозяева уже ждали ее в гостиной, сидя рядком на стульях с высокими спинками: Гортензия — в ярости, а Вальморен — в раздражении, потому что у него в голове не укладывалось, что эта женщина, которая была в его распоряжении двадцать лет, способна унизить его перед священником и двумя его самыми близкими друзьями. Гортензия заявила, что доведет дело до трибунала, что этот документ был написан под давлением и потому не имеет силы, но Вальморен не позволил ей развить этот замысел: скандала он не хотел.
Хозяева перебивали друг друга, осыпая рабыню попреками, которых она не слушала, — в голове у нее стоял веселый перезвон бубенцов. «Неблагодарная! Если единственное, чего ты добиваешься, — уйти, так ты уйдешь сейчас же. Даже то, что на тебе, принадлежит нам, но ты можешь уйти в нем, чтобы не выйти голой. Даю тебе полчаса, чтоб ты убралась из этого дома, и ноги твоей больше здесь бы не было! Посмотрим, что с тобой будет, когда ты окажешься на улице! Служить матросской подстилкой, как последняя паскуда, — единственное, что ты сможешь!» — ревела Гортензия, постукивая арапником по ножкам стула.
Тете вышла, тихонько закрыла дверь и отправилась на кухню, где ее дожидались остальные слуги: они уже обо всем знали. С риском навлечь на себя ярость хозяйки Дениза предложила Тете поспать эту ночь у нее и уйти на рассвете — так она не окажется на улице без пропуска. Ведь Тете еще не была свободной и если наткнется на патруль, то точно попадет в тюрьму. Но Тете не терпелось уйти. Она обняла каждого, пообещав встречу в церкви на мессе, на площади Конго или на рынке: «Далеко не собираюсь, Новый Орлеан — прекрасный для меня город», — сказала она. «У тебя не будет хозяина, который защитит тебя, Тете. Ведь что угодно может случиться, тебя там поджидают самые разные опасности. Чем ты будешь жить?» — спросила ее Целестина.
— Тем, чем и всегда жила, — своим трудом.
Она не стала заходить в свою комнату, чтобы собрать то малое, что ей принадлежало, взяла только свою бумагу о свободе и корзинку с едой, собранную для нее Целестиной, легкой походкой пересекла площадь, обошла собор и постучалась в дверь домика святого. Ей открыла сестра Люси со свечкой в руке и, не задавая вопросов, по коридору, которым домик соединялся с церковью, провела ее в плохо освещенное помещение, где за столом сидела дюжина бедняков с тарелкой супа и куском хлеба перед каждым. Отец Антуан ел вместе с ними. «Садись, дочь моя, мы ждали тебя. Сейчас сестра Люси найдет тебе угол, где ты сможешь переночевать», — сказал он.
На следующий день святой пошел с ней к судье. В назначенный час туда явились Вальморен, Пармантье и Санчо, чтобы легализовать освобождение «девицы Зарите, называемой Тете, мулатки, тридцати лет, хорошего поведения, за верную службу. В соответствии с этим документом ее дочь Розетта, мулатка во втором поколении, одиннадцати лет, принадлежит в качестве рабыни указанной Зарите». Судья распорядился вывесить для публики объявление, чтобы «лица, имеющие законные возражения, предстали перед этим судом в срок, не превышающий сорока дней, считая от указанной даты». Когда процедура была окончена, заняв всего-навсего девять минут, все разошлись довольные, включая и Вальморена, потому что ночью, когда Гортензия наконец уснула, обессилев от собственного гнева и причитаний, у него было достаточно времени, чтобы хорошенько подумать, и он понял, что Санчо был прав: ему следовало расстаться с Тете. В дверях он задержал ее, взяв за руку.
— Хотя ты и нанесла мне серьезный урон, я не держу на тебя зла, женщина, — сообщил он ей отеческим тоном, довольный своей собственной щедростью. — Полагаю, что ты закончишь тем, что будешь просить милостыню на улице, но я, по крайней мере, спасу Розетту. Она останется у урсулинок, пока не завершит свое образование.
— Ваша дочь будет вам благодарна, месье, — ответила она и удалилась пританцовывая.
Новоорлеанский святой
Первые две недели Тете зарабатывала себе на пропитание и ночлег на набитом соломой тюфяке, помогая отцу Антуану в его многочисленных благотворительных делах. Вставала до рассвета, когда он уже давно стоял на молитве, и отправлялась с ним вместе в тюрьму, больницу, приют для сумасшедших, сиротский дом и по частным домам, чтобы причастить стариков и лежачих больных. Целый день, при палящем солнце или под проливным дождем, убогая фигура монаха в бурой сутане и со спутанной бородой перемещалась по городу; его видели в особняках богачей и в жалких хижинах, в монастырях и борделях; он просил милостыню на рынке и в кафетериях, раздавал хлеб увечным нищим и воду рабам на аукционе в Масперо-Эшанж, и повсюду за ним следовала неизменная свита из голодных псов. Никогда не забывал он утешать тех, кого наказывали публично за зданием мэрии, — этих самых несчастных овец его стада: им он промывал раны, но так неловко из-за плохого зрения, что Тете пришлось вмешаться.
— Какие же у тебя ангельские руки, Тете! Господь избрал тебя, чтобы ты стала медсестрой. Придется тебе остаться работать со мной, — предложил ей святой.
— Я не монахиня, mon pére, и не могу всю жизнь работать бесплатно, мне нужно содержать дочь.
— Не впадай в грех стяжательства, дочь моя, служение ближнему зачтется на небесах, как обещал Иисус.
— Скажите Ему, пусть Он лучше заплатит мне прямо здесь, хотя бы немного.
— Конечно скажу, дочь моя, но у Иисуса слишком много расходов, — ответил ей монах с плутовской усмешкой.
К вечеру они возвращались в каменный домик, где их ждала сестра Люси с куском мыла и водой, чтобы они могли умыться перед совместной с нищими трапезой. Тете отправлялась помыть ноги в ведре с водой и нарезать бинты для перевязок, а святой отец выслушивал исповеди, выступал арбитром, восстанавливал допущенную несправедливость и развеивал злобу. Он не давал советов, по собственному опыту зная, что это пустая трата времени: каждый совершает свои собственные ошибки и сам на них учится.
Ночью святой укутывался в изъеденную молью шаль и вместе с Гете отправлялся пообщаться с самым опасным городским отребьем, прихватив с собой лампу, потому что ни один из восьмидесяти городских фонарей не был установлен в тех местах, куда он собирался. Преступники его терпели, потому что он на ругань отвечал саркастическим благословением и ничто не могло его напугать. Он приходил не с пустыми проклятиями и не с намерением спасти души, а чтобы перебинтовать ножевые раны, изолировать насильников, воспрепятствовать самоубийствам, помочь женщинам, забрать трупы и отправить детей в приют при женском монастыре. Если кто-то из кентуккийцев по неведению осмеливался его тронуть, поднималась сотня кулаков, чтобы просветить чужака относительно того, кто такой отец Антуан. Появлялся он и в квартале, прозванном Эль-Пантано, то есть «Болото», — самом развратном притоне на Миссисипи, где он также оказывался под защитой своей неизменной невинности и мифического ореола. Гам в игорных домах и домах терпимости собирались лодочные гребцы, пираты, сутенеры, проститутки, дезертиры, загулявшие матросы, воры и убийцы. Напуганная Тете продвигалась вперед, схватившись за сутану капуцина и громко взывая к Эрцули, всячески стараясь не наступить на крысу, не измазаться в грязи, рвоте или дерьме, а он смаковал опасность. «Иисус оберегает нас, Тете», — уверял он ее, чувствуя себя счастливым. «А если он отвлечется, mon pére?»
К концу второй недели ноги Тете были покрыты язвами, спина разламывалась, а сердце разрывалось от боли за людские пороки и от подозрения, что гораздо легче резать тростник, чем оказывать милости тысяче неблагодарных. Однажды во вторник она встретилась на Оружейной площади с Санчо Гарсиа дель Соларом, одетым в черное и таким надушенным, что к нему не подлетали даже мухи. Дон Санчо был очень доволен, потому что только что выиграл партию экарте́ у одного слишком доверчивого американца. Он поприветствовал Тете изящным поклоном и поцелуем руки на глазах у изумленной публики, а затем пригласил на чашку кофе.
— Только ненадолго, дон Санчо, я ведь жду здесь mon pére, а он сейчас пользует пустулы одного грешника, и я думаю, что это долго не продлится.
— Разве ты не помогаешь ему, Тете?
— Конечно помогаю. Но у этого грешника испанская болезнь, а mon pére не хочет, чтобы я видела интимные части тела. Как будто для меня это новость какая-то!
— Святой совершенно прав, Тете. Вот если бы я заразился этой болезнью — храни меня Господь! — то я бы совсем не хотел, чтобы некая прекрасная женщина смущала мою стыдливость.
— Не смейтесь, дон Санчо, ведь эта напасть может случиться с каждым. Кроме отца Антуана, конечно.
Они уселись за столик перед площадью. Хозяин кофейни, свободный мулат и знакомец Санчо, не стал скрывать свое удивление перед тем контрастом, который являли собой испанец и его спутница: он походил на короля, а она — на нищенку. Санчо тоже обратил внимание на жалкий вид Тете, и, когда она рассказала ему, какую жизнь ведет вот уже две недели, он громко расхохотался.
— Поистине святость — это большая обуза, Тете. Тебе лучше уйти от отца Антуана, иначе ты превратишься в такую же развалину, как сестра Люси, — сказал он.
— Я не смогу слишком долго злоупотреблять благородством отца Антуана, дон Санчо. Я уйду, когда истекут сорок дней, объявленных судьей, и я стану свободной. Тогда я подумаю, что мне делать. Нужно будет найти работу.
— А Розетта?
— Она остается в монастыре урсулинок. Я знаю, что это вы навешаете ее и от моего имени дарите ей подарки. Чем я могу отплатить вам за все то хорошее, что вы для нас сделали, дон Санчо?
— Ты мне ничего не должна, Тете.
— Мне нужно скопить денег, чтобы принять Розетту, когда она выйдет из школы.
— А что говорит об этом отец Антуан? — поинтересовался Санчо, насыпая пять ложечек сахара и вливая коньяк в свой кофе.
— Что Бог даст.
— Надеюсь, что так и будет, но на всякий случай было бы неплохо, чтобы у тебя имелся и альтернативный план. Мне нужна экономка, мой дом — просто несчастье, но если я найму тебя, Вальморены мне этого не простят.
— Я все понимаю, сеньор. Кто-нибудь даст мне место, я уверена.
— Всю тяжелую работу выполняют рабы, от обработки полей до ухода за детьми. Тебе известно, что в Новом Орлеане три тысячи рабов?
— А сколько свободных людей, сеньор?
— Около пяти тысяч белых и двух тысяч цветных, как говорят.
— То есть свободных более чем в два раза больше, чем рабов, — подсчитала она. — Как же мне не найти кого-нибудь, кто нуждался бы в моих услугах! Какого-нибудь аболициониста, например.
— Аболициониста в Луизиане? Если они здесь и имеются, то очень хорошо прячутся, — засмеялся Санчо.
— Я не умею читать, писать и готовить, сеньор, но могу делать работу по дому, помогать в рождении детей, зашивать раны и лечить болезни, — не сдавалась она.
— Легко это не получится, дорогая, но я постараюсь тебе помочь, — сказал ей Санчо. — Одна моя подруга считает, что рабы обходятся дороже, чем наемные: понадобится несколько рабов, чтобы они через пень-колоду сделали ту работу, которую свободный человек будет делать по доброй воле. Понимаешь меня?
— Более-менее, — призналась она, запоминая каждое слово, чтобы передать все потом отцу Антуану.
— У раба нет стимулов, ему выгодно работать медленно и плохо, ведь его старание принесет выгоду только его хозяину, а свободный человек работает для того, чтобы копить деньги и подниматься выше, и это его стимул.
— Стимулом в Сен-Лазаре был хлыст месье Камбрея, — откликнулась она.
— И ты знаешь, чем кончила эта колония, Тете. Нельзя бесконечно насаждать террор.
— Вы, должно быть, подпольный аболиционист, дон Санчо, потому что говорите, как учитель Гаспар Северен и месье Захария в Ле-Капе.
— Не говори больше этого при людях, иначе создашь мне проблемы. Завтра я хочу видеть тебя на этом же месте, чистую и прилично одетую. Мы пойдем навестить мою подругу.
На следующий день отец Антуан пошел по своим делам один, а Тете, в своем единственном свежевыстиранном платье и накрахмаленном шиньоне, отправилась вместе с Санчо в первый раз в жизни наниматься на работу. Далеко идти не пришлось: всего несколько кварталов по пестрой улице Шартре с ее магазинами по продаже шляп, кружев, ботинок, тканей и всего того, что существует на свете для насыщения женского кокетства. Остановились они перед двухэтажным домом, выкрашенным в желтый цвет и с зелеными балконными решетками.
Санчо постучал в дверь маленьким дверным молотком в форме лягушки, и дверь открыла толстая негритянка, которая, узнав Санчо, тут же сменила хмурую мину на широкую улыбку. Тете подумалось, что за двадцать лет она сделала круг, чтобы попасть ровно в то самое место, в котором оказалась, покинув дом мадам Дельфины. Это была Лула. Она не узнала Тете, да это было и невозможно, но так как та пришла с Санчо, то приняла ее и провела в зал. «Мадам скоро выйдет, дон Санчо. Она вас ждет», — объявила она и вышла, заставив жалобно стонать половицы под ее слоновьими шагами.
Несколько минут спустя Тете, сердце которой прыгало в груди, увидела, как в гостиную вошла сама Виолетта Буазье из Ле-Капа, такая же красивая, как в былые времена, но с уверенностью, источником которой являются годы и воспоминания. Санчо тут же преобразился. Исчезло его фанфаронство испанского сеньора, и он превратился в застенчивого юношу, который наклоняется к руке красавицы, в то время как его шпага опрокидывает столик. Тете поймала на лету средневекового фарфорового трубадура и прижала его к груди, не отрывая глаз от Виолетты. «Полагаю, это и есть та женщина, о которой ты говорил мне, Санчо», — сказала она. Тете заметила неформальность общения и смущение Санчо, припомнила слухи и поняла, что Виолетта и есть та самая «кубинка», которая, по словам Целестины, вытеснила Ади Супир из влюбчивого сердца испанца.
— Мадам… Мы знакомы очень давно. Вы купили меня у мадам Дельфины, когда я была еще девочкой, — выдавила из себя Тете.
— Да? Не припомню, — засомневалась Виолетта.
— В Ле-Капе. Вы купили меня для месье Вальморена. Я Зарите.
— Ну конечно же! Подойди-ка к окну, я хочу получше тебя рассмотреть. И как мне было тебя узнать? Тогда ты была тощей девчонкой с манией побега.
— Теперь я свободна. В общем, почти свободна.
— Боже мой, какое странное совпадение! Лула! Иди взгляни, кто к нам пришел! — крикнула Виолетта.
Появилась Лула, влача свое огромное тело, и, когда поняла, в чем дело, стиснула Тете в своих объятиях гориллы. Пара сентиментальных слезинок показалась на глазах огромной негритянки, когда она вспомнила об Оноре, неразрывно связанном в ее памяти с той девочкой, которой когда-то была Тете. Лула рассказала, что, прежде чем вернуться во Францию, мадам Дельфина попыталась его продать, но он ничего не стоил, поскольку был уже больным стариком, и хозяйка отпустила его, чтобы он сам находил себе пропитание, прося милостыню.
— Он ушел с мятежниками еще до начала революции. Приходил проститься со мной, мы ведь были друзьями. Настоящим кабальеро был этот Оноре. Не знаю, сумел ли он добраться до гор, ведь дорога туда крутая, все вверх и вверх, а кости у него уже никуда не годились. А если и дошел, кто знает, приняли ли его там, он-то уже совсем не годился сражаться на войне, — вздохнула Лула.
— Конечно его приняли, потому что он умел играть на барабанах и готовить. А это важнее, чем держать в руках оружие, — утешала ее Тете.
Тете распрощалась со священником и старой сестрой Люси, пообещав помогать им ухаживать за больными, когда сможет, и переехала жить вместе с Виолеттой и Лулой — то, чего она так хотела, когда ей было десять лет. Теперь ей представилась возможность получить ответ на вопрос, мучивший ее уже два десятка лет: сколько заплатила за нее Виолетта мадам Дельфине. Оказалось, что это была цена пары коз, хотя позже, при передаче Вальморену, она уже подорожала на пятнадцать процентов. «И это было даже больше того, чего ты действительно стоила, Тете. Ты ж была всего-навсего худущей и плохо воспитанной девчонкой», — совершенно серьезно заверила ее Лула.
Тете отдали единственную в доме комнату для рабов — маленькую, как тюремная камера, без воздуха, но чистую, а еще Виолетта порылась в своих вещах и нашла кое-что подходящее, чтобы ее приодеть. Дел для нее оказалось столько, что невозможно было и сосчитать, но в основном они состояли в выполнении поручений Лулы, ни возраст которой, ни силы уже не позволяли ей заниматься работой по дому, и она проводила время на кухне, занимаясь изготовлением кремов для красоты лица и мазей для усиления чувственности. Ни одна вывеска на улице не говорила о том, что предлагалось в этих стенах: вполне хватало и того, что передавалось из уст в уста. Эти частные рекомендации привлекали нескончаемую череду клиенток всех возрастов, большинство из которых были цветными, но приходили и белые, скрывая лица под плотной вуалью.
Виолетта принимала посетителей только во второй половине дня: она пока не утратила привычки посвящать утренние часы своей собственной красоте, а также досугу. Кожа ее, которой лишь в очень редких случаях касались прямые лучи солнца, по-прежнему была нежна, как крем-карамель, а тонкие морщинки возле глаз придавали ее лицу характер. Руки, которым никогда не приходилось ни стирать, ни готовить, радовали взгляд свежестью, а формы были чуть подчеркнуты несколькими набранными килограммами, которые лишь смягчали ее силуэт, не придавая ей вид матроны. Таинственные лосьоны сохранили в неприкосновенности черный как смоль цвет ее волос, которые она убирала, как и прежде, в довольно сложно устроенный пучок, оставляя спереди несколько вьющихся прядей — чтобы было где разгуляться воображению. Она все еще возбуждала в мужчинах желание, а в женщинах ревность, и уверенность в этом придавала особый ритм ее походке и кошачье мурлыканье — смеху. Клиентки поверяли ей свои горести, шепотом просили совета и покупали у нее снадобья не торгуясь, в обстановке величайшей таинственности. Тете ходила вместе с ней закупать ингредиенты: от жемчужин для отбеливания кожи, которые поставляли пираты, до флаконов цветного стекла, привозимых для нее одним капитаном прямо из Италии. «Упаковка ценится больше, чем содержимое. Внешний вид товара — вот что важно людям», — пояснила как-то Тете Виолетта. «Отец Антуан придерживается противоположных взглядов», — рассмеялась та.
Раз в неделю они отправлялись к писарю, и Виолетта излагала ему в общих чертах содержание письма, которое она намеревалась послать своему сыну во Францию. Писарь брал на себя труд заключить ее мысли в расцвеченные фразы и утонченную каллиграфию. Письма всего через два месяца попадали в руки юного кадета, который методично отвечал на каждое из них четырьмя фразами на военном жаргоне. В ответных письмах сына говорилось, что состояние его положительное и что он изучает язык противника, не уточняя, о каком, собственно, противнике идет речь, несмотря на то что у Франции их было несколько. «Жан-Мартен такой же, как его отец», — вздыхала Виолетта, когда читала эти зашифрованные послания. Тете осмелилась как-то спросить ее, как ей удалось стать матерью и сохранить тело таким же крепким, но Виолетта ответила, что эту особенность она унаследовала от своей сенегальской бабки. Она не призналась Тете в том, что Жан-Мартен был приемным сыном, и ни разу не упомянула о своих любовных отношениях с Вальмореном. Виолетта рассказала лишь о своей долгой связи с Этьеном Реле, любовником и мужем, памяти которого она оставалась верна, пока не появился Санчо Гарсиа дель Солар, потому что ни одному из прошлых претендентов на Кубе не удалось добиться ее любви, даже тому галисийцу, который едва на ней не женился.
— Во время вдовства у меня всегда кто-то был в кровати, чтобы оставаться в форме. Потому-то у меня хорошая кожа и настроение.
Тете подумала, что скоро сама она покроется морщинами и впадет в меланхолию, потому что вот уже несколько лет утешает себя сама, без каких-либо иных стимулов, кроме воспоминаний о Гамбо.
— Дон Санчо очень хороший господин, мадам. Если вы его любите, то почему вы с ним не поженитесь?
— Ты в каком мире живешь, Тете? Белые не женятся на цветных — это незаконно. Кроме того, в моем возрасте замуж уже не выходят, и тем более за такого неисправимого гуляку, как Санчо.
— Вы могли бы жить вместе.
— А я не желаю его содержать. Санчо умрет бедняком, а я собираюсь умереть богатой, чтобы меня похоронили в мавзолее, увенчанном мраморным архангелом.
За пару дней до того, как вступало в силу освобождение Тете, Санчо и Виолетта отправились вместе с ней в школу урсулинок, чтобы сообщить новость Розетте. Они расположились в зале для посетителей, просторной и почти голой гостиной с четырьмя деревянными стульями грубой работы и огромным распятием, свисающим с потолка. На столике стояли чашечки с едва теплым шоколадом, покрытом сливочной пенкой, и урна для пожертвований, которые помогали подкармливать прикрепленных к монастырю нищих. При этой встрече присутствовала и монахиня — она искоса наблюдала за происходящим, потому что ученицы не имели нрава без дуэньи находиться в присутствии мужчины, да еще такого соблазнителя, как этот испанец.
Тете редко затрагивала тему рабства в разговорах с дочерью. Розетта имела смутное представление о том, что они с матерью принадлежат Вальморену, и приравнивала свое положение к положению Мориса, который полностью зависел от своего отца и сам не мог принять ни одного решения. Это не казалось ей странным. Все женщины и девочки, которых она знала, и рабыни и свободные, принадлежали какому-нибудь мужчине: отцу, мужу или Иисусу. Тем не менее тема рабства постоянно присутствовала в письмах Мориса — свободного человека, который гораздо больше, чем она, был опечален абсолютной безнравственностью, как он выражался, этого явления. В детстве, когда различия между ними было намного менее заметными, Морис имел обыкновение впадать в трагическое состояние духа, в которое его погружали две неотступно преследовавшие его темы: справедливость и рабство. «Когда мы станем большими, ты будешь моим хозяином, а я стану твоей рабыней, и мы будем жить очень счастливо», — как-то заявила ему Розетта. Морис встряхнул ее, от слез потеряв всякое чувство меры: «У меня никогда не будет рабов! Никогда! Никогда!»
Розетта была одной из девочек с самым светлым цветом кожи среди цветных учениц, и никто не сомневался в том, что она — дочь свободных родителей. Только мать настоятельница знала об ее истинном положении и согласилась принять ее в колледж только после щедрого пожертвования Вальморена и его обещания об освобождении в ближайшем будущем. Этот совместный визит оказался гораздо более продолжительным, чем предыдущие, когда Тете наедине с дочкой не знала, о чем говорить, и обе чувствовали себя неудобно. Розетта и Виолетта мгновенно прониклись взаимной симпатией. Увидев их рядом, Тете подумала, что чем-то они похожи — не столько чертами лица, сколько цветом кожи и манерой держаться. Отведенный на свидание час они оживленно проговорили, а они с Санчо молча за ними наблюдали.
— Какая умная и красивая девочка эта твоя Розетта, Тете! Именно такую дочь я всегда мечтала иметь! — произнесла Виолетта, когда они вышли.
— А что с ней будет, когда она выйдет из школы, мадам? Она ведь привыкла жить как богачка, не работала никогда в жизни и считает себя белой, — вздохнула Тете.
— До этого еще есть время. Там посмотрим, — сказала в ответ Виолетта.
Зарите
В назначенный день я встала в дверях суда, чтобы дождаться прихода судьи. Объявление все еще было приколото к стене, висело, как и каждый день в течение этих сорока дней, — я видела его своими глазами каждый вечер, когда с замирающим сердцем и гри-гри в руке — на удачу — приходила сюда проверить, не возражает ли кто-нибудь против моего освобождения. Мадам Гортензия запросто могла это устроить: ей всего лишь понадобилось бы обвинить меня в привычке транжирить деньги или в дурном характере, по она, кажется, не осмелилась выступить против мужа. Месье Вальморен страшно боялся пересудов. В эти дни у меня было время подумать и появилось много сомнений. В голове крутились предупреждения Целестины и угрозы Вальморенов: свобода означает, что ты не можешь рассчитывать на помощь, у тебя не будет ни защиты, ни безопасности. Если я не найду работу или заболею, то закончу свою жизнь в очереди нищих, которых подкармливают урсулинки. А Розетта? «Успокойся, Тете. Доверься Богу, Он никогда нас не покинет», — утешал меня отец Антуан. Никто не обратился в суд, чтобы оспорить мое освобождение, и 30 ноября 1800 года судья подписал документ о моей свободе и передал мне Розетту. Только отец Антуан присутствовал там, потому что дон Санчо и доктор Пармантье, обещавшие мне прийти, позабыли об этом. Судья спросил меня, под какой фамилией меня записать, и святой позволил мне взять его фамилию. Зарите Седелья, тридцать лет, мулатка, свободная. Розетта, одиннадцать лет, мулатка во втором поколении, рабыня, собственность Зарите Седельи. Так значилось в бумаге, которую отец Антуан прочел мне слово за словом, а потом благословил меня и крепко обнял. Так оно было.
Святой тут же отправился к своим подопечным, а я села на скамейку на Оружейной площади поплакать — от облегчения. Не знаю, сколько я там просидела, но слез было много, потому что солнце подвинулось на небе и лицо мое высохло уже в тени. И тогда я почувствовала, что кто-то трогает меня за плечо, и услышала, как голос, который я тут же узнала, говорит мне: «Наконец-то вы успокоились, мадемуазель Зарите! Я уж подумал, что вы собираетесь растаять в слезах». Это был Захария, все это время он сидел на другой лавочке и не спеша меня разглядывал. Он был самым красивым мужчиной в мире, только раньше я не замечала этого, потому что была слепа от любви к Гамбо. В доме интенданта в Ле-Капе, в парадной ливрее, он выглядел очень внушительно, а здесь, на площади, в расшитом шелком жилете цвета мха, батистовой сорочке, сапогах с узорными пряжками и с несколькими золотыми кольцами, он казался еще лучше. «Захария! Это действительно вы?» Он казался видением, но очень четкам, с несколькими седыми волосками на висках и тонкой тростью с мраморным набалдашником.
Он сел рядом со мной и попросил меня оставить формальный тон: на «ты» общаться лучше, чем на «вы», учитывая нашу старинную дружбу. Он поведал мне, что со всей поспешностью покинул Сан-Доминго, едва было объявлено об отмене рабства, и поднялся на борт американской шхуны, направлявшейся в Нью-Йорк, где не знал ни одной души, дрожал от холода и не понимал ни слова из той тарабарщины, на которой изъясняются там люди. Он знал, что большая часть беженцев из Сан-Доминго обосновалась в Новом Орлеане, и добился того, чтобы оказаться здесь. Дела у него шли хорошо. Пару дней назад он случайно увидел в суде объявление о моем освобождении, навел справки и когда уже был уверен, что речь идет именно о той самой Зарите, его знакомой, рабыне месье Тулуза Вальморена, то решил прийти в указанный день, поскольку уж все равно его лодка стоит на якоре в Новом Орлеане. Он видел, как я вошла в суд вместе с отцом Антуаном, и стал ждать меня на Оружейной площади, а потом проявил деликатность, позволив мне выплакаться в свое удовольствие, прежде чем подошел ко мне поздороваться.
— Этого момента я ждала тридцать лет, а когда он пришел, то я, вместо того чтобы плясать от радости, принимаюсь плакать, — сказала я, засмущавшись.
— У тебя еще будет время потанцевать, Зарите. Сегодня же вечером мы будем праздновать, — предложил он мне.
— Но мне нечего надеть!
— Придется купить тебе платье — это самое малое, чего ты заслужила в этот день, самый важный день в твоей жизни.
— Ты богат, Захария?
— Я беден, но живу как богач. Это умнее, чем быть богатым и жить как бедный. — И он рассмеялся. — Когда я умру, моим друзьям придется скинуться на мои похороны, но моя эпитафия будет написана золотыми буквами: «Здесь покоится Захария, самый богатый негр на Миссисипи». Я уже заказал себе надгробную rummy и держу ее под кроватью.
— Того же желает и мадам Виолетта Буазье: пышную могилу.
— Это единственное, что после нас остается, Зарите. Через сто лет посетители кладбища смогут восхищаться могилами Виолетты и Захарии и воображать, что мы прожили хорошую жизнь.
Он проводил меня до дома. На полдороге мы встретились с двумя белыми мужчинами, одетыми почти так же хорошо, как и Захария. Они насмешливо оглядели его с ног до головы. Один из них плюнул, и плевок упал совсем близко от ног Захарии, но тот не придал этому значения или же решил этим пренебречь.
Ему не пришлось покупать мне платье, потому что мадам Виолетта решила сама собрать меня на первое в моей жизни свидание. Они с Лулой выкупали меня, натерли миндальным кремом, отполировали ногти и как могли привели в порядок ноги, хотя и не смогли скрыть мои мозоли — так много лет я ходила босой. Мадам сделала мне макияж, и в зеркале появилась не моя раскрашенная физиономия, а некая почти красивая Зарите Седелья. Она надела на меня свое муслиновое платье в стиле ампир цвета спелого персика и накидку того же цвета и по-своему завязала мне на голове шелковый тиньон. А еще мадам одолжила мне свои парчовые туфельки и серьги — большие золотые кольца — ее единственное украшение, если не считать кольца с треснувшим опалом, которое она никогда не снимала с пальца. Мне даже не пришлось выходить из дома в шлепанцах и нести туфли с собой в сумке, чтобы не испачкать, как обычно делают, потому что Захария приехал за мной на извозчике. Я думаю, что и Виолетта, и Лула, и несколько соседок, собравшихся полюбопытствовать, задавались вопросом: почему такой кабальеро, как он, теряет свое время с кем-то таким никчемным, как я?
Захария привез мне две гардении, которые Лула приколола к вырезу моего платья, и мы отправились в Оперу. Тем вечером давали спектакль по произведению композитора Сен-Жоржа, сына плантатора с Гваделупы и рабыни-африканки. Король Людовик XVI назначил его главным дирижером Парижской оперы, но все быстро закончилось, потому что оперные дивы и тенора отказывались петь, повинуясь его дирижерской палочке. Так рассказал мне Захария. Может статься, что ни один из тех белых, что так аплодировали, не знал, что эта музыка была написана мулатом. У нас были лучшие места в той части театра, что предназначалась цветным, — второй ярус, середина. В густом воздухе театра витали запахи алкоголя, пота и табака, но я чувствовала лишь запах моих гардений. На галерке оказалось несколько кентуккийцев, которые выкрикивали свои идиотские шутки, пока наконец их не вытолкали из зала, и музыка заиграла вновь. Потом мы отправились в «Салон Орлеан», где играли вальсы, кадрили и польки, те самые танцы, которым Морис и Розетта научились с помощью палки. Захария вел меня в танце, не наступая мне на ноги и не задевая другие пары, нам приходилось выписывать разные фигуры на площадке, не хлопая крыльями и не шевеля хвостом. Там было и несколько белых мужчин, но ни одной белой женщины, а Захария был самый черный из присутствующих, кроме музыкантов и обслуги, и самый красивый. Он был выше всех, танцевал плавно, словно парил, и улыбался, обнажая свои великолепные зубы.
Мы провели на танцах с полчаса, но Захария заметил, что мне не по себе, и мы ушли. Первое, что я сделала, когда мы оказались в экипаже, — сняла обувь.
Путь наш закончился возле реки, на скромной улочке вдали от центра. Мое внимание привлекло то, что там стояли и другие экипажи с извозчиками, дремлющими на облучке, как будто они уже довольно долго ждут. Мы остановились напротив увитой плющом глухой стены с узкой дверью, фонарь освещал ее довольно скудно, но она охранялась белым человеком с двумя пистолетами, который уважительно приветствовал Захарию. Мы вошли во двор: там стояло около дюжины оседланных лошадей и были слышны звуки оркестра. Дом, которого с улицы видно не было, оказался довольно большим, хотя и без претензий; происходящее внутри скрывалось задернутыми гардинами.
— Добро пожаловать в заведение «У Флёр» — самый известный игорный дом Нового Орлеана, — объявил мне Захария, обводя широким жестом фасад.
Скоро мы уже стояли в просторном зале. Сквозь пелену сигарного дыма я смогла различить и белых и цветных мужчин: некоторые окружали игорные столы, другие пили или танцевали с декольтированными женщинами. Кто-то подал нам бокалы с шампанским. Пройти вперед не удавалось — Захарию останавливали на каждом шагу приветствиями.
Вдруг среди троков завязалась драка, и Захария потянулся туда, собираясь вмешаться, но его опередила огромная фигура с целой копной жестких, как солома, волос, сигарой в зубах и в сапогах дровосека, которая отвесила зачинщикам по звонкой оплеухе, и спор затих. Через пару минут мужчины уже снова сидели с картами в руках и шутили как ни в чем не бывало. Захария представил меня тому, кто восстановил порядок. Я подумала, что это мужчина с грудью, но оказалось, что это женщина с волосами на лице. У нее было деликатное имя цветка и птицы, которое не вязалось с ее внешностью: Флёр Ирондель. [21]
Захария пояснил, что на те деньги, которые он годами копил, чтобы выкупить свою свободу, и которые вывез из Сан-Доминго, вкупе с банковским кредитом, полученным его компаньоном Флёр Ирондель, они смогли купить этот дом. Тогда он был в довольно плохом состоянии, но его отремонтировали и оборудовали всеми возможными удобствами, даже с намеком на роскошь. Проблем с властями не возникало, потому что немалая часть бюджета шла на их подкуп. Они продавали еду и горячительные напитки, в доме играла веселая музыка двух оркестров и предлагались самые яркие «ночные бабочки» Луизианы. Эти дамы не являлись служащими заведения, они были свободными художницами, потому что «У Флёр» домом терпимости не являлось: подобных заведений в городе хоть отбавляй и еще в одном не было никакой необходимости. За столами проигрывались и порой выигрывались целые состояния, но основные деньги оседали в игорном доме. Дела «У Флёр» шли неплохо, хотя компаньоны все еще вытачивали кредит и несли немалые расходы.
— Я мечтаю завести несколько игорных домов, Зарите. Конечно, нужны будут белые компаньоны, как Флёр Ирондель, чтобы раздобыть деньги.
— Она что, белая? Вообще-то, она больше похожа на индейца.
— Настоящая француженка, только обгорела на солнышке.
— Тебе с ней повезло, Захария. Компаньоны, вообще-то, не нужны, лучше заплатить кому-нибудь, чтобы дал свое имя. Так делает мадам Виолетта, чтобы обойти закон. Дон Санчо служит витриной, но она его в свои дела не пускает.
В этом доме я танцевала по-своему, и ночь пролетела быстро. Когда Захария повез меня домой, уже светало. Ему приходилось поддерживать меня под руку: у меня кружилась голова от счастья и шампанского, которое я никогда до этого дня не пробовала. «Эрцули, лоа любви, не попусти, чтоб я влюбилась в этого человека, потому что он заставит меня страдать», — молилась я этой ночью, вспоминая о том, как женщины смотрели на него в Ле-Капе и предлагали ему себя в заведении «У Флёр».
Из окошка экипажа мы заметили отца Антуана, который, шаркая сандалиями, возвращался в церковь после ночи добрых дел. Он шел устало, и мы остановились подвезти его, хотя мне и было стыдно за свое пахнувшее алкоголем дыхание и декольтированное платье. «Вижу, ты на славу отпраздновала свой первый день свободы, дочь моя. Что ж, ты и вправду заслужила немного развлечься» — это все, что он сказал, прежде чем меня благословить.
Как мне и обещал Захария, это был счастливый день. Таким я его запомнила.
Политика дня
Пьер-Франсуа Туссен, названный Лувертюром за свою ловкость в переговорах и торгах, установил в Сан-Доминго военную диктатуру и худо-бедно ситуацию контролировал, однако семь лет насилия опустошили колонию и в немалой степени способствовали обеднению Франции. Наполеон не собирался допускать, чтобы «этот криволапый», как он называл Туссена, ставил ему условия. Туссен провозгласил себя пожизненным правителем, вдохновленный примером Наполеона с его пожизненным титулом первого консула, и обращался к нему как равный к равному. Бонапарт же собирался раздавить его, как таракана, отправить негров на плантации работать и восстановить колонию под управлением белых. Клиенты «Кафе эмигрантов» в Новом Орлеане с неослабевающим вниманием следили все последующие месяцы за сумбурными событиями, потому что все еще не теряли надежды вернуться на остров. Наполеон послал туда крупный экспедиционный корпус под командованием своего зятя, генерала Леклерка, взявшего с собой и свою прекрасную супругу — Полину Бонапарт. Сестра Наполеона путешествовала с придворными, музыкантами, акробатами, актерами, мебелью, украшениями и всем тем, чего только можно было пожелать для создания в колонии двора, не уступающего по пышности и блеску тому, который она оставила в Париже.
Экспедиция вышла из Бреста в конце 1801 года, и два месяца спустя корабли Леклерка расстреляли из пушек Ле-Кап, и город был обращен в пепел уже во второй раз за десять лет. Туссен-Лувертюр и бровью не повел. Спокойный, он каждую секунду ждал того единственного момента, когда следует атаковать или отступить, но в любом случае войска его оставляли за собой выжженную землю — ни одного дерева, которое бы оставалось стоять. Те белые, которым не удалось укрыться под защитой Леклерка, были уничтожены. В апреле желтая лихорадка, как еще одно проклятие, обрушилась на французские войска, непривычные к этому климату и по этой причине оказавшиеся беззащитными перед эпидемией. Из семнадцати тысяч солдат, которых привел с собой Леклерк в самом начале экспедиции, у него осталось семь тысяч, причем в довольно жалком состоянии; остальные же распределились поровну: пять тысяч — под землей, пять тысяч — в агонии. И снова Туссен был благодарен Макандалю за столь своевременную помощь его крылатого войска.
Наполеон послал Леклерку подкрепление, и в июне еще три тысячи солдат и офицеров умерли от той же лихорадки. Не хватало негашеной извести, чтобы засыпать ею тела в братских могилах, откуда стервятники и собаки растаскивали куски мертвечины. Однако в том же месяце на небесном своде померкла з’этуаль Туссена. Генерал угодил в расставленную французами ловушку, приманкой в которой послужили переговоры, был арестован и депортирован вместе с семьей во Францию. Наполеон победил «черного генерала, самого великого в истории», как его называли. Леклерк объявил, что единственный способ восстановить мир — уничтожить всех негров в горах и половину тех, что на равнинах, мужчин и женщин без разбору, и оставить только детей до двенадцати лет, но план свой исполнить ему не удалось, поскольку он заболел.
Белые эмигранты Нового Орлеана, включая монархистов, поднимали тосты за непобедимого Наполеона, в то время как Туссен-Лувертюр медленно умирал в ледяной камере одного из фортов в Альпах, на высоте тысяча девятьсот метров, недалеко от швейцарской границы. Война неумолимо продолжалась весь 1802 год, и очень немногие заметили, что в этой краткосрочной кампании Леклерк потерял почти тридцать тысяч человек, прежде чем в ноябре погиб и сам от «сиамской болезни» — желтой лихорадки. Первый консул пообещал послать в Сан-Доминго еще тридцать тысяч солдат.
Однажды зимним вечером 1802 года доктор Пармантье и Тете вели беседу во дворике Адели, где они встречались довольно часто. За три года до этого, когда доктор увидел Тете в доме Вальморенов вскоре после его приезда с Кубы, он выполнил свое обещание и передал ей послание Гамбо. И рассказал о тех обстоятельствах, при которых познакомился с этим человеком, о его ужасных ранах и долгом выздоровлении, что и позволило им узнать друг друга. Рассказал он и о той помощи, которую оказал ему храбрый капитан, поспособствовав его отъезду из Сан-Доминго в тот самый момент, когда это было практически невозможно. «Он сказал, чтобы ты его не ждала, Тете, потому что он тебя уже позабыл, но ведь если он послал тебе эти слова, то это значит, что тебя он не забывает», — сообщил ей тогда доктор. Он предполагал, что Тете уже освободилась от призрака этой любви. Знал он и Захарию: кто угодно мог угадать его чувства к Тете, хотя доктору и ни разу не случилось подметить у этих двоих те признаки взаимного притяжения, что выдают близость. Возможно, привычка к осмотрительности и притворству, сослужившие им такую службу в рабстве, пустила слишком глубокие корни. Игорный дом отнимал у Захарии довольно много времени; к тому же время от времени он ездил на Кубу и другие острова — запасаться ликерами, сигарами и другими товарами, необходимыми для его бизнеса. Захария всегда заставал Тете врасплох, когда появлялся в доме на улице Шартре. Пармантье несколько раз встречался с ним, когда Виолетта приглашала его на ужин. Он был любезным и неукоснительно вежливым и неизменно приходил с классическим миндальным пирогом — вишенкой на торте любого застолья. С доктором Захария говорил о политике, то есть на свою любимую тему; с Санчо — о ставках, лошадях и фантастичных коммерческих делах, а с женщинами — о том, что могло им польстить. Иногда его сопровождала его компаньонка, Флёр Ирондель, которая, по-видимому, каким-то странным образом была связана с Виолеттой. Она складывала свое оружие у входа, садилась выпить чаю в маленькой гостиной, а потом исчезала в глубине дома вслед за Виолеттой. Доктор мог поклясться, что возвращалась она без волос на лице, и как-то раз он видел, как она прятала в свой карман для пороха некий флакончик — вне всякого сомнения, духи, потому что, как случалось ему слышать от Виолетты, у всех женщин тлеют угольки кокетства в душе и достаточно нескольких благоуханных капель, чтобы разжечь огонь. Захария делал вид, что не замечает этих маленьких слабостей своего компаньона, ожидая, пока Тете принарядится, чтобы отправиться с ним на прогулку.
Один раз они привели доктора в казино «У Флёр», где он смог увидеть Захарию и Флёр Ирондель в их среде и оценить счастье танцующей босиком Тете. Как Пармантье и подумал, познакомившись с ней в имении Сен-Лазар, когда она была еще очень юной, Тете обладала огромным запасом чувственности, которую в то время она скрывала под напускной суровостью. Увидев ее в танце, врач сделал вывод, что полученная свобода не только изменила ее юридическое положение, но и высвободила эту сторону ее характера.
В Новом Орлеане отношения Пармантье и Адели воспринимались как нечто совершенно обычное, ведь немало его друзей и пациентов содержали цветные семьи. В первый раз в жизни доктору не требовалось прибегать к малодостойным ухищрениям, чтобы посещать свою жену: ничего похожего на предрассветное возвращение домой со всеми предосторожностями преступника, который скрывается от случайных свидетелей. Почти каждый вечер он ужинал с ней, спал в их общей постели, а на следующий день шел спокойной походкой к десяти утра в свою консультацию, равнодушный к любым сплетням и пересудам, повод к которым могла бы дать его личная жизнь. Он официально признал своих детей, которые теперь носили его фамилию, и два его сына уже учились во Франции, а дочка — в школе урсулинок. Адель занималась шитьем и копила деньги, как всегда. Две наемные работницы помогали ей изготавливать корсеты по модели Виолетты Буазье — каркасы, усиленные китовым усом, которые были способны придать округлости самой плоской женщине, но не были заметны, так что платье словно бы плыло поверх обнаженного тела. Белые женщины задавались вопросом: как мода, навеянная Древней Грецией, может больше идти африканкам, чем им. Тете бегала из одного дома в другой с рисунками, мерками, тканями, корсетами и готовыми платьями, которые потом Виолетта бралась продавать своим клиенткам. В одно из таких посещений Пармантье и сел поговорить с Тете и Аделью в дворике с бугенвиллеями, которые в это время года представляли собой всего лишь сухие палки без цветов и листьев.
— Прошло уже семь месяцев со смерти Туссена-Лувертюра. Это еще одно преступление Наполеона. Его заморили голодом, холодом и одиночеством в тюрьме, но он не будет забыт: генерал уже вошел в историю, — сказал доктор.
Они попивали херес после обильного вегетарианского ужина — среди многих добродетелей Адели числился и кулинарный талант. Двор был самым приятным местом этого дома, даже в такие холодные ночи, как эта. Слабый свет исходил от жаровни, которую Адель разожгла, чтобы наполнить свой утюг углями, а заодно и согреть маленький дружеский кружок.
— Гибель Туссена не означает конец революции. Теперь командует генерал Дессалин. Говорят, это несгибаемый человек, — продолжил доктор.
— Что-то сталось с Гамбо? Он не доверял никому, даже Туссену, — подала голос Тете.
— Позже он изменил свое мнение о Туссене-Лувертюре. И не раз рисковал жизнью, спасая его. Он же был доверенным лицом генерала.
— В таком случае он наверняка был с генералом, когда того арестовали, — сказала Тете.
— Туссен прибыл на встречу с французами обсудить возможный политический выход из войны, но его предали. Пока он ждал в доме, за его стенами безнаказанно перебили его охрану и солдат, которые его сопровождали. Боюсь, что капитан Ла Либерте пал в этот день, защищая своего генерала, — с грустью пояснил Пармантье.
— Раньше Гамбо приходил ко мне, кружил поблизости, доктор.
— Что-что?
— Во сне, — туманно ответила Тете.
Она не сказала, что раньше каждую ночь мысленно его призывала, будто молилась, и иногда ей удавалось воплотить его столь отчетливо, что она просыпалась с тяжелым, горячим, расслабленным телом, со счастливым чувством, что она спала, обняв своего любимого. Она ощущала тепло и запах Гамбо на своей коже и в таких случаях не мылась, чтобы продлить это ощущение: они были вместе. Эти их встречи на территории сновидений были единственным утешением ее одинокой постели, но с тех пор прошло уже немало времени, и она уже смирилась со смертью Гамбо, потому что если б он был жив, то обязательно уж как-нибудь с ней бы связался. Теперь у нее был Захария. В их совместные ночи, когда он был в городе и не занят, она отдыхала, удовлетворенная и благодарная, после занятий любовью, и большая рука Захарии лежала на ней. С тех пор как он вошел в ее жизнь, она больше не возвращалась к тайной привычке ласкать себя, призывая Гамбо, потому что желать поцелуев другого, даже если этот другой — призрак, было бы предательством, которого Захария не заслуживал. Уверенная и спокойная взаимная любовь наполняла их жизнь, и больше ни в чем Тете не нуждалась.
— Ни один человек не ушел живым из той засады, которую устроили Туссену. Тюрьма не ждала никого — за исключением генерала, а потом и его семьи, которую тоже арестовали, — добавил Пармантье.
— Я знаю, что живым Гамбо не взяли, доктор, потому что он никогда бы живым не сдался. Столько жертв и столько сражений, чтобы в результате победили белые!
— Они все еще не победили. Революция продолжается. Генерал Дессалин только что разбил войска Наполеона, и французы начали уходить с острова. Скоро сюда придет еще одна волна эмигрантов, на этот раз — бонапартисты. Дессалин призвал белых колонистов возвращаться на плантации — они нужны ему для восстановления того богатства, которым раньше славилась колония.
— Эту сказку мы слышали уже не раз, доктор, то же самое делал и Туссен. Вот вы бы вернулись в Сан-Доминго? — спросила его Тете.
— Моей семье лучше здесь. Мы останемся. А ты?
— И я тоже. Здесь я свободна, а очень скоро станет свободной и Розетта.
— А она не слишком молода, чтобы получить свободу?
— Мне помогает отец Антуан. Он знает вдоль и поперек всю Миссисипи, и ни один судья не осмелится отказать ему в просьбе.
Той ночью Пармантье спросил Тете о ее отношениях с тетушкой Розой. Он знал, что, кроме того что Тете помогала ей принимать роды и проводить самые разнообразные лечебные процедуры, она же помогала и готовить лекарства, а его очень интересовали рецепты. Она помнила большинство из них и заверила его, что они не сложные и что ингредиенты можно было бы покупать на Французском рынке у «докторов листьев». Они говорили о том, как остановить кровотечение, сбить температуру и избежать инфекции, о настоях для очищения печени и растворения камней в желчном и мочевом пузыре, о солях от мигрени, о травах, вызывающих аборты и прекращающих бели, о мочегонных и слабительных средствах, о формулах для укрепления крови — все это Тете помнила наизусть. Они дружно посмеялись над настоем красной смородины, которым креолы пользовались для лечения всех своих болезней, и были согласны в том, что познания тетушки Розы очень бы здесь пригодились. На следующий день Пармантье явился к Виолетте Буазье с предложением дополнить ее предприятие по изготовлению лосьонов красоты несколькими лекарственными средствами по рецептуре тетушки Розы, которые Тете сможет готовить на кухне, а он обязуется выкупать в полном объеме. Виолетта не стала долго раздумывать, это дело показалось ей выгодным для всех: доктор получит свои лекарства, Тете сможет заработать, а она будет иметь все остальное, причем без малейших усилий со своей стороны.
Американцы
В те дни Новый Орлеан был потрясен невероятнейшим известием. В кофейнях и тавернах, на улицах и площадях крайне встревоженные люди собирались и обсуждали пока еще не подтвержденную новость о том, что Наполеон Бонапарт продал Луизиану американцам. Проходили дни, и возобладала мысль, что это всего лишь инсинуация, хотя все вокруг продолжали рассуждать о проклятом корсиканце: «Вспомните, господа, что Наполеон-то — выходец с Корсики, ведь он, собственно, и не француз — тот, кто продал нас кентуккийцам». Это была самая масштабная и дешевая продажа земель в истории: более двух миллионов квадратных километров за пятнадцать миллионов долларов, то есть по нескольку центов за гектар. Бо́льшая часть этой территории, занятая рассеянными индейскими племенами, должным образом белыми даже не была исследована, и никто не мог вообразить, о чем идет речь, но когда Санчо Гарсиа дель Солар пустил по рукам географическую карту континента, даже самый тупоумный смог увидеть, что американцы увеличивали свою территорию вдвое. «А с нами-то что теперь будет? Как мог влезть Наполеон в это дело? Разве мы не испанская колония?» Три года назад Луизиана была передана Испанией Франции в соответствии с секретным договором, подписанным в Сан-Ильдефонсо, но большинство этого даже не заметило, потому что жизнь текла как обычно. Смены правительства не произошло, испанские власти так и продолжали сидеть на своих местах, пока Наполеон воевал с турками, австрийцами, итальянцами и вообще со всеми, кто попадался на его пути, включая мятежников в Сан-Доминго. Ему приходилось воевать на слишком многих фронтах, в том числе против Англии, его извечного врага, и ему не хватало времени, войск и денег. Он не мог ни занять, ни защищать Луизиану, опасался, что она попадет в руки англичанам, и предпочел продать эти земли единственному лицу, в них заинтересованному, — президенту Джефферсону.
Все в Новом Орлеане, кроме бездельников из «Кафе эмигрантов», которые были уже одной ногой на борту корабля курсом на Сан-Доминго, восприняли это известие с ужасом. Они полагали, что американцы представляли собой варваров, покрытых воловьими шкурами, которые ели, задрав ноги на стол, и у которых полностью отсутствовали достоинство, вежливость и честь. А об интеллектуальном уровне и говорить нечего! Все, что их интересует, — это биться об заклад, пьянствовать и стреляться либо драться на кулаках; они дьявольски неорганизованны и в довершение всего — протестанты. Кроме того, они не говорят по-французски. Ну ладно, этому им придется выучиться, иначе как же они думают жить в Новом Орлеане? Весь город сходился во мнении, что вхождение в состав Соединенных Штатов эквивалентно краху семьи, культуры и единственно истинной религии.
Вальморен и Санчо, которые поддерживали отношения с американцами в торговых делах, вносили успокоительные ноты в этот всеобщий шум и крик, поясняя, что кентуккийцы — это люди границы, что-то вроде корсаров, и что по ним невозможно судить обо всех американцах. На самом деле, говорил Вальморен, который в своих деловых поездках знакомился со многими американцами, это, скорее, воспитанные и спокойные люди, и если их и следует за что-то упрекать, так это за то, что они слишком большие моралисты и спартанцы в своих привычках — полная противоположность кентуккийцам. Их самым заметным недостатком является то, что они рассматривают труд как добродетель, в том числе и физический ручной труд. Они материалисты, привыкли бороться и побеждать, и их воодушевляет мессианский порыв переделать тех, кто думает не так, как они, но непосредственной угрозы для цивилизации они не представляют. Этих двоих никто не желал слушать, кроме редких сумасшедших, таких как Бернар де Мариньи, который почуял тройные коммерческие возможности от объединения с американцами, и отец Антуан, который вообще витал в облаках.
Сначала, с трехгодичным опозданием, произошла официальная передача испанской колонии французским властям. Как следовало из экзальтированной речи префекта перед собравшейся на церемонию толпой, «души жителей Луизианы исполнены безграничного счастья». Событие было отмечено балами, концертом, банкетами и театральными постановками в лучших креольских традициях — настоящее состязание в любезности, благородстве и расточительстве двух правительств: смещенного испанского и новоиспеченного французского, — состязание, которому, однако, не суждено было продлиться, потому что как раз в тот момент, когда поднимали французский флаг, бросил якорь пришедший из Бордо корабль с подтверждением продажи территории американцам. Их продали, как коров! Унижение и ярость пришли на смену праздничному настроению предыдущего дня. Вторая передача, на этот раз от французов к американцам, которые стояли лагерем в двух милях от города, готовые оккупировать его, произошла по прошествии семнадцати дней, 20 декабря 1803 года, и сопровождалась уже не «горячкой безграничного счастья», а коллективным трауром.
В том же месяце Дессалин провозгласил независимость Сан-Доминго под именем Черной республики Гаити и ввел новый, сине-красный флаг. Гаити — «горная страна» — этим словом на своем языке называло когда-то остров исчезнувшее индейское племя араваков. Имея целью покончить с расизмом, ставшим проклятием колонии, был издан указ, согласно которому все граждане страны, независимо от цвета их кожи, отныне называются негс, а все те, кто гражданами не являются, получили наименование бланкс.[22]
— Полагаю, что Европа и даже Соединенные Штаты постараются затопить этот несчастный остров, потому что его пример может побудить к независимости и другие колонии. Не допустят они и того, чтобы распространялась отмена рабства, — говорил Пармантье своему другу Вальморену.
— Нам здесь, в Луизиане, беды Гаити только на руку, поскольку так мы продаем больше сахара и по лучшей цене, — заключил Вальморен, которого судьба острова уже не касалась, потому что все его инвестиции были за пределами бывшей колонии.
В Новом Орлеане эмигранты из Сан-Доминго не успели поразиться этой новоявленной черной республике, потому что все их внимание было приковано к происходящем в городе событиям. В один прекрасный солнечный день на Оружейной площади собралась пестрая толпа креолов, французов, испанцев, индейцев и негров, чтобы посмотреть на новую американскую власть, которая въезжала в город в сопровождении отряда драгун, двух рот пехотинцев и одной роты карабинеров. Никто не симпатизировал этим людям, важничающим так, будто каждый из них из собственного кошелька вынул пятнадцать миллионов долларов, чтобы выкупить Луизиану.
Во время краткой официальной церемонии в зале городского совета новому губернатору были переданы ключи от города, а затем произошла смена флага на площади: медленно спущен триколор Франции и поднят усыпанный звездами флаг Соединенных Штатов. Когда оба флага встретились посреди флагштока, они на секунду застыли, и ухнула пушка, которой тут же ответил хор корабельных орудий в море. Оркестр заиграл популярную американскую песенку; народ слушал ее молча; некоторые рыдали, и не одна дама лишилась чувств от горя. Только что прибывшие были намерены занять город наименее агрессивным способом, а коренные жители вознамерились по возможности усложнить им жизнь. Семья Гизо уже распространила среди своих знакомых письма с инструкциями держать пришельцев в изоляции: никто не должен был ни сотрудничать с ними, ни принимать их в своих домах. Даже последний нищий Нового Орлеана чувствовал себя выше американцев.
Одной из первых мер, принятых губернатором Клейборном, было провозглашение официальным языком английского, что было встречено креолами недоверчивой насмешкой. Английский? Они десятилетиями жили в статусе испанской колонии, говоря по-французски; американцы, должно быть, окончательно свихнулись, если думают, что их гортанная абракадабра заменит собой самый мелодичный в мире язык.
Монахини-урсулинки, в ужасе от неизбежности того, что сначала бонапартисты, а потом кентуккийцы сожгут город и осквернят церковь, а их изнасилуют, поторопились массово отплыть на Кубу, несмотря на мольбы их учениц, сирот и сотен нуждающихся, которым они помогали. Решили остаться только девять из двадцати пяти монахинь, остальные шестнадцать прошествовали по направлению к порту, склонив голову, завернувшись в покрывала и проливая слезы, окруженные свитой друзей, знакомых и рабов, провожавших их до трапа корабля.
Вальморен получил спешно написанную записку, в которой его уведомляли, что в течение двадцати четырех часов ему следует забрать из школы свою подопечную. Гортензия, ждавшая своего очередного ребенка с надеждой, что на этот раз это будет столь долгожданный сын, недвусмысленно дала понять мужу, что эта черная девчонка не переступит порог ее дома и что к тому же она не желает, чтобы кто-нибудь видел ее рядом с ее мужем. Люди всегда склонны думать плохо, и, конечно же, поползут слухи, разумеется полностью безосновательные, — о том, что Розетта его дочь.
Как и предсказывал доктор Пармантье, после разгрома наполеоновских войск на Гаити в Новый Орлеан пришла вторая волна беженцев: сначала сотни, потом — тысячи. Это были бонапартисты — радикалы и атеисты, очень далекие от тех монархистов-католиков, что прибыли раньше. Столкновение между эмигрантами стало неизбежным и совпало по времени с приходом в город американцев. Губернатор Клейборн, молодой офицер с голубыми глазами и русой шевелюрой, ни слова не говорил по-французски и не понимал образа мыслей креолов, которых он считал лентяями и декадентами.
Из Сан-Доминго вереницей приходили корабли, на которых прибывала масса людей — и штатских, и военных, многие из которых были заражены лихорадкой. Эти люди представляли серьезную опасность как в политическом отношении — своими революционными идеями, так и с медицинской точки зрения — ввиду возможной эпидемии. Клейборн попытался изолировать вновь прибывших, собрав их в удаленных лагерях, но эта мера встретила суровую критику и к тому же не могла полностью воспрепятствовать проникновению беженцев в город, которым как-то удавалось туда просачиваться. Губернатор отправил в тюрьму рабов, которых привозили белые, опасаясь того, что они посеют семена мятежа в местных невольниках; вскоре в камерах не было ни одного свободного места, а его самого захлестнула волна жалоб от хозяев, возмущенных тем, что у них конфисковали их собственность. Они уверяли, что их рабы лояльны и проверены по части доброго нрава, иначе бы они не привезли этих негров с собой. Кроме того, рабы были им очень и очень нужны. Хотя в Луизиане никто не соблюдал закон, запрещавший ввозить рабов, и пираты постоянно снабжали рынок товаром, спрос на рабов был большой. Клейборн, который не являлся сторонником рабства, все же уступил давлению публики: он принял решение рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. Но на это могли уйти месяцы, а Новый Орлеан так долго ждать не мог и не хотел.
Виолетта Буазье поспешила подготовиться к вторжению американцев. Она угадала, что любезные креолы с их культурой безделья не устоят перед напором этих предприимчивых и практичных людей. «Слушай, что я тебе говорю, Санчо: очень скоро эти выскочки сметут нас с лица земли», — предупредила она своего любовника. Она уже слышала разговоры об уравнительном духе американцев, неразрывно связанном с демократией, и подумала, что если и раньше находилось место для свободных цветных в Новом Орлеане, то тем более найдется оно и в будущем. «Не обольщайся, они еще большие расисты, чем англичане, французы и испанцы, вместе взятые», — говорил ей Санчо, но она ему не верила.
Пока все остальные отказывались вступать в контакты с американцами, Виолетта взялась изучать их с близкого расстояния, чтобы понять, чему она сможет от них научиться и как будет держаться на плаву при тех неизбежных переменах, которые они принесут с собой в Новый Орлеан. Она была довольна своей жизнью: она обладала полной независимостью и не была стеснена в средствах, наслаждаясь комфортом. И она не шутила, говоря, что собирается умереть богатой. На доходы от кремов и советов по части красоты и моды она меньше чем за три года выкупила дом на улице Шартре и планировала приобрести еще один. «Нужно вкладывать в собственность, это единственное, что остается, остальное уносит ветер», — повторяла она Санчо, у которого не было ничего своего, ведь плантацией владел Вальморен. Идея купить землю и заняться на ней производством казалась Санчо очень увлекательной в течение первого года, терпимой — на второй, а потом уже — настоящим мучением. Его энтузиазм по поводу разведения хлопка развеялся, как только к этому делу проявила интерес Гортензия, поскольку он предпочитал не иметь с этой женщиной никаких дел. Он знал, что Гортензия плела заговоры, чтобы изгнать его со сцены, и признавал, что в некотором смысле у нее были на это основания: он был грузом, который Вальморен взвалил себе на спину по дружбе. Виолетта советовала Санчо решить все свои проблемы, женившись на богатой. «Ты что, не любишь меня?» — говорил он ей в ответ, обижаясь. «Я тебя люблю, но не настолько, чтобы ты жил за мой счет. Женись, и мы и дальше будем любовниками».
Лула не разделяла энтузиазма Виолетты по поводу собственности. Она считала, что в этом городе катастроф собственность зависит от капризов природы и пожаров и нужно вкладывать деньги в золото, а потом отдавать их в рост, чем они столь успешно занимались раньше. Но Виолетте не хотелось наживать себе врагов, неизбежных на стезе ростовщичества: она достигла возраста осторожности и занималась упрочением своего социального положения. Беспокоил ее только Жан-Мартен, который, судя по его шифрованным посланиям, не изменил своему намерению пойти по стопам отца, память которого чтил. А она желала для своего сына лучшей доли, слишком хорошо зная суровость военной жизни: далеко ходить было не нужно, достаточно было посмотреть на то плачевное состояние, в каком пребывали солдаты, разбитые на Гаити. Ей не удавалось разубедить его посредством писем, которые она диктовала писарю; ей нужно отправиться во Францию самой и убедить его получить какую-нибудь доходную профессию — юриста, например. Ни один юрист никогда не останется бедняком, каким бы плохим специалистом он ни был. Тот факт, что Жан-Мартен не выказывал к юриспруденции никакого интереса, не имел значения, ведь очень немногие представители этой профессии действительно проявляли к ней интерес. Потом она женила бы его в Новом Орлеане на девушке с возможно более белой кожей, как у Розетты например, но с деньгами и из хорошей семьи. Ее опыт говорил ей о том, что светлая кожа и деньги решали почти все проблемы. Она мечтала о том, чтобы ее внуки пришли в этот мир, обладая преимуществами.
Розетта
Вальморен время от времени видел Тете на улице — в этом городе невозможно было избежать встречи — и делал вид, будто не узнает ее, хотя он знал, что она работает на Виолетту Буазье. Он почти совсем не поддерживал контактов с прекрасным объектом своей давней любви, потому что, прежде чем им удалось возобновить дружбу, на что он рассчитывал, увидев ее сходящей по трапу на берег Нового Орлеана, дорогу ему перешел Санчо со своей галантностью, смазливостью и всеми преимуществами холостяка. Вальморен до сих пор не понимал, каким образом шурин смог обойти его в этой игре. Его отношения с Гортензией потеряли свежесть и блеск с тех пор, как она, одержимая материнством, стала пренебрегать акробатическими номерами в большой супружеской кровати с купидонами. Она все время была беременна: не успевала оправиться от рождения одной дочки, как уже ждала следующую, и с каждым разом становилась все более унылой, толстой и тираничной.
Для Вальморена месяцы, проводимые в Новом Орлеане, стали почти невыносимыми: он задыхался в женской атмосфере своего дома, духота которой усугублялась постоянным присутствием членов семейства Гизо. Поэтому он все чаще отъезжал на плантацию, оставляя Гортензию с дочками в городском доме. В глубине души такое решение ее тоже устраивало: муж занимал слишком много места. На плантации это так не ощущалось, но в городе комнаты становились все теснее, а часы все длиннее. Он жил своей собственной жизнью — с распахнутыми дверями, но, в отличие от других мужчин его класса, не содержал любовницы, которая могла скрасить ему несколько часов в неделю. Когда он заметил на пристани Виолетту Буазье, то подумал, что она станет идеальной любовницей — красивой, скромной и бесплодной. Эта женщина была уже не так молода, но ему и не требовалась девчонка, от которой он скоро устанет. Виолетта всегда была настоящим вызовом, а в зрелости, конечно же, стала им в еще большей степени, с ней он никогда бы не соскучился. Однако, повинуясь неписаному джентльменскому соглашению, он не пытался увидеть ее после того, как в нее влюбился Санчо. В тот день он с запиской от урсулинок в кармане отправился к желтому дому в надежде увидеть Виолетту. Дверь ему открыла Тете, с которой за эти три года он не перемолвился ни одним словом.
— Мадам Виолетты сейчас нет дома, — объявила она ему с порога.
— Не важно, я пришел поговорить с тобой.
Она провела его в гостиную и предложила чашку кофе, на которую он согласился, чтобы перевести дух, хотя этот напиток раздражал его желудок. Уселся в круглое кресло, в которое едва смог втиснуть свой зад, с тростью между ног, тяжело дыша. Было не жарко, но в последнее время ему часто не хватало воздуха. «Мне нужно немного сбросить вес», — говорил он сам себе каждое утро, когда боролся с поясом и шейным платком в три оборота; даже обувь немилосердно жала ему ноги. Тете вернулась с подносом в руках, налила ему кофе, как он всегда любил, — очень черный и горький, потом налила и себе чашку, положив побольше сахару. Вальморен, наполовину забавляясь, наполовину раздражаясь, отметил оттенки высокомерия в поведении своей бывшей рабыни. Хотя она не смотрела ему в глаза и не допустила такой дерзости, как присесть, зато осмелилась в его присутствии пить кофе, не спросив на то его позволения, и в ее голосе не слышалось прежних ноток подчинения. Он признал, что выглядит Тете лучше, чем раньше, — наверняка научилась трюкам Виолетты, при воспоминании о которой у него екнуло сердце: ее кожа словно лепестки гардении, черная грива волос, оттененные длинными ресницами глаза… Тете с ней сравниться не могла, но теперь, когда она ему уже не принадлежала, вдруг снова показалась желанной.
— Чему обязана вашим визитом, месье? — спросила она.
— Речь пойдет о Розетте. Не волнуйся. С твоей дочерью все в порядке, но завтра она должна покинуть школу, потому что монахини уезжают на Кубу — из-за американцев. Это поспешное решение, и, конечно, они вернутся, но сейчас тебе придется позаботиться о Розетте.
— И как я могу это сделать, месье? — сказала Тете растерянно. — Я не знаю, согласится ли мадам Виолетта, чтобы я привела ее сюда.
— Это меня уже не касается. Завтра рано утром ты должна забрать ее. Сама думай, что с ней делать.
— За Розетту вы тоже отвечаете, месье.
— Эта малютка всегда жила как барышня и получила самое лучшее образование — благодаря мне. Теперь для нее пришло время познакомиться с реальной жизнью и своим местом в ней. Ей придется работать или выйти замуж.
— Ей же еще только четырнадцать!
— Больше чем достаточно для замужества. Негритянки рано созревают. — И Вальморен с трудом поднялся, собираясь уходить.
Негодование пламенем взметнулось в Гете, но тридцать лет подчинения этому человеку и страх, который он всегда внушал, не позволили ей бросить ему в лицо все то, что вертелось на языке. Она не забыла того первого раза, когда хозяин взял ее, совсем девочку, силой: та ненависть, боль, стыд… Не забыла Тете и все последующие случаи насилия, которые терпела годами. Дрожа от переполнявших ее чувств, но не говоря ни единого слова, она протянула ему шляпу и проводила к дверям. На пороге он остановился:
— Ну и что дала тебе твоя свобода? Живешь ты беднее, чем раньше, у тебя даже нет крыши для твоей дочери. В моем доме Розетта всегда имела свое место и крышу над головой.
— Место рабыни, месье. Я предпочитаю, чтобы она жила в нищете, но была свободной, — ответила Тете, едва сдерживая слезы.
— Твоя гордыня погубит тебя, женщина. Ты не принадлежишь никому и ничему, у тебя нет профессии, и ты уже не молода. Что ты будешь делать? Мне жаль тебя, поэтому я помогу твоей дочке. Это для Розетты.
Он протянул ей кошель с деньгами, спустился на пять ступеней, ведущих на тротуар, и зашагал, очень довольный собой, направляясь к своему дому. Через десять шагов он уже позабыл об этом деле: у него были и другие проблемы, о которых следовало подумать.
В этом сезоне Виолетта Буазье носилась с одной идеей, которая зародилась в ее красивой головке год назад и теперь, когда урсулинки выставили Розетту на улицу, стала приобретать четкие контуры. Никто лучше ее не знал мужские слабости и женские потребности, и она собралась использовать свой опыт, чтобы заработать денег и заодно предложить услуги, нужда в которых в Новом Орлеане была велика. С этой целью она и предоставила Розетте свое гостеприимство. Девочка появилась у нее в доме одетая в школьную форму, серьезная и гордая. Мать шла в двух шагах у нее за спиной, неся дочкин багаж и не уставая благословлять Виолетту, которая согласилась принять их обеих под свою крышу.
Розетта отличалась благородным сложением. Глаза у нее — копия материнских — искрились золотыми лучиками, кожа была миндального оттенка, как у красавиц-испанок на старинных портретах, губы цвета спелых ягод, волосы — волнистые и длинные, до середины спины, и мягкие округлые линии юного девического тела. В четырнадцать лет она очень хорошо знала страшную силу своей красоты и, в отличие от Тете, которая трудилась с самого детства, казалась созданной для того, чтобы служили ей. «Испортили девчонку: родилась рабыней, а выглядит королевой. Уж я-то поставлю ее на место», — высказалась, презрительно сопя, Лула. Однако Виолетта постаралась показать ей все выгоды своего проекта: инвестиции и доходы — американские понятия и логику чистогана, которые Лула приняла тут же, будто свои собственные, — и убедила ее уступить свою комнату Розетте и пойти спать вместе с Тете в каморку прислуги. Девочке понадобится отдых и комфорт, пояснила Виолетта.
— Когда-то ты спросила меня, что тебе делать с дочкой, когда она выйдет из школы. Мне пришла в голову одна идея, — объявила Виолетта Тете.
И напомнила ей, что для Розетты альтернатив было совсем немного. Выдать ее замуж без приличного приданого было равнозначно приговору к тяжелой работе рядом с мужем-бедняком. Негра следовало исключить с самого начала; это мог бы быть мулат, но мулаты старались жениться так, чтобы улучшить свое социальное или материальное положение, а Розетта ни того ни другого предложить мужу не могла. Также не годилась она в портнихи, парикмахерши, медсестры или для какой-либо другой работы, обычной для девушки в ее положении. На данный момент единственным ее капиталом была красота, но в Новом Орлеане живет немало красивых девушек.
— Мы устроим так, что Розетта сможет жить хорошо и не работать, — заявила Виолетта.
— И как мы это сделаем, мадам? — недоверчиво улыбнулась Тете.
— Plaçage. Розетте понадобится белый мужчина, который будет ее содержать.
Виолетта изучила образ мыслей клиенток, которые покупали у нее лосьоны красоты, конструкции из китового уса и воздушные платья, которые шила Адель. Они были такими же амбициозными, как и она, и все желали, чтобы их дети процветали. Сыновьям можно было выхлопотать какие-нибудь должности или дать им образование и профессию в руки, но будущее дочерей всегда было неопределенным и вызывало особое беспокойство. Отдать дочь в содержанки какому-нибудь белому было гораздо лучше, чем выдать ее замуж за цветного, но на каждого белого холостяка приходилось не менее десяти девушек, и без хороших связей устроить это было совсем не просто. Мужчина выбирал девочку и потом обращался с ней, как ему заблагорассудится, — очень удобно для него и очень рискованно для нее. Обычно такая связь продолжалась, пока ему, лет в тридцать, не приходило время жениться на девушке своего класса, но были также случаи, когда такие отношения продолжались до конца жизни, были и другие — когда из-за любви к цветной женщине белый мужчина не женился вовсе. В любом случае судьба цветной девушки зависела от этого мужчины. План Виолетты заключался в том, чтобы ввести некоторую справедливость: девушка на содержании, placée, должна потребовать гарантий для себя самой и своих детей, поскольку она отдает мужчине всю себя целиком, а также свою верность. Если молодой человек не сможет сам предоставить гарантии, за него должен будет сделать его отец, аналогично тому, как мать девушки ручается за девственность и поведение своей дочери.
— А что скажет обо всем этом Розетта, мадам? — испуганно пролепетала Тете.
— Ее мнения никто не спрашивает. Подумай сама, подруга. Некоторые думают, что это почти проституция, но с проституцией здесь нет ни малейшего сходства. Могу заверить тебя на своем собственном опыте, что поддержка белого мужчины просто необходима. Моя жизнь без Этьена Реле была бы совсем другой.
— Но вы вышли за него замуж… — привела довод Тете.
— В данном случае это невозможно. Скажи мне, Тете, какая разница между замужней белой женщиной и цветной девушкой на содержании? Обеих содержат, подчиняют себе, обе должны служить своему мужу и рожать ему детей.
— Брак — это уверенность и уважение, — сказала Тете.
— Plaçage станет таким же, — с пафосом произнесла Виолетта. — Это должно быть взаимовыгодным делом, а не охотничьим угодьем для белых. Я начну с твоей дочери, у которой нет ни денег, ни хорошей семьи, но она хорошенькая и уже свободная, спасибо отцу Антуану. Это будет самая выгодная партия для цветной девушки во всем Новом Орлеане. Через год мы представим Розетту обществу, года как раз хватит, чтобы ее подготовить.
— Не знаю…
И Тете умолкла, потому что ничего более приемлемого для дочки она предложить не могла и к тому же верила Виолетте Буазье.
Они не стали спрашивать Розетту, но девушка оказалась умнее, чем о ней думали: она обо всем догадалась и не противилась, потому что у нее тоже был план.
В последующие недели Виолетта по очереди нанесла визиты матерям всех цветных девушек-подростков высшего класса — матриархам Общества синей ленты — и изложила им свою идею. Эти женщины всем заправляли в своей среде; многие из них имели бизнес, земли и рабов, которые в некоторых случаях приходились им родственниками. Их бабушки были отпущенными на свободу рабынями, родившими детей от своих хозяев, от которых получили помощь и смогли преуспеть. Семейные отношения, даже если речь шла о разных расах, были теми опорами, которые поддерживали сложное строение креольского общества. Мысль о том, что одного мужчину ты будешь делить еще с одной или несколькими женщинами, вовсе не казалась странной этим квартеронкам, чьи прабабки вышли из полигамных обществ Африки. Их обязанностью было обеспечить благополучную жизнь своим дочерям и внукам, и было не столь важно, является ли источником этого благополучия супруг другой женщины.
Эти замечательные чадолюбивые мамочки, коих было раз в пять больше, чем мужчин в том же социальном классе, весьма редко заполучали подходящего зятя; они знали, что наилучшим способом уследить за своими дочерьми было отдать их на содержание кому-то, кто мог бы их защитить, в противном случае дочки оказывались все равно что брошенными на растерзание хищникам. Похищение, физическое нападение и насилие не считались преступлением, если жертвой была цветная женщина — даже свободная.
Виолетта растолковала матерям, что ее идея заключалась в том, чтобы организовать роскошный бал в лучшем салоне города, который сами они в складчину и оплатят. На бал будут приглашены белые состоятельные юноши, всерьез заинтересованные в plaçage, вместе со своими отцами, если в этом будет необходимость: ничего похожего на одиноких ухажеров в поисках какой-нибудь глупышки, чтобы с ней развлечься без всяких обязательств. Некоторые матери предлагали, чтобы мужчины платили за пригласительные билеты, но, по мнению Виолетты, это открыло бы двери всяким проходимцам, как обыкновенно и бывает на карнавалах или балах в зале «Салон Орлеан» или во «Французском театре», куда за довольно умеренную цену мог попасть любой, если он не был негром. Их же бал будет таким же избирательным, как и бал белых дебютанток. Времени также хватит и для того, чтобы выяснить всю подноготную приглашаемых, ведь никто не пожелает отдать свою дочь какому-нибудь проходимцу с дурными привычками или долгами. «Наконец-то белые будут вынуждены принять наши условия», — заключила Виолетта.
Чтобы никого не волновать, она не стала говорить о том, что в будущем планировала включать в список приглашенных и американцев, несмотря на то что Санчо предупреждал ее, что ни один протестант не сможет понять преимущества plaçage. В конце концов, дойдет время и до этого, сейчас же нужно было сосредоточиться на первом бале.
Белый мужчина мог бы станцевать с избранной девушкой пару раз, и, если она ему нравилась, он сам или его отец должны были бы сразу же начать переговоры с ее матерью — и незачем тратить время на бесполезные ухаживания. Покровитель должен был предоставить дом, годовой пансион и воспитание будущим детям пары. Как только по этим пунктам достигалось соглашение, девушка на содержании переезжала в свой новый дом и начиналась совместная жизнь. Она, со своей стороны, обеспечивала конфиденциальность все то время, пока они были вместе, и гарантии того, что не разыграется драма, когда связь будет расторгнута, а это уже в полной мере зависело от покровителя. «Plaçage должен быть честным договором: всем выгодно, чтобы правила соблюдались», — говорила Виолетта. Белые не имеют права оставлять в бедности своих молоденьких любовниц, потому что это угрожает хрупкому равновесию принятого внебрачного сожительства. Письменного контракта не будет, но если мужчина решится нарушить данное слово, женщины возьмут на себя труд разбить его репутацию вдребезги. Бал будет называться «Синяя лента», и Виолетта берется превратить его в самое ожидаемое событие года для молодежи всех цветов кожи.
Зарите
Дело кончилось тем, что я согласилась на plaçage. Матери других девушек воспринимали такой вариант как вполне естественный, но меня это шокировало. Не нравился мне этот ход для дочки, но что еще могла я ей предложить? Розетта сразу же все поняла, как только я осмелилась сказать ей об этом. У нее оказалось больше здравого смысла, чем у меня.
Мадам Виолетта занялась организацией бала — при помощи тех французов, которые ставили спектакли. Также она создала Академию этикета и красоты — так стал называться желтый дом, где она готовила девочек, бравших у нее уроки. Она говорила, что эти девушки будут пользоваться самым большим спросом и смогут быть очень разборчивыми при выборе покровителя. Этим аргументом она убедила матерей, и никто не жаловался на стоимость. В первый раз за свои сорок пять лет мадам Виолетта рано покидала постель. Я будила ее с чашкой крепкого черного кофе в руках и тут же убегала из комнаты, чтобы она не успела запустить чем-нибудь мне в голову. Плохое настроение не покидало ее все утро. Мадам взяла только дюжину учениц, на большее количество у нее не было места, но на следующий год она планировала раздобыть какое-нибудь более подходящее помещение. Она наняла учителей пения и танцев; девочки ходили с чашкой воды на голове, чтобы улучшить осанку, она учила их причесываться и делать макияж, а я в свободное время объясняла им, как нужно вести дом, — в этом-то я понимаю неплохо. Также она разработала для каждой, в зависимости от фигуры и цвета кожи, целый гардероб, который был потом воплощен Аделью со своими помощницами. Доктор Пармантье внес предложение, чтобы у девочек были и уроки разговора, но, по мнению мадам Виолетты, ни одного мужчину не интересует, что говорит женщина, и дон Санчо был в этом с ней согласен. Доктор, напротив, всегда прислушивается к словам Адели и следует ее советам, потому что его головы хватает только на то, чтобы лечить. Решения в семье принимает она. Они купили дом на улице Рампар и дают образование сыновьям на деньги от ее работы и на ее инвестиции, потому как заработки доктора рассеиваются как дым.
К середине года ученицы делали уже такие успехи, что дон Санчо заключил пари со своими приятелями в «Кафе эмигрантов», поставив на то, что все они будут удачно пристроены. Я потихоньку наблюдала за этими занятиями — не будет и для меня чего-нибудь полезного, чтоб доставлять удовольствие Захарии. Я рядом с ним выгляжу служанкой: у меня нет ни очарования мадам Виолетты, ни ума Адели, я не кокетлива, каковой мне советовал быть дон Санчо, и не весела, как понравилось бы доктору Пармантье.
Днем моя дочка ходила затянутая в корсет, а ночью спала покрытая отбеливающим кремом, с лентой, стягивающей ей уши, и лошадиной подпругой, сжимающей талию. Красота — это иллюзия, говорила мадам: в пятнадцать лет все красивы, но чтобы продолжать быть красивой уже требуется дисциплина. Розетта должна была читать вслух перечни грузов судов в порту — так она тренировалась, чтобы не моргнув глазом выдерживать скучного мужа, она едва что-то ела, выпрямляла волосы нагретым железом, делала депиляцию карамелью, растиралась овсом и лимоном, часами репетировала реверансы, танцы и салонные игры. И зачем ей была свобода, если приходилось терпеть все это? Ни один мужчина этого не стоит, говорила я, но мадам Виолетта убедила меня, что это был единственный способ обеспечить ее будущее. Дочь моя, которая никогда не была послушной, подчинялась без жалоб. Что-то в ней изменилось, и она уже не старалась никому понравиться, замкнулась. Раньше она все время любовалась собой, а теперь использовала зеркало только на уроках, когда этого требовала мадам.
Мадам учила тому, как польстить без раболепства, как молча выносить упреки, как замаскировать ревность и справиться с искушением попробовать на вкус поцелуи другого мужчины. Самое важное, по ее словам, — это использовать тот огонь, что есть у женщин в животе. Это как раз то, чего больше всего боятся и жаждут муж-чины. Она советовала девушкам познать свое тело и научиться ублажать его пальцами, потому что без наслаждения нет ни здоровья, ни красоты. Этому же пыталась обучить меня и тетушка Роза — в то время, когда меня стал насиловать хозяин Вальморен, но я к ней не прислушалась: я ведь была совсем еще соплячкой и к тому же слишком напугана. Тетушка Роза делала мне травяные ванны и накладывала на живот и бедра глиняные лепешки, которые сначала казались холодными и тяжелыми, а потом разогревались и, казалось, начинали кипеть, словно глина оживала. Так она меня лечила. Земля и вода лечат тело и душу. Я думаю, что с Гамбо я в первый раз ощутила то, о чем говорила мадам, но мы слишком быстро расстались. Потом я годами ничего не чувствовала, пока не появился Захария и не разбудил мое тело. Он меня любит, и у него есть терпение. Кроме тетушки Розы, он единственный, кто пересчитал мои шрамы в укромных местах — это следы от сигар хозяина, он так их гасил. А мадам Виолетта — единственная женщина, от которой я услышала это слово: наслаждение. «Как вы собираетесь доставлять его мужчине, если сами понятия о нем не имеете?» — говорила она им. Наслаждение от любви, от кормления ребенка, от танца. Наслаждение — это и когда я жду Захарию, точно зная, что он придет.
В этом году я была очень занята работой в доме, а также моими уроками с ученицами в школе мадам Виолетты, беготней с поручениями к мадам Адель и изготовлением лекарств для доктора Пармантье. В декабре, незадолго до бала «Синей ленты», я вспомнила, что вот уже три месяца у меня не было месячных. Единственное, что меня удивляло, так это то, что я не забеременела раньше, потому что я спала с Захарией, не принимая тех мер предосторожности, котором меня научила тетушка Роза. Как только я объявила ему эту новость, он потребовал, чтобы мы поженились, но сначала я должна была устроить свою Розетту.
Морис
Когда после третьего курса в колледже начались каникулы, Морис ждал, как всегда, Жюля Белуша. К тому времени он уже не хотел увидеться с семьей, и единственным, что влекло его в Новый Орлеан, была Розетта, хотя возможность увидеть ее была совсем призрачной. Урсулинки не позволяли неожиданных посещений никому и уж тем менее молодому человеку, неспособному представить доказательства близкого родства. Он знал, что отец никогда не даст ему разрешения, но не терял надежды на своего дядю Санчо, которого монахини уже знали, потому что он навещал Розетту все это время.
Из писем он узнал, что Тете после того происшествия с Гортензией была отослана на плантацию. Чувство вины терзало его: он представлял себе, как Тете от зари до зари режет тростник, и к горлу его подкатывал ком. Не только он и Тете дорого заплатили за этот удар арапником, но, по-видимому, и Розетта впала в немилость. Девочка несколько раз писала Вальморену, умоляя его прийти с ней повидаться, но ответа не получила. «Что такого я сделала, чтобы потерять любовь твоего отца? Раньше я была ему как дочь, почему он забыл меня?» — повторяла она в своих письмах Морису, но он не мог дать ей честный ответ. «Он не забыл тебя, Розетта, папа тебя любит, как любил всегда, и он заботится о твоем будущем, но плантация и дела отнимают у него слишком много времени. Я тоже не видел его уже три года». Для чего писать, что Вальморен никогда не признавал ее своей дочерью? Еще до своей высылки в Бостон он просил, чтобы отец отвел его навестить сестренку в монастырской школе, но тот сердито ответил, что его единственной сестрой является Мария-Гортензия.
Этим летом Жюль Белуш в Бостоне не появился. Вместо него прибыл Санчо Гарсиа дель Солар — в широкополой шляпе, быстрым галопом и с еще одной лошадью на поводу. Он спешился одним прыжком и шляпой отряхнул с себя дорожную пыль, прежде чем обнять племянника. Жюль Белуш получил ножевую рапу за карточные долги, и Гизо пришлось вмешаться, чтобы избежать разговоров: сколь бы дальним ни было связующее их родство, злые языки не преминут соединить имя Белуша с уважаемой ветвью семейства. Они сделали то, что положено было совершить любому благородному креолу в подобных обстоятельствах: родственники оплатили его долги, приютили, пока не зажила его рана и он не смог сам стоять на ногах, дали ему денег на карманные расходы и посадили на корабль с инструкциями не сходить с него раньше Техаса и никогда не возвращаться в Новый Орлеан. Все это и поведал Санчо Морису, сгибаясь пополам от хохота.
— Ведь на его месте мог оказаться и я, Морис. До сих пор мне везло, но в один прекрасный день тебе может прийти известие, что твоего любимого дядюшку изрешетили кинжалами в каком-нибудь захудалом притоне, — прибавил он.
— Да не попустит этого Господь, дядя. Вы повезете меня домой? — спросил его Морис голосом, который совершал переходы от баритона к тенору в рамках одного предложения.
— Да как это только тебе в голову пришло, парень! Ты хочешь похоронить себя на все лето на плантации? Мы с тобой отправимся в путешествие, — объявил ему Санчо.
— То есть будем делать то же самое, что было раньше с Белушем.
— Ты не чеши меня вместе с ним под одну гребенку, Морис. Я и не думаю способствовать твоему гражданскому воспитанию, показывая тебе памятники и монументы, я собираюсь тебя развращать. Как ты на это смотришь?
— Это как, дядя?
— На Кубе, племянник. Нет лучшего места для такой пары плутов, как мы с тобой. Сколько тебе лет?
— Пятнадцать.
— И у тебя все еще не закончил ломаться голос?
— Уже закончил, дядя, просто сейчас я простужен, — проговорил, запинаясь, мальчик.
— В твоем возрасте я был уже настоящим сукиным сыном. Ты отстал от жизни, Морис. Собирай пожитки, мы отправляемся завтра, — велел ему Санчо.
На Кубе его ждали многочисленные друзья и не меньшее количество любовниц, которые вызвались устроить ему радушный прием на все время каникул и даже терпеть его спутника, этого странного молодого человека, проводящего время за написанием писем и поднимающего в разговорах такие странные темы, как рабство и демократия, — темы, о которых ни у одного из них не было своего мнения, поскольку они были за пределами их интересов. Кубинских приятелей Санчо забавляло видеть его в роли няньки, которую он исполнял с неожиданным усердием. Он отказывался от самых лучших попоек, чтобы не оставлять в одиночестве племянника, и перестал посещать бои животных: быков с медведем, змей против ласок, петухов с петухами, собак с собаками, потому что на Мориса они оказывали просто убийственное воздействие. Санчо взялся научить парня пить — и на следующее утро ему же пришлось отмывать племянника от блевотины. Он показал Морису все карточные трюки, но мальчик был начисто лишен хитрости и коварства, и Санчо был вынужден платить по его долгам после того, как тот бывал обманут более прыткими соперниками. Вскоре дяде пришлось оставить и попытки побудить племянника к любовным сражениям, потому что стоило к этому приступить, как выяснилось, что парень чуть не умер от страха. Он во всех деталях обговорил проблему с одной своей подругой — немолодой, но все еще очень привлекательной и добросердечной, которая согласилась выступить в роли наставницы племянника из чистого удовольствия оказать услугу дяде. «Этот мальчик еще очень зелен…» — промямлил в смущении Санчо, когда Морис вылетел как пробка, увидев женщину в нескромном одеянии, полулежащую на диване. «Никто до сих пор не наносил мне подобного оскорбления, Санчо. Закрой дверь и иди ко мне, ты должен меня утешить», — расхохоталась она. Несмотря на эти промахи, Морис провел незабываемое лето и вернулся в колледж подросшим, окрепшим, загорелым и с окончательно установившимся тенором. «Не слишком много занимайся — это портит зрение и характер — и готовься к следующему лету. Я повезу тебя в Новую Испанию» — такими словами распрощался с ним Санчо. Он сдержал слово, и с тех пор Морис с нетерпением ждал наступления лета.
В 1805 году, последнем году его пребывания в колледже, за ним приехал не Санчо, как раньше, а отец. Морис тут же заключил, что тот приехал сообщить ему о каком-то несчастье, и испугался за Тете или Розетту, но дело было вовсе не в этом. Вальморен организовал путешествие во Францию, чтобы Морис посетил бабушку и двух гипотетических теток, о которых сын его никогда не слышал. «А потом мы поедем домой, месье?» — спросил его Морис, думая о Розетте, чьи письма устилали дно его сундука. Он в свою очередь написал ей сто девяносто три письма, не думая о тех неизбежных изменениях, которые она должна была претерпеть за семь лет разлуки, — он-то помнил ее наряженной в ленты и кружева девочкой, которую видел в последний раз незадолго до женитьбы отца на Гортензии Гизо. И не представлял ее пятнадцатилетней, как и она его — в восемнадцать. «Конечно же, мы отправимся домой, сынок, твоя мать и сестры ждут тебя», солгал Вальморен.
Это путешествие — сначала на корабле, которому пришлось пройти сквозь летние шторма и с большим трудом удалось избежать атаки англичан, а потом в карете до Парижа — не привело к сближению между отцом и сыном. Вальморен придумал эту поездку, чтобы еще на несколько месяцев отсрочить неприятную для жены встречу с Морисом, но откладывать ее до бесконечности было невозможно: вскоре он окажется в ситуации, смягчению которой прошедшие годы не способствовали. Гортензия не упускала случая выразить свою ядовитую злобу к этому пасынку, которого она каждый год старалась заменить собственным сыном. Но рождались у нее только девочки. Ради нее Вальморен исключил из семьи Мориса, а теперь раскаивался в этом. Он уже десять лет серьезно не занимался сыном, вечно зарывшись в свои дела: сначала в Сан-Доминго, потом в Луизиане и наконец — с Гортензией и рождением дочек. Юноша был для него незнакомцем, который отвечал на его нечастые письма парой формальных фраз с сообщением об успехах в учебе и никогда не спрашивал ни об одном члене семьи, как будто хотел подчеркнуть, что больше к ней не принадлежит. Он даже не откликнулся на краткое, в одну строку, сообщение отца о том, что Тете и Розетта были освобождены от рабства и у него больше нет с ними контактов.
Вальморен опасался того, что в какой-то момент этих сложных лет он потерял своего сына. Этот погруженный в себя юноша, высокий и красивый, чертами лица необыкновенно похожий на свою мать, не имел ничего общего с тем малышом с румяными щечками, которого он качал на руках, моля Небеса защитить сына от всяческих бед. Он любил его так же сильно, как всегда, или даже еще больше, потому что теперь его любовь была окрашена чувством вины. Он пытался убедить себя в том, что его отцовская любовь находит в Морисе соответствующий отклик, хотя временно они и живут в отдалении друг от друга, но закрадывались и сомнения. Он наметил для сына амбициозные планы, несмотря на то что до сих пор даже не удосужился спросить, как сын желает распорядиться своей жизнью. На самом деле он ничего не знал ни о его интересах, ни о его опыте, ведь прошли столетия с тех пор, как они говорили друг с другом. Отец очень хотел вернуть его себе и думал, что эти месяцы, проведенные вместе и наедине во Франции, сослужат хорошую службу, дабы между ними установились новые отношения — отношения взрослых людей. Он должен доказать сыну свою любовь и внести ясность: Гортензия и ее девочки не изменили его положения единственного наследника, но каждый раз, когда он пытался затронуть эту тему, ответа он не получал. «Традиция майората — очень мудрая традиция, Морис: владение не должно распределяться среди детей, потому что с каждым таким делением семейное состояние уменьшается. Поскольку ты перворожденный, ты и получишь все мое наследство целиком и должен будешь отвечать за своих сестер. Когда меня не станет, ты станешь главой семейства Вальморен. А сейчас уже пришла пора к этому готовиться: ты научишься вкладывать деньги, управлять плантацией и войдешь в общество», — сказал он сыну. Молчание. Разговоры угасали раньше, чем успевали начаться. Вальморен на ощупь переходил от одного монолога к другому.
Морис без всяких комментариев взирал на наполеоновскую Францию, ведущую вечную войну: музеи, дворцы, парки и проспекты, которые желал показать ему отец. Наведались они и в лежащий в руинах замок, где бабушка жила все последние годы, заботясь о двух оставшихся старыми девами дочерях, которым время и одиночество нанесло даже больший ущерб, чем их матери. Мать была гордой старухой, одетой по моде Людовика XVI и упорствующей в презрении к происходящим в мире изменениям. Она прочно укоренилась в той эпохе, что предшествовала французской революции, и стерла из своей памяти большой террор, гильотину, изгнание в Италию и возвращение на изменившуюся до неузнаваемости родину. Увидев Тулуза Вальморена — сына, отсутствовавшего уже более тридцати лет, она протянула ему для поцелуя свою костлявую руку со старомодными кольцами на каждом пальце и тут же отдала дочерям распоряжение принести шоколаду. Вальморен представил ей сына и попытался вкратце изложить свою историю — с тех пор, как он, двадцатилетний, взошел на борт корабля, направлявшегося на Антильские острова, и до настоящего момента. Она слушала его молча, без комментариев, а между тем сестры подносили дымящиеся чашечки и тарелочки с черствыми пирогами, бросая на Вальморена осторожные взгляды. Они вспоминали легкомысленного юношу, который, простившись с ними рассеянным поцелуем, отправился со своим валетом и несколькими сундуками провести пару-другую недель с отцом в Сан-Доминго и больше не вернулся. Они не узнавали этого брата — с редкими волосами, вторым подбородком и большим животом, говорившего с каким-то странным акцентом. Что-то о восстании рабов в колонии они знали, и то там, то здесь им случалось слышать разрозненные фразы о тех жестокостях, что совершались на этом упадническом острове, но они никогда не связывали эти ужасы с членом своей собственной семьи. И никогда в жизни они не проявляли ни малейшего любопытства относительно того, откуда поступают к ним те средства, на которые они живут. Окрашенный кровью сахар, мятежные рабы, горящие плантации, бегство и эмиграция, а также все остальное, о чем говорил брат, оказывалось для них таким же непостижимым, как разговор по-китайски.
Мать, напротив, очень хорошо знала, о чем ведет речь Вальморен, но ее в этом мире уже ничто особенно не интересовало: ее сердце высохло и не принимало ни чувств, ни новостей. Она выслушала его с безразличным молчанием, и единственный вопрос, который задала ему под конец, имел отношение к деньгам: может ли она рассчитывать на увеличение денежного содержания, потому что той суммы, что он так регулярно им присылает, им едва хватает. При этом совершенно необходимо отремонтировать этот поблекший от прошедших лет и многих пороков дом, сказала она; не может же она умереть, оставив дочерей в таком несчастье. Вальморен и Морис провели в этих мрачных стенах два дня, которые показались им такими же долгими, как две недели. «Мы больше не увидимся. Так будет лучше» — такими были последние слова старой дамы, когда она прощалась с сыном и внуком.
Морис послушно сопровождал отца повсюду, кроме роскошного борделя, в котором Вальморен решил угостить сына самыми дорогими из профессиональных жриц любви Парижа.
— В чем дело, сынок? Ведь это совершенно нормально и естественно. Нужно излить телесные соки и очистить мозг — так ты сможешь сосредоточиться на других делах.
— Мне не трудно сосредоточиться, месье.
— Я же говорил тебе, чтобы ты звал меня папа, Морис. Полагаю, что в поездках с твоим дядюшкой Санчо… Ну, у тебя, верно, не было недостатка в возможностях…
— Это мое личное дело, — прервал его Морис.
— Надеюсь, что американский колледж не превратил тебя ни в монаха, ни в девушку, — отозвался отец шутливым тоном, который прозвучал как брюзжание.
Молодой человек не стал вдаваться в объяснения. Благодаря своему дяде девственником он не был: во время прошлогодних каникул Санчо добился-таки его инициации посредством довольно хитроумного средства, продиктованного необходимостью. Он подозревал, что племянник страдает от желаний и фантазий, свойственных его возрасту, но, будучи романтиком, питает отвращение к любви, сведенной к коммерческой сделке. И, как заботливый дядя, он решил, что должен во что бы то ни стало помочь мальчику. Они жили тогда в процветающем городе-порте Саванна, в Джорджии. И дядя, и племянник давно хотели побывать здесь: Санчо — из-за тех бесчисленных развлечений, который мог предложить город, а Морис — потому что профессор Харрисон Кобб упоминал это место как пример продажной морали.
Джорджия, основанная в 1733 году, была тринадцатой и последней британской колонией в Северной Америке, а Саванна была ее первым городом. Только что прибывшие колонисты поддерживали дружественные отношения с индейскими племенами, избежав таким образом насилия, которое терзало другие колонии. С момента основания колонии в Джорджии действовал запрет не только на рабство, но и на алкоголь и адвокатов, но вскоре все осознали, что климат и сама почва просто идеально подходит для выращивания риса и хлопка, и рабство было узаконено. После получения независимости Джорджия стала одним из штатов, а Саванна расцвела как порт, через который ввозились африканцы — рабочая сила для плантаций региона. «Это со всей убедительностью доказывает, Морис, что достоинство очень быстро уступает алчности. Если речь идет об обогащении, большинство людей готовы заложить душу: ты и представить себе не можешь, как живут плантаторы Джорджии, наживаясь на рабском труде», — разглагольствовал Харрисон Кобб. Юноше не нужно было это себе представлять, он знал это по себе — и по опыту Сан-Доминго и Нового Орлеана, но он принял предложение дяди Санчо провести каникулы в Саванне, чтобы не разочаровывать учителя. «Недостаточно любви к справедливости, чтобы искоренить рабство, Морис, нужно знать реальную жизнь и очень хорошо изучить законы и все шестеренки и приводные ремни политики», — утверждал Кобб, который готовил юношу к тому, чтобы он преуспел там, где сам профессор потерпел поражение. Этот человек знал свои собственные пределы: у него не было ни нужного темперамента, ни здоровья, чтобы вести бои в конгрессе, о чем он мечтал в юности. Но он был хорошим учителем: умел распознать в своем ученике талант и сформировать его характер.
Пока Санчо Гарсиа дель Солар от души наслаждался изысканностью и гостеприимством Саванны, Морис страдал от чувства вины за то, что отлично проводит время. Что скажет он своему учителю, когда вернется в колледж? Что он жил в очаровательном отеле, где его обслуживала целая армия старательных слуг, и ему не хватало дня, чтобы развлекаться как последнему оболтусу?
Они провели в Саванне всего день, а Санчо уже завел дружбу с одной шотландкой — вдовой, жившей всего в двух кварталах от отеля. Дама взялась показать им город с его дворцами, монументами, церквами и парками — все то, что было так заботливо восстановлено после опустошительного пожара. Как и было обещано, симпатичную вдову сопровождала дочь, грациозная Жизель, и все четверо отправились на прогулку, завязав таким образом дружбу, столь необходимую и для дяди, и для племянника. Вместе они проводили долгие часы.
Пока мать и Санчо вели бесконечные карточные партии и время от времени исчезали из отеля без всяких объяснений, Жизель взяла на себя труд показать Морису окрестности. Они вдвоем совершали прогулки верхом по местам, недоступным бдительному оку шотландской вдовы, что несказанно удивляло Мориса, который никогда не видел, чтобы девушка пользовалась такой свободой. Несколько раз Жизель приводила его на пустынный пляж, где они вместе съедали легкий полдник, запивая его бутылкой вина. Она говорила мало, а то, что произносила, оказывалось столь категорической банальностью, что Морис не чувствовал себя стесненным и из него пышным потоком лились слова, которые обычно застревали где-то в груди. Наконец-то у него была собеседница, которая не зевала, когда он развивал свои философские темы, а слушала его с нескрываемым восхищением. Иногда, словно ненароком, его касались женские пальчики, и расстояние от этих касаний до самых смелых ласк оказалось равным трем солнечным закатам. Эти любовные игры на свежем воздухе, притом что участников действа нещадно кусали насекомые, они путались в одежде и дрожали от страха, что их кто-нибудь застанет, возносили Мориса на вершины блаженства, а ее, скорее, низводили в долину скуки.
Остаток каникул прошел слишком быстро, и, конечно же, дело кончилось тем, что Морис влюбился как мальчишка, кем он, собственно, и был. Любовь обострила угрызения совести по поводу запятнанной чести Жизели. Был только один достойный кабальеро способ залатать эту дыру, как объявил он Санчо, набравшись смелости.
— Я буду просить руки Жизели, — заявил он дяде.
— Ты что, рехнулся, Морис? Как это — ты хочешь жениться, а сам еще не научился сопли подтирать!
— Не нужно меня унижать, дядя. Я вполне взрослый человек, мужчина.
— Это потому, что ты переспал с девицей? — И Санчо громоподобно расхохотался.
Дядюшке едва удалось увернуться от кулака Мориса, направленного прямиком ему в физиономию. Дело уладилось только после того, как шотландская дама заявила, что девушка вовсе ей не дочь, а Жизель призналась, что это имя — ее театральный псевдоним, что ей не шестнадцать, а двадцать четыре года и что Санчо Гарсиа дель Солар заплатил ей, чтобы она развлекала его племянника. Дядя признал, что совершил огромную глупость, и попытался обратить все в шутку, но переборщил, и Морис, вконец убитый, поклялся, что больше никогда в жизни не будет с ним разговаривать. Тем не менее, когда они вернулись в Бостон, его ждали два письма от Розетты, и страсть к красавице из Саванны развеялась; и он смог простить своего дядю. На прощание они обнялись по-приятельски, как всегда, и пообещали друг другу скоро увидеться.
Во время путешествия в Париж Морис ни слова не сказал отцу о происшествии в Саванне. Вальморен еще пару раз, на рассвете, когда ему удавалось размягчить сына при помощи ликера, настойчиво приглашал его развлечься с дамами, но ему так и не удалось заставить Мориса изменить свое мнение. В конце концов отец решил больше не возвращаться к этой теме до их возвращения в Новый Орлеан, где он предоставит в распоряжение сына холостяцкую квартиру, как те, что были в распоряжении молодых креолов его уровня. А пока что он не позволит, чтобы подозрительное целомудрие его сына разрушило непрочное равновесие их отношений.
Наполеоновские агенты
Жан-Мартен Реле появился в Новом Орлеане за три недели до первого бала «Синей ленты», организуемого его матерью. Прибыл он не в военной форме, которую носил с тринадцати лет, а в гражданском, в качестве секретаря Исидора Мориссе — ученого, совершающего путешествие с целью изучения почв на Антильских островах и полуострове Флорида для учреждения новых плантаций по производству сахара, поскольку потеря колонии Сан-Доминго представлялась уже окончательной. В новой Черной республике Гаити генерал Дессалин занимался систематическим уничтожением всех белых, тех самых, которых он не так давно приглашал вернуться. И если Наполеон когда-нибудь и думал о заключении торгового соглашения с Гаити, коль скоро занять остров с помощью военной силы ему не удалось, то он отказался от этого намерения после той ужасающей резни, когда даже дети попали в общие могилы.
Исидор Мориссе был человеком с непроницаемым взором, сломанным носом и спиной борца, на которой расходились швы его сюртука, и с красной, цвета кирпича, кожей — следствием воздействия немилосердного солнца морских просторов. Он отличался таким скудным словарным запасом, к тому же односложным, что умудрялся вызвать к себе антипатию, как только открывал рот. Его фразы — неизменно слишком краткие — звучали словно звуки чихания. На вопросы он отвечал примитивным лошадиным всхрапыванием и недоверчивой миной того, кто от ближнего своего ожидает самого худшего. Чужестранец был немедленно принят губернатором Клейборном со всем тем вниманием, которое должно оказывать столь уважаемому ученому мужу, о чем свидетельствовала представленная его секретарем зеленая папка тисненой кожи с рекомендательными письмами нескольких научных обществ.
Внимание Клейборна, облаченного в траур по случаю смерти супруги и дочери, павших жертвами недавней эпидемии желтой лихорадки, привлек темный цвет кожи секретаря. По тому, как его представил Мориссе, он заключил, что этот мулат — человек свободный, и приветствовал его как такового. С этими средиземноморскими народами никогда не знаешь, какая этикетка является наиболее подходящей, подумал губернатор. Он не был человеком, способным легко и по достоинству оценить мужскую красоту, но не мог, по крайней мере, не отметить деликатные черты лица молодого человека: густые ресницы, женский рот, круглый подбородок с ямочкой — черты, которые контрастировали с его худым гибким телом явно мужских пропорций. Молодой человек, образованный и с безукоризненными манерами, исполнял роль переводчика, потому что Мориссе говорил исключительно по-французски. Степень владения английским у этого секретаря оставляла желать лучшего, но была достаточной, поскольку Мориссе многословием не отличался.
Чутье подсказало губернатору, что визитеры что-то скрывают. Сахарная миссия показалась ему столь же подозрительной, сколь и облик этого человека, похожего скорее на наемного убийцу, чем на ученого, но эти сомнения не могли избавить его от необходимости придерживаться самым строгим образом кодекса гостеприимства Нового Орлеана. После скромного обеда, поданного свободными неграми, так как рабов у губернатора не было, он предложил свой кров. Секретарь перевел, что в этом не было необходимости: они приехали всего на несколько дней и остановятся в каком-нибудь отеле, где и будут дожидаться корабля, чтобы отплыть во Францию.
Как только они удалились, Клейборн приказал осторожно проследить за ними. Так стало известно, что вечером оба мужчины вышли из отеля: цветной молодой человек отправился пешком по направлению к улице Шартре, а мускулистый Мориссе на взятой напрокат лошади — в скромную мастерскую кузнеца в конце улицы Сен-Филипп.
Губернатор со своими подозрениями попал в точку. К ученой братии Мориссе не имел ни малейшего отношения: он был тайным агентом Наполеона.
В декабре 1804 года Наполеон стал императором Франции, возложив на свою голову корону собственноручно, потому как даже сам папа, специально приглашенный на эту церемонию, был недостоин, по мнению Наполеона, совершить этот акт. Наполеон к тому времени завоевал уже половину Европы, но занозой в его глазу была Великобритания — маленькая страна с ужасным климатом и некрасивым народом, которая бросала ему вызов с другого берега пролива под названием Ла-Манш. 21 октября 1805 года обе нации встали лицом к лицу на юго-западе Испании, у мыса Трафальгар: с одной стороны — франко-испанский флот в тридцать три корабля, а с другой — англичане с двадцатью семью, под командованием славного адмирала Горацио Нельсона, гения морских сражений. Нельсон погиб в этой битве, одержав невиданную доселе победу: он наголову разбил вражеский флот и тем самым покончил с мечтой Наполеона обрушиться на Англию. Как раз в эти дни Полина Бонапарт навестила своего брага, чтобы выразить ему соболезнования по поводу трафальгарского фиаско. Полина состригла волосы и положила их в гроб своего мужа, рогатого генерала Леклерка, умершего от тропической лихорадки в Сан-Доминго и погребенного в Париже. Этот драматический жест безутешной вдовы вызвал в Европе взрыв хохота. Без своей длинной цвета красного дерева гривы, которую она раньше причесывала в подражание греческим богиням, Полина выглядела неотразимо, и очень скоро ее новая прическа вошла в моду. В тот день она явилась, увенчанная тиарой, блещущей знаменитыми бриллиантами Боргезе, и в сопровождении Исидора Мориссе.
Наполеон тут же заподозрил, что визитер был очередным любовником его сестры, и принял его неохотно, но тут же заинтересовался, когда Полина сообщила ему, что корабль, на котором Мориссе пересекал Карибское море, подвергся атаке пиратов и он несколько месяцев провел в плену у некоего Жана Лафита, пока не смог заплатить выкуп и вернуться во Францию. В плену между ним и Лафитом завязалось что-то вроде дружбы, начало которой было положено шахматами. Наполеон расспросил своего гостя о знаменитой организации Лафита, флот которого контролировал все Карибское море: ни одно судно в этих водах не было в безопасности, за исключением тех, что шли под флагом Соединенных Штатов: Лафит никогда на них не нападал по причине своей необъяснимой лояльности к американцам — странного пиратского каприза.
Наполеон провел Мориссе в маленькую гостиную, где они вдвоем провели два часа. Возможно, Лафит был решением той дилеммы, которая не давала покоя императору со времени несчастья под Трафальгаром: как воспрепятствовать тому, чтобы англичане стали хозяевами морской торговли. Так как остановить их на море он не мог, то задумал вступить в союз с американцами, которые враждовали с Великобританией со времен Войны за независимость 1775 года, но президент Джефферсон занимался консолидацией своей территории и не думал вмешиваться в европейские конфликты. В порыве вдохновения — сродни тем, что привели его из скромных армейских рядов на вершину власти, — Наполеон поручил Исидору Мориссе напять пиратов, чтобы они не давали покоя английским кораблям в Атлантике. Мориссе понял, что речь идет об очень деликатной миссии, потому что император не мог открыто вступить в альянс с душегубами, и предположил, что под прикрытием маски ученого он смог бы отправиться в путешествие, не привлекая излишнего внимания. Братья Жан и Пьер Лафиты годами безнаказанно обогащались за счет добычи от своих нападений на торговые суда и разного рода контрабандной торговли. Но американские власти не терпели уклонения от налогов и, несмотря на заявленную симпатию братьев Лафит к демократии Соединенных Штатов, объявили пиратов вне закона.
Жан-Мартен Реле не был знаком с человеком, которого ему предстояло сопровождать в путешествии через Атлантику. Как-то в понедельник утром его вызвал к себе в кабинет директор военной академии, вручил ему деньги и приказал купить себе гражданскую одежду и сундук, потому что через два дня он должен взойти на борт корабля. «Ни слова никому не говорите об этом, Реле, это конфиденциальная миссия!» — пояснил директор. Верный своему военному воспитанию, молодой человек повиновался, не задавая вопросов. Позже он узнал, что выбор пал на него по двум причинам: так как он был самым бойким учеником по курсу английского языка и потому что директор предположил, что поскольку он родом из колоний, то не выйдет из строя от первого же укуса тропического комара.
Молодой человек чуть не загнал коня, добираясь до Марселя, где его уже ждал Исидор Мориссе с пассажирскими билетами в руке. Он молча поблагодарил Небеса за то, что будущий начальник едва взглянул на него: он места себе не находил от мысли, что оба они во время путешествия будут жить в одной и той же тесной каюте. Ничто не оскорбляло в такой мере его безмерную гордость, как намеки, которые он получал от других мужчин.
— А вы не желаете узнать, куда мы отправляемся? — спросил его Мориссе после нескольких дней в открытом море, за которые они обменялись всего несколькими этикетными словами.
— Я отправляюсь туда, куда меня посылает Франция, — занимая оборону, ответил Реле, козырнув.
Никаких военных приветствий, юноша. Мы гражданские люди, понятно?
— Так точно.
— Говорите, как обычные люди, бога ради!
— К вашим услугам, месье.
Очень скоро Жан-Мартен обнаружил, что Мориссе, такой немногословный и неприятный на людях, в частной жизни мог просто очаровывать. Алкоголь развязывал ему язык и расслаблял настолько, что он казался другим человеком — любезным, ироничным, улыбчивым. Он хорошо играл в карты, и в запасе у него всегда была тысяча историй, которые он рассказывал без украшательств, в нескольких фразах. С каждой рюмкой коньяка они постепенно узнавали друг друга, и между ними возникли отношения, свойственные хорошим приятелям.
— Однажды Полина Бонапарт пригласила меня в свой будуар, — начал рассказ Мориссе. Антильский негр, едва прикрытый набедренной повязкой, принес ее на руках и выкупал в ванне прямо у меня на глазах. Госпожа Бонапарт хвастается тем, что может соблазнить кого угодно, но со мной у нее ничего не вышло.
— Почему?
— Меня раздражает женская глупость.
— Вы предпочитаете глупость мужскую? — пошутил юноша с некоторым кокетством; он тоже пропустил несколько рюмок и разговорился.
— Я предпочитаю лошадей.
Но Жан-Мартен больше интересовался пиратами, а не лошадиными достоинствами или туалетом прекрасной Полины и постарался вернуться к теме того приключения, которое его новый друг пережил в их среде, когда был в плену на острове Баратария. Так как Мориссе знал, что даже военные корабли европейцев не решались приближаться к острову братьев Лафит, он сразу же решительно отверг идею появиться там без приглашения: им перережут глотку раньше, чем их ноги ступят на берег, не дав никакой возможности даже объяснить причины визита. К тому же он вовсе не был уверен, что имя Наполеона откроет им двери Лафитов; все могло быть совсем наоборот, поэтому он и решил подступиться к ним в Новом Орлеане, на несколько более нейтральной территории.
— Лафиты вне закона. Не знаю, как нам удастся с ними встретиться, — высказал свои опасения Жан-Мартену Мориссе.
— Это будет довольно просто, ведь они не прячутся, — успокоил его молодой человек.
— Откуда вы знаете?
— Из писем моей матери.
До этого момента Реле не приходило в голову упомянуть, что его мать живет в Новом Орлеане, потому что это казалось ему совсем незначительной деталью в сравнении с величиной миссии, порученной им императором.
— Ваша мать знает Лафитов?
— Их все знают, они короли Миссисипи, — ответил Жан-Мартен.
В шесть часов пополудни Виолетта Буазье все еще отдыхала — обнаженная и покрытая испариной от наслаждения — в постели Санчо Гарсиа дель Солара. С тех пор как с ней жили Розетта и Тете и дом ее оказался наводнен ученицами plaçage, в качестве места для любовных утех или мирного сна во время сиесты, если на большее в тот день их не хватало, она стала пользоваться квартирой своего любовника. Сначала Виолетта пыталась навести порядок и облагородить квартиру, но призвания к труду служанки она в себе не ощущала, и было бы величайшей глупостью тратить драгоценные часы на попытки подправить монументальный бардак Санчо, когда можно приятно провести время вдвоем. Единственный слуга Санчо годился только на то, чтобы сварить кофе. Этого раба даром отдал своему шурину Вальморен, потому что продать такого слугу было невозможно: его никто бы не купил. Он упал с крыши и стал слаб на голову — ходил и смеялся. Недаром Гортензия Гизо не могла его выносить. Санчо же его терпел и даже испытывал к нему некоторую симпатию — за качество его кофе и потому, что тот не воровал сдачу, когда ходил за покупками на Французский рынок. Виолетту этот человек беспокоил: она считала, что он за ними подсматривает, когда они занимаются любовью. «Это твои домыслы, дорогая. Он такой тупой, что ему мозгов и на это не хватит», — успокаивал Санчо свою любимую.
В это самое время Лула и Тете посиживали в плетеных креслах на улице, напротив дверей желтого дома, как делали все соседки в округе. Звуки музыкальных упражнений на фортепьяно нарушали спокойствие осеннего вечера. Лула с полуприкрытыми глазами покуривала свою сигару черного табака, наслаждаясь покоем, которого жаждали ее кости, а Тете шила детскую распашонку. Живот еще не обозначился, но она уже объявила о своей беременности узкому кругу близких и друзей, и единственной, кто был удивлен, оказалась Розетта, которая была настолько погружена в себя, что не обратила внимания на любовь своей матери и Захарии. Там и застал их Жан-Мартен Реле. Он не уведомил письмом о своем путешествии, потому что получил приказ держать его в секрете; к тому же письмо все равно пришло бы позже, чем он сам.
Лула не ждала его, а поскольку прошло уже несколько лет, как она его не видела, то и не узнала. Когда он встал прямо перед ней, вся ее реакция свелась к очередной затяжке сигарой. «Это же я, Жан-Мартен!» — взволнованно воскликнул юноша. Этой огромной женщине потребовалось несколько секунд, чтобы разглядеть его сквозь дым сигары и понять, что это и вправду ее мальчик, ее принц, свет ее старых глаз. Ее счастливые крики сотрясли улицу. Она обхватила его за талию, оторвала от земли и принялась покрывать поцелуями и слезами, пока он тщетно стремился сохранить достоинство, балансируя на кончиках пальцев. «А где маман?» — поинтересовался юноша, едва смог освободиться и поднять с земли свою потоптанную шляпу. «В церкви, сынок, молится за спасение души твоего покойного отца. Пойдем в дом, я приготовлю тебе кофе, пока моя подруга Тете сходит за ней», — ответила Лула, даже не запнувшись. И Тете побежала к дому, где жил Санчо.
В гостиной Жан-Мартен увидел одетую в голубое девушку, которая с чашкой на голове играла на пианино. «Розетта! Посмотри, кто пришел! Мой мальчик, мой Жан-Мартен!» — раздался пронзительный крик Лулы вместо представления. Розетта прервала свои музыкальные экзерсисы и медленно повернулась. Они поздоровались: он — сдержанным кивком и щелканьем каблуков, словно на нем все еще была военная форма, а она — хлопаньем своих жирафьих ресниц. «Добро пожаловать, месье. Не проходит дня, чтобы мадам и Лула не упомянули о вас», — произнесла Розетта с напускной вежливостью, которой ее научили урсулинки. Но точнее сказать было нельзя. Воспоминание о парне плавало по дому, словно призрак, и, слыша о нем так много, Розетта уже была с ним знакома.
Лула взяла у Розетты чашку и отправилась наливать кофе; со двора слышались ее радостные восклицания. Розетта и Жан-Мартен молчали, сидя на краешке своих стульев, и украдкой бросали друг на друга взгляды с чувством, что они уже были знакомы и раньше. Двадцать минут спустя, когда Жан-Мартен принимался за третий кусок пирога, вошла, задыхаясь, Виолетта, а вслед за ней и Тете. Жан-Мартену мать показалась еще более прекрасной, чем он ее помнил, и он не стал задаваться вопросом, отчего она пришла с мессы растрепанной и в плохо застегнутом платье.
Тете с порога наблюдала за этой забавной сценой: смущенный парень, которого мать осыпает поцелуями, не отпуская его руки, а Лула щиплет за щеки. Соленые ветры морского путешествия сделали на несколько тонов темнее кожу Жан-Мартена, а годы военного воспитания усилили его жесткость, оставленную ему в наследство человеком, которого он считал своим отцом. Он запомнил Этьена Реле сильным, стоическим и суровым; именно потому он так ценил его ласку, которой тот щедро одаривал домашних в узком семейном кругу. Мать же и Лула, напротив, вечно обращались с ним как с младенцем и, похоже, не собирались отступать от этой привычки. Чтобы создать хоть какой-никакой противовес своему слишком красивому лицу, он всегда держался на приличном расстоянии, отличался ледяной скованностью движений и каменным выражением лица, свойственным военным. В детстве он страдал оттого, что его принимали за девочку, а в отрочестве — от насмешек или влюбленностей товарищей. Эти домашние нежности в присутствии Розетты и мулатки, имени которой он не расслышал, вгоняли его в краску, но отвергнуть их он не решался. Внимание Тете привлекло то, что у Жан-Мартена были те же черты лица, что и у Розетты, — ей всегда казалось, что ее дочь похожа на Виолетту Буазье, и это сходство за последние месяцы занятий с ней только усилилось, потому что девочка подражала жестам своей наставницы.
Тем временем Мориссе явился в кузницу на улице Сен-Филипп, потому что ему удалось выяснить, что она служила ширмой для пиратов, но не застал там того, кого искал. Его подмывало оставить записку Жану Лафиту, прося его о свидании и напоминая об их отношениях, начало которым было положено за шахматной доской, но все же решил, что это будет колоссальной ошибкой. Он всего лишь три месяца был тайным агентом под маской ученого и еще не привык к осторожности, необходимой в этой профессии, и на каждом шагу ловил себя на том, что чуть было не совершил роковую ошибку. Однако несколько часов спустя в тот же самый день, когда Жан-Мартен представил его своей матери, его предосторожность показалась ему смешной, потому что она с непринужденной естественностью предложила проводить его туда, где можно было встретить пиратов. Они сидели в гостиной желтого дома, которая вдруг стала тесной для всей семьи и тех, кто пришел повидать Жан-Мартена: доктора Пармантье, Адели, Санчо и пары соседок.
— Я так полагаю, что за головы братьев Лафитов уже назначена цена, — сказал Мориссе.
— Это забота американцев, месье Морист, — засмеялась Виолетта.
— Мориссе. Исидор Мориссе, мадам.
— Братья Лафиты весьма уважаемы, потому что за свой товар они не заламывают цены. Никому и в голову не придет выдать их за те пятьсот долларов, что предлагаются за их головы, — вмешался в разговор Санчо Гарсиа дель Солар.
И добавил, что Пьер имеет репутацию мужлана, но Жан — настоящий кабальеро с головы до пят: галантен с дамами и вежлив с мужчинами, говорит на пяти языках, и стиль написанных им текстов непогрешим. О его щедрости и гостеприимстве ходят легенды, отвага его всем известна; кроме того, его люди, числом около трех тысяч, готовы отдать за него жизнь.
— Завтра суббота, состоятся торги. Вам интересно пойти в Эль-Темпло?[23] — спросила его Виолетта.
— Эль-Темпло, говорите?
— Да, это место, где проходят торги, — пояснил Пармантье.
— Если все знают, где они собираются, то почему их не арестовывают? — подал голос Жан-Мартен.
— Никто не решается. Клейборн запросил подкрепление, потому что люди эти внушают страх: их закон — насилие, и они вооружены лучше, чем армия.
На следующий день Виолетта, Мориссе и Жан-Мартен собрались на лодочную прогулку, запасшись полдником и парой бутылок вина в корзинке. Виолетта приложила усилия, чтобы оставить Розетту дома — под предлогом музыкальных упражнений, поскольку она уже успела заметить, что Жан-Мартен слишком часто поглядывает в сторону девушки, а ее материнский долг требует, чтобы она вставала стеной на пути любой неуместной фантазии. Розетта была ее лучшей ученицей, идеальной кандидатурой для plaçage, но совершенно не годилась ее сыну, которому предстояло войти в «Общество синей ленты» посредством выгодного брака. Она думала выбрать себе невестку, руководствуясь неумолимым чувством реальности и не давая Жан-Мартену возможности совершить какую-нибудь сентиментальную ошибку.
В самую последнюю минуту к их компании присоединилась и Тете. Она решилась сесть в лодку не без колебаний, потому что страдала от тошноты, обычной для первых месяцев беременности, и опасалась кайманов, змей, которыми кишела вода, и всяких других тварей, которые имели обыкновение падать с веток прямо на голову в мангровых зарослях. Утлое суденышко продвигалось вперед силами гребца, способного с закрытыми глазами ориентироваться в этом лабиринте каналов, островов и болот, вечно окутанного зловонными парами и тучами комаров. Лучшего места для нелегальных перевозок и самых изощренных преступлений вообразить было невозможно.
Бастард
Эль-Темпло оказался диким островком среди заводей дельты, холмом, образованным перемолотыми временем ракушками, покрытым небольшой дубовой рощей. Когда-то остров был индейским святилищем, где до сих пор виднелись руины алтарей — отсюда и происходило его название. Братья Лафиты расположились здесь с самого раннего утра, как и каждую субботу в течение года, за исключением тех субботних дней, что попадали на Рождество или Успение Богородицы. Возле берега выстроились в ряд мелководные суда, рыбачьи лодки, шлюпки, каноэ, частные прогулочные лодки с тентами для дам и грубые баркасы для транспортировки товара.
Пираты установили несколько парусиновых палаток, в которых выставили свои сокровища и бесплатно раздавали лимонад дамам, ром с Ямайки — мужчинам и сладости — детям. В воздухе пахло стоячей водой и острым блюдом из жареных лангустов, которое подавали на кукурузных листьях. Царила карнавальная атмосфера: музыка, жонглеры и дрессированные собачки. На подмостках для продажи были выставлены четыре взрослых раба и один голенький ребенок двух-трех лет. Желающие купить рабов проверяли у них зубы, чтобы определить возраст, белки глаз, чтобы убедиться, что они здоровы, и заглядывали в задний проход, чтобы удостовериться, что он не заткнут паклей — обычный трюк, чтобы скрыть понос. Одна зрелая дама в кружевной шляпке взвешивала затянутой в перчатку ручкой гениталии одного из мужчин.
Пьер Лафит уже давно начал аукционную продажу товаров, подбор которых на первый взгляд был лишен какой бы то ни было логики, словно вещи эти были собраны исключительно с целью сбить с толку клиентов: мешанина из хрустальных люстр, мешков кофе, женской одежды, оружия, сапог, бронзовых статуй, мыла, трубок и бритв, серебряных чайников, мешков с перцем и корицей, мебели, картин, ванилина, церковных дарохранительниц и канделябров, ящиков вина, дрессированной обезьяны и пары попугаев. Никто не уходил с пустыми руками, потому что Лафиты, ко всему прочему, были банкирами и кредиторами. Каждая вещь была эксклюзивной, как о том во всю глотку вещал Пьер, и не могла ею не быть, поскольку была добыта в открытом море во время нападения на торговые суда. «Взгляните, дамы и господа, на эту фарфоровую вазу, достойную королевского дворца!» «А сколько вы дадите за эту парчовую накидку, отороченную горностаем?» «Больше такой возможности не представится никогда!» Публика отвечала шуточками и свистом, но называемые цифры поднимались в забавном соперничестве, которое Пьер умело использовал.
Между тем Жан, одетый в черное, но с белоснежными манжетами, кружевным воротником и пистолетами за поясом, прохаживался в толпе, подбадривая нерешительных улыбками и завлекая своим темным взором заклинателя змей. Виолетту Буазье он поприветствовал театральным поклоном, а она ответила двумя поцелуями в щеки, как это принято между старинными друзьями, каковыми они и стали после нескольких лет разного рода сделок и обмена дружескими услугами.
— Чем могу служить единственной даме, способной похитить мое сердце? — вопросил ее Жан.
— Не растрачивайте на меня свои любезности, мой дорогой друг: на этот раз я пришла не за покупками, — улыбнулась Виолетта и показала на Мориссе, что держался в четырех шагах позади нее.
Жан Лафит не сразу его узнал: секунда понадобилась на то, чтобы справиться с обманкой костюма исследователя, бритого лица и пенсне с толстыми стеклами, поскольку когда он познакомился с этим человеком, на лице того красовались усы и бакенбарды.
— Мориссе? Это и вправду вы! — воскликнул наконец он, хлопая того по спине.
Смутившись, Мориссе оглянулся и надвинул шляпу на глаза: ему вовсе не было нужно, чтобы об этих откровенных знаках дружеского расположения стало известно губернатору Клейборну. Однако никто не обратил на них никакого внимания, потому что в этот самый момент Пьер выставил на продажу арабского скакуна, обладать которым страстно желали все присутствующие мужчины. Жан Лафит повел его к одной из палаток, чтобы спокойно поговорить и освежиться стаканом белого вина. Мориссе сообщил ему о предложении Наполеона: патент корсара — lettre de marque, — который был эквивалентен официальному разрешению атаковать другие корабли, в обмен на его особое внимание к англичанам. Лафит любезно отвечал, что в действительности не нуждается ни в каком разрешении продолжать делать то, чем он занимался всегда, и lettre de marque послужит лишь неким ограничением, поскольку будет означать, что он должен воздерживаться от нападений на французские суда со всеми вытекающими отсюда для него потерями.
— Ваши действия обретут легальность. Из пиратов вы превратитесь в корсаров, что гораздо более приемлемо для американцев, — привел довод тайный агент.
— Единственное, что сможет изменить наши отношения с американцами, — это уплата налогов, но, честно говоря, пока мы не рассматривали эту возможность.
— Патент корсара дает возможность…
— Только если мы будем ходить под французским флагом.
Скупой на слова Мориссе пояснил, что такое условие в предложение императора не входит: они и дальше будут ходить под флагом Карфагена, но зато смогут рассчитывать на безнаказанность и убежище на французских территориях. Эта речь Мориссе содержала максимальное количество слов, произнесенных им за один раз. Лафит ответил, что поставит этот вопрос на обсуждение, потому что такого рода дела решаются среди его людей голосованием.
— Но на самом деле все решает голос ваш и вашего брата, — уточнил Мориссе.
— Ошибаетесь. Мы большие демократы, чем американцы, и уж точно намного превосходим в этом французов. Вы получите ответ через два дня.
На аукционной площадке Пьер Лафит уже начал торговлю рабами — самое долгожданное на этой ярмарке, и голоса с предложениями цены становились все громче. Единственная женщина в этом лоте прижимала к себе ребенка и умоляла чету покупателей, чтобы их не разлучали: сынок ее очень сообразительный и послушный, говорила она. А Пьер Лафит тем временем расписывал ее качества хорошей производительницы: у нее уже несколько детей и она еще может рожать. Тете смотрела на это, похолодев от ужаса, с застывшим в горле криком, думая о детях, которых эта несчастная женщина уже потеряла, и об оскорбительности продажи. По крайней мере, ей через это проходить не пришлось, и Розетта от этого избавлена. Кто-то сказал, что эти рабы родом с Гаити, что они попали к Лафитам напрямую через агентов Дессалина, который таким способом финансировал свою армию и заодно набивал себе карманы, продавая тех самых людей, которые боролись вместе с ним за свободу. Если бы это увидел Гамбо, он бы просто взорвался от ярости, подумала Тете.
Когда продажа, казалось, уже была закончена, послышался громкий голос Оуэна Мерфи, который невозможно было спутать ни с чьим другим. Мерфи предложил пятьдесят долларов сверху за мать и еще сотню за ее сына. Пьер выждал положенную по регламенту минуту и, так как никто не предложил больше, прокричал, что оба уходят клиенту с черной бородой. Женщина на подмостках упала, почти лишившись чувств от облегчения, не выпуская из рук ребенка, который громко плакал от страха. Один из помощников Пьера Лафита взял ее за руку и передал Оуэну Мерфи.
Когда Тете удалось выйти из оцепенения, ирландец уже шел назад к лодкам вместе с рабыней и ребенком, и она побежала вслед за ними, выкрикивая его имя. Он поздоровался без лишних изъявлений чувств, но выражение его лица выдало то удовольствие, которое он ощутил, увидев ее. Он рассказал, что Брендан, его старший сын, женился и скоро сделает его дедом. Также упомянул он и о земле, которую покупает в Канаде, куда вскоре думает перевезти всю семью, вместе с Бренданом и его женой, чтобы начать там новую жизнь.
— Думаю я, что месье Вальморен не даст вам уехать, — сказала Тете.
— С некоторых пор мадам Гортензия мечтает найти мне замену. У нас не совпадают позиции, — ответил Мерфи. — Она будет весьма недовольна тем, что я купил этого мальчика, хотя я и руководствовался Кодексом. Он слишком мал, чтобы его разлучали с матерью.
— Здесь нет закона, который имел бы силу, месье Мерфи. Пираты делают то, что им заблагорассудится.
— Поэтому я и предпочитаю не иметь с ними дела, но ведь не я принимаю решения, Тете, — проговорил ирландец, указывая на стоящего вдалеке Тулуза Вальморена.
Он стоял поодаль от толпы, беседуя с Виолеттой Буазье в тени дуба: она — защищаясь от солнца японским зонтиком, а он — опираясь на трость и отирая нот носовым платком. Тете попятилась, но было уже поздно: он ее заметил, и она сочла необходимым подойти. За ней последовал Жан-Мартен, ожидавший Мориссе возле палатки Лафита, и через минуту под узорчатой тенью дуба собрались уже все. Тете поздоровалась со своим бывшим хозяином, не глядя ему в лицо, но успела заметить, что он еще больше растолстел и стал краснее. И пожалела, что доктор Пармантье имеет в своем распоряжении лекарства для охлаждения крови, ею же и приготовленные. Этот человек мог одним ударом трости в пыль разнести столь хрупкое их благополучие — и ее, и Розетты. Было бы лучше, если б он лежал на кладбище.
Вальморен внимательно слушал представление, которое делала Виолетта Буазье своему сыну. Он оглядел Жан-Мартена с головы до ног, оценив его стройность, элегантность, с которой он носил свой скромного покроя костюм, совершенную симметрию его лица. Молодой человек приветствовал его поклоном, выразив тем самым уважение к разнице в их социальном положении и возрасте, но Вальморен протянул ему свою пухлую руку, усеянную желтыми пятнами, которую тот был вынужден пожать. Вальморен задержал его руку в своей гораздо дольше, чем то было принято, загадочно улыбаясь. Жан-Мартен почувствовал на своих щеках горячую краску и резко вырвал руку. Не в первый раз мужчина закидывал ему удочку, и он умел справляться с такими оскорбительными ситуациями без театральности, но бесцеремонность этого извращенца показалась ему особенно обидной, к тому же оскорбительно было и то, что его мать была свидетелем этой сцены. Его неприятие было столь очевидным, что до Вальморена дошло, что его не так поняли, и, вовсе не собираясь переживать по этому поводу, он расхохотался.
— Я гляжу этот сын рабыни вырос щепетильным! — воскликнул он, забавляясь.
Воцарилось тяжелое молчание, пока эти слова вонзали свои ястребиные когти в присутствующих. Воздух стал горячее, свет еще ослепительнее, запахи ярмарки — тошнотворнее, шум толпы еще громче, но Вальморен и не догадывался о произведенном его словами эффекте.
— Как он сказал? — удалось выговорить мертвенно-бледному Жан-Мартену, когда он вновь обрел голос.
Виолетта взяла его под руку и попыталась увести сына, по он высвободился и встал перед Вальмореном. И по привычке поднял руку к бедру, где находилась бы рукоятка его шпаги, будь он в форме.
— Вы оскорбили мою мать! — прохрипел он.
— Не будешь же ты утверждать, Виолетта, что этот парень ничего не знает о своем происхождении, — сказал Вальморен, все еще насмешливо.
Она не ответила. Зонтик выпал из ее рук и покатился по ракушковой почве, а она обеими руками зажимала себе рот, и глаза ее выходили из орбит.
— Вы должны мне удовлетворение, месье. Надеюсь увидеть вас в садах Сен-Антуан вместе с вашими секундантами в один из двух ближайших дней, потому что на третий я возвращаюсь во Францию, — объявил ему Жан-Мартен, четко проговаривая каждый слог.
— Не смеши людей, сынок. Я не собираюсь драться на дуэли с человеком твоего происхождения. Я сказал правду. Спроси об этом свою мать, — прибавил Вальморен, указав тростью на женщин, прежде чем развернуться спиной и, не торопясь, отправиться прочь от них к лодкам, где его ожидал Оуэн Мерфи.
Жан-Мартен попытался пойти за ним с намерением разбить ему физиономию кулаками, но Виолетта и Тете с двух сторон повисли на его одежде. Тут и появился Мориссе, который, увидев своего секретаря сражающимся с женщинами и красным от ярости, обездвижил его, обняв со спины. Тете удалось соврать, что у них только что вышла ссора с одним пиратом и что им срочно нужно уходить. Мориссе был полностью согласен — он не желал подвергать опасности исход своих переговоров с Лафитом — и, облапив юношу своими ручищами дровосека, повел его, а за ними пошли и женщины, к лодке, где их ждал гребец с нетронутой корзинкой для пикника.
Обеспокоенный, Мориссе отеческим жестом обнял за плечи Жан-Мартена и попытался узнать у него, что случилось, но тот скинул его руку и повернулся спиной, уперев неподвижный взгляд в водную гладь. Никто не сказал больше ни слова в те полтора часа, которые понадобились на то, чтобы добраться до Нового Орлеана по лабиринту болот. По прибытии в город Мориссе был вынужден отправиться в гостиницу один, поскольку его секретарь проигнорировал приказание сопроводить своего начальника и последовал за Виолеттой и Тете на улицу Шартре. Виолетта ушла к себе в комнату, заперла дверь и бросилась на кровать в рыданиях — выплакать все до последней слезинки, а Жан-Мартен в это время ходил по двору, как лев в клетке, дожидаясь, пока она успокоится, чтобы устроить ей допрос. «Что ты знаешь о прошлом моей матери, Лула? Ты должна мне все рассказать!» — потребовал он от своей старой няни. Лула, которая понятия не имела о том, что случилось в Эль-Темпло, и подумала, что речь идет о той славной поре, когда Виолетта была самой божественной любовницей в Ле-Капе и ее имя разносилось капитанами по самым дальним морям, то есть о том, о чем старая няня ни за что не стала бы рассказывать своему мальчику, своему принцу, как бы он на нее ни кричал. Виолетта приложила немало усилий к тому, чтобы стереть все следы своего прошлого в Сан-Доминго, и не она, ее верная Лула, будет тем человеком, кто выдаст ее секрет.
К вечеру, когда рыдания утихли, Тете понесла Виолетте травяной чай — средство от головной боли, помогла ей снять платье, распутала то куриное гнездо, в которое превратилась ее прическа, опрыскала ее розовой водой, надела тонкую ночную сорочку и присела подле нее на постель. В полумраке закрытых жалюзи она осмелилась поговорить по душам, пользуясь тем доверием, которое росло день за днем все те годы, которые они прожили и проработали бок о бок.
— Не все так страшно, мадам. Притворитесь, что эти слова никогда и не звучали. Никто их больше не повторит, и вы с сыном сможете жить так же, как всегда, — утешала она ее.
Тете подумала, что Виолетта Буазье не родилась свободной, как однажды ей рассказывала, а была в юности рабыней, но никак не могла обвинять Виолетту за то, что она об этом умолчала. Быть может, она родила Жан-Мартена еще до того, как получила от Реле свободу и стала его женой.
— Но Жан-Мартен уже знает об этом! И он никогда не простит мне, что я его обманывала, — отозвалась Виолетта.
— Не так легко признаться в том, что ты когда-то была рабыней, мадам. Но главное то, что сейчас вы оба свободны.
Я никогда не была рабыней, Тете. Дело в том, что я ему не мать. Жан-Мартен родился рабом, и его выкупил мой муж. Единственный человек, кому об этом известно, — это Лула.
— А как узнал об этом месье Вальморен?
Тогда-то Виолетта Буазье и рассказала ей о тех обстоятельствах, в которых она получила ребенка: как прискакал Вальморен с завернутым в шаль новорожденным просить ее присмотреть за ним какое-то время и как они с мужем потом его усыновили. Они не стали выяснять, кто его родители, хотя и полагали, что это сын Вальморена, прижитый с одной из рабынь. Тете ее уже не слушала, потому что остальное она уже знала. Тысячью бессонных ночей готовилась она к этому моменту — моменту, когда она узнает наконец о своем сыне, которого у нее забрали. Однако теперь, когда он был здесь, совсем близко, она не почувствовала ни острой молнии счастья, ни застывшего в груди рыдания, ни нахлынувшей на нее необоримой волны любви, ни порыва побежать и обнять его, а только глухой шум в ушах, как от колес телеги, кативших по пыльной дороге. Она закрыла глаза и вызвала перед собой образ этого юноши, поражаясь тому, что не замечала ни единой приметы: ее инстинкт ничего ей не подсказал, даже когда она заметила его сходство с Розеттой. Она стала перебирать свои чувства в поисках той бездонной материнской любви, так хорошо ей известной, потому что именно ее она испытывала по отношению к Морису и Розетте, но нашла только облегчение. Ее сын родился под счастливой звездой, под сверкающей z’etuale, потому-то и попал в руки четы Реле и Лулы, которые его и баловали, и дали образование: но этой причине офицер Реле завещал ему свою легендарную жизнь, а Виолетта трудилась не покладая рук, чтобы обеспечить ему благополучное будущее. Тете радовалась этому, ничуть не ревнуя, ведь ничего подобного сама она не смогла бы ему дать.
Злоба ее по отношению к Вальморену — этот черный и жесткий булыжник, который она постоянно носила в груди, — казалось, уменьшилась, и ее стремление отомстить хозяину растаяло в чувстве благодарности к тем, кто так заботился о ее сыне. Она не стала раздумывать, как использовать то, что только что узнала, — ее решение было продиктовано благодарностью. В чем она выиграет, если будет кричать на каждом углу, что это она — мать Жан-Мартена, и требовать к себе того отношения, которое по праву принадлежит другой женщине? И она решила рассказать правду Виолетте Буазье, не слишком распространяясь о том страдании, от которого в прошлом она так мучилась, потому что в последние годы оно уже притупилось. Юноша, который ходил сейчас по двору, был для нее незнакомцем.
Обе женщины долго плакали, взявшись за руки, по которым бежал соединявший их слабый ток взаимного сочувствия. Наконец слезы закончились, и они решили, что сказанное Вальмореном отменить было уже невозможно, так что им остается только попытаться смягчить этот удар для Жан-Мартена. Для чего было говорить парню, что Виолетта не его мать, что он родился рабом, незаконнорожденным ребенком белого, и что он был продан? Лучше, чтобы он и дальше верил в то, что услышал от Вальморена, потому что, по сути дела, это и было правдой — что его мать была рабыней. Также не стоило ему знать о том, что Виолетта была когда-то кокоткой, а Реле слыл жестоким человеком. Жан-Мартен будет думать, что Виолетта скрыла от него печать рабства, чтобы защитить его, но по-прежнему будет гордиться таким отцом, как Реле. Через пару дней Жан-Мартен вернется во Францию, к своей военной карьере, где предрассудки относительно его происхождения не настолько болезненны, как в Америке или в колониях, и где слова Вальморена окажутся в дальнем, затерянном закоулке его памяти.
— Мы похороним это навсегда, — сказала Тете.
— А что будем делать с Тулузом Вальмореном? — спросила Виолетта.
— Повидайте его, мадам. Объясните, что не в его интересах распространять определенные секреты, потому что вы и сами можете взять на себя труд сделать так, чтобы его супруга и весь город узнали, что он — отец Жан-Мартена и Розетты.
— А также то, что его дети могут предъявить права на его фамилию и часть его наследства, — прибавила Виолетта, заговорщицки подмигивая.
— Это правда?
— Нет, Тете, но такой скандал будет для Вальморенов губителен.
Страх смерти
Виолетта Буазье понимала, что первый бал «Синей ленты» задаст планку для будущих балов и что нужно с самого начала обозначить отличие этого бала от всех других празднеств, которые оживляли жизнь города с октября по апрель. На украшение просторного зала не поскупились. Обустроили ложи для музыкантов, вокруг танцевальной площадки расставили столики с вышитыми льняными скатертями и кресла с плюшевой обивкой для матушек и дуэний. Был сооружен устланный коврами подиум для триумфального прохода девушек в зал. В назначенный для бала день на улице были вымыты тротуары, и их покрыли досками; зажглись разноцветные фонарики, и подогревать атмосферу вышли музыканты и черные танцоры, как во время карнавала. В самом же зале, напротив, атмосфера была довольно строгой.
В доме Вальморенов, в центре города, были слышны далекие звуки музыки, но Гортензия Гизо, как и все белые женщины города, делала вид, что ничего не слышит. Она прекрасно знала, что происходит, потому что вот уже несколько недель в городе только об этом бале и говорили. Она только что поужинала и теперь вышивала в гостиной, окруженная своими дочками, — все они были такие же светленькие и розовенькие, как и она раньше. Девочки играли в куклы, а самая младшая спала в своей колыбельке. Теперь, потрепанная материнством, Гортензия накладывала румяна на щеки и не могла обойтись без изготовленного высококлассным мастером шиньона желтого цвета, который ее рабыня Дениза старательно замаскировывала ее собственными соломенными волосами. Ужин состоял из супа, двух основных блюд, салата, сыров и трех десертов — ничего слишком сложного, ведь ужинала она одна. Девочки пока что не садились за стол в столовой, мужа тоже не было, потому что он соблюдал строгую диету и предпочитал не подвергаться искушениям. Рис и отваренного без соли цыпленка ему принесли в библиотеку, где он, удалившись от соблазнов, в точности выполнял предписания доктора Пармантье. Кроме голодания, он должен был совершать пешие прогулки и обходиться без алкоголя, сигар и кофе. Он умер бы от скуки, если бы не шурин Санчо, который навещал его ежедневно, чтобы рассказать самые последние новости и слухи, порадовать своим хорошим настроением и обыграть в карты и домино.
Сам же Пармантье, также жаловавшийся на собственное сердце, вовсе не устанавливал для себя тот монашеский режим, который он предписал своему пациенту, поскольку Саните Деде, служительница вуду с площади Конго, прочла его будущее по раковине каури, и по ее предсказаниям выходило, что он будет жить до восьмидесяти девяти лет. «Ты, белый, закроешь глаза святому отцу Антуану, когда он умрет в тысяча восемьсот двадцать девятом году». Это его успокоило относительно своего здоровья, но зародило в сердце тоску, что за такую долгую жизнь он потеряет своих самых близких людей — Адель и, возможно, кого-то из своих сыновей.
Первый звоночек о том, что с Вальмореном не все в порядке, прозвенел во время путешествия во Францию. После окончания мрачного визита к своей девяностолетней матери и засидевшимся в старых девах сестрицам он оставил Мориса в Париже и взошел на борт корабля, следовавшего курсом на Новый Орлеан. Во время путешествия он начал страдать от странного утомления, которое приписал морской болезни, излишкам вина и плохому качеству еды. Когда Вальморен вернулся домой, его друг доктор Пармантье нашел у него высокое давление, аритмию, затрудненность пищеварения, избыток желчи, метеоризм, гнилостные выделения и сердцебиение. Без всяких околичностей доктор объявил, что Вальморен должен сбросить вес и изменить стиль жизни, в противном случае он окажется на кладбище Сен-Луи менее чем через год. Испугавшись, Вальморен подчинился требованиям эскулапа и деспотизму своей супруги, которая тут же сделалась его тюремщицей под предлогом заботы о мужнином здоровье. На всякий случай обратился он и к «докторам листьев», и к колдунам, над которыми всегда насмехался, пока страх не заставил его изменить свое мнение. Попробовав, он ничего не потеряет, подумал он. Он обзавелся гри-гри, языческим алтарем в своей комнате, пил немыслимые микстуры неизвестного состава, доставляемые ему с рынка Целестиной, и даже совершил две ночные вылазки на затерянный в болотах островок, чтобы Саните Деде очистила его дымом своих сигар и заговорами. Пармантье не беспокоило соперничество этой служительницы культа, поскольку он оставался верен своей идее, что сознание обладает целительной силой, и если пациент верит в магию, то нет никаких причин отказывать ему в этом.
Морис остался во Франции работать в одной торговой компании по импорту сахара, в которую определил его Вальморен, с тем чтобы сын освоил этот аспект семейного бизнеса. Однако, узнав о болезни отца, Морис сел на первый же доступный корабль и прибыл в Новый Орлеан в конце октября. Он застал Вальморена в кресле возле камина: в вязаной шапочке на голове, с закутанными в шаль ногами, деревянным крестом и тряпичным гри-гри на шее, тот походил на огромного тюленя. Отец явно сдал по сравнению с тем гордецом и мотом, который желал показать сыну разнузданную парижскую жизнь. Морис опустился на колени возле отца, и тот дрожащими руками заключил его в объятия.
— Сын мой, наконец ты здесь. Теперь я могу умереть спокойно, — прошептал он.
— Не говори глупостей, Тулуз! — прервала его Гортензия Гизо, которая с огорчением наблюдала за ними. И чуть было не прибавила, что пока что, к сожалению, он не умрет, но вовремя сдержалась. Она уже три месяца ухаживала за мужем, и терпение ее было на исходе. Вальморен докучал ей весь день, а ночью с криком просыпался — его преследовало кошмарное видение: какой-то Лакруа являлся ему свежеосвежеванным, волоча по земле свою кожу, как кровавую рубаху.
Мачеха встретила Мориса сухо, сестры поприветствовали его вежливым реверансом, держась на расстоянии, потому что не имели ни малейшего понятия о том, кто такой этот брат, которого в семье упоминали крайне редко. Старшей из пяти девочек — единственной, которую Морис мог помнить, хотя она еще и ходить не умела, когда он видел ее в последний раз, — исполнилось восемь лет, а младшая была на руках у кормилицы. Так как дом оказался слишком маленьким для семьи и слуг, Морис остановился на квартире своего дяди Санчо — идеальное решение проблемы для всех, кроме Тулуза Вальморена, который собирался держать сына подле себя, чтобы давать ему советы и приобщать понемногу к управлению собственностью. Это было последнее, чего желал Морис, но сейчас был не самый подходящий момент перечить отцу.
В тот вечер, на который был назначен бал, Санчо и Морис ужинали не в доме Вальморенов, хотя это случалось почти каждый день, но скорее по обязанности, чем из удовольствия. Оба они чувствовали себя некомфортно с Гортензией Гизо, которая никогда не любила пасынка и едва терпела Санчо, с его лихими усами, испанским акцентом и бесстыдством, потому как нужно быть просто нахалом, чтобы открыто прогуливаться по городу с чертовой кубинкой, этой sang-mêlé,[24] прямой виновницей пресловутого бала «Синей ленты». Только безупречное воспитание не позволяло Гортензии взорваться фонтаном ругательств при мысли об этом: ни одна дама не могла признать, что ей известно о том гипнотическом воздействии, которое эти цветные гетеры оказывают на белых мужчин, или что она имеет представление о безнравственной практике предлагать своих дочерей в наложницы. Гортензия прекрасно знала, что дядя и племянник заняты сейчас наведением лоска, чтобы быть на этом балу во всеоружии, но даже на смертном одре она не сделала бы им по этому поводу ни единого замечания. Не могла говорить она об этом и с мужем, потому что это означало бы признать то, что она подслушивает его разговоры, просматривает его переписку и залезает в тайные ящики его письменного стола, где хранятся деньги. Таким путем она и узнала, что Санчо раздобыл у Виолетты Буазье два приглашения, потому что Морис тоже желал попасть на бал. Санчо пришлось говорить об этом с Вальмореном, поскольку страстный интерес его племянника к plaçage требовал финансовой поддержки.
Гортензия, подслушивавшая этот разговор, прижав ухо к дырочке, которую она лично велела просверлить в стене, услышала, как ее муж с ходу одобрил идею, и предположила, что это развеивало его сомнения относительно мужских качеств Мориса. Она сама в немалой степени поспособствовала этим сомнениям, то и дело вворачивая словечко «женственный» в разговоры о своем пасынке. Вальморену plaçage показался хорошим решением, принимая во внимание тот факт, что Морис никогда не выказывал склонности ни к борделям, ни к домашним рабыням. Думать о женитьбе Морису стоило еще лет через десять, не раньше, а тем временем ему ведь нужно как-то удовлетворять свои мужские потребности, как выражался Санчо. Цветная девушка — чистая, добродетельная и верная — обладала многими преимуществами. Санчо рассказал Вальморену об экономических условиях этой сделки, которые раньше оставлялись на усмотрение и добрую волю покровителя, но теперь, с тех пор как за дело взялась Виолетта Буазье, определялись в устном договоре, который хотя и не обладал юридической силой, но тем не менее был нерушим. Вальморен не стал оспаривать цену: Морис был этого достоин. Гортензия Гизо за стеной еле сдержала горестный возглас.
Бал сирен
Жан-Мартен, со слезами стыда на глазах, рассказал Исидору Мориссе о словах Вальморена, которые его мать не стала опровергать: она просто отказалась говорить на эту тему. Мориссе воспринял его рассказ с насмешливым хохотком («Какого дьявола об этом беспокоиться, сынок!»), но тут же растрогался и обнял юношу, чтобы тот мог облегчить себе душу на его широкой груди. Он не был сентиментален и сам удивился тем чувствам, которые вызывал в нем этот молодой человек: желание защитить его и даже поцеловать. Мягко отстранив от себя молодого человека, Мориссе взял свою шляпу и отправился пройтись по дамбе — померить ее своими длинными шагами, пока не прояснится в голове. Через два дня они уехали обратно во Францию. Жан-Мартен распрощался со своей маленькой семьей с обычной строгостью, которой придерживался на публике, но в последний момент он обнял Виолетту и шепнул ей, что будет писать.
Бал «Синей ленты» своим великолепием произвел ровно тот эффект, которого желала Виолетта и какого ожидали от него все остальные. Мужчины прибывали без опозданий, торжественно одетые, чинные, и под звуки оркестра распределялись группками под хрустальными люстрами, сверкавшими сотнями свечей. По залу среди гостей сновали слуги, предлагая легкие напитки и шампанское — и ни капли крепких ликеров. Столы для банкета были накрыты в соседнем зале, но накинуться на них раньше времени было бы признаком неотесанности. Виолетта Буазье, одетая весьма строго, встретила гостей приветливыми словами хозяйки. Вскоре появились и матери с дуэньями и расселись по креслам. Оркестр взревел фанфарами, поднялся театральный занавес в конце зала, и девушки начали свой медленный проход по подиуму, выстроившись друг за другом. Там было совсем немного темных мулаток, несколько sang-mêlé, которые вполне могли сойти за европеек, две-три из них даже с голубыми глазами, и целая гамма квартеронок самых разнообразных оттенков: все они — привлекательные, скромные, нежные, элегантные, притом воспитанные в католической вере. Некоторые были столь застенчивы, что не поднимали глаз от ковра на полу, но другие — те, что посмелее, — искоса бросали взгляды на кавалеров, выстроившихся вдоль стен. Только одна вышла несгибаемой, серьезной, с вызовом в глазах, смотревших почти враждебно. Это была Розетта. На девушках были пышные тюлевые платья светлых тонов, заказанные во Франции или изготовленные Аделью копии французских моделей, ни в чем не уступавшие оригиналам, простые прически позволяли любоваться прекрасными волосами юных фей, руки и шеи которых были обнажены, а лица казались нетронутыми макияжем. Только женщины могли оценить, скольких трудов и искусства требовал этот невинный вид.
Первых девочек встретило уважительное молчание, но через несколько минут оно взорвалось оглушительными аплодисментами. Те счастливчики, что побывали на балу, на следующий день рассказывали в кафе и тавернах, что никогда до тех пор не приходилось им видеть такую замечательную коллекцию сирен. Когда кандидатки на plaçage проплыли лебедками по гостиной, оркестр сменил фанфары на танцевальную музыку, и белые приступили к своим авансам с невиданным этикетом — ничего похожего на ту рискованную фамильярность и бесцеремонность, которую они демонстрировали по отношению к цветным девушкам на предыдущих балах. Здесь же они приглашали девушку на танец, обменявшись с ней сначала несколькими вежливыми фразами, чтобы прощупать почву. Можно было танцевать с любой девушкой, но молодые люди получили инструкцию, что после второго или третьего танца с одной и той же следует принимать решение. Дуэньи следили за этим зорким орлиным взглядом. И ни один из этих высокомерных молодых людей, привыкших делать все, что заблагорассудится, не посмел нарушить установленные правила. В первый раз в жизни они чего-то опасались.
Морис ни на кого не глядел. Одна только мысль, что девочки эти выставлены напоказ как предложение для утех белых, приводила его в болезненное состояние. Он потел, в висках стучало как молотком. Его интересовала только Розетта. С тех пор как несколько дней назад он сошел по трапу на берег Нового Орлеана, он только и ждал этого бала — чтобы встретиться с ней, как они и договорились в своей секретной переписке, но, так как не виделись они уже очень давно, юноша опасался, что они не узнают друг друга. Однако инстинкт и вскормленная среди каменных стен бостонского колледжа ностальгия позволили Морису с первого взгляда понять, что горделивая девушка в белом, самая красивая в этом зале, — это и есть его Розетта. Когда он наконец смог сдвинуться с места, ее уже окружили три или четыре претендента, которых она внимательно разглядывала, пытаясь угадать того единственного, кого она хотела увидеть. Она тоже с большим нетерпением ждала этого момента. С самого детства она скрывала свою любовь к Морису под покровом двойственности, оберегала ее, маскируя сестринскими чувствами, но теперь уже решила отбросить притворство и открыться. Этот вечер должен был стать моментом истины.
Морис подошел на негнущихся ногах, расчищая себе дорогу, и предстал перед Розеттой. Глаза его горели. Мгновение юноша и девушка смотрели друг на друга, ища того, кого помнили: она — худого, скорого на слезы мальчика с зелеными глазами, который хвостом ходил за ней в детстве, а он — девочку-командиршу, которая потихоньку забиралась в его постель. И вот они встретились на горячем пепле своей памяти и в одну секунду вновь стали сами собой: Морис — без слов ожидает, дрожа, а Розетта — нарушая все нормы, сама берет его за руку и подводит к танцевальной площадке.
Сквозь белые перчатки девушка ощутила необычный жар, исходивший от кожи Мориса. Этот жар пронизал ее от макушки до пят, словно она влезла в печку. Она почувствовала, что у нее слабеют ноги, остановилась и вынуждена была опереться на его руку, чтобы не упасть на колени. Первый вальс они даже не заметили: они не успели ничего сказать друг другу, только касались друг друга и измеряли друг друга взглядами, бесконечно далекие от всех других пар. Музыка умолкла, а они, ничего не замечая, все продолжали кружиться, как глухие, пока музыка не зазвучала вновь и им не удалось попасть в ритм. К тому времени уже несколько человек поглядывали на них с усмешкой, и Виолетта Буазье поняла, что появилось нечто, что представляет угрозу строгому этикету праздника.
С последним аккордом один молодой человек, самый смелый из собравшихся, подошел к ним, чтобы пригласить Розетту на танец. Она этого даже не заметила, все еще не отрываясь от руки Мориса, не отводя взора от его глаз, но мужчина настаивал. Тогда Морис, казалось, очнулся от сомнамбулического транса, быстро повернулся и оттолкнул чужака так неожиданно, что тот пошатнулся и упал на пол. Общий возглас удивления и испуга парализовал музыкантов. Морис пробормотал извинение и протянул упавшему руку, чтобы помочь ему подняться, но оскорбление было слишком очевидным. Два друга молодого человека уже вышли на площадку и встали перед Морисом. Прежде чем хоть кому-то удалось сформулировать вызов на дуэль — а этот способ выяснения отношений был в подобных ситуациях самым обычным, — вмешалась Виолетта Буазье, пытаясь снять напряжение своими шутками и постукиванием веера, а Санчо Гарсиа дель Солар твердо схватил за руку племянника и повел его в столовую, где мужчины постарше уже снимали пробу с лучшего, что было в креольской кухне.
— Что ты творишь, Морис! Ты что, не знаешь, кто эта девушка? — спросил его Санчо.
— Розетта, кто же еще? Я семь лет ждал, чтобы увидеть ее.
— Ты не можешь танцевать с ней! Танцуй с другими, есть несколько очень хорошеньких, и, как только выберешь, я позабочусь обо всем остальном.
— Я пришел сюда только ради Розетты, дядя, — внес ясность Морис.
Санчо глубоко вздохнул, наполнив грудь воздухом, смешанным с сигарным дымом и сладким ароматом цветов. Он не был готов к такому повороту событий и никогда не думал, что именно ему придется открыть Морису глаза, и тем более к тому, что это столь мелодраматическое объяснение произойдет в таком месте и с такой поспешностью. Он догадался об этой страсти еще тогда, когда в первый раз увидел его рядом с Розеттой на Кубе в 1793 году, куда они приехали, спасаясь бегством из горящего Ле-Капа, в рваной одежде и с пеплом в волосах. Тогда они были еще малышами и ходили, держась за руки, напуганные пережитым кошмаром, но уже бросалось в глаза, что они связаны ревнивой и напряженной любовью. Санчо не мог только понять, как этого не замечали все остальные.
— Забудь о Розетте. Она — дочь твоего отца. Розетта твоя сестра, Морис, — выдохнул Санчо, сосредоточенно глядя на носки своих сапог.
— Я это знаю, дядя, — спокойно ответил юноша. — Мы всегда это знали, но это вовсе не помешает нам пожениться.
— Ты, верно, помешался, сынок! Это невозможно!
— Мы еще посмотрим, дядя.
Гортензия Гизо никогда и мечтать не смела, что Небо избавит ее от Мориса без ее собственного прямого вмешательства. Она пестовала свою злобу, задумывая различные способы устранения пасынка, — единственные грезы, которые позволяла себе эта практичная женщина: ничего похожего на то, в чем можно было бы признаться на исповеди, потому что эти гипотетические преступления были всего лишь мечтами, а мечтать — не преступление. Она столько сил потратила на то, чтобы отдалить его от отца и заменить своим собственным сыном, которого так и не смогла родить, что, когда Морис потонул сам, оставив ей полную свободу распоряжаться по своему разумению собственностью мужа, она почувствовала себя слегка разочарованной. Она провела эту бальную ночь на своем королевском ложе, под балдахином с ангелочками, которое так и возили туда и сюда каждый сезон — из городского дома на плантацию и обратно. Ворочаясь с боку на бок в бессоннице, она думала о том, что вот сейчас Морис выбирает себе наложницу, а это верный признак того, что он уже оставил позади отрочество и полностью вступает во взрослую жизнь. Ее пасынок стал мужчиной и, конечно же, начнет заниматься семейным бизнесом, а вместе с этим уменьшится ее власть, потому что ее влияние на него, в отличие от мужа, не распространялось. Больше всего она боялась, что он начнет копаться в бухгалтерских книгах и станет ограничивать ее траты.
Гортензия не могла заснуть до самого рассвета, когда наконец приняла несколько капель опиумной настойки и погрузилась в неспокойный сон, насыщенный скорбными видениями. Проснулась она уже к полудню, разбитая после отвратительно проведенной ночи и дурных предчувствий, и потянулась к шнурку звонка, призывая Денизу — подать ей чистый горшок и чашку шоколада. Ей показалось, что доносятся глухие звуки разговора, и она решила, что это в библиотеке, этажом ниже. Желоб шнура для вызова прислуги проходил через весь дом, сквозь оба этажа и мансарду, и частенько служил ей, чтобы подслушивать то, что происходило в других комнатах. Она приложила ухо к отверстию для желоба и услышала возбужденные голоса, но так как слон расслышать не удавалось, она тихонько вышла из своей спальни. На лестнице она наткнулась на свою рабыню, которая, увидев ее в ночной сорочке и босой, крадущейся подобно вору, вжалась в стенку — невидимая и немая.
Санчо пришел пораньше, чтобы рассказать Тулузу Вальморену о том, что произошло на балу «Синей ленты» и подготовить его, но не нашел способа тактично объявить ему о безрассудном намерении Мориса жениться на Розетте и огорошил его новостью, уложившейся в одну-единственную фразу. «Жениться?» — недоверчиво повторил Вальморен. Это показалось ему просто смешным, и он расхохотался, но, но мере того как Санчо растолковывал ему, насколько велика решимость сына, смех сменялся яростным негодованием. Он налил себе коньяку, третью рюмку за утро, несмотря на запреты Пармантье, и, выпив его одним глотком, поперхнулся и закашлялся.
Вскоре появился Морис. Вальморен был уже на ногах и, размахивая руками и стуча по столу, встретил сына своей обычной канителью, но на этот раз — сопровождаемой воплями. Речь шла о том, что Морис его единственный наследник, что его предназначение — с честью нести титул шевалье и увеличивать вес и состояние семьи, добытые с таким трудом; что он — единственный мужчина, который может продолжить их род и династию, что для этого он и дал сыну образование, вкладывал в него свои принципы и понятие о чести; что он предоставил ему все, что только отец может дать сыну; и поэтому он не позволит своему отпрыску из-за какого-то юношеского порыва запятнать славное имя Вальморенов. Нет, поправился Вальморен, это не порыв, а порок, извращение, не что иное, как кровосмешение! И рухнул в свое кресло, задохнувшись. По ту сторону стены, с прижатым к отверстию ухом, Гортензия Гизо чуть не вскрикнула. Не ожидала она, что муж ее признается перед сыном, что он и есть отец Розетты — факт, который он так старательно скрывал от нее.
— Кровосмешение, месье? Вы сами заставляли меня глотать мыло, когда я называл Розетту сестрой, — привел свой довод Морис.
— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду!
— Я женюсь на Розетте, даже если вы ей отец, — сказал Морис, стараясь выдержать уважительный тон.
— Но как же ты женишься на квартеронке! — протрубил Вальморен.
— По всей видимости, месье, вас больше беспокоит цвет кожи Розетты, чем наше родство. Но если вы зачали дочь с цветной женщиной, вас не должно было бы удивлять, что и я тоже полюбил цветную.
— Наглец!
Санчо пытался успокоить их примирительными жестами. Вальморен понял, что так он ничего не добьется, и постарался говорить спокойно и вразумительно.
— Ты хороший парень, Морис, но слишком впечатлительный и большой мечтатель, — сказал он. — Послать тебя в этот американский колледж было ошибкой. Не знаю, какие такие идеи вложили там тебе в голову, по кажется, что ты не понимаешь, кто ты есть, каковы твое положение и ответственность, которую ты несешь перед семьей и обществом.
— Колледж дал мне довольно широкий взгляд на мир, месье, но это не имеет ничего общего с Розеттой. Мои чувства к ней сейчас такие же, какими они были пятнадцать лет назад.
— Эти порывы обычны в твоем возрасте, сынок. Ничего особенного в твоем случае нет, — уверил его Вальморен. — Никто не женится в восемнадцать лет, Морис. Выберешь себе любовницу, как и каждый юноша в твоем положении. Это тебя успокоит. Если уж есть то, чего с избытком в этом городе, так это красивых мулаток…
— Нет! Розетта для меня — единственная женщина, — перебил его сын.
— Кровосмешение — это очень серьезная вещь, Морис.
— Гораздо более серьезная вещь — рабство.
— А что общего между тем и другим?
— Очень много общего, месье. Без рабства, которое позволило вам бесчестить свою рабыню, Розетта не стала бы моей сестрой, — пояснил Морис.
— Как ты смеешь говорить так с отцом?
— Простите меня, месье, — ответил Морис с иронией. — Ведь верно: те ошибки, что совершили вы, не могут служить оправданием для моих.
— Да у тебя горячка, сынок, — произнес Вальморен с театральным вздохом. — Нет ничего проще и понятнее. Тебе следует сделать то, что все мы делаем в подобных случаях.
— Что же, месье?
— Полагаю, что я не должен тебе этого объяснять, Морис. Переспи наконец с какой-нибудь девицей, а потом забудь. Так это делается. На что еще нужна негритянка?
— Это то, чего вы желаете для своей дочери? — задал вопрос Морис, бледный, сжав зубы. По лицу его стекали капли пота, да и рубашка была влажной.
— Она дочь рабыни! Мои дети — белые! — закричал Вальморен.
Ледяное молчание воцарилось в библиотеке. Санчо попятился, потирая затылок, с чувством, что все потеряно. Тупость его зятя оказалась непоправимой.
— Я женюсь на ней, — повторил наконец Морис и быстро вышел, не обращая внимания на поток угроз, извергаемый отцом.
По правую сторону от Луны
Тете и в голову не пришло являться на бал; впрочем, ее и не приглашали, потому что всем и так было понятно, что это не для людей ее круга: другие матери оскорбились бы, да и дочке было бы неудобно. Она договорилась с Виолеттой, что та выступит в роли дуэньи Розетты. Приготовления к этому вечеру, которые потребовали нескольких месяцев терпения и труда, дали ожидаемые результаты: Розетта выглядела как ангел в своем воздушном платье и с цветками жасмина в волосах. Прежде чем сесть в нанятый для этого случая экипаж, Виолетта, в присутствии соседей, вышедших на улицу выразить свое восхищение аплодисментами, повторила еще раз Тете и Луле, что она намерена получить для Розетты самого лучшего претендента. Никто и представить себе не мог, что уже через час, когда на улице кое-кто из соседей все еще обсуждал событие дня, она вернется назад в ярости, волоча за собой Розетту.
Розетта влетела в дом как смерч, с тем видом упрямого мула, который в этом году сменил ее обычное кокетливое выражение, сорвала с себя платье и закрылась в комнате, не сказав ни слова. Виолетта была в истерике, визжала, что эта девка еще за все заплатит, что она едва не испортила им праздник, что она всех обвела вокруг пальца, заставила ее — Виолетту Буазье — потерять время, труды и деньги, потому что у этой паршивки и в мыслях не было стать содержанкой приличного человека, а бал для нее всего лишь предлог, чтобы встретиться с этим несчастным Морисом. В этом Виолетта попала в самую точку. Розетта и Морис сговорились, причем каким-то необъяснимым образом, ведь девочка никуда не ходила одна. Как она посылала и получала записки — эту тайну она отказалась открыть, несмотря на пощечину, которую влепила ей Виолетта. Все это подтвердило подозрение, которое у Тете было всегда: звезды — z’etoiles — этих детей располагались на небе рядом; иногда по ночам они виднелись очень четко — по правую сторону от Луны.
После сцены в библиотеке отцовского дома Морис решил навсегда порвать все связи с семьей. Санчо удалось немного успокоить Вальморена, а потом он отправился вслед за племянником в свою квартиру, где и нашел его в большом расстройстве и красным от жара. С помощью слуги Санчо раздел его и уложил в кровать, потом заставил выпить чашку горячего рома с сахаром и лимоном — на ходу придуманное средство, которое пришло ему в голову как временное лекарство от мук любви и смогло-таки погрузить Мориса в долгий сон. Санчо велел своему слуге менять Морису влажные компрессы, чтобы сбить температуру, но, несмотря на принятые меры, юноша провел в бреду весь остаток дня и добрую половину ночи.
Когда Морис проснулся на следующее утро, сильного жара у него уже не было. В комнате стоял полумрак, потому что занавеси были задернуты, но он решил не звать слугу, хотя хотелось умыться и выпить чашку кофе. Попытавшись встать за кувшином с водой, он почувствовал, что у него болят все мускулы, как будто он неделю скакал галопом, и решил снова лечь. Скоро пришел Санчо вместе с Пармантье. Доктор, который знал его с детства, не мог не повторить ту избитую мысль, что время утекает быстрее, чем деньги. Где они, все эти годы? Морис вышел в одну дверь в коротких штанишках и вернулся в другую уже мужчиной. Доктор тщательно осмотрел его, так и не поставив диагноза: картина еще не ясна, сказал он, нужно подождать. Он велел молодому человеку отдыхать, чтобы можно было понаблюдать за развитием процесса. На днях ему довелось пользовать двух матросов с тифом в госпитале монахинь. Об эпидемии не может быть и речи, заверил он, это отдельные случаи, но не нужно упускать из виду и эту возможность. Корабельные крысы переносят болезнь, и, может статься, Морис заразился во время путешествия.
— Я уверен, что это не тиф, доктор, — прошептал Морис, смущаясь.
— Что же это в таком случае? — улыбнулся Пармантье.
— Нервы.
— Нервы? — повторил Санчо, забавляясь. — То самое, чем страдают старые девы?
— Этого со мной не было с детства, доктор, но я ведь не забыл, и, верно, вы тоже. Помните Ле-Кап?
Тогда-то Пармантье снова увидел перед собой малыша, каким был Морис в те времена, вне себя от жара, гонимого призраками казненных, которые бродили по дому.
— Надеюсь, что ты прав, — сказал Пармантье. — Твой дядя, дон Санчо, рассказал мне о случившемся на балу и о той перепалке, которая вышла у тебя с отцом.
— Он оскорбил Розетту! Говорил о ней как о проститутке, — сказал Морис.
— Мой зять был вне себя, что понятно, — вмешался Санчо. — Морису ведь приспичило жениться на Розетте. Он собрался бросить вызов не только отцу, но и всему миру.
— Мы только просим оставить нас в покое, дядя, — произнес Морис.
— Никто не оставит вас в покое, потому что, если вы сделаете по-своему, это станет угрозой всему обществу. Представь себе, какой пример вы подадите! Это как дыра в дамбе. Сначала — струйка, а потом — поток, который все смоет на своем пути.
— Мы уедем далеко, туда, где нас никто не знает, — настаивал Морис.
— Куда? Жить вместе с индейцами, покрытыми вонючими шкурами, и жевать вместе с ними кукурузу? Посмотрим, надолго ли вам хватит вашей любви при такой жизни!
— Ты очень молод, Морис, у тебя все жизнь впереди, — привел слабый аргумент доктор.
— Моя жизнь! Кажется, что только о ней все и пекутся! А Розетта? Разве ее жизнь ничего не стоит? Я люблю ее, доктор!
— Я понимаю тебя лучше, чем кто бы то ни было, сынок. Подруга всей моей жизни, мать моих троих детей, — мулатка, — признался ему Пармантье.
— Да, но она не ваша сестра! — воскликнул Санчо.
— Это не важно, — проговорил Морис.
— Объясните ему, доктор, что от таких союзов рождаются неполноценные дети, — настаивал Санчо.
— Не всегда, — пробормотал в задумчивости врач.
У Мориса пересохло во рту, и он снова почувствовал, что тело его пылает. Он закрыл глаза, злясь на себя самого, что он не в состоянии контролировать эту дрожь, без всякого сомнения вызванную его собственным воображением. Дядю он не слушал: в его ушах стоял шум прибоя.
Пармантье прервал череду аргументов Санчо: «Думаю, что есть один способ Морису и Розетте быть вместе, который может устроить всех». Он пояснил, что только очень немногие знают, что они кровные брат и сестра, к тому же это не первый случай, когда образуются такие связи. А сожительство хозяев со своими рабынями порождало самые запутанные отношения, прибавил он. Никто в точности не знает, что творится за закрытыми дверями домашних очагов, а тем более на плантациях. Креолы не придавали большого значения амурным делам между родственниками, если они принадлежали к разным расам — не только между братьями и сестрами, но и между отцами и дочерьми, — до тех пор пока об этом не начинали судачить. А вот белые с белыми — это было нетерпимо.
— К чему вы клоните, доктор? — спросил Морис.
— Plaçage. Подумай об этом, сынок. Ты обеспечишь Розетте то же, что и супруге, и хотя не сможешь жить с ней открыто, но получишь возможность навещать ее когда захочешь. Розетта будет пользоваться уважением в своем окружении. Ты сохранишь свое положение, чем и защитишь ее — с гораздо большей эффективностью, чем если станешь изгоем в обществе и к тому же бедняком, что неизбежно, если ты будешь настаивать на женитьбе.
— Блестящая идея, доктор! — воскликнул Санчо, прежде чем Морис успел открыть рот. — Теперь бы еще Тулуз Вальморен пошел на это.
В последующие дни, пока Морис сражался с болезнью, оказавшейся все же не чем иным, как тифом, Санчо пытался убедить зятя в преимуществах plaçage для Мориса и Розетты. Если и раньше Вальморен соглашался финансировать расходы на незнакомую девушку, не было никакого резона отказывать в этом, когда речь зашла о той единственной девушке, которую желал Морис. До этого момента Вальморен слушал его повесив голову, но внимательно.
— Кроме того, она была воспитана в лоне семьи, и тебе известно, что она добропорядочна, вежлива и хорошо воспитана, — прибавил Санчо, но, едва произнес эти слова, понял свою ошибку: напомнить о том, что Розетта была его дочкой, — это словно вонзить в Вальморена шип.
— Я скорее предпочту увидеть Мориса мертвым, чем сожительствующим с этой проституткой! — вскричал он.
Испанец машинально перекрестился: это было искушением дьявола.
— Не слушай меня, Санчо, вырвалось, я не подумал, — прошептал Вальморен, тоже содрогнувшись от суеверного ужаса.
— Успокойся, зять. Дети всегда восстают, это в порядке вещей, но рано или поздно они входят в разум, — сказал Санчо, наливая себе рюмку коньяка. — Твоя позиция лишь усугубляет упрямство Мориса. А добьешься ты того, что оттолкнешь его от себя.
— От этого пострадает только он!
— Подумай хорошенько. Пострадаешь и ты. Ты уже не молод и не очень здоров. Кто станет твоей опорой в старости? Кто будет управлять плантацией и твоими делами, когда ты уже не сможешь этим заниматься? Кто позаботится о Гортензии и девочках?
— Ты.
— Я? — Санчо весело расхохотался. — Я всего лишь шут, Тулуз! Ты можешь представить меня опорой и хранителем семьи? Да не попустит этого Господь!
— Если Морис предаст меня, тебе придется помочь мне, Санчо. Ты мой компаньон и мой единственный друг.
— Ради бога, не пугай меня.
— Я думаю, что ты прав: мне не следует открыто бороться с Морисом, нужно действовать более изворотливо. Парню нужно остыть, подумать о будущем, поразвлечься, как это и положено в его возрасте, познакомиться с другими женщинами. Эта плутовка должна исчезнуть.
— Как? — поинтересовался Санчо.
— Есть разные способы.
— Это какие?
— Например, предложить ей большие деньги, чтобы уехала отсюда подальше и оставила в покое моего сына. За деньги можно купить все, Санчо, ну а если не сработает… ладно, примем другие меры.
— На меня в таких делах не рассчитывай! — воскликнул встревоженный Санчо. — Морис никогда мне этого не простит.
— А ему и не нужно об этом знать.
— Я ему скажу. И именно потому, что я люблю тебя, Тулуз, как брата, я не позволю, чтобы ты совершил подобное злодейство. Будешь потом всю жизнь раскаиваться, — отозвался Санчо.
— Да не вставай ты в позу, дружище! Я шучу. Ты же знаешь, что я и мухи не способен обидеть.
Смех Вальморена прозвучал собачьим лаем. Санчо откланялся, растревоженный, а Вальморен остался размышлять о plaçage. Это выглядело как самое логичное решение, но способствовать сожительству брата и сестры было весьма опасно. Если об этом станет известно, его честь будет запятнана раз и навсегда и от Вальморенов все отвернутся. С каким лицом станет он появляться в обществе? Ему нужно думать о будущем своих пяти дочек, своем деле и положении в обществе, как совершенно отчетливо растолковала ему Гортензия. Он и не подозревал, что не кто иной, как Гортензия, уже позаботилась распустить эти слухи. Встав перед выбором: заботиться о чести своей семьи, первой заботе любой дамы-креолки, или погубить доброе имя своего пасынка, — она поддалась искушению избрать второе. Если бы это зависело от нее, она сама бы женила Мориса на Розетте с одной-единственной целью — сокрушить его. Ей не подходил plaçage, который предлагал Санчо, потому что, как только все успокоятся, как это всегда и бывает через какое-то время, Морис сможет воспользоваться своими правами первенца, и никто не вспомнит о его промахе. Память у людей короткая. Единственным действенным решением проблемы было добиться того, чтобы от него отказался отец. «Он желает жениться на квартеронке? Прекрасно. Пусть женится и живет с неграми, как и положено» — так сказала она своим сестрам и подругам, которые, в свою очередь, позаботились о том, чтобы разнести эти слова.
Влюбленные
Тете и Розетта покинули желтый дом на улице Шартре на следующий день после происшествия на балу «Синей ленты». Виолетта Буазье вскоре отошла от своего приступа ярости и простила Розетту, потому что перипетии запретной любви всегда трогали ее сердце; но все же она почувствовала облегчение, когда Тете объявила, что больше не желает злоупотреблять ее гостеприимством. Лучше будет установить между ними некую дистанцию, подумала она. Тете увела дочку в пансион, в котором жил когда-то учитель Мориса Гаспар Северен, на то время, пока не закончатся приготовления в маленьком доме, который купил Захария в двух кварталах от дома Адели. Та, как всегда, продолжала работать вместе с Виолеттой, и Тете определила Розетту в помощницы к Адели — девочке пришло время самой зарабатывать на жизнь. Она оказалась бессильна перед вырвавшимся на свободу ураганом: чувствовала безграничную жалость к дочке, но не могла приблизиться, чтобы ей помочь, потому что та закрылась, как моллюск в раковине. Розетта ни с кем не разговаривала, шила, угрюмо молча, и с упорством гранита ждала Мориса, слепая к чужому любопытству и глухая к советам тех женщин, что ее окружали, — своей матери, Виолетты, Лулы, Адели и дюжины посвященных в дело соседок.
Тете стало известно о противостоянии Мориса и Тулуза Вальморенов от Адели, которой об этом поведал Пармантье, и от Санчо, который посетил их в пансионе с кратким визитом, чтобы принести новости о Морисе. Он сказал, что молодой человек очень слаб после перенесенного тифа, но он вне опасности и хочет как можно скорее повидаться с Розеттой. «Он просил меня быть посредником, просить, чтобы ты приняла его, Тете», — прибавил он. «Морис — мой сын, дон Санчо, ему нет нужды обращаться ко мне через посредника. Я жду его», — ответила она. Они могли говорить свободно, пользуясь тем, что Розетта вышла отнести шитье. До этого разговора Санчо и Тете не виделись уже несколько недель, потому что Санчо стал обходить этот квартал стороной. Он не решался появляться поблизости от Виолетты Буазье с тех пор, как она застала его с Ади Супир, той самой взбалмошной девицей, в которую он когда-то был влюблен. Виолетта не верила его клятвенным заверениям, что он всего лишь случайно встретился с ней на Оружейной площади и пригласил ее на невинную рюмочку хереса, только и всего. Что в этом плохого? Но Виолетта не желала сражаться за пустое сердце этого испанца ни с единой соперницей, тем более с той, что была моложе ее в два раза.
По словам Санчо, Тулуз Вальморен потребовал, чтобы сын явился поговорить с ним, как только встанет на ноги. Морис собрался с силами, оделся и явился в дом своего отца, потому что не хотел откладывать развязку. Пока не решится его судьба, он не волен появиться перед Розеттой. Увидев, что сын весь желтый, а одежда висит на нем как на вешалке — за время болезни Морис сильно похудел, — Вальморен испугался. Старинный страх, что смерть отнимет у него сына, — страх, что столько раз подступал к нему, когда Морис был маленьким, — снова проник в его душу. Науськанный Гортензией Гизо, он приготовился применить свою отцовскую власть, но вдруг понял, что слишком любит сына: все что угодно, но только не ругаться с ним. В мгновенном порыве он принял решение о plaçage, которому раньше сопротивлялся из гордости и следуя советам жены. Он вдруг ясно увидел, что это был единственный выход. «Я окажу тебе всю необходимую помощь, сынок. У тебя будет достаточно средств, чтобы купить дом этой девушке и содержать ее как положено. Я буду молиться, чтобы не вышел скандал и чтобы Господь вас простил. Прошу тебя об одном: никогда не упоминай ее имени в моем присутствии, а также в присутствии твоей матери», — заявил ему Вальморен.
Реакция Мориса была совсем не той, которой ожидали его отца и Санчо, также присутствовавший в библиотеке. Он ответил, что благодарит за предложенную помощь, но не этой участи он желает. Он не собирается жить, подчиняясь лицемерию этого общества и подвергая Розетту несправедливости plaçage, в котором она будет как в клетке, в то время как он останется полностью свободным. К тому же это станет его позорным пятном и воспрепятствует политической карьере, которой он думает себя посвятить. Он сказал, что вернется в Бостон, чтобы жить среди более цивилизованных людей, что будет изучать юриспруденцию, а потом, с помощью конгресса и прессы, попытается изменить конституцию, законы и, наконец, обычаи, и не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
— О чем ты говоришь, Морис? — прервал его речь отец, уверенный в том, что к сыну вернулся тифозный бред.
— Об аболиционизме, месье. Я посвящу свою жизнь борьбе с рабством, — твердо ответил Морис.
Этот удар бил по Вальморену в тысячу раз сильнее, чем вопрос с Розеттой, — это была прямая атака на интересы его семьи. Его сын был еще более ненормальным, чем он себе представлял, он замахнулся на не что иное, как на низвержение основ цивилизации и состояния Вальморенов. Аболиционистов вываливали в перьях и вешали, чего они и заслуживали. Это были фанатичные безумцы, которые осмеливались бросить вызов обществу, истории, даже самому Слову Божьему, потому что рабство появляется еще в Библии. Аболиционист в его собственной семье? О таком и помыслить невозможно! Он прокричал свою речь на одном дыхании и закончил угрозой лишить сына наследства.
— Сделайте это, месье, потому что если бы я унаследовал вашу собственность, то первое, что я сделал бы, — это отпустил бы на волю рабов и продал плантацию, — ответил Морис не моргнув глазом.
Юноша поднялся, опираясь на спинку стула, потому что голова у него слегка кружилась, распрощался легким поклоном и вышел из библиотеки, стараясь скрыть дрожь в ногах. Отцовские оскорбления неслись ему вслед до самой улицы.
Вальморен потерял над собой контроль, ярость превратила его в настоящий смерч: он проклял сына, провизжал, что тот для него умер и не получит ни сантима из его состояния. «Я запрещаю тебе переступать порог этого дома и носить фамилию Вальморен! Ты уже не принадлежишь к этой семье!» Продолжить он не смог, потому что рухнул на пол, зацепив молочного стекла лампу, и она вдребезги разбилась о стену. На его крики прибежала Гортензия и несколько слуг. Они нашли его посиневшим, с закатившимися глазами, а рядом с ним на коленях стоял Санчо, который пытался ослабить ему галстук, затерянный в жирных складках двойного подбородка.
Кровная связь
Часом позже Морис без всякого предупреждения появился в пансионе Тете. Она не видела его семь лет, но этот высокий и серьезный молодой человек с растрепанной прической и в круглых очках показался ей точно тем же ребенком, которого она вырастила. Мориса отличала та же напряженность и нежность, как и в детстве. Они слились в долгом объятии: она все повторяла его имя, а он шептал maman, maman — когда-то запретное слово. Это происходило в пыльной гостиной пансиона, где дарил вечный полумрак. Скудный свет, пробивавшийся сквозь жалюзи, позволял различить ломаную мебель, драный ковер и пожелтевшие обои на стенах.
Розетта, которая так ждала Мориса, даже не поздоровалась с ним, оглушенная счастьем и сбитая с толку его изможденным видом: он был совсем не похож на статного молодого человека, с которым она танцевала две недели назад. Потеряв дар речи, она наблюдала за сценой, словно этот нежданный визит не имел к ней никакого отношения.
— Мы с Розеттой всегда любили друг друга, maman, вы это знаете. С самого раннего детства мы только и говорили о том, что поженимся, вы помните? — сказал Морис.
— Да, сын, я помню. Но ведь это грех.
— Ни разу не приходилось мне слышать от вас этого слова. Разве вы стали католичкой?
— Со мной всегда были мои лоа, Морис, но и мессы отца Антуана я тоже хожу слушать.
— Как может быть грехом любовь? Ее вложил в нас Господь. Мы любили друг друга еще до рождения. И не мы виноваты в том, что у нас один отец. Это не наш грех, а его.
— Бывают последствия… — прошептала Тете.
— Я знаю это. Все вознамерились напомнить мне, что у нас могут родиться ненормальные дети. Но мы согласны на этот риск, правда, Розетта?
Девушка не ответила. Морис подошел и положил ей на плечи руку, беря ее под защиту.
— И что с вами будет? — печально спросила Тете.
— Мы свободны и молоды. Поедем в Бостон, а если там нам будет плохо, в какое-нибудь другое место. Америка — большая страна.
— А цвет кожи? Нигде вас не примут. Говорят, что в свободных штатах ненависть еще сильнее, потому что белые и черные не живут вместе и не смешиваются.
— Верно, но это будет меняться, я тебе обещаю. Много людей работает над тем, чтобы уничтожить рабство: философы, политики, священники — все, у кого есть хоть немного порядочности…
— Я не доживу до этого, Морис. Но я знаю, что, даже если негров освободят, равенства не получится.
— Когда-нибудь и оно придет, maman. Это как снежный ком: покатившись, он растет, разгоняется, и тогда уже ничто не способно остановить его. Так и происходят великие изменения в истории.
— Кто тебе сказал об этом, сынок? — спросила Тете, не очень хорошо представлявшая себе, что такое снег.
— Мой профессор, Харрисон Кобб.
Тете поняла, что спорить с ним бесполезно, так как карты были брошены пятнадцать лет назад, когда он в первый раз наклонился поцеловать личико новорожденной девочки — Розетты.
— Не волнуйтесь, мы справимся, — прибавил Морис. — Но нам нужно ваше благословение, maman. Мы не хотели бы сбежать, как воры.
— Мое благословение с вами, дети, но его недостаточно. Пойдемте спросим совета у отца Антуана, он хорошо разбирается в делах и этого мира, и того, — подвела итог Тете.
И они отправились сквозь февральский ветер к домику капуцина, который только что закончил свой первый за день благотворительный поход и прилег отдохнуть. Он принял их безо всякого удивления, потому что ждал с тех самых пор, как до него стали доходить разговоры о том, что наследник состояния Вальморенов задумал жениться на мулатке. А так как он всегда знал обо всем, что происходит в городе, его верные прихожане полагали, что сам Святой Дух нашептывает ему новости. Он угостил их своим вином для причастия, густым, как лак.
— Мы хотим пожениться, mon pére, — объявил Морис.
— Но ведь существует такая маленькая деталь, как раса, не так ли? — улыбнулся монах.
— Мы знаем закон… — продолжил Морис.
— Вы совершили плотский грех? — прервал его отец Антуан.
— Как вы можете этому верить, mon pére? Даю вам слово кабальеро, что девственность Розетты и моя честь нетронуты, — смущенно проговорил Морис.
— Какая жалость, дети мои! Если бы Розетта лишилась своей девственности, а ты желал бы возместить причиненный ущерб, я был бы просто обязан поженить вас, чтобы спасти ваши души, — пояснил им святой.
Тогда подала голос Розетта — в первый раз с ночи бала «Синей ленты».
— Это будет исправлено сегодня же ночью, mon pére. Считайте, что это уже случилось. А теперь, пожалуйста, спасите наши души, — сказала она, покраснев, самым решительным тоном.
Святой обладал замечательной гибкостью, позволявшей ему обходить те правила, которые он считал неудобными. С той же детской дерзостью, с которой он бросал вызов Церкви, обходился он и с законом, но до сего момента ни одна власть — ни религиозная, ни светская — не рискнула призвать его к ответу. Он вынул из ящика бритвенный нож, смочил лезвие в стакане с вином и велел влюбленным поднять рукава и протянуть ему одну руку. Не колеблясь он сделал надрез на запястье Мориса, да так ловко, словно совершал эту операцию не единожды. Морис охнул и стал зализывать порез, а тем временем Розетта протягивала свою руку, сжав губы и закрыв глаза. Потом монах соединил их руки, нанеся кровь Розетты на ранку Мориса.
— Кровь всегда красная, как видите, но если кто-то будет спрашивать, то теперь ты сможешь сказать, что у тебя она черная, Морис. Таким образом, свадьба будет законной, — пояснил монах, отирая бритву рукавом, а Тете уже рвала свой платок, чтобы перевязать им запястья.
— Пошли в церковь. Там мы попросим сестру Люси, чтобы она выступила свидетелем этого бракосочетания, — сказал отец Антуан.
— Минуточку, mon pére, — остановила его Тете. — Мы еще не решили одну проблему — то, что эти двое наполовину брат и сестра.
— Да что ты говоришь, дочь моя! — воскликнул святой.
— Вы знаете историю Розетты, mon pére. Я рассказывала вам, что месье Тулуз Вальморен — ее отец, и также вам известно, что он же — отец Мориса.
— Я забыл. Меня подвела память. — Отец Антуан рухнул на стул, совсем убитый. — Я не могу поженить этих детей, Тете. Одно дело — обойти законы людей, которые часто абсурдны, но совсем другое — ослушаться Божьего закона…
Они, понурив голову, вышли из домика отца Антуана. Розетта едва сдерживала слезы, а Морис, расстроенный, поддерживал ее за талию. «Как бы я хотел помочь вам, дети мои! Но не в моей власти сделать это. Никто не может поженить вас на этой земле» — таким было грустное прощание святого. Пока безутешные влюбленные едва передвигали ноги, Тете шла в двух шагах позади них, размышляя над тем ударением, с которым отец Антуан произнес последнее слово. Может, ничего и не было, просто ее ввел в заблуждение тот галопирующий акцент, с которым этот испанец говорил по-французски. Но фраза все-таки казалась ей непростой, и она вновь и вновь слышала ее, как отзвук ударов своих босых пяток по брусчатке площади, пока от такого количества повторений вдруг не поняла ее тайный смысл. Она повернулась и направилась к казино «У Флёр».
Они шли почти час и когда приблизились к скромной двери игорного дома, то увидели целую вереницу грузчиков с мешками провизии, за которыми наблюдала Флёр Ирондель, записывавшая каждый тюк в свою бухгалтерскую книгу. Женщина ласково, как всегда, встретила их, но не могла ими заняться и показала жестом, чтобы проходили в гостиную. Морис понял, что это место с довольно сомнительной репутацией, и ему показалось очень странным, что его maman, всегда столь озабоченная приличиями, ведет себя там как у себя дома. В этот час, при жестоком дневном свете, со своими пустыми столами, в отсутствие клиентов, кокоток и музыкантов, без дыма, шума, запахов духов и ликеров, гостиная выглядела бедным театром.
— И что мы здесь делаем? — спросил Морис похоронным тоном.
— Ждем, когда переменится наша судьба, сынок, — сказала Тете.
Несколько секунд спустя появился Захария, в рабочей одежде и с грязными руками, — визит застал его врасплох. Он уже не был красавцем, как раньше, теперь его лицо походило на карнавальную маску. Таким он стал после нападения. Дело было ночью, его били, ничего не опасаясь; и увидеть тех, кто навалился на него и начал дубасить железными палками, ему не удалось, но по тому, что у него не взяли ни денег, ни трости с мраморным набалдашником, он узнал, что это были не бандиты из Эль-Пантано. Тете его не раз предупреждала, что его слишком элегантная фигура и швыряние деньгами обижало кое-каких белых. Все же его вовремя обнаружили в сточной канаве, с изломанными костями и полностью разбитым лицом. Доктор Пармантье собрал его так бережно, что смог поставить на место все кости и спасти ему один глаз, а Тете кормила его протертой пищей из рожка, пока он снова не смог жевать. Это несчастье не изменило его триумфаторского поведения, но он стал осторожнее и теперь всегда ходил с оружием.
— Что вам предложить? Ром? Фруктовый сок для девочки? — улыбнулся Захария своей новой улыбкой, со скошенной на сторону челюстью.
— Капитан — он ведь как король, может делать на своем корабле все, что захочет, даже кого-нибудь повесить. Верно? — обратилась к нему с вопросом Тете.
— Только когда он в открытом море, — уточнил Захария, вытирая руки тряпкой.
— Ты знаешь какого-нибудь капитана?
— Нескольких. Далеко ходить не надо, мы с Флёр Ирондель имеем дела с Ромейро Толедано, это португалец, у него есть шхуна.
— Какого рода дела, Захария?
— Ну, скажем, связанные с импортом и перевозками.
— Ты никогда мне не говорил об этом самом Толедано. Он надежный человек, можно ему доверять?
— Смотря для чего. В одних делах — да, в других — нет.
— Где я могу с ним побеседовать?
— Сейчас его шхуна стоит в порту. К тому же он точно придет сегодня сюда пропустить пару рюмок и сыграть одну-другую партию. А чего ты от него хочешь, подруга?
— Мне нужен капитан, который поженит Мориса и Розетту, — заявила ему Тете под изумленными взглядами двух нар глаз.
— И ты просишь об этом меня, Зарите?
— Да. Никто, кроме тебя, этого не сделает, Захария. И это должно быть прямо сейчас, потому что послезавтра Морис садится на корабль и плывет в Бостон.
— Шхуна в порту, а там распоряжаются береговые власти.
— А ты можешь попросить Толедано, чтобы он снялся с якоря, отошел на несколько миль от берега и там поженил бы этих детей?
Вот так, через четыре часа на борту повидавшей виды шхуны, ходившей под испанским флагом, капитан Ромейро Толедано, неказистый человечек, ростом меньше семи пядей, компенсировавший унизительно малый размер своего тела покрывавшей все лицо черной бородой, из которой едва выглядывали глаза, сочетал браком Розетту Седелью и Мориса. Свидетелями были Захария, уже в парадном костюме, но еще с грязными ногтями, и Флёр Ирондель, надевшая ради такого случая шелковый камзол и ожерелье из медвежьих клыков. Пока Зарите утирала слезы, Морис снял с себя золотой медальон своей матери, который всегда был на нем, и надел его на шею Розетты. Флёр Ирондель раздала всем бокалы с шампанским, и Захария провозгласил тост за «эту пару, которая являет собой символ будущего, когда все расы смешаются и все люди станут свободными и равными перед законом». Морис, который не раз слышал эти слова из уст профессора Кобба и после тифа сделался весьма сентиментальным, разразился долгим и глубоким рыданием.
Две ночи любви
За неимением другого места молодожены провели свой единственный день вместе и две ночи любви в тесной каюте шхуны Ромейро Толедано, даже не подозревая, что в каморке-тайнике под полом сидел беглый раб, который мог их слышать. Это судно было первым этапом на рискованном пути к свободе для многих беглецов. Захария и Флёр Ирондель полагали, что рабству скоро придет конец, а между тем помогали тем наиболее отчаявшимся, кто больше не мог ждать.
В свою первую брачную ночь Морис и Розетта любили друг друга на узкой дощатой койке, покачиваемые течениями дельты, в красноватом свете, проникавшем сквозь потрепанную занавеску из красного плюша, что прикрывала иллюминатор. Сначала они лишь неуверенно, застенчиво прикасались друг к другу, хотя выросли вместе, изучая друг друга, и не было в их душах ни одного уголка, который был бы недоступен для другого. Они изменились, и теперь вновь приходилось учиться взаимному познанию. Оказавшись перед таким чудом, как Розетта в его объятиях, Морис позабыл даже то немногое, чему научился, кувыркаясь с Жизелью, обманщицей из Саванны. Он дрожал. «Это из-за тифа», — сказал он, извиняясь. Тронутая этой нежной неуклюжестью, Розетта сама начала раздеваться — не торопясь, как научила ее Виолетта Буазье на своих частных уроках. Подумав об этом, она фыркнула от смеха и расхохоталась, а Морис принял это на свой счет — подумал, что Розетта смеется над ним.
— Не будь идиотом, Морис, ну как я могу над тобой смеяться? — ответила она, утирая выступившие от хохота слезы. — Я вспомнила об уроках любви, которые мадам Виолетта вздумала преподносить своим ученицам plaçage.
— Неужто она давала такие уроки?!
— Разумеется. Или ты все еще думаешь, что обольщение — это импровизация?
— А maman об этом знает?
— В деталях — нет.
— Ну и чему их обучала эта женщина?
— Мало чему, потому что в конце концов мадам пришлось отказаться от практических занятий. Лула убедила ее в том, что матери этого не потерпят и бал полетит к черту. Но свой метод она опробовала на мне. В дело пошли бананы и огурцы, чтоб все мне объяснить.
— Объяснить тебе что? — спросил Морис, который уже развеселился.
— Какие вы есть, мужчины, и как легко вами манипулировать, потому что все, что у вас есть, — снаружи. Надо ж ей было как-то мне показать, как ты думаешь? Я же никогда не видела голого мужчину, Морис. Ну, если не считать тебя, но тогда ты был совсем маленьким.
— Положим, я с тех пор несколько изменился, — улыбнулся он. — Но тебе не стоит ожидать бананов или огурцов. Это было бы слишком оптимистичным.
— Не стоит? Дай-ка я взгляну.
Раб в своем тайнике очень пожалел, что между досками пола каюты не было ни щелки, к которой можно было бы приникнуть глазом. За смехом последовала тишина, и она показалась ему чрезмерной. Что, интересно, делают там эти двое, да так тихо? Он и представить себе ничего не мог, потому что по его собственному опыту любовь была чем-то весьма шумным. Когда бородатый капитан открыл люк, чтобы, пользуясь ночной тьмой, беглец вышел поесть и размять кости, пленник чуть было не отказался выходить, решив, что можно и еще подождать, лишь бы услышать, что будет дальше.
Ромейро Толедано предвидел, что новобрачные, в соответствии с преобладающим обычаем, уединятся в каюте, и, выполняя распоряжения Захарии, принес им кофе и пончики, которые скромно оставил под дверью. При обычных обстоятельствах Розетта и Морис провели бы взаперти не меньше трех дней, но таким временем они не располагали. Позже добряк-капитан принес им и поднос с деликатесами с Французского рынка, которые прислала ему Тете: креветки, сыр, свежий хлеб, фрукты, сладости и бутылку вина, и все это вскоре было затащено в каюту на секунду высунувшимися руками.
В те короткие часы этого единственного дня и двух ночей, которые Розетта и Морис провели вместе, они любили друг друга с нежностью, связывавшей их с детства, и со страстью, воспламенявшей их теперь, переходя от одного изобретения к другому в старании доставить друг другу наслаждение. Они были очень молоды, были влюблены друг в друга всю свою жизнь, а кроме того, действовал и еще один стимул — им предстояло расстаться, так что наставления Виолетты Буазье им не понадобились. В недолгие паузы между занятиями любовью у них оставалось время и поговорить, неизменно обнявшись, о некоторых нерешенных вещах, спланировать свое ближайшее будущее. Они были готовы вынести грядущую разлуку только потому, что были уверены, что скоро снова будут вместе, — вот только Морис получит работу и найдет место, куда он сможет привести Розетту, и они будут жить долго и счастливо.
Забрезжил рассвет второго дня, и они оделись, в последний раз поцеловались и вышли на заранее запланированную встречу с миром. Шхуна вновь снялась с якоря. В порту их встречали Захария, Тете и Санчо, который привез сундук с вещами Мориса. Дядя вручил ему также четыреста долларов, которые, как он хвастливо заявил, он за одну ночь выиграл в карты. Молодой человек купил билет уже на свое новое имя — Морис Солар. Он взял себе одну из двух фамилий матери, которую произносил к тому же на английский манер — с ударением на первом слоге. Это немного обидело Санчо, который очень гордился звучным именем Гарсиа дель Солар, произносимым так, как положено.
Розетта осталась на берегу. Она была совершенно убита горем, но изо всех сил старалась принять спокойный вид девушки, имеющей в своей жизни все, о чем только могла бы мечтать. А Морис махал ей руками с палубы быстроходного клипера, который должен доставить его в Бостон.
Чистилище
Вальморен одним махом потерял и сына, и здоровье. В тот самый момент, когда Морис вышел из отцовского дома, чтобы больше никогда туда не возвращаться, внутри у него что-то взорвалось. Когда Санчо вместе с подоспевшими слугами смог его поднять, они поняли, что половина его тела мертва. Доктор Пармантье установил, что у Вальморена отказало не сердце, чего все так опасались, а произошло кровоизлияние в мозг. Больной был почти полностью парализован, у него текли слюни, и он полностью утратил контроль над сфинктерами. «Со временем и при некотором везении вы сможете почти восстановиться, мой друг, но никогда не станете прежним», — сказал своему пациенту Пармантье. И добавил, что знает пациентов, которые прожили много лет после такого удара. Знаками Вальморен показал ему, что хочет поговорить с ним наедине, и Гортензия Гизо, которая следила за ним, как гриф, вынуждена была выйти из комнаты и закрыть дверь. Его бормотание было практически нечленораздельным, но Пармантье удалось понять, что он больше боялся жены, чем своей болезни. Гортензия могла попытаться ускорить его кончину, потому как, без всякого сомнения, предпочла бы перспективу остаться вдовой, чем ухаживать за инвалидом, который мочится в штаны. «Не беспокойтесь, это я улажу в трех словах», — успокоил его Пармантье.
Врач дал Гортензии Гизо лекарства и необходимые инструкции по уходу за больным и посоветовал раздобыть хорошую сиделку, поскольку восстановление ее мужа в значительной степени зависело от того, как за ним будут ухаживать. Не следовало ни перечить ему, ни беспокоить: требовался полный покой. Прощаясь, он задержал ее руку в своих, изображая отеческое сочувствие. «Я очень надеюсь, что ваш супруг выкарабкается из этой неприятности, мадам, поскольку не думаю, что Морис будет готов его заменить», — сказал он. И напомнил ей, что Вальморен не успел внести изменения в свое завещание и Морис продолжает быть законным наследником всего состояния семьи.
Через несколько дней посыльный вручил Тете записку от Вальморена. Она не стала ждать Розетту, чтобы та прочла ей текст, а прямиком отправилась к отцу Антуану. Все исходящее от бывшего хозяина сводило Тете желудок судорогой. Она предположила, что Вальморен уже узнал о поспешной свадьбе и отъезде сына — весь город уже говорил об этом — и что его ярость окажется направленной не столько на Мориса, с которого сплетники уже сняли всякую ответственность, объявив его жертвой черной колдуньи, сколько на Розетту. Это она окажется виновной в том, что династия Вальморенов осталась без продолжения и теперь бесславно угаснет. После смерти патриарха все состояние перейдет в руки семейства Гизо, и фамилия Вальморен останется только на надгробной плите, потому что дочки не смогут передать ее своим детям. Было немало причин бояться мести Вальморена, но эта мысль не приходила в голову Тете, пока Санчо не сказал ей, что ей нужно присматривать за Розеттой и не следует пускать ее на улицу одну. О чем он хотел ее предупредить? Дочь ее проводила день у Адели, занимаясь шитьем своего скромного приданого и написанием писем Морису. Там Розетта была в безопасности, и Тете сама приходила забирать дочь по вечерам, но при всем при этом сердце у нее сжималось и она всегда была настороже: длинные руки ее бывшего господина могли дотянуться далеко.
Записка, которую она получила, содержала всего две строки, написанные рукой Гортензии Гизо. Речь шла о том, что Вальморен хочет переговорить с Тете.
— Должно быть, дорогого стоило этой гордой даме позвать тебя, — прокомментировал монах.
— Я бы не хотела переступать порог этого дома, mon pére.
— Ты ничего не потеряешь, если сходишь послушать. Это будет самое великодушное, что ты сможешь сделать в этой ситуации, Тете.
— Вы всегда говорите одно и то же, — вздохнула она, смиряясь.
Отец Антуан знал, что больной был в ужасе перед вселенским молчанием и безвозвратным одиночеством склепа. Вальморен потерял веру в Бога в тринадцать лет и с тех пор похвалялся своим практическим рационализмом, места в котором фантазиям по поводу загробного мира не оставалось, но, оказавшись одной ногой в могиле, он обратился к религии своего детства. Откликнувшись на призыв больного, капуцин пришел, чтобы его соборовать. На исповеди, что просачивалась сквозь икоту из скособоченного рта, Вальморен признался, что присвоил себе деньги Лакруа, — в том единственном грехе, который казался ему имеющим значение. «Расскажите мне о своих рабах», — строго потребовал священник. «Я каюсь в своей слабости, mon pére, поскольку в Сан-Доминго мне порой не удавалось остановить своего главного надсмотрщика, когда он перегибал палку с наказаниями, но я не могу покаяться в жестокости. Я всегда был очень мягким хозяином». Отец Антуан отпустил ему грехи и пообещал молиться за его здоровье в обмен на щедрые пожертвования для его нищих и сирот, потому что только благотворительность способна смягчить взор Божий, как он объяснил больному. После этого первого визита Вальморен желал исповедоваться постоянно — чтобы смерть не застала его неподготовленным, но святой не имел ни времени, ни терпения, чтобы слушать запоздалые угрызения совести, и согласился только на то, что будет присылать к нему другого священника с причастием два раза в неделю.
Дом Вальморена приобрел запах болезни, который невозможно спутать ни с чем другим. Тете вошла через дверь для прислуги, и Дениза провела ее в гостиную, где стояла и ждала ее Гортензия Гизо, с кругами под глазами и грязными волосами, — скорее злая, чем усталая. Ей было тридцать восемь, но выглядела она на все пятьдесят. Здесь же Тете увидела и четырех из пяти девочек: все были так похожи друг на друга, что она не смогла отличить тех, которых знала. В нескольких словах, процеженных сквозь зубы, Гортензия велела ей подняться в комнату мужа. А сама осталась переживать эту трагедию — вновь увидеть в своем доме эту несчастную, эту мерзавку, которой удалось добиться своего и бросить вызов не кому-нибудь, а Вальморенам, Гизо, всему обществу. Подлая рабыня! Гортензия не могла понять, как случилось, что концы этой истории выскользнули из ее рук. Если бы муж прислушался к ней, они бы продали эту тварь Розетту в семь лет, и ничего этого никогда бы не случилось. Во всем виноват упрямец Тулуз, который не смог правильно воспитать своего сына и не обращался с рабами так, как положено. Конечно, он же эмигрант! Понаехали сюда и думают, что могут отмахиваться от наших обычаев! Подумать только, дать свободу этой черной и ее дочке! Ничего подобного никогда в жизни не могло бы случиться с Гизо, в этом она может поклясться.
Тете нашла больного утопающим в подушках, с неузнаваемым лицом землистого цвета, слезящимися глазами, растрепанными прядями волос и привязанной к груди рукой. Удар вызвал в Вальморене такую необыкновенную интуицию, что она граничила с ясновидением. Сам он думал, что у него проснулась спавшая до тех пор часть мозга, потому что другая его часть — та, которая раньше подсчитывала выгоду от продажи сахара или двигала костяшки домино, — теперь не работала. При помощи этого нового видения он угадывал мотивы и намерения других людей, в особенности своей жены, которой уже не удавалось так легко манипулировать им, как раньше. Мысли и чувства — и его собственные, и чужие — приобрели вдруг кристальную прозрачность, и в некоторые особые мгновенья ему казалось, что он проникает сквозь густую пелену настоящего и удаляется, к собственному ужасу, в будущее. Это будущее было тем чистилищем, где ему суждено было вечно расплачиваться за грехи, о которых он позабыл или, что также возможно, которых не совершал никогда. «Молитесь, молитесь, сын мой, и совершайте добрые дела», — посоветовал ему в тот раз отец Антуан и повторял ему другой монах, что приходил причащать его по вторникам и пятницам.
Больной каким-то ворчанием отослал рабыню, которая находилась подле него. По углам рта у него стекала слюна, но настоять на своем он мог. Когда Тете подошла ближе, чтобы расслышать, потому что не понимала, что он говорит, он схватил ее за руку и заставил сесть на край своей постели. Беззащитным стариком он не был — и все еще мог внушать страх. «Ты останешься здесь и будешь за мной ухаживать», — потребовал он. Эти слова были последними, которые ожидала услышать Тете, и ему пришлось повторить их. Пораженная, она поняла, что ее бывший хозяин не имеет ни малейшего понятия о том, как она его ненавидит; что он и не подозревает о том черном камне, который носит она в сердце с тех самых пор, как он изнасиловал ее одиннадцатилетней девчонкой; что он не знает за собой вины и не чувствует угрызений совести… Осознав это, она подумала, что, быть может, разум белых даже не способен задержаться на тех страданиях, что они причиняют другим людям. Злопамятство угнетало только ее — его оно даже не коснулось. Вальморен, чье вновь обретенное ясновидение не позволяло ему проникнуть в те чувства, что он вызвал в Тете, добавил, что она ухаживала за Эухенией, многому научилась у тетушки Розы и что, по мнению Пармантье, не было медсестры лучше ее. Его слова были встречены молчанием — таким долгим, что Вальморен в конце концов понял, что он уже не имеет права приказывать этой женщине, и он сменил тон. «Я заплачу тебе, сколько будет нужно. Нет. Столько, сколько ты попросишь. Сделай это во имя всего того, что мы вместе пережили, и во имя наших детей», — проговорил он среди слюней и соплей.
Она вспомнила обычный совет отца Антуана и заглянула поглубже в свое сердце, но не смогла обнаружить там ни искорки великодушия. Хотела объяснить Вальморену, что как раз по этим самым причинам и не может помочь ему: из-за того, что они пережили вместе, из-за своих страданий рабыни и из-за детей. Первого он отобрал у нее при рождении, а вторую уничтожит прямо сейчас, случись Тете отвернуться. Но ничего этого произнести она не смогла. «Не могу, простите меня, месье» — это было то единственное, что она сказала ему. Она поднялась, покачиваясь от ударов своего сердца, и, прежде чем выйти, оставила на постели Вальморена бесполезный груз своей ненависти, потому что больше не желала влачить ее за собой. И молча ушла из этого дома через дверь для прислуги.
Долгое лето
Розетте не удалось соединиться с Морисом так быстро, как оба они планировали, потому что зима выдалась на севере очень суровой и путешествие оказалось невозможным. Весна застряла где-то на других широтах, и холода в Бостоне стояли до конца апреля. А к тому времени она уже не могла взойти на борт корабля. Живот еще не был заметен, но окружающие ее женщины догадались о ее состоянии, потому что красота Розетты казалась сверхъестественной. Она была румяной, с блестящими, как стекло, волосами, взгляд — глубокий и нежный — струился теплом и светом. По словам Лулы, это было нормально: в теле беременной женщины больше крови. «А откуда, вы думаете, берется кровь для младенца?» — говорила Лула. Тете это объяснение казалось неопровержимым, потому что она видела немало родов и всегда изумлялась той щедрости, с которой матери отдавали свою кровь. Но в ней самой симптомы Розетты заметны не были. Живот и груди были тяжелые, как гири, на лице появились темные пятна, на ногах надулись вены, и она не могла пройти больше двух кварталов на своих отекших ногах. Она не могла припомнить, чтобы чувствовала себя такой слабой и некрасивой во время двух предыдущих беременностей. И очень стеснялась, что находится в том же состоянии, что Розетта: ей почти одновременно предстояло стать матерью и бабушкой.
Однажды утром на Французском рынке Тете увидела нищего-калеку, который своей единственной рукой бил в два жестяных барабана. Ноги́ у него тоже не было. Она решила, что его, верно, отпустил хозяин, чтоб он сам зарабатывал себе на хлеб как мог, поскольку хозяину такой раб уже не приносит пользы. Калека был еще молод, улыбка его сверкала двумя рядами белых зубов и лукавством, которое ярко контрастировало с его жалким состоянием. Ритм жил в его душе, в его коже, в крови. Он играл и пел с такой радостью и бьющим через край энтузиазмом, что возле него собралась толпа. Женские бедра двигались сами собой в унисон с этими неудержимыми барабанами, а цветные дети подпевали хором словам, которые, очевидно, слышали уже не один раз; и пели сами, устраивая сражения на шпагах-палках. Вначале слова показались Тете непонятными, но вскоре она поняла, что это креол, язык плантаций Сан-Доминго, и смогла в уме перевести на французский припев: «Капитан Ла Либерте, / любимец Макандаля, / бился своей саблей, / чтобы спасти генерала». Колени у нее подогнулись, и она сползла на ящик с фруктами, с большим трудом поддерживая равновесие огромного живота, и так на ящике и дождалась, пока музыкант не закончил выступление и не собрал подаяние с публики. Она уже очень давно не говорила на креоле, выученном в Сен-Лазаре, но ей удалось поговорить с музыкантом. Мужчина прибыл с Гаити — из страны, которую он все еще называл Сан-Доминго; он рассказал ей, что руку потерял в дробилке для тростника, а ногу — под топором палача, потому что пытался бежать. Она попросила, чтобы он медленно повторил ей слова песни, чтобы лучше разобрать текст, и вот так она узнала, что Гамбо уже стал легендой. В песне говорилось, что он защищал Туссена-Лувертюра как лев, сражаясь с солдатами Наполеона, пока наконец не упал с таким множеством ран от пуль и штыков, что их нельзя было сосчитать. Но капитан, как и Макандаль, не умер: он встал, обернувшись волком, готовый вечно сражаться за свободу.
— Его многие видели, мадам. Говорят, что этот волк бродит вокруг Дессалина и других генералов, потому что они предали революцию и продают людей в рабство.
Тете уже давно смирилась с возможностью того, что Гамбо погиб, и песня нищего только подтвердила для нее эту смерть. Этим вечером она отправилась в дом Адели повидать доктора Пармантье, единственного человека, с кем она могла разделить свое горе, и рассказала ему о том, что слышала на рынке.
— Я слышал эту песню, Тете. Ее поют бонапартисты, когда напиваются в «Кафе эмигрантов», но они добавляют еще один куплет.
— Какой?
— Что-то о братской могиле, в которой гниют негры и свобода, и да здравствует Франция, да здравствует Наполеон.
— Но это же ужасно, доктор!
— Гамбо был героем при жизни и продолжает им быть после смерти, Тете. Пока ноют эту песню, он всегда будет оставаться образцом храбрости.
Захария ничего не знал о той боли, которую переживала его жена, потому что она позаботилась о том, чтобы ее скрыть. Тете как свою главную тайну хранила эту первую любовь, самую сильную в своей жизни. Она редко о ней упоминала, потому что не могла подарить Захарии такую же яркую страсть: их любовь была мирной и неспешной. Ничего не зная обо всем этом, Захария на все четыре стороны света распространял известие о своем будущем отцовстве. Он привык блистать и повелевать. Так он вел себя и в Ле-Капе, где он был рабом, и даже то, что за это его чуть не убили, раздробив ему лицо на плохо склеенные позже куски, не послужило ему уроком: он был все таким же транжирой и болтуном. Он бесплатно раздавал выпивку клиентам казино «У Флёр», чтобы они выпили за здоровье ребенка, которого ждет его Тете. Его компаньонка, Флёр Ирондель, была вынуждена его одернуть, потому что времена пришли неподходящие ни для того, чтобы швыряться деньгами, ни для того, чтобы плодить завистников. Ничто так не раздражает американцев, как негр-фанфарон.
Розетта снабжала всех свежими новостями от Мориса, которые приходили с опозданием в два или три месяца. Профессор Харрисон Кобб, выслушав все детали истории Мориса, предложил ему свое гостеприимство — поселиться в его доме, где он жил вместе с матерью, выжившей из ума старушкой, что ест цветы, и сестрой — бездетной вдовой, давно потерявшей мужа. Позже, когда профессор узнал, что Розетта беременна и должна родить в ноябре, он уже настоятельно попросил, чтобы Морис не искал другое жилье, а привез свою семью в его дом. Агата, его сестра, больше всех была воодушевлена этой идеей, ведь так Розетта сможет помогать ей в уходе за матерью, а присутствие в доме ребенка принесет радость им всем. Этот громадный дом, продуваемый сквозняками, с его пустующими комнатами, куда годами не ступает ничья нога, с их предками, взирающим с развешенных по стенам портретов, просто нуждается в том, чтобы в нем появилась влюбленная пара и ребенок, объявила она.
Морис понял, что Розетта не сможет приехать и летом, и смирился с тем, что разлука продлится больше года — пока не кончится зима и Розетта не оправится от родов, а ребенок не будет в силах вынести морское путешествие. Тем временем он подпитывал свою любовь морем писем, как делал это и раньше, и старался каждую свободную минуту посвящать своим занятиям. Харрисон Кобб взял его к себе секретарем и платил гораздо больше, чем полагалось за работу, которая состояла в классификации его бумаг и помощи в подготовке к занятиям. Это была не слишком тяжелая работа, и она позволяла Морису уделять время изучению законов и тому единственному делу, которое виделось Коббу значимым, — движению аболиционистов. Они вместе появлялись на публичных манифестациях, писали памфлеты, обходили редакции газет, торговые заведения и офисы, выступали с речами в церквах, клубах, театрах и университетах. Харрисон Кобб нашел в Морисе одновременно и сына, которого у него никогда не было, и такого товарища в борьбе, о котором он даже и не мечтал. Рядом с этим молодым человеком победа его идей казалась ему близкой — рукой подать. Его сестра Агата, как и все в семье Кобб, включая старушку-мать, которая ела цветы, тоже была аболиционисткой. И она считала дни, оставшиеся до того момента, когда они вместе отправятся встречать в порту Розетту с ребенком. Семья смешанной крови — лучшее, что только могло попасть им в руки, ведь это было само воплощение равенства, которое они проповедовали, самое весомое доказательство того, что расы должны и могут смешиваться и жить в мире. Какое впечатление произведет Морис, когда предстанет перед публикой со своей цветной супругой и младенцем, чтобы защищать идею эмансипации! Это будет красноречивее, чем миллион плакатов. Морису горячие речи его благодетелей казались несколько абсурдными, потому что в действительности он никогда не считал Розетту другой, не похожей на самого себя.
Лето 1806 года было очень длинным и принесло в Новый Орлеан эпидемию холеры и несколько пожаров. Тулуза Вальморена в сопровождении монахини, его сиделки, перевезли на плантацию, где собралась вся семья, спасаясь от страшной летней жары. Пармантье подтвердил, что состояние здоровья пациента стабильно и деревенский воздух, без сомнения, пойдет ему на пользу. Лекарства, которые Гортензия растворяла в его супе, потому что он отказывался их принимать, не улучшали его характера. Он сделался злобным, да таким, что сам себя не мог выносить. Все его раздражало — от натирающих кожу пеленок до невинного смеха дочерей в саду, но больше всего — Морис. Он прекрасно помнил каждый этап жизни своего сына. Вспоминал каждое слово из тех, которыми они обменялись в конце, и перебирал их тысячу раз, стараясь найти объяснение этому разрыву — столь болезненному и окончательному. Он думал, что Морис унаследовал сумасшествие семьи своей матери. По его венам текла разжиженная кровь Эухении Гарсиа дель Солар, а не сильная кровь Вальморенов. Он не узнавал в этом ребенке ни одной своей черты. Морис был в точности как его мать: те же зеленые глаза, та же склонность к фантазиям и стремление к саморазрушению.
Вопреки ожиданиям доктора Пармантье, на плантации пациент обрел не отдых, а лишнее беспокойство, поскольку здесь смог убедиться в той разрухе, о которой предупреждал его Санчо. Оуэн Мерфи со всей своей семьей уехал на север — занять ту землю, которую он с таким трудом приобрел после тридцати лет тяжелой, как у вьючного животного, работы. Его место по рекомендации отца Гортензии занял молодой управляющий. На следующий же день после приезда Вальморен решил искать другого, потому что этот человек не обладал опытом, чтобы управлять плантацией такого размера. Производство значительно снизилось, а поведение рабов казалось вызывающим. Было бы логично, если бы за эти проблемы взялся Санчо, но очевидным для Вальморена было и то, что его компаньон выполнял чисто декоративную роль. Это вынуждало его опереться на Гортензию, даже зная, что чем больше власти в ее руках, тем глубже он погружается в свое кресло паралитика.
Санчо втайне поставил перед собой задачу примирить Вальморена с Морисом. Он должен был сделать это, не возбуждая подозрений у Гортензии Гизо, у которой дела шли лучше, чем она сама ожидала, ведь теперь она контролировала и своего мужа, и его состояние. Он поддерживал контакты с племянником посредством очень коротких писем, потому что по-французски писал не очень хорошо, хотя по-испански делал это лучше, чем сам Гонгора, уверял он, хотя никто в его окружении и понятия не имел, кто такой этот господин. Морис отвечал ему, посвящая в детали своей жизни в Бостоне и осыпая благодарностями за помощь, которую тот оказывал его жене: Розетта писала ему, что частенько получает деньги от дяди. Морис рассказывал дяде и о тех черепашьих шагах, которыми двигалось вперед движение против рабства, и еще об одном предприятии, которое очень его интересовало, — экспедиции Льюиса и Кларка, отправленной президентом Джефферсоном исследовать земли по берегам реки Миссури. Задача экспедиции состояла в изучении индейских племен, а также флоры и фауны этого почти неизвестного белым района; кроме того, ставилась цель достичь по возможности побережья Тихого океана. Санчо стремления американцев занимать все больше и больше земель никак не трогали. «Кто много на себя берет, мало имеет», — думал он; но Морис был так сильно увлечен этим делом, что, если бы не Розетта, ребенок и аболиционизм, он бы, не раздумывая, отправился вслед за исследователями.
В тюрьме
Тете родила дочку в жарком месяце июне; роды принимали Адель и Розетта, которая хотела ближе познакомиться с тем, что ждало через несколько месяцев и ее, а Лула и Виолетта в это время прохаживались по улице, нервничая не меньше Захарии. Когда Тете взяла девочку в руки, она разрыдалась от счастья: ведь ей можно любить эту малышку, не опасаясь, что ее отнимут. Она была ее собственная. Ей придется оберегать девочку от болезней, несчастных случаев и других вполне естественных несчастий, как и всех других детей, но не от хозяина, который вправе распорядиться ею, как ему заблагорассудится.
Счастье отца было чрезмерным, а устроенные им празднества такими обильными, что Тете испугалась: они могли навлечь несчастья. На всякий случай она отнесла ребенка к жрице Саните Деде, которая взяла с матери пятнадцать долларов за защиту девочки посредством собственной слюны и крови петуха. Потом все отправились в церковь, чтобы отец Антуан окрестил малышку под именем ее крестной матери: Виолетта.
Остаток этого влажного и жаркого лета показался Розетте нескончаемым. По мере того как рос живот, ей все больше не хватало Мориса. Она жила вместе с матерью в домике, купленном Захарией, и была все время окружена женщинами, не оставлявшими ее ни на минуту, но чувствовала она себя уязвимой. Она всегда была сильной — и считала себя везучей, — но теперь стала боязливой, мучилась кошмарами и самыми ужасными предчувствиями. «Почему я не уехала с Морисом в феврале? А если с ним что-то не то? Если мы больше не увидимся? Нам не нужно было никогда расставаться!» — плакала она. «Не думай о плохом, Розетта, ведь мысли могут сбываться», — говорила ей Тете.
В сентябре некоторые семейства уже вернулись в город, и среди них и Гортензия с дочерьми. Вальморен остался на плантации, по той причине, что ему еще не удалось заменить управляющего и он был сыт по горло своей женой, как и она — им. Ему не хватало не только управляющего, он не мог рассчитывать и на общество шурина, который уехал в Испанию. Санчо получил известие, что может вступить во владение имеющими определенную ценность, хоть и заброшенными, землями семейства Гарсиа дель Солар. Это неожиданное наследство явилось для Санчо, скорее, лишней головной болью, но он очень хотел еще раз повидать свою страну, в которой не был уже тридцать два года.
Вальморен понемногу восстанавливался после удара благодаря стараниям своей сиделки-монахини — суровой немки, которая была совершенно невосприимчива к вспышкам ярости своего пациента и заставляла его каждый день делать хоть по нескольку шагов и упражнять пострадавшую руку, сжимая набитый шерстью мячик. Кроме того, она лечила его и от недержания, хотя принимаемые меры граничили с унижениями, поскольку были связаны с заменой мокрых пеленок. Тем временем Гортензия обосновалась со своей свитой нянек и другой прислуги в городском доме и вознамерилась наслаждаться наступающим сезоном светской жизни, будучи свободной от этого мужа, который висел на ней гирей. Возможно, ей и удастся устроить все так, чтобы он был жив, раз уж это необходимо, но находился на достаточном от нее удалении.
Прошла всего лишь неделя с тех пор, как семья вернулась в Новый Орлеан, когда Гортензия Гизо, не изменившая своей привычке переделывать шляпки, отправилась со своей сестрой Оливией на улицу Шартре купить ленты и перья, где и встретилась с Розеттой. В последние годы она пару раз видела девушку издалека, и ей не составило труда ее узнать. На Розетте было темное платье из тонкой шерсти и вязаная шаль на плечах, а волосы собраны в пучок, но скромность ее наряда ничуть не снижала горделивости ее облика. Для Гортензии красота этой девушки всегда была провокацией, и больше, чем когда бы то ни было, теперь, когда сама она утопала в жиру. Она знала, что Розетта не уехала с Морисом в Бостон, но никто ей не говорил, что она беременна. И Гортензия мгновенно ощутила сигнал тревоги: этот ребенок, особенно если это будет мальчик, мог стать угрозой ее спокойной жизни. Муж ее, такой слабохарактерный, использует этот предлог, чтобы примириться с Морисом, и все ему простит.
Розетта не обращала никакого внимания на двух дам, пока не оказалась прямо перед ними. Она на шаг отошла в сторону, пропуская их, и в знак приветствия сказала «добрый день» — вежливо, но без тени той униженности, которой белые ожидают от цветных. Гортензия встала прямо перед ней, бросая вызов. «Посмотри-ка, Оливия, на эту нахалку», — сказала она своей сестре, которая удивилась так же, как и Розетта. «И обрати внимание, что на ней — золото! Негритянки не имеют права носить украшения в общественных местах. Она заслуживает порки, верно?» — прибавила она. Сестра, не понимая, что происходит, взяла ее под руку, чтобы увести, но та вырвалась и одним рывком сорвала с Розетты тот медальон, что повесил ей на шею Морис. Девушка попятилась назад, защищая шею, и тогда Гортензия отвесила ей звонкую пощечину.
Розетта всегда жила, пользуясь привилегиями свободной девочки: сначала в доме Вальморена, а потом в школе урсулинок. Она никогда не чувствовала себя рабыней, а ее красота придавала ей уверенности. До этого момента она никогда не подвергалась насилию со стороны белых и понятия не имела о той власти, которую они над ней имеют. Инстинктивно, не понимая ни что она делает, ни к каким последствиям это может привести, она вернула пощечину напавшей на нее незнакомке. Гортензия Гизо, застигнутая врасплох, покачнулась, у нее подвернулся каблук, и она чуть не упала. И стала вопить так, словно в нее вселился сам дьявол, что уже через мгновенье собрало толпу любопытных. Розетта увидела вокруг себя людей, попыталась скрыться, но ее уже держали сзади, и через минуту ее уже арестовали жандармы.
Тете узнала обо всем спустя полчаса, ведь многие были свидетелями случившегося и новость передавалась из уст в уста, дойдя также до ушей Лулы и Виолетты, живших на этой улице, но она не смогла увидеть дочь до самого позднего вечера, когда она отправилась в тюрьму в сопровождении отца Антуана. Святой, знавший тюрьму как свой собственный дом, отстранил охранника и повел Тете по узкому коридору, освещенному парой факелов. Через решетку они смогли разглядеть мужские камеры, а в конце находилась общая камера, куда были набиты женщины. Все были цветными, кроме одной светловолосой девушки — наверное, рабыни. Также там были двое негритят в лохмотьях, они спали, прижавшись к одной из заключенных. Еще у одной на руках был младенец. Пол покрывал тонкий слой соломы, имелось несколько грязных одеял, ведро для естественных надобностей и кувшин с грязной водой для питья; к стоявшему зловонию примешивался явный запах разлагающейся плоти. В слабом свете, который проникал из коридора, Тете увидела Розетту: она сидела в углу между двумя женщинами, завернутая в свою шаль, руки обхватывали живот, а лицо распухло от слез. Тете, ужаснувшись, подбежала обнять дочку и наткнулась на тяжелые кандалы, в которые были закованы щиколотки девушки.
Отец Антуан пришел, подготовившись, поскольку он слишком хорошо знал, в каких условиях содержат заключенных. В его корзине был хлеб и куски сахара, которые он роздал женщинам, и одеяло для Розетты. «Завтра же мы заберем тебя отсюда, Розетта, правда, mon pére?» — произнесла Тете сквозь слезы. Капуцин промолчал.
Единственным объяснением, которое могла дать случившемуся Тете, было то, что Гортензия Гизо решила отомстить за ту обиду, которую она нанесла ее семье, отказавшись ухаживать за Вальмореном. Тете не знала, что оскорблением для этой женщины являлось само существование на этом свете и ее самой, и Розетты. Убитая горем, она пошла в дом Вальморенов, куда клялась никогда не возвращаться, бросилась наземь перед своей бывшей хозяйкой, чтобы молить ее освободить Розетту, а она за это будет ухаживать за ее мужем, сделает все, что ей прикажут, что захотите, сжальтесь, мадам. Гортензия, наполненная ядом злобы, отвела душу, выговорив Тете все, что пришло в голову, а потом приказала вытолкать из своего дома.
Тете делала все возможное, все, что было в ее силах, чтобы облегчить участь Розетты. Она оставляла маленькую Виолетту на попечение Адели или Лулы и каждый день носила еду в тюрьму всем женщинам, потому что была уверена в том, что Розетта разделит со всеми то, что получит, и не могла допустить, чтобы дочь голодала. Ей приходилось оставлять передачи охранникам; в камеру ее пропускали редко, и она не знала, что из того, что она приносит, отдают эти люди заключенным, а сколько забирают себе. Виолетта и Захария взяли на себя расходы, а сама Тете проводила по полночи на кухне за готовкой. Так как при этом она продолжала работать и нужно было ухаживать за новорожденной дочуркой, то от усталости она еле держалась на ногах. Она помнила о том, что тетушка Роза предупреждала заразные болезни кипяченой водой, и умоляла женщин не пить воду из кувшина, даже если они умирают от жажды, а только чай, который она им приносит. В последние месяцы несколько женщин умерло от холеры. Так как по ночам уже было холодно, она раздобыла теплую одежду и одеяла для всех, потому что не могла же только ее дочь быть тепло одетой, но сырая солома на полу и влага, которой сочились стены, уже довели Розетту до болей в груди и вызвали назойливый кашель. Она оказалась не единственной больной. С другой женщиной было хуже: у нее на пораненной кандалами лодыжке была язва, переросшая в гангрену. По настоянию Тете отец Антуан добился, чтобы ему позволили забрать женщину в госпиталь к монахиням. Оставшиеся в камере заключенные больше ее не увидели, но через неделю узнали, что ногу ей отрезали.
Розетта не хотела, чтобы Мориса известили о случившемся, потому что была уверена, что выйдет на свободу раньше, чем он получит письмо, но правосудие не торопилось. Прошло шесть недель, прежде чем судья рассмотрел ее дело, да и то он действовал относительно быстро, и только потому, что речь шла о свободной женщине, а также под давлением отца Антуана. Другие заключенные могли провести годы, дожидаясь всего лишь того, чтобы им сказали, за что они арестованы. Братья Гортензии Гизо, юристы, предъявили Розетте обвинение в «нападении и нанесении ударов белой женщине». За это полагалось наказание плетьми и два года тюрьмы, но судья уступил давлению святого и отменил плети, учтя и то, что Розетта была беременна, и то, что сама Оливия Гизо в своих показаниях дала правдивое описание происшествия и отказалась признать правоту сестры. Судью тронуло и достоинство обвиняемой, представшей перед судом в чистом платье и ответившей на обвинения без вызова, но и без слабины, несмотря на то что говорить ей мешал кашель и она едва держалась на ногах.
После оглашения приговора в душе Тете проснулся ураган. Розетта не сможет прожить два года в грязной клетке, а тем более не выживет ее ребенок. «Эрцули, лоа-мать, дай мне силы!» Она освободит свою дочь, чего бы ей это ни стоило, даже если придется разбить тюремные стены собственными руками. Обезумев, она объявляла первому встречному, что убьет Гортензию Гизо и всю эту треклятую семью. Вот тогда-то отец Антуан решил вмешаться в это дело, пока Тете тоже не попала в тюрьму. Никому не сказав ни слова, он отправился на плантацию побеседовать с Вальмореном. Это решение далось ему нелегко, во-первых, потому, что он не хотел покидать на несколько дней всех тех несчастных, кому он оказывал помощь, а во-вторых, потому, что не умел ездить верхом, а плыть на лодке против течения было дорого и тяжело, но он все же отправился в путь.
Отец Антуан нашел Вальморена в лучшем состоянии, чем ожидал, хотя и не полностью восстановившимся и с затрудненной речью. Святой не стал грозить ему адским огнем, как планировал, направляясь на плантацию, потому что понял, что этот человек не имеет ни малейшего понятия о том, что натворила в Новом Орлеане его жена. Однако, услышав о случившемся, Вальморен гораздо сильнее был разгневан тем, что Гортензия постаралась скрыть от него это, как и многое другое, чем обеспокоен судьбой Розетты, которую он называл не иначе как шлюхой. Но его отношение изменилось, как только священник пояснил ему, что молодая женщина в положении. Он тут же осознал, что не будет иметь никакой надежды на примирение с Морисом, если с Розеттой или ребенком случится несчастье. Здоровой рукой он зазвонил в коровий колокольчик, вызывая монахиню, и велел ей отдать распоряжения приготовить лодку, чтобы немедленно ехать в город. Через два дня братья Гизо отозвали все обвинения против Розетты Седельи.
Зарите
Иронию четыре года, сейчас на дворе 1810-й. Я уже потеряла страх перед свободой, хотя и никак не избавлюсь от страха перед белыми. И уже не оплакиваю Розетту: я почти успокоилась.
Розетта вышла из тюрьмы, покрытая блохами, худая, больная и с язвами на ногах — от неподвижности и кандалов. Я держала ее дома, ухаживала за ней днем и ночью, старалась укрепить ее силы супами на бычьих мозгах и питательными блюдами, которые приносили нам соседки, но ничто из этого не смогло предотвратить преждевременных родов. Ребенок еще не был готов родиться, он был крошечным, с прозрачной, как мокрая бумага, кожей. Роды прошли быстро, но Розетта была очень слаба и потеряла много крови. На следующий день начался жар, а на третий она уже бредила и звала в бреду Мориса. И тут я пришла в отчаяние, потому что поняла, что моя дочь умирает. Я прибегла ко всем тем знаниям, которые завещала мне тетушка Роза, к мудрости доктора Пармантье, к молитвам отца Антуана и обращениям к моим лоа. Я положила ей на грудь новорожденного, чтобы материнский долг побудил ее бороться за собственную жизнь, но, думаю, она его даже не почувствовала. Я хваталась за мою девочку, стараясь удержать ее, умоляя, чтобы она выпила глоток воды, открыла глаза, ответила мне: Розетта, Розетта! В три часа ночи, когда я держала ее, баюкая африканскими песнями, я заметила, что она что-то шепчет, и наклонилась над ее ссохшимися губами. «Я люблю тебя, maman», — сказала она и, тут же выдохнув, угасла. Я чувствовала в своих руках ее невесомое тело и видела, как мягко отлетает ее душа, словно нить тумана, и выскальзывает через открытое окно.
Невозможно описать жестокую боль, которую я ощутила, но этого и не нужно: матери ее знают, потому что только у некоторых, самых счастливых из нас, живы все их дети. На рассвете пришла Адель с супом для нас. Ей-то и пришлось вынимать Розетту из моих окаменевших рук и укладывать ее в кровать. Какое-то время она позволила мне выть, согнувшись от боли на полу, а потом вложила мне в руки чашку с супом и напомнила о детях. Мой бедный внучек лежал, свернувшись возле моей же дочки Виолетты, в одной кроватке, такой маленький и беззащитный, что он в любую минуту мог отправиться вслед за Розеттой. Тогда я раздела его, положила на длинный лоскут моего тиньона и привязала крест-накрест к своей голой груди, прямо к сердцу, кожа к коже, чтобы он думал, что он все еще внутри своей матери. И так и носила его несколько недель. Молока моего, как и любви, хватало им обоим: и дочке, и внуку. Когда я вынула Жюстена из этого свертка, он уже был готов к жизни в этом мире.
Однажды в мой дом пришел месье Вальморен. Два раба выгрузили его из кареты и на руках донесли до дверей. Он очень постарел. «Пожалуйста, Тете, я хочу видеть мальчика», — попросил он меня надтреснутым голосом. И у меня не хватило сил оставить его за дверью.
— Очень сожалею о том, что случилось с Розеттой… Клянусь тебе, я к этому непричастен.
— Я знаю, месье.
Он долго смотрел на нашего внука, а потом спросил о том, как его зовут.
— Жюстен Солар. Это имя дали ему родители, потому что оно означает «справедливость». Если бы это была девочка, ее назвали бы Жюстеной, — ответила я.
— О! Надеюсь, мне хватит оставшейся жизни, чтобы исправить хоть какие-то свои ошибки, — произнес он, и мне показалось, что он вот-вот заплачет.
— Все мы ошибаемся, месье.
— Этот мальчик — Вальморен и по отцу, и по матери. Глаза у него светлые, и его можно принять за белого. Не след ему расти среди негров. Я хочу помочь ему, чтобы он получил хорошее образование и носил мою фамилию, как ему и полагается.
— Об этом вам нужно говорить с Морисом, месье, а не со мной.
Морис в одном письме получил известие и о рождении сына, и о смерти Розетты. Он тут же пустился в путь, хотя стояла зима. Когда он приехал, мальчику уже исполнилось три месяца. Это был спокойный ребенок с тонкими чертами лица и зелеными глазами, очень похожий на своего отца и бабку, несчастную донью Эухению. Морис надолго прижал сына к себе, но с каким-то отстраненным видом, как будто его здесь не было: внутри он словно высох, а в глазах не было света. «Вам придется позаботиться о нем какое-то время, maman», — сказал он мне. Он пробыл у нас меньше месяца и не захотел разговаривать с месье Вальмореном, несмотря на настоятельные просьбы Санчо, который к тому времени уже вернулся из Испании. Отец Антуан, который только и делает, что исправляет чужие выверты, на сей раз отказался выступить посредником между отцом и сыном. Морис решил, что дед может иногда видеть своего внука, но только в моем присутствии, и запретил мне хоть что-нибудь от него принимать: ни деньги, ни какую-либо другую помощь, а уж тем более его фамилию для ребенка. Он велел мне рассказать Жюстену о Розетте, чтобы мальчик всегда ею гордился, как и своей смешанной кровью. Морис полагал, что его сын — плод великой любви, отмечен судьбой и совершит в жизни великие дела, те, которые думал свершить он сам, пока смерть Розетты не сломила его волю. Последнее, что он мне сказал, — это чтобы я держала ребенка подальше от Гортензии Гизо. Об этом меня предупреждать нужды не было.
Вскоре мой Морис уехал, но не стал возвращаться к своим друзьям в Бостоне, а забросил свои занятия и стал неутомимым путешественником: он обошел больше земель, чем сам ветер. Иногда он нам пишет несколько строк, и так мы и узнаем, что он еще жив, но за четыре года повидать сына он приезжал только раз. Появился у нас облаченный в шкуры, обросший бородой и черный от солнца, похожий на кентуккийца. В его возрасте никто не умирает от разбитого сердца. Морису нужно только время — чтобы устать. Шагая и шагая по миру, он постепенно успокоится и однажды, когда уже не сможет сделать ни шагу от усталости, поймет, что от боли нельзя убежать — ее нужно приручить, чтобы она тебя не беспокоила. Тогда он сможет почувствовать рядом с собой Розетту — что она его сопровождает, — как чувствую ее я, и, быть может, вновь обретет сына и снова займется искоренением рабства.
У нас с Захарией родился еще ребенок, Оноре, он делает уже свои первые шаги, держась за руку Жюстена, своего лучшего друга и племянника. Мы хотим еще детей, хотя дом этот нам уже маловат, да и мы немолоды, моему мужу уже пятьдесят шесть, а мне сорок, но нам бы хотелось состариться в окружении многих детей, внуков и правнуков — свободных.
Мой муж и Флёр Ирондель все еще содержат игорный дом, и с ними все так же имеет общие дела капитан Ромейро Толедано, который бороздит Карибское море, перевозя товары и беглых рабов. Захарии не удалось получить кредит, поскольку законы стали еще более жестки к цветным, так что его желание создать целую сеть игорных домов так и не было реализовано. Я же очень занята детьми, домом и лекарствами для доктора Пармантье, которые готовлю теперь на своей собственной кухне, но по вечерам нахожу время на чашку кофе с молоком во дворике с бугенвиллеями в доме Адели, куда приходят поболтать соседки. Мадам Виолетту мы видим реже, потому что она сейчас в основном встречается с дамами из «Общества синей ленты». Все они очень заинтересованы в своей дружбе с ней, поскольку она ведет балы и может повлиять на судьбу их дочерей в plaçage. Виолетта больше года тянула с примирением с Санчо, поскольку желала наказать его за шашни с Ади Супир. Она-то знает мужскую природу и вовсе не ждет от мужчин верности, но требует, чтобы, по меньшей мере, любовник не унижал ее, прогуливаясь по дамбе с ее соперницей. Мадам не удалось женить Жан-Мартена на богатой мулатке, как она планировала, потому что парень остался в Европе и не думает возвращаться. Лула, которая из-за преклонного возраста — ей, должно быть, за восемьдесят — уже еле ходит, поведала мне, что ее принц оставил военную карьеру и живет с Исидором Мориссе, этим извращенцем, который вовсе и не ученый, а агент Наполеона или братьев Лафитов, салонный пират, как заверила она, вздыхая. Мадам Виолетта и я больше никогда не возвращались к разговорам о прошлом, и после стольких лет хранения тайны мы и сами поверили, что она и есть мать Жан-Мартена. Я очень редко думаю об этом, но мне очень хотелось бы, чтобы однажды собрались вместе все мои дети: Жан-Мартен, Морис, Виолетта, Жюстен и Оноре и другие дети и внуки, которые у нас еще будут. В этот день я соберу друзей, приготовлю лучшее креольское гумбо во всем Новом Орлеане, и до самого рассвета будет играть музыка.
У нас с Захарией уже есть своя история: мы можем оглядываться в прошлое и считать те дни, что прожили вместе, складывать и беды, и радости. Так и создается любовь — без спешки, день за днем. Люблю я его как всегда, но чувствую себя с ним удобнее, чем раньше. Когда он был красив и все им восхищались, особенно женщины, которые ему недвусмысленно себя предлагали, я боролась со страхом, что суета и искушения отнимут его у меня, хотя он и ни разу не дал повода для ревности. Теперь же нужно знать его сущность, как знаю я, чтобы понять, чего он стоит. Я уже и не помню, каким он был; мне нравится его странное разбитое лицо, повязка на мертвом глазу, шрамы. Мы научились не спорить по мелочам, только если из-за чего-то важного, а это уже немало. Чтобы избавить мужа от беспокойства и тревоги, я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлекаться по-своему, в чем и состоит преимущество быть замужем за очень занятым человеком. Ему не нравится, когда я хожу босой по улицам, потому что я уже не рабыня, не нравится, когда я сопровождаю отца Антуана, когда он оказывает благодеяния грешникам в Эль-Пантано, потому что это опасно, не нравится, что я хожу на bambousses на площадь Конго, потому что эти развлечения слишком примитивны. Ни о чем таком я ему и не рассказываю, а он меня не спрашивает. Вот вчера я танцевала на площади под звуки волшебных барабанов Саните Деде. Танцевать, только танцевать. Иногда приходит Эрцули, лоа-мать, лоа любви, и вселяется в Зарите. И тогда мы вместе с ней галопом скачем повидать моих мертвых на острове под морем. Вот так оно есть.
Примечания
1
З’этуаль (искаж. фр.) — звезда судьбы, один из пяти основных компонентов человека в учении вуду.
(обратно)2
Валет (фр.) — слуга.
(обратно)3
Милиционер — здесь: член милиции — вооруженного формирования по охране порядка, установленного французской администрацией, и защите плантаторов от нападений банд беглых рабов.
(обратно)4
Подружка (фр.).
(обратно)5
Курочкой (фр.).
(обратно)6
Моя дорогая (фр.).
(обратно)7
Мамбо — жрица вуду, а также колдунья.
(обратно)8
Хунфор — святилище, храм.
(обратно)9
Барон Самди (Барон Самеди, Барон Суббота) — лоа, связанный со смертью, а также с сексуальностью и рождением детей.
(обратно)10
Ti-bon-ange (искаж., фр.) — маленький хороший ангел. Одна из двух основных частей души человека по учению вуду, источник индивидуальности, сформированный на основе знаний и опыта.
(обратно)11
Смертная плоть (искаж. фр.).
(обратно)12
Рада — вуду семейных духов, а также относительно мирных и счастливых лоа.
(обратно)13
Хунфо — область влияния мамбо.
(обратно)14
Калфоу — лоа мести, Геде — лоа смерти, могилы и кладбищ.
(обратно)15
Тиньон — головной убор, представляющий собой длинный кусок ткани, обматываемый вокруг головы в форме тюрбана.
(обратно)16
Баул небольшой барабан, обычно задающий ритм; сегон — средний по размеру барабан; маман — самый большой барабан.
(обратно)17
Гостиный двор, торговый центр, дословно: прилавки (фр.).
(обратно)18
Гумбо (или гамбо) — густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу, блюдо американской кухни, распространенное в штате Луизиана.
(обратно)19
Лувертюр — «открывающий» (от фр. L’Ouverture — «открытие»).
(обратно)20
Капитан La Liberté — капитан Свобода.
(обратно)21
Флёр (fleur) — цветок, Ирондель (hirondelle) — ласточка (фр.).
(обратно)22
Негс — черные, бланкс — белые (на креольском языке Гаити с французской основой).
(обратно)23
Эль-Темпло (исп. El templo) — храм.
(обратно)24
Sang-mêlé — французский термин, уже устаревший, отчасти синонимичен таким понятиям, как «метис, мулат, полукровка, квартеронка»; обозначает человека смешанной крови, но с очень светлым оттенком кожи.
(обратно)

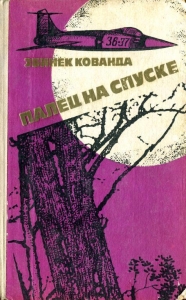

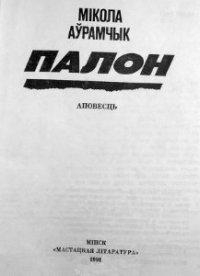





Комментарии к книге «Остров в глубинах моря», Исабель Альенде
Всего 0 комментариев