Эфраим Баух За миг до падения. Новеллы ушедшей эпохи
Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова…
Притчи Соломоновы, 6, 5Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева…
Притчи Соломоновы, 18, 8За миг до падения
В феврале пятьдесят седьмого, после зимней сессии, приехав домой на каникулы, в предвесеннем головокружении молодости, встречах с друзьями, танцах и мимолетных знакомствах, я пропустил мимо ушей сказанное мамой: приезжал какой-то мужчина недели две назад, расспрашивал про меня, сказал, что меня собираются послать на международный фестиваль молодежи летом в Москву. Фамилии своей не назвал. Но самое главное, как мама не напрягалась, не могла описать его внешность: он просто ускользал от описания. Мама только запомнила нездоровые мешки у него под глазами, ондатровую шапку и то, что был он средних лет. По неопытности я и на миг не встревожился самим фактом, что человек этот как бы нарочно ускользает от запоминания. В тот миг такое мне и в голову не могло прийти.
Начало занятий в марте было вялым, самые толковые лекторы казались монотонными, и мы дрыхли в аудиториях под прикрытием учебников. В такую расслабленную минуту, когда я после лекции спускался по лестнице в вестибюль первого корпуса университета, мечтая добраться до общежития и завалиться спать, меня явно, как зазевавшуюся птицу подстерег секретарь комитета комсомола Слава Кривченков:
– Зайди в комитет, с тобой хочет поговорить один человек.
В углу длинной и темной, как кишка, комитетской комнаты сидел человек в пальто. Поднялся мне навстречу с какой-то сладко-гнилостной улыбкой, пожал руку и подал удостоверение: "Старший лейтенант комитета государственной безопасности Казанков Ипполит Илларионович". Всю мою сонливость как рукой сняло. И я тут же заметил нездоровые мешки под его глазами болотного цвета.
– Что-то случилось? – спросил я, глупо уставившись на него.
– Нет, что вы, что вы. Мы просто хотели бы с вами встретиться. Не здесь, не здесь. Давайте так: завтра часа в три я вас буду ждать у гостиницы "Молдова"… с газетой в руках, чтобы вы меня ни с кем не спутали…Такой порядок.
Увидев, что я все еще пребываю в напряженной недоверчивости, добавил:
– Вас рекомендуют на московский фестиваль, так что сами понимаете…
Следующий день был солнечным, поистине весенним, уйма народу толпилась на улице, у гостиницы. Только черное воронье, обсевшее деревья сквера и карнизы оперного театра, закрадывалось в душу нехорошим предчувствием. Да и Казанков со своей сладко-гнилостной улыбкой, бегающими болотными глазками, мучнистым, похожим на маску лицом, какие бывают у людей, работающих по ночам или страдающих бессонницей, суетливыми пальцами, сворачивающими в трубку газету, на этот раз ужасно мне не понравился. Вдобавок он даже не поздоровался, а лишь заговорщически кивнул головой: мол, следуй за мной. Я шел, глядя в его лоснящийся жирными волосами перхотный затылок, и протест нарастал во мне тяжкой тошнотой. Мы двигались обшарпанным коридором вдоль внутренней стены ресторана, в котором я нередко бывал с ребятами. Мятые официанты мелькали, выныривая из каких-то дверей, но все это казалось отчужденным и ирреальным. Распахнулась дверь. Мы вошли в обычный гостиничный номер. Высокий астеничный человек, на вид лет шестидесяти, с острым лицом, продолговатой лысиной в обрамлении седых волос, пожал мне руку, повел перед моим носом удостоверением, так, что я лишь успел прочесть: "Дыбня… подполковник"; попросил сесть. Я примостился на стул, лишь теперь заметив, что в номере нет обычных кроватей. Только стол, несколько стульев, диван. Откупоренная бутылка вина стояла на столе. Раскрытая коробка шоколада.
– Угощайтесь, – сказал подполковник.
– Спасибо, не пью.
– Наслышаны о вас. Читали… Кстати, как вы относитесь к недавним венгерским событиям? – спросил Дыбня.
Глядя прямо ему в глаза, я отбарабанил политинформацию об интернационализме и контрреволюционерах, чувствуя, как с каждым словом тошнота под ложечкой усиливается; казалось, каждое слово повисает плевком в этом тягостно-стыдном пространстве, натянутом между нами какой-то слизью, привычной для них средой, уже всосавшей и меня самим фактом того, что я согласился прийти в это потайное логово, всего лишь тонкой стеной отделенное от улицы, по которой я гулял несметное число раз. Эта среда любезно дышала мне в щеку гнилостными деснами: Казанков подавал мне коробку с шоколадными конфетами. Внезапно почти вплотную я увидел его болотного цвета глаза, замер, как кролик парализованный взглядом удава. Только в этот миг я с ужасом осознал, над какой гибельной пропастью поставили меня моя беспечность и глупость, и, кажется, о Господи, нет уже ходу назад, и я поперхнулся шоколадной конфетой, взятой из роскошной коробки, стоимость которой будет списана органами по статье: вербовка агентов. Я даже различил на миг довольное
выражение на мучнистом лице Казанкова, мысленно составляющего отчет по месячным расходам, ловко сбрасывающего меня со счетов как уже пойманную в силки птицу.
Я долго кашлял, орудуя платком, лихорадочно соображая, как выпутаться из ситуации, в которую влип как кур в ощип. Больше всего пугало схватившее горло костяной хваткой ощущение безнадежности, хотя ведь, по сути, ничего еще не произошло.
– Мы собираемся послать вас на международный молодежный фестиваль в Москву, – сказал Дыбня.
– Разве не университет? – сквозь кашель спросил я, ощущая собственные дурацки вытаращенные глаза.
– Университет, конечно… Но вы же понимаете, без нашего согласия… Подрывная деятельность… Международное положение… Шпионы, контрразведчики, антисоветчики… Среди нас. Думаете, рядом с вами, в университете?
На какой-то миг даже немного полегчало от мысли, что он пытается охмурить меня, как ребенка, байками о захватывающей, полной приключений, жизни шпионов, этакий наивный папаша.
– Но причем тут я? – где-то в подсознании меня так умиляли собственные мои такие независимые глаза, светящиеся идиотской наивностью, кажется, начинающие серьезно раздражать подполковника. Какие они все же нетерпеливые, думал я, и холодок ужаса гулял по спине.
– Вы комсомолец? Сталинский стипендиат? Кто же еще обязан нам помочь?
– Но в чем?
– Вы должны с нами сотрудничать.
– Доносить, что ли? – сорвалось с моих губ, но было уже поздно.
– Ну зачем вы так, – поморщился подполковник-интеллигент, а Казанков стал носиться затравленной мышью по комнате, одаряя меня презрительно-сладкой улыбкой мучнистого своего лица; он готов был лопнуть от невозможности высказаться, но жест старшего по чину был им точно и по-собачьи на лету пойман: помалкивай. Дыбня барабанил пальцами по столу, поглядывая на меня все более насмешливо и добродушно:
– Вы же вот пишите, стихи… рассказы. Книгу издать захотите. Это же для вас будет бесценный материал. Мы ведь вам и помочь можем… издать.
– Да, конечно, – сказал я, понимая, что говорю не то, ощущая себя беспомощной птицей, летящей навстречу собственной гибели, навстречу двустволке ледяных глаз этого старого, хорошо сохранившегося астеника. – Вы правы, но я ведь хорошо себя знаю, я не смогу жить двойной жизнью, говорить с человеком лицом к лицу, а потом за его спиной… Это меня просто убьет…
– Но вы не должны ничего плохого о нем говорить. Мы вам верим. Вы просто даете характеристику на товарища…
– Так я могу сказать о каждом только хорошее…
– Отлично. Но, сначала, вы должны дать подписку.
– Какую еще подписку?
– О сотрудничестве.
– Это обязательно?
– Обязательно.
И с этим словом они набросились на меня с двух сторон, как две гончие на птицу, уже упавшую с неба, обессиленную, но еще ковыляющую – прямо в силки. Они не говорили, а рявкали:
– Обязательно… Комсомолец… Стипендиат… Сталинский… Обязаны… Такой порядок… Вы же сознательный… Надо… Поря-ря-ряв-рявк…
Это было какое-то затмение, какая-то мерзкая муть, заливающая и выключающая сознание. Я внезапно, как приходят в себя, увидел перед собой лист бумаги, стол, к которому, вероятно, подошел сам и теперь сидел за ним, как за партой, отупевший ученик, заливаемый потом и бессилием, понукаемый двумя педагогами, указывающими на лист, слова которых – "Вот ту-у-т" – звучали повторяемым – "Ату-у-у его, ату-у", двумя прожженными сатирами, вышколенными старыми совратителями, очень точно знающими, как поймать не пуганную душу в момент ее полной беспомощности. Они вложили ручку в мои пальцы, как вкладывают нож в руки самоубийцы, теперь мое существование висело на кончике пера, я это физически ощущал. И само то, что я не отбросил ручку, как мерзкое насекомое, показывало, насколько я был близок к падению.
Это был миг.
Я застыл в каком-то вдохе или выдохе, который не может кончиться, был звон в ушах, вернее сверлящий ледяной звук – сирены ли, флейты – такой же нескончаемый как вдох или выдох. Я так пронзительно ощутил, что происходит с солдатом в тот неуловимо-страшный миг, когда он скорее не понимает, а чувствует, что смерть неминуема, и что если этот миг минет – жить ему, солдату, вечно.
– Это очень серьезный шаг, – услышал я со стороны свой собственный голос, – можно мне подумать?
– Можно, – донесся издалека голос Дыбни. Ловцы человеческих душ поняли, что чуток пережали и ослабили давление:
– Завтра, в пять вечера, на Комсомольском озере, у ротонды над каскадом…
Какое-то ущербно улыбающееся существо, выжатый как лимон мой двойник, мутно двигался в коридорных зеркалах гостиницы, этого замызганного здания с тайными карманами. Полчаса или час назад мимо этих зеркал прошел беспечный разиня, самовлюбленный дурак. Лицо-то, в общем, было то же. Но теперь возвращался некто иной: мерзость, мутившая зеркала протягивающейся через столетия татаро-славянской жутью сыска и фиска, коснулась и меня, и вот, уже, резвясь, глодает во всю.
Слишком молодо было мое отражение в зеркалах: я чувствовал себя сразу и на столетия постаревшим, свежей жертвой Малют, Бенкендорфов и Берия.
Часы показывали без четверти пять.
Единственный собеседник – молчание. Оторопелым взглядом глядел я на прогуливающихся мимо разомлевших под солнцем людей: все они казались мне счастливо улыбающимися идиотами, не выдержавшими, спятившими, подписавшими. И теперь бесконечным стадом довольных собой осведомителей, самым прогрессивным в мире обществом стукачей, прогуливались под весенним солнцем.
В общежитии шатались такие же беспечно улыбающиеся, хлопающие меня по плечу, задающие нелепые вопросы, казавшиеся мне сплошь стукачами, и я улыбался им в ответ, я же, черт меня подери, был уже наполовину их, но как-то еще барахтался, жалуясь на головную боль, а они почти хором признавали:
– Да ты и выглядишь как с перепоя.
Я не спал, я боролся с самим собой, с дьявольской мерзостью, в последние часы принявшей облики Дыбни и Казанкова, наливающих мне в стакан вино. Знак хлебосольства и душевного расположения, вино дружбы, опоганенное прикосновением этих заушателей и продажных душ, даже если они при исполнении служебных обязанностей, вино, на глазах превращалось в яд, как в иллюзионистских фокусах; их облики расплывались во тьме, сливались, и я боролся с ними, я прилагал титанические усилия, чтобы различить их черты, изъеденные пороками: суетливые мелкие движения увековечили их каиновой печатью, пародией на истинное дружелюбие, столь елейно и обильно капающей с лица Казанкова. Конечно, их жизнь тоже жизнь, но чья-то другая. Тебя уже нет в момент, когда ты грязной лапой коснулся тайны другой жизни. Они зверски завидуют чужой жизни, потому что у них нет своей. На излете этого знания, очевидно, можно прожить и долго, но какая это мерзкая мертвая тягомотина. Вот почему они так чудовищно жестоки: количество растлеваемых ими душ повышает их по лестнице палаческих чинов, и это – единственно ощутимое движение их жизни. Они рассаживаются в чужой, как в собственном кресле, с бесцеремонностью и бесстыдством органов, прикрываясь фиговым листком секретности.
В редкие мгновения, когда я делал передышку под прижимающей меня и, все же, еще не совсем положившей на обе лопатки ночью, я как никогда остро не ощущал, что это такое – затаенная жизнь души. А ведь это было преступлением в их глазах более опасным, чем кража или даже убийство с целью ограбления, ибо взяв прерогативой в полнейшее и неделимое свое пользование "тайну и авторитет", они понимали, что единственным истинным их врагом была эта затаенная жизнь души, духа и творчества, уже сама собой несущая авторитет и тайну, в отличие от их фальшивого, поддерживаемого страхом и повиновением. Они не могли допустить ее даже полувольного существования. Им надо было сломить ее, подчинить себе. Их даже, – и я это внезапно понял, – доносительство интересовало как дело второстепенное. Им надо было лишь одного – сломить тебя, ввести в свой вольер, в собачий свой мир.
Неужели совсем молодым пошел такой Дыбня работать в органы? Неужели мертвецы не зовут его каждую ночь, и не вечен их веселый пир в его доме – особенно ночью? Неужели пепел мертвых не скрипит у него на зубах и кость не застревает в горле? Он ведь до этого, по его словам, был учителем? Максимализм моей молодости пытался хотя бы чуточку облагородить их страданиями. Но тут же передо мной вставал образ стукача и палача – провинциального учителя: из двенадцати гауляйтеров Гитлера девять были провинциальными учителями.
Ночь одолевала меня. Был миг, когда бессознательное ударом молнии входит в сферу сознания, испепеляет молниеносным озарением неисповедимых глубин, переживанием свободы. Да, она может лишь быть по ту сторону жизни, и тогда все сознательное, всю твою жизнь выращиваемое, лелеемое, собираемое, как в дендрарии, кажется бессмысленным сорняком, несмотря на то, что оно культивировалось и подстригалось по рецептам лучших садоводов и мыслителей.
В третьем часу ночи я вышел из общежития мимо вахтерши, вечно сердитой и злой, которую сморил сон, и она выглядела беспомощной и совсем уже разложившейся старухой. Обрывок улицы – от общежития, через переулки, до Свечной, – впитал на всю жизнь отметины моей беспомощности: на этот камень я сел, ощутив внезапно приступ безнадежности, и он так и остался могильной плитой этого приступа. К этому дереву я прислонился, приняв твердое решение, ибо резкий душевный сдвиг от безнадежности к отчаянной твердости заставил меня ухватиться за ствол. И редкие полуночники приняли меня, вероятно, за пьяного.
Петухи кричали в предместье, как и сто лет назад, и это, как ни странно, было самой большой поддержкой: демоны ночи разбегались, Дыбня и Казанков массировали свои гниющие десны зубными щетками, а насквозь прогнившие души – чтением доносов. А я еще был чист и непорочен, и за это стоило стоять до конца.
Внезапно опахнуло меня девичьим голосом из раскрытого окна: невидимое за занавеской существо, разговаривая с кем-то третьим, послало мне, не догадываясь об этом, привет и поддержку.
Неожиданно стал крупно накрапывать дождь. Неожиданно я понял: у меня есть собеседник. Пусть он тоже – молчание, но он – отец.
Рассвет приближался столь же стремительно, как и нарастающий дождь, и отец стоял вплотную к стягивающей небо и землю стене дождя. Ранний свет высвечивал его лицо, взрывался брызгами, ударяясь в отвесную водяную стену…
Я увидел их издалека: вдвоем они спускались по лестнице к ротонде. Мы сели на скамейку.
– Никаких подписей я давать не собираюсь, – сказал я.
– Хорошо, хорошо, что вы так нервничаете? – сказал Дыбня. – Но если нам понадобится ваш отзыв о ком-либо, вы не откажете? – сказал Дыбня.
Я молчал.
– Связь будете держать через Ипполита Илларионовича, – сказал Дыбня.
Мы поднялись и разошлись.
Оказывается, великое счастье – спутать карты этим вурдалакам.
Я старался забыть то, что со мной произошло в номере гостиницы, и само это словосочетание "номер гостиницы" обдавало публичным домом, душевным распутством, что-то каждый раз мне напоминало об тех постыдных часах несуществования.
Надвигались впускные экзамены.
Душная волна безделья и тяжкой лени, какой-то даже демонстративной беспризорности, разряжающаяся внезапными грозами в начале июня пятьдесят седьмого, казалось, неотступно накрывала нашу студенческую ораву. И это мгновенно выделяло нас среди обтекающей нас упорядоченной жизни. Ни о какой подготовке к экзаменам и защите дипломов и речи не было. Мы слонялись по общежитию, окосев от сна и вина. Ночи напролет, до посинения, резались в покер и преферанс, урывками спали днем, шатались, изнывая от жары, по улицам, заваливались к Пине в забегаловку напротив университета, который раз забалтывая один и тот же фокус Шайки Колтенюка: под общий шум он выкрадывал из ящика пару бутылок пива, вальяжно говорил —"Пиня, тут мы пиво приволокли, поставь-ка на лед". Выкаблучивание стало формой времяпровождения. Это был намеренный балаган, изощренное сопротивление упорядоченности, безоглядная забубенность последнего студенческого года перед брезжущей скукой всей последующей жизни. Страну шатало, то ли от хронического недосыпа, то ли от чересчур резкого пробуждения. На верхах что-то варилось, темное и непонятное: Сталину снова отдавали "должное" и, казалось, долг этот никогда не погасить, но вернувшийся страх был какой-то мелкий, а вернувшие себе потерянный голос карьеристы, опять выкрикивающие про "великого вождя, преданного марксиста-ленинца", казались испуганными и жалкими. В самое пекло я уходил на озеро, сидел в заглохшем углу с ряской, камышами, плакучими ивами. Между ними висла июньская паутина. Я следил за летучими парусами, непонятно как движущимися по замершим водам. Иногда брал лодку, выгребал до середины озера, лежал, глядя в небо, пытаясь определить, куда его заносит, и каждый раз, подняв голову, в первое мгновение не мог понять, где я нахожусь, и вообще, где верх, где низ. Со стороны предместья, пасущегося у самых вод, неслась разучиваемая кем-то "Баркаролла" Чайковского, обрываясь на одном и том же пассаже, но распев был чист, полон все менее сдерживающей, какой-то ликующей тоски молодости, и мне было двадцать три.
Внезапно погода изменилась. Дни покатились непрекращающейся слякотью в зияющую пустоту пятьдесят восьмого – мелкой моросью, затяжными дождями, липкими туманами, сквозь которые город проступает горами хлама, перерытыми улицами, открытыми люками, откуда несет невыносимой вонью, ручьями прорвавшейся канализации, домами, которые идут на снос, обнажаясь скошенными уровнями этажей, зияющими дырами бывшего жилья, похожими на разворошенные клоповники. Город походит на гигантскую клоаку, запахи которой особенно обостряются на весеннем гнилостном ветру. Город циклопической спиралью замыкает нас в лабиринт, проглатывает полными влажных испарений скользкими улицами и улочками, ведущими в бани, парные, куда ходим, обалдев от зубрежки к близящимся экзаменам, ошалев от работы над дипломным проектом, пытаясь хотя бы немного очиститься, выпариться. Но и в самих банях из-под решеток в раздевалках сочится грязь, нас окружают мужчины, искривленные, козлоногие, грудастые, распухшие одним сплошным брюхом, лысые, волосатые, подмигивающие, похотливо просящие потереть им спину, скалящие в улыбках то чересчур зубастые, то беззубые рты. Сквозь густой пар проступают они подобиями высохших желудей, дынь,
рассыпающихся пней, оцепенело глядят в ничего не сулящее завтра, затем горою распаренной плоти и гнилостным дыханием теснят нас в пивной, примыкающей к бане. И это скорее походит не на раблезианскую фреску веселого обжорства и разложения, а на Содом, в котором за переизбытком греха уже смутно мерещится возмездие.
Внезапно осточертевают учебники, микроскопы, лаборатории, мы убегаем от всего этого искать покоя на Армянском кладбище. Но тут нас встречают блекло проступающие сквозь туман свечи, сотни свечей у могил, склепов. Скатерти с едой и графинами вина расстелены на молодой влажной травке. Рядом возлегают на сырой земле мужчины и женщины, справляющие день поминовения, возлегают равнодушно, подобно покойникам, взирая на окружающий свалянный в тумане мир, обжираясь и напиваясь до умопомрачения. И расступившийся на несколько мгновений туман обнажает над их головами багрово-огненную закатную даль.
Копошась в непрекращающемся тумане, власти исподволь готовятся к близящимся майским праздникам: украшают пестрыми флажками мостики и перила над перерытыми улицами; безуспешно борются с прорвавшейся канализацией, насылая на нее несметные полчища бодрых с утра сантехников, которые уже через час-полтора, разбившись по трое, не столько промывают трубы, сколько горла, вяло подпирают стены, с пьяной улыбкой разглядывают свои двоящиеся отражения в прорвавшихся водах, занюхивая спиртное профессиональной вонью. Закрывают зияющие дыры еще не снесенных домов въевшимися в печенку бодро-патриотическими плакатами.
Туманы нагоняют сон.
Во сне я пытаюсь сбежать от самого себя, грешного, но спираль каменного лабиринта все более втягивает в себя мой бег, спираль распрямляется в единую галерею, все вверх и вверх, а на галерею выходят квартиры, бани, рестораны. У женщин лица потаскух, и все гонятся за мной с криками, скрипами, лязгом, лаем собак, и все тычут в меня пальцами, а мир уже вырвался за облака спирально закручивающейся башней, подобием Вавилонской, и все преследователи вымотались, отстают, засыпают. И вот, я – один – среди облаков, на чистейших высотах, но что за тревога, что за
странный, слабый, все усиливающийся гул: землетрясение? В ужасе кричат массы моих преследователей, падают в пропасть вместе с рушащимися стенами башни. Просыпаюсь от грохота: первая весенняя гроза.
Скука гонит меня на концерты классической музыки со считанными слушателями в огромном филармоническом зале и манным голосом музыковеда Мануйлова, который, к примеру, растолковывает вообще не подающегося словесному объяснению Баха. Но фугообразная, мощная, как церковные своды, музыка мессы распахивается передо мной туманной анфиладой опять же в завтра, накладывая на меня метафизические клейма своих барельефов, росписей, фресок. Таится во мне нечто одновременно проклятое и избирательное, связанное с главным клеймом – "еврей", притягивающее всех этих Ангелов с иудейскими лицами, окружающих на барельефах Давида-псалмопевца. Вот она – главная и глубинная моя суть, затоптанная годами учебы, законами окружающего бесстыдства, напялившего на себя маски диамата и простого мата, пялящего на меня глаза с демонстративно мигающей скромностью циркового клоуна, утопленная как при обряде крещения, который, оказывается, поначалу тоже был иудейским обрядом. Ангелы окликают меня с этих фресок и росписей, музыкой – с высот небесного Иерусалима. Они и только они – истинные свидетели моего древнего существования, но пока этот оклик смутен и слаб, заглушается суетой жизни, боязнью завтрашнего дня и собственной молодостью. Я вижу все круги неба – в росписях и фресках. Но сам я врос в земной, чуждый мне, круг.
Казалось бы, главное позади: сданы экзамены, защищен диплом, но впереди самое неприятное – распределение на работу. Решается моя судьба. И хотя я и сталинский стипендиат, и диплом у меня с отличием, и один из первых в списке, и слухи все ходят, что оставят меня в аспирантуре, скрытое клеймо на лбу не дает покоя. Уже в соседней комнате заседает комиссия во главе с ректором, а мы толпимся перед дверьми в насквозь казенной, похожей на казарму, приемной с напрочь задраенными окнами и тяжелыми шторами, кажется, уже окаменевшими от пыли.
Вызывают первого, второго, восьмого…
Уже понимаю: стряслось что-то неладное. Входят, выходят. Смотрят на меня непонимающе, снисходительно, жалея, злорадствуя, недоумевая, неловко опуская глаза.
И хотя я стою в стороне, а двигаются они, я чувствую себя проходящим сквозь строй. В эти минуты самого страшного унижения, пережитого мною в моей двадцатичетырехлетней жизни, я не существую, я оправдываюсь, криво всем улыбаясь, повожу головой, развожу руками, сам себя ненавидя за суетливость.
Меня вызывают последним.
Ректор с бледным рыхлым лицом, опустив голову к столу, говорит замогильным голосом:
– Осталось последнее место в Караганду. Или в Крым.
– Ну, раз последнее, то, конечно, в Крым – расписываюсь и выхожу вон.
Вместе с последующими днями, расходясь все шире, словно круги по воде, слухи уже качают весь университет: кто-то знающий кому-то передал, даже сам слышал, как во время распределения звонили из органов, дали наказ: ни в коем случае не оставлять меня не в аспирантуре, а вообще послать как можно подальше.
Наказ как наказание: за то, что, ничтожная шавка, да еще еврей, проявил непокорность. Не пожелал сотрудничать, душу, видите ли, решил спасти, органы, понимаете ли, за нос вести – в прах его велено растереть казначеями праха – казначеями страха.
Мне еще пару недель торчать в общежитии: хожу загорать на озеро, лежу на койке до полуночи, почитываю. Ходят ко мне всякие знакомые незнакомые, соболезнование выражают, возмущаются, а я помалкиваю. Выхожу их провожать, чтобы сбежать от всех, укрыться в каком-нибудь пустынном скверике, так остро ощущая атмосферу выброшенности, предательства ректором, злорадства недругов. Говорят, страх – это неведение. Здесь же нарочито пестуемое неведение – единственное спасение от страха, хотя и оно в своем наивном выражении воспринимается казначеями страха как уловка.
Этот феномен, скорее личностно-психологический, становится выражением времени, в котором я родился и волею судьбы должен буду жить.
Разговоры, сплетни, байки вокруг меня не умолкают, я ощущаю, что так просто это пройти не может, и я вскакиваю по ночам при визге автомобильных тормозов за окном, как при звуке защелкивающейся западни. Они не торопятся и вместе мы знаем, что мне не уйти.
Вахтерша зовет меня к телефону. Говорит управляющий студенческим городком, старый стукач Кузьмин: с тобой тут один человек поговорить хочет, зайди ко мне в контору.
Я-то ведь знаю, кто этот человек, мышь, вошь, я спрашиваю:
– Кто же это хочет поговорить со мной так сильно? Я ведь уже не здешний. Слышь, Кузьмин, – я стараюсь быть нарочито грубым, – скажи ему, если он хочет поговорить, пусть и придет ко мне в комнату, я ведь уже молодой специалист, мне уже не к лицу бегать куда-то с кем-то на встречи.
Кладу трубку.
На следующий день снова звонок.
– Ты не придуривайся, – ласково говорит Кузьмин, – это тебе может дорого обойтись. Он тебя ждет.
– Нечего мне у тебя делать. И вообще я в общежитии уже не живу, сегодня же ноги моей здесь не будет.
Минут через пятнадцать стук в дверь.
– Вас там ждут в фойе, – испуганно говорит вахтерша: верно, удостоверение ей показал.
Как же, вот и он собственной персоной, Казанков, всем проходящим так любезно и наперед улыбается, всем кивает, мне вполголоса:
– А ну, пошли, сука.
За углом, как полагается, машина, "Победа", окна прикрыты кокетливыми занавесками, задняя дверь предупредительно распахнута.
Сажусь, Казанков бросает свое грузное тело рядом с немой мумией шофера, и машина как бы сама собой трогается с места, Казанков начинает гнусно орать, брызгая слюной:
– Ты что, падла, с органами решил играть в кошки-мышки? Сильно умным стал, твою мать? Было бы это годика три назад, я б тебе показал кузькину мать, сука.
– Повезло мне, что это не три года назад.
– Заткни хайло, молодой специалист. Я б тебя не в Крым, в Магадан бы загнал.
Стараюсь не слушать этого маразматика, поглядываю в щель занавески, а душа заледенела: интересно, думаю, мама или бабушка предчувствуют, куда меня везут в эти минуты.
Вот и городской планетарий – в помещении бывшей церкви – почти соединяется со зданием КГБ. А что? Телескопы – вполне подведомственные органам инструменты: вести слежку за Вселенной – звезды да планеты эти ведь явно элемент ненадежный.
Распахиваются ворота.
Вот и каменный лабиринт, пророчески приснившийся мне совсем недавно, внутренняя тюрьма с огромной снарядной гильзой вместо гонга, галерея вдоль стен, чьи-то стертые жестоко-бесстрастные лица, окна, окна, забранные решетками, клетушки да клетушки кабинетов, зияющие мертвыми сотами за стеклами, внутренний коридор, двери, двери, комната. Сидит за столом Дыбня, постукивает пальцами, а Казанков так еще рта не закрыл, все еще брызжет злостью.
– Скажите ему, чтобы он закрыл рот. Иначе я рта не раскрою.
– Замолчите, – говорит Дыбня.
Приказ есть приказ.
– Вы что же, – обращается Дыбня ко мне, – слухи распускаете, мол, из-за органов вас в Крым выслали, а в аспирантуре не оставили. Знаете, что у нас полагается за клевету?
Сразу стало легче дышать, отлегло на душе: я ведь твердо знаю, никому ничего не говорил. Все вокруг трепались, а я – нет. Гляди-ка, гляди, времена-то как изменились: органы заботятся о своей репутации.
– Ничего такого не говорил. Мало ли кто да что треплется. Если не верите, я потребую очную ставку с любым, кто утверждает, что я ему это говорил.
– И кто это вам сказал, что вас в аспирантуре собираются оставить, – уже более мирно говорит Дыбня, – все это слухи да сплетни, а вы уши развесили. Вы свободны.
– Товарищ подполковник.
– Ну, чего еще?
– Пропуск забыли. На выход.
Молниеносный росчерк пера.
С пропуском. Сам. Сквозь вертеп, откуда раньше редко кто выходил, иду к двери, и никогда после так остро я не буду ощущать собственное существование как подарок. Часовой у дверей изучает пропуск, берет под козырёк:
– Проходите! И с этим напутствием я выхожу в жизнь.
Крым
В наши дни, когда о Крыме судачат круглые сутки, он вновь огромно вторгается в мою жизнь как одна из главных реальных незабываемых вершин моей долгой жизни, окутанных дымкой молодости, наравне с пребыванием через много лет во Флоренции, в лоне «Божественной комедии» Данте Буоннаротти.
В июне пятьдесят седьмого, вместе с однокурсником Игнатом, мы вдвоем едем на преддипломную геологическую практику в горы Крыма.
Доехали до Одессы. На автобусной станции уйма народа. Ведем переговоры с водителем битком набитого автобуса на Херсон: возьмет – не возьмет. Соглашается. Впервые пересекаем Николаев. Пешком, за автобусом, идем через длинный мост на плаву. По обеим сторонам моста, в речных водах, на уровне наших ног, качаются арбузные корки. На херсонском вокзале странно звучат в устах замотанных, плохо одетых крестьян названия станций – Пантикапея, Джанкой, Бахчисарай. К нам лепится какой-то шустрый толстяк в соломенной шляпе, сандалиях на босу ногу с чемоданчиком, полным воблы, который он то и дело открывает, соблазняя нас. Втроем, до прихода поезда Москва-Симферополь, заваливаемся в пивную. Толстяк полон, как арбуз семечек, всяческих южных прибауток и анекдотов, рад слушателям, сыплет ими с каким-то сочным удовольствием. В Херсоне садимся на поезд. В окне вагона плывет прекрасный черноморский закат на фоне тонкого девичьего профиля. Совсем еще девочка впервые едет с папой-мамой в Крым, в глазах жадность и первая печаль пробуждающейся женской души, худенькие ключицы нежно торчат из платьица, под веками бархатная темень.
В полночь просыпаемся от ангельского ее голоса: – Джанкой.
Симферополь на рассвете.
Стоящие как бы поодаль, но присутствующие в каждом нашем движении и взгляде – шапки гор – Чатыр-Даг и Роман-Кош.
Вдоль пальм и брызжущих фонтанов озабоченно бегут люди, читая на ходу газеты. Устраиваемся в гостинице, в комнате величиной с вестибюль вокзала с множеством коек. В какой-то забегаловке едим манную кашу, чуть приправленную маслом, а люди вокруг, шагая, беседуя, не отрываются от газет. Снова что-то произошло, пока мы были в пути. Пытаемся поймать заголовок, ускользающий из одной перелистываемой газеты в другую: "Антипартийная группа – Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов".
Фраза шипит змеей, сворачиваясь и разворачиваясь листами, держа на весу жало, полное яда, и все зачарованно следят за ее движениями.
В Институте минерального сырья – ВИМСе, куда нас направили на практику, мы пакуем необходимые вещи, сухой паек, бидоны для воды, палатки, раскладушки. Собираемся в горы: Игнат с профессором Сергеем Александровичем Ковалевским и его ассистенткой – на Чатыр-Даг, я с Толей, научным сотрудником ВИМСа – на Демерджи-Яйлу. Свободного времени более, чем достаточно. Игнат обычно валяется в гостинице на постели, я шатаюсь по улицам, под тополями вдоль домов из мягкого белого камня, и уже несколько раз, казалось мне, мелькает передо мной тонкий профиль девочки из ночного поезда, который привез нас в Симферополь. Ее худые ключицы нежно торчат из платья, слышится ее голос. Она как бы растворена в плывущих мимо юных созданиях, в их размытой какой-то акварельной прелести, дразнящей воображение, усиливающей прелесть летнего дня.
Вечером я решил пойти на танцплощадку, вопреки весьма убедительной речи Игната против джаза, двигательного способа знакомства, романтики на ощупь. У нее смуглое лицо испанки, вороний отлив волос, небрежно свернутых на затылке. Зовут ее Белла. Лермонтовские сумерки, тайные искушения ночного южного города омывают нас едва ощутимыми порывами мягкого ветра, звезды тонут в бархатной мгле.
Пожелтевшая газета под стеклянной витриной, освещенная фонарем, привлекает мое внимание столбцами фамилий. Против такого искушения я не могу устоять даже в столь романтические минуты: подошел к витрине, читаю список различных лауреатов:
– Вот, еще одна… Еще…
– Что ты выискиваешь? – в голосе Беллы тревога и удивление.
– Еврейские фамилии… Явные и скрытые. Понимаешь ли, как ни крути, а процент высокий.
– Ты что, еврей?
– Ну конечно, – говорю – и ты ведь тоже.
Это само собой разумелось и не могло быть по-иному. Меня продолжает нести напропалую эта располагающая к чрезмерному откровению симферопольская ночь, и я говорю о том, что всегда ощущал свою принадлежность к людям погибшей страны, к разбросанному по миру племени, что всегда искал их следы не только по обрывкам старых книг, молитвенникам, но и в любом статистическом исследовании, таблице, списке. И это не мания, а просто поиски знаков собственного существования. Тем более, здесь, в Крыму, это ощутимо острее, ведь рукой подать, через море, Турция, а там уже совсем близко Израиль, и вообще, верно, если с горы, где мы будем находиться, хорошенько прищуриться, можно различить плавни Египта, откуда наши предки вышли в Синай. Замечаю в ее глазах удивление, смешанное с тревогой, даже испуг.
– Ты знаешь древнееврейский? – в голосе ее уже не испуг, а страх.
При следующей встрече пришел черед удивляться мне: Белла настоятельно просила встретиться с ее отцом и немедленно. Так быстро, думал я про себя, не очень-то торопясь, однако деваться было некуда.
– Погляди-ка на этого гоя, – хлопал меня как старого знакомого по плечу ее отец, высокий пожилой мужчина, к моему удивлению, белобрысый с бесцветными, словно бы выжженными бровями и чуть подслеповатым взглядом, какие бывают у альбиносов. Он держал в руках небольшую Тору, обращаясь, очевидно, к жене, в темь типичной еврейской квартиры. Она уводила между нагромождениями мебели, запахами скученности, корицы, дерева, разъедаемого древоточцами, одежды, пересыпанной нафталином, духов бабушкиного букета, в самую глубь южной еврейской жизни, обставленной с чрезмерным уютом и все же не менее беззащитной, чем какая-нибудь пещера Бар-Кохбы, осажденная римлянами. Оказывается, жена его, на которую Белла и похожа, и вовсе из последней горстки евреев-крымчаков, которые еще остались в Симферополе и Карасубазаре от некогда огромной общины. Ведь фрагменты старых их надгробий время от времени обнаруживаются в заборе, стене или в виде крышки старого колодца, еще пятнадцатого века – самые древние в Европе после Греции и Италии. Это ведь только представить, – крышка колодца, а на ней древнееврейскими– 5217 год; но все говорят лишь о караимах, и они сами считают себя еврейским коленом, а крымчакам не дают проходу. Но вовсе они не евреи, это крымчаков татары называли "чуфут", что означает "еврей", а караимов – "кара ит", что означает "черная собака", и вот послезавтра, в канун субботы собирается группа евреев в археологический заповедник, мертвый город Чуфут-Кале – "еврейскую крепость", и он настоятельно приглашает меня. Для них такой молоденький еврей, похожий на гоя и так бегло читающий на древнееврейском, не меньшая находка, чем археологическая. Так, еще до экспедиции на Демерджи-Яйлу и Чатыр-Даг, я выезжаю в короткую – с утра до наступления субботы – экспедицию с людьми, которые и вправду смотрят на меня как на археологическую находку. Едем через Бахчисарай, в Чуфут-Кале, где гулкое эхо наших шагов оживляет мертвые улицы в скалах, ударяется о гору, которую, оказывается, караимы называют Масличной, а прилегающее к ней кладбище – долиной Иосафата, считая, что здесь можно найти много сходства с окрестностями Иерусалима. И я потрясенно онемеваю не столько от зримого вокруг, хотя этот белый, как привидение под отвесными лучами солнца город может бросить любого в столбняк, сколько от того, с какой легкостью с уст меня окружающих срываются столь редко произносимые в обычном моем окружении имена – Иерусалим, Иосафат. Это меня как-то даже отпугивает, и уже до самого отъезда в горы я стараюсь не попадать в дом родителей Беллы, отделываясь всяческими отговорками. Мы гуляем с ней по солнечно-сиреневому Симферополю, который, оказывается, раньше назывался – Сюрень, и внезапно лиловые тучи над головой, молния, гром, ливень, и мы прячемся под колоннадой, и выходим на солнечный свет улицы, из мрака в ослепительность солнца в испарениях миг назад прошедшего ливня. И это столь же внезапно пронизывает всю мою жизнь ощущением истинного существования, полного намеков и надежд на необычное будущее, повисает над нами гулким эхом, когда мы на джипе со всем экспедиционным грузом на следующий день поднимаемся по проселочной, петляющей между скалами дороге от Перевала на Демерджи-Яйлу. И справа, беспрерывно меняя очертания, высится огромная глава Чатыр-Дага, уже по ходу нашего движения становящаяся частью моего существования, подсвечиваемая словно бы зеркальцем шалуна – Аянским водохранилищем. А слева, у дороги, выбеленные ливнем кости лошади, и уже орел парит над нами, непомерно огромный, ибо его не с чем сравнить, и он кажется летающей лошадью. Собратья его ходят по скалам поодаль, и лишь с нашим приближением лениво взмахивают крыльями и зависают над нами. Мы уже миновали пояс источников. Выше скалы сухи, рассечены провалами, пропастями, снежными колодцами, куда никогда не попадает солнце, и потому на дне их снег лежит круглый год. Растворимые известняки и мергели пропускают воду, как губка, и воронки, пещеры, трещины образуют неповторимый карстовый пейзаж. И тень от аспидно-синей скалы чудится тенью роденовского "Мыслителя" – наше окультуренное великими именами сознание оживляет эти пустоши и провалы. Позднее, когда я буду в горах совершенно один, изредка буду ловить себя на том, что тень скалы выступает одушевленным существом: так в одиночестве прорывается скрытая жажда человеческого общения.
Мы с Толей ставим две палатки недалеко от гнезда орлов, складывая в одной оборудование и провиант, во второй – две раскладушки, фонарь, свечи, застегиваем вход в палатки, набираем из нагревшихся бидонов воду в фляги. Первое знакомство с ближайшим окружением. По дороге в горы все более редели памятные места цивилизации: холм, – где стояла батарея Льва Толстого, бугорок с обелиском, – где Кутузов потерял глаз, туристский ресторанчик на Перевале, в котором официантки, молодые девицы, одеты в мундиры времен наполеоновской войны. Теперь нас окружают выжженные травы яйлы, сухое и жаркое безмолвие; в тени скалы слабое позванивание колокольчиков отары, к моему удивлению, без пастуха. Валун оборачивается спящей овцой, парящий орел внезапно садится на нее и оказывается вороном, глаз все еще не может привыкнуть к новым соотношениям, и беркут, раскинув крылья, парит в мареве, клекочет и замирает, вцепившись когтями в небо. Совсем близко от нас пролетает орел: отчетливо виден его круто загнутый клюв, обладающий невероятной пробивной силой, мощные, как железные капканы, когти, мерцающие сквозь панцирь перьев. В непомерном развороте его крыльев, кажется, ощутим весь циклопический разворот горного Крыма над притаившимися низинами северных крымских степей и уходящим вдаль, на юг, за предел, морем, над которыми белые облачка в этот полуденный час, ниже нас, чудятся крыльями Ангелов, и хотя они являются порождением грез, пестуемых новым пространством моей жизни, для меня они более реальны, чем севший неподалеку от нашей тропы орел, мгновенно превратившийся в неуклюже переваливающуюся птицу, и я уже ощущаю, что эта напряженная противоречивость ангельского полета и земной неуклюжести будет, как в тисках, держать эти необычные дни моей жизни. С высоты тысяча триста шестьдесят метров, стоя среди циклопических, причудливо выветренных скал (одну из них называют "головой императрицы Екатерины"), я вижу синюю безмолвную пустыню моря, как бы внезапно придвинувшуюся, затягиваемую бледной предзакатной дымкой, и какой-то никогда ранее не испытанный забвенный покой души легко и беспечально соприкасается с вечностью. Впервые со страхом и надеждой предчувствую, что именно здесь мне может открыться суть собственной жизни. Как бы не оказаться в эти мгновения глухим и легкомысленным. И часы на запястье руки кажутся детской игрушкой, данью оставленным за спиной низинам. Время здесь вынесено за скобки человеческой истории, меры его – геологические сдвиги и горообразования.
Дни затем пойдут разные – гористые, на подъем, скользкие от внезапных ливней и тягучих обложных дождей, летящие под откос, в которых несешься стремглав, посвистывая и просвистывая пространство. Но день этот первый в горах будет незыблем и незабываем, подобно юности, которая в те дни, казалось, стоит на месте и никогда не пройдет, как дальний лес в окне поезда. А пока солнце клонится к закату, поухивает артиллерийское стрельбище на соседней Караби-Яйле, едва сочится ручеек в распадке, который метров на двести ниже превращается в мощный водопад Джур-Джур, и ворчливый его рокот замыкает уже привыкший к безмолвию слух. Пастухи сидят у костра, рядом с землянкой. С Толей знакомы, здороваются: старший пастух Кузьма, пастух Александр. О Кузьме наслышан: загнутым концом пастушеского посоха он ловко ловит зайцев, цепляя их за ногу.
Легкий горьковатый дым поднимается в овечье небо Крыма.
Издалека доносится блеянье, звон колокольчиков, собачий брех: это два пса – большой черно-белый Чубарь-Кулах и рыжий, похожий на лисицу, юркий Сараман – сами с двух сторон гонят овечье стадо в загон.
В горле гор каждый звук становится гортанным. Пастухи гуторят. Александр помешивает варево, усмехается:
– Наш дом что: спина – стена, крыша – небо.
Из землянки выходит заспанный старик в мятой, как блин, кепке, хитровато вглядывается в нас с Толей:
– А, шкубенты?
– Когда ж ты, дед, научишься выговаривать – "студенты", – из-за скалы возникает третий пастух, весельчак и трепач Петя.
– Молчи, брехло, – говорит старик, присаживаясь к костру.
– Опять ты, дед, за старое, – сердится Петя.
– Ну что поделаешь, коли это так. Вот Чубарь-Кулах, пес, а говорит редко и только правду. А ты, Петя, брешешь… Незаметно разговор переходит на каких-то знакомых, которых Толя знал год назад: оказывается и здесь, на этом забвенье и приволье, полно опасностей, и смерть не дремлет: один упал в пропасть, то ли спьяну, то ли зазевался; другой покончил собой, а был такой веселый, и девки его любили; у третьего жилы полопались, кровь, что ли, слишком загустела, злой был и жадный говорят, что бывает и от климата, год выдастся такой, как наваждение, дурь в человека нагоняет, и как пойдут помирать, бросаться в пропасти, тонуть в море, спиваться, только и успевай подсчитывать.
– А меня никакой черт не берет, – смеется старик, обнажая редкие, коричневые от табака, кривые зубы, – я вроде как вечный.
– Ты бы лучше, дед, про немцев тут, в горах, рассказал, про партизан, ты ж героем вроде был, рази нет? – не унимается Петя.
– А ничо и не помню, – хитрит старик, – горой всю память придавило. Вон гора какая, Демержи-держи.
Непомерной величины полумесяц выползает из моря, между выветренных башен, и тени на скалах кажутся странными письменами, смахивающими на древнееврейские, ощущение, что ты в середине какого-то метафизического текста, и ни одно слово не лучше другого, ибо все велики и загадочны.
Божий виноградник, давильня вина, керэм эль, крама, – пьянящий напиток высот и далей. Падучие звезды скатываются над Крымом, Кармель дрожит под ударами звезд; Толик спит рядом, в палатке, как сурок, я читаю при слабом свете свечи псалмы Давида: самое подходящее место и время для покаяний, безмолвных метаний и молений юношеской души.
В полнейшем безмолвии гор строки кажутся пронзительно звенящими.
Отправляясь с утра в очередной маршрут, мы встречаем восход среди дымящихся лиловым и пурпурным маревом выветренных башен, гигантских, подобно ящерам, силуэтов вымерших цивилизаций. Но фантазия юности даже в этих формах гибели и развала находит материал для живого воображения, хотя с восходом сушь выпивает все живое, сушь избыточная – среди губчатого известняка, кариеса гор, дыр и воронок – кажется, все живое звенит и алчет одним заклинанием: воды, воды.
Зияющая сушь известковых скал.
Стучит дятел: сухой клюв долбит дерево, имитируя падение капель, это еще более сушит горло: пьем из фляг, вода уже нагрелась, как и в бидонах, хотя за ночь в них она до того остывает, что утром ломит зубы.
Лес обступает прохладой, то мягкими, льнущими травами и мхом, то жутко искривленными деревьями опутанными лишайником, этаким похотливым бородатым старцем, насилующим и удушающим лес. И деревца бегут от него вниз, по отвесной стене, местами впопыхах, заскакивая в начинающие урчать и пениться воды реки Улу-Узень. В какой-то миг она внезапно опрокидывается вниз, и вот – адское клокотание, хрипы, взбитая пена, водяной туман, сквозь который мы пробираемся по узкой тропе вниз; шипенье, вопли, свист, рев. Лес незаметно, с высот, обрушивается вместе с водопадом Джур-Джур в сад, где в свое время высланные из этих мест татары создали арычную систему, и укрощенные воды разбегались по деревянным каналам в гущу яблонь, грушевых и вишневых деревьев, виноградники и айва оплетали скалы. Нынче доски каналов сгнили, местами расползлись, вода течет сквозь щели, сады стоят запущенные, заросшие сорняком. Деревья сгибаются под тяжестью плодов, грузно шлепающихся оземь, грузно растекающихся. Запах гниения и брожения кружит голову, и у подножья горы, погруженное в эту атмосферу плесени, гнили и разложения, притулилось некогда насчитывавшее три тысячи жителей село Улу-Узень, после высылки татар переименованное в село Генеральское. Нынче обитают в нем жители, завербованные из средней полосы России. Сады запущены, доски арыков сгнили. В эти полуденные часы село кажется вымершим.
Мы успеем до заката обойти Демерджи-Яйлу понизу, побывать в Алуште, где на лотках будет полно свежей, сверкающей чешуей, только из моря, рыбы, и нам, спустившимся с гор, шумные рестораны будут казаться аквариумами, полными крупной и мелкой рыбы, рыб-подлипал-официантов, юрко скользящих между столиками, и хруст челюстей будет неимоверный. И подавать-то на столы будут рыбу, словно бы подчеркивая этим связь двух родственных стихий, и шальная мысль не будет давать мне покоя: верно, и в глубинах акулы готовятся есть нас, как мы здесь – рыб, и две обжираловки живут рядом, в разных стихиях, а всё это вместе можно назвать гастрономической зоной морского сюжета; среди множества загорелых туш, казалось, лишившихся душ, охваченных единственной всепожирающей страстью – обжорством. Мы купаемся, загораем, и каждый раз, выходя из воды, я словно бы ощущаю столько раз повторяемый переход от земноводного к пресмыкающемуся, когда у рыбы выросли конечности, и она поползла сухой ящеркой, неимоверно остро чувствуя легкость тела среди продолжающих набирать вес туш.
Возвращаемся той же дорогой, уже в сумерках совершая подъем, цепляясь за корни, быстро одолевая выступы, успокаивая дыхание на небольших пятачках, рядом с монотонно ревущим водопадом. В отличие от усиливающегося и ослабевающего шума прибоя, в котором мы качались всего каких-то часа полтора назад, водопад кажется органом, на клавиши которого положили камень, и один и тот же аккорд звуков ревет, не прерываясь ни днем, ни ночью, без единой паузы. Одолев утес Хапхал-Кая, мы выбираемся на яйлу, и сразу – тихо. Не верится, что совсем недавно мы шли сквозь ревущие лабиринты человеческой суеты. Засыпаем как убитые.
Иногда мы уходим в одиночные маршруты, и мне уже привычно скользить по какому-нибудь утесу: подо мной шерсть облака расползается шкурой, сотканной из ничего, сырым мехом, облекающим горло горы.
Дремучая лешачесть леса, море вместо горизонта, палатка вместо крыши, русалочий шепот в листве. Внезапный визг туристок на протоптанной тропе бросает в дрожь.
Изредка спускаюсь в Симферополь.
Окунаюсь в потную городскую жизнь.
Луна в горах сродни скале, дереву, морю, здесь же ее размытый, в оспинах и пятнах, лик тускло мерцает сквозь пыльные шторы моего случайного ночлега в одном из кабинетов института ВИМС, над нежилой жесткостью учрежденческого дивана, над каштанами и тополями вдоль улиц, прирученными, бестолково пускающими пух, который липнет к лицу, забивает дыхание. Я погружен в лунатическое челночное существование – между очищающим одиночеством горы и кишащей Вавилоном низиной, и челнок с лунной нитью, неслышимый и несуществующий, ткет такую же, казалось бы, несуществующую и, тем не менее, ощутимую ткань моей жизни.
Собираюсь на Чатыр-Даг, к Игнату и профессору. Прощаюсь с Беллой недалеко от ее дома, рой мошкары пляшет в свете фонаря все над той же пожелтевшей газетой со столбцами имен под стеклянной витриной: ее уже несколько месяцев не меняли. Решаю не возвращаться в затхлые комнаты института; последним автобусом еду в горы, выхожу на Перевале, у ресторана, где гулянье в разгаре, пенье и крики, и девицы-гусары с бледными от усталости лицами не то, чтобы скачут, а просто валятся с ног между столами.
Тут же по тропинке почти скатываюсь в сторону Чатыр-Дага, и сразу – тишина, забвение, мягкая луговая трава, стрекотание цикад. Прямо над головой во всю громаду – Эклизи-Бурун – вершина Чатыр-Дага, и мне предстоит сейчас, при свете луны, взобраться на нее.
Оказывается, луг довольно велик. Ступаю по мягко пружинящим травам – пронзительный крик из-под моей подошвы, и какой-то зверек, визжа и постанывая, катится в травах. От неожиданности присаживаюсь на корточки, унимаю сердцебиение: ведь это какое должно быть безмолвие, полная нирвана, чтобы зверек потерял бдительность, заснул, не почувствовал моего приближения.
Начинаю подъем. При свете луны в отвесной скале виден каждый выступ с пятачок, на который можно поставить ногу, передохнуть. Тело становится собранным, цепким и легким. Хватаясь за кусты можжевельника, как за протянутые руки, быстро решаю, в какую сторону рвануться, куда перебросить тяжесть тела.
Через полчаса я на вершине; оглядываюсь: место, откуда начал подъем, зияет невероятной пропастью, и вся долина с едва мерцающими светляками Перевала, кажется, дном, просвечивающим сквозь толщу пронизанных лунным светом вод.
Утром завтракаем за столиком, рядом с палатками.
Сергей Александрович даже за завтраком в шляпе с неизменным пером, похожий на юркого состарившегося мальчика рядом с палеонтологом, красноглазым, тяжким, как утюг, с ограниченным поворотом шеи стариком, профессором Богачевым. О нем ходят легенды среди студентов, столь же чугунные, как и он сам: о том, как однажды через всю аудиторию, поверх студенческих голов, куском породы запустил в мышь, о том, как, везя студентов на практику, занял нижнюю полку в общем купе, вышел на минуту. На полку присел какой-то шумный грузин; ребята ему: "Это полка профессора, вы лучше не занимайте ее", а грузин: "Какой профессор, я сам сэбэ профессор". Входит Богачев, смотрит, не поворачивая головы и не мигая красными своими глазами, в упор на грузина, а тот вертится: "Послушай, кацо, ты профэссор, я профэссор…" "Уйди", говорит Богачев, не мигая."Послюшай, ты… я", не унимается грузин. Богачев огибает его, садится у окна, упирая ноги в стенку вагона и… задом вышибает грузина с полки. Этот специалист с мировым именем как-то в свое время не обратил внимания, что идет мировая война, продолжал заниматься своими моллюсками, немцы не тронули этого чудака. зато свои, после освобождения Крыма, занялись им вплотную: старик отсидел десятку, за это время единственно близкое ему существо, мать умерла, а он бросился к своим моллюскам, как будто никакого перерыва в десять лет и не было. Завтракая, он едва шевелит челюстью и похож на какое-то диковинное ископаемое, ожившее лишь потому, что вдруг увидело пеструю птичку, севшую на вершину палатки, вертящуюся и чирикающую.
Ассистентка Ковалевского Надежда Васильевна, сидит рядом с нами, причесанная, улыбающаяся. Для нас не секрет, что это именно для нее старичок одевает шляпу с щеголеватым пером, белый полотняный костюм.
Отправляемся втроем – профессор, Игнат и я – в маршрут. Сначала спускаемся в пещеру Бин-Баш-Хоба – Тысячеголовую, названную так, ибо в свое время здесь обнаружили более тысячи черепов. В давние войны скрывающихся в такой пещере душили дымом, разжигая костры у входа, тяга в пещере весьма ощутима, вход в нее испещрен именами туристов; заходить вглубь они боятся. Завязывается какой-то сумбурный разговор: Мне слова "Хоба" напоминает "Кохба", и я говорю о пещерах в Иудейской пустыне, в которых прятались воины Бар-Кохбы и просто евреи после разгрома восстания, и даже римляне не додумались выкуривать их дымом, старик сыплет в ответ татарскими и латинскими словами. Тут вмешивается Игнат, который давно подразнивает старика, и говорит, что читать надо не "Хоба", а "Хоба", и это напоминает ему – "Коба".
Старик хмурится и замолкает. Входим в солнечный, весь просвистанный птицами орешник. Старик оживляется, начинает носиться между кустов: "Ну-ка, кто больше наберет орешков". Один карман у него и так отвисает под тяжестью фотоаппарата. Старик не знает секрета, которым владеет Игнат. На поверку у меня орешков и вовсе ничего, у Игната чуть больше, а у старика уйма. "Так они же все пустые", говорит, не моргнув, крестьянский сын Игнат, – глядите, у них же хвостики не отпали". Старик смеется: "Просто завидуешь", начинает щелкать: и вправду все пустые. Старик опять обиженно, как ребенок, хмурится.
Бежит речушка, пенясь между камней. У старика глаза заблестели от новой идеи: ловить форель. Она же обычно стоит в струе, под камнем, ее только рукой и взять. Часа полтора занимаемся этим пустым делом, и не поймав ни одной форели, в приступе деятельности начинаем складывать камни в плотину: вода хлещет сквозь пальцы, солнечный дождь трепещет над нами в листве, старик бегает вдоль речушки, суетясь, подбадривая, щелкая нас фотоаппаратом, водружаем на шест в виде флага Игнатову майку, и тут Игнат опять попадает в десятку: "Назовем эту плотину именем
Сталина".
До сих пор терпевший старик, на этот раз впадает в ярость: "Ну да, ну да, именем этого недоучки семинариста. Узкий лобик, гений всех времен". Для старика, еще в царские времена бывшего известным экспертом по нефти, натерпевшегося много страха от бывшего сатрапа Азербайджана Багирова, нет более ненавистного имени, чем Сталин Коба. Странный этот старик, Сергей Александрович, бормочущий стихи Бальмонта, списывающий даты на симферопольском кладбище, в свои шестьдесят девять лет бегающий по горам, щелкающий фотокамерой, наивный, как ребенок, прыткий на выдумки – собирание орешков, строительство плотины. В эти годы старики ищут покойный угол, а он как будто все время убегает от самого себя.
Бегство через всю долгую жизнь.
На закате опять все в сборе за столом. Старик затевает разговор о тайной вечере, о причащении пищей, об изгаженном мире людей, по вине которых даже природа, девственная и цельная, съедена, залапана, испита. Если это и вправду так, что на старости возвращаешься к младенчеству, то старик впадает в детство: быть может, это выработавшаяся постоянная реакция на несбывшиеся желания жизни, в которой все его идеи, как и природа в шелушащихся, опаршивевших стенах городов, залапаны, уничтожены, испиты. И выходит, что жизнь его, столь страстно и справедливо претендовавшая на необычное, погибла. Ведь он жил среди поколений иуд и мерзости доносительства. И единственным спасением было – впасть в детство, чтобы выжить в кровавом лабиринте. Нами же эта, похожая на детский лепет непосредственность, воспринимается как сохранившаяся в старости свежесть чувств.
Мы сидим, замерев, представляя странное зрелище при лунном свете, и старик почти шепотом рассказывает о посещаемых им в юности спиритических сеансах, о столоверчении, о том, что он конечно же не верит всему этому, но вот же девушка одна умерла, и парень, который ее любил, ушел в леса, жил дикарем, зарос, потом вернулся, немного пришел в себя, На спиритическом сеансе вызвали ее дух, и она заявила присутствующим, что была беременна, парень почернел на глазах: об этом знал только он один. Надежда Васильевна, клятвенная атеистка, быстро уходит в палатку: от этих рассказов, как она говорит, ей становится дурно, тоскливо, как при наступлении обморока или в предчувствии землетрясения. Сергей Александрович посмеивается, говоря, что вовсе не грешно проявлять интерес к черной магии, и при свете луны видно, как он стар и каким замогильным холодом веет от его смеющегося старческого рта. О Боге он предпочитает не говорить и этим напоминает провинившегося ученика, который знает, что чересчур частым употреблением циничных слов и курева потерял наивность восприятия, обоняния, осязания, – то, чем еще можно вернуть себе Его высокое присутствие.
Косвенно, не упоминая Его имени, он пытается всяческими уловками доказать, что Бог это порождение нашего страха перед смертью, но понимает, что наше одиночное существование на высотах, порождает думы о Нем.
На следующий день собираюсь назад, на Демерджи Яйлу, ухожу на минуту за кустик. Внезапно старик возникает рядом, в неизменной шляпе с пером: "Что, пугаете разбойников?" Застав меня врасплох, спрашивает в упор и в явно не подходящем месте, как учитель ученика, не очень-то верящего в его выкладки и доказательства:
– Вы верите в Бога?
Но тут возникают Богачев, Игнат, смеясь, перебрасывается со стариком шутками.
Вопрос повисает в воздухе.
Спускаюсь в долину, иду по узкой тропе между двумя горами – Кудрявой Марьей и Лысым Иваном, поднимаясь в сумерки на знакомое плато, вижу вдалеке наши палатки, пустые, застегнутые: Толя уехал в Симферополь болеть за свою жену, поступающую в пединститут, и мне долгое время предстоит быть на горе одному.
Лежу в полнейшей темноте палатки, треугольник входа серебрится лунным светом, и в нем мерцает смеющийся старческий рот Ковалевского, за ним реют какие-то невнятные метафизические покровы мира, разрываемые сухими истлевшими ребрами, но все это оттесняется живой водой женских лиц.
Юношеская тяга к метафизике – как оправдание стеснительности перед живой прелестью женщины.
Я погружаюсь в сон, как ныряю в море, я плыву, я стараюсь оторваться от кого-то, кто настигает меня – мой враг, мое сомнение, моя боль, моя женщина.
Девочка, плыви назад, тебе нечего делать в этих гибельных водах, на этих разреженных высотах. И ее виноватую улыбку относит течением в забытье.
Утренняя молчаливая молитва гор и моря: быть может, весь иудаизм – жажда перевести такое ослепительно-радостное утреннее пробуждение природы в чисто духовное переживание?
И я умываюсь холодной водой из бидона, пью чай, прочищаю горло строками Блока:
Я встал и трижды поднял руки. Ко мне по воздуху неслись Зари торжественные звуки, Багрянцем одевая высь…Ухожу один в маршрут, осененный какой-то девственной не боязнью, спускаюсь в обрывы, хожу по краям расселин, сплю, где меня застает ночь, насобирав опавшие листья, и вокруг меня все время стоит чистота, сухой и легкий воздух одиночества: оказывается, на высотах, где живут лишь орлы, можно ощущать себя по-домашнему.
Здесь и вправду иная жизнь, не смешиваемая с той, что внизу, и заброшенные в чаще источники под полугробницами-полуалтарями Ай-Андри и Ай-Анастаси – вот символы этой жизни, а не замызганные овечьим стадом корыта ниже по склону. Они хранят печаль вечности, эти источники, подернутые зеленой ряской, неподалеку от прозрачной, уже начинающей поигрывать своей мощной рясой вод, текущей между камнями Улу-Узень. И я подолгу сижу над струнным ее течением, и вокруг меня трепещут полуденные тени, таящиеся, юркие, прячущиеся с приливом солнечного света, как рыбы, под камень, ящерицы в кусты, и мне так ясно в эти мгновения, что вся наша жизнь это игра в прятки с тенями.
Вода Улу-Узень чиста и сильна до того, что падающей своей струей сама себя вышибает из кружки, а прикоснуться к струе ртом и вовсе невозможно. И зной полдня и холод кинжальной струи в одиночестве гор обозначает удивительный миг в моей жизни, ее пик, безмолвие, печаль, ибо я знаю, что это уже никогда не повторится. Меня не тянет вниз, в плоские долины жизни. В эти мгновения я точно знаю, что должен жить на этих высотах.
Сколько же мер свободы и одиночества будет мне еще отпущено в подарок до того, как снова окунусь в суету и мелочь, как окунаешься в воды у пляжа, в которых плавают окурки, бутылки и обертки; до того, как снова столкнусь с зеленщиками, которые оперными голосами выпевают свой товар, улыбаясь им, ты ощущаешь себя равно с ними ничтожным; до того, как вернусь в червеобразные ходы городских улиц, где обжигающее лезвие летящих сверху вод будет казаться сном иного мира, который уже в эти минуты гнездится во мне и устраивается навсегда памятью лучших мгновений жизни.
Никогда позднее пища, которую я сам для себя готовлю, не будет мне так во вкус и впрок, никогда позднее тело мое, круглые сутки пребывающее в одних плавках под солнцем и звездами, не будет таким неимоверно легким и сухим.
Иногда приходит пронзительное – чувство до существования, в лоне природы, приходит отгадкой самой жизни, которая зарождалась, обретала плоть, пульсацию и, оборвав пуповину, ушла в мир, но рубец обрыва ноет всю жизнь тягой возвращения в безбрежность бытия. Именно здесь, в горах, безбрежность ощущается особенно остро, ибо налицо, отчетливо одинока, сокровенно прислушивается к самой себе. На миг ощущаешь возвращение к единому целому как некую репетицию последнего слияния, и нет в этом ни грана от смерти и тлена, и все же становится не по себе, и я начинаю суетиться, греметь бидонами, варить который раз макароны, заправлять их томатной пастой, чтобы услышать свое самое будничное присутствие в этом мире.
Ухожу до рассвета с твердым намерением к ночи не возвращаться.
Я один на один с яйлой, небом, орлами, день за днем, редко по пути захаживаю к пастухам: рассказывают о каком-то парне, Сергее, который месяц как исчез, следов его найти не могут, обыскали все пропасти, расспросили всех путников. То один, то другой говорит, видел такого, оброс, похож на лешего, шастает где-то здесь, на Демерджи, может, встретишь; мать убивается, странный такой был, все в одиночку в горы, и, главное, боялся пещер, особенно на Караби-Яйле, там подземные речки, утянут, и поминай как звали.
Теперь это – как наваждение, особенно когда в сумерки иду через лес: то, кажется, ветка хрустнула под шагами этого Сергея, то лишайник бородой его выглядывает из-за дерева. Страха нет, наоборот, ощущение, что ты не один, что очень хочется встретить этого Сергея, отыскавшего истинный способ своего существования, который тебе заказан.
Как-то под вечер неожиданно заглядывает в палатку старик-пастух в кепке блином: гнал мимо ослика с бидонами воды, решил заглянуть.
– Что ж ты, шкубент, один да один? А там, знаешь, внизу пляшут. Американьцы японьцам атомну бомбу кинули.
Так, на этих ангельских высотах, ненароком и третью мировую войну прозеваешь.
– Как кинули? – спрашиваю испуганно.
– Ну… один раз кинули, да? Теперь другой.
– Испытания, может, дед? – неуверенно спрашиваю.
– Ну да, ну да, спытания, – энергично кивает старик, явно под хмельком.
– А пляшут где?
– В Москве, где ж еще?
Это как сигналы исчезнувшей цивилизации: фестиваль в Москве, за которым мерещатся рожи гебистов Дыбни и Казанкова, которые вербуя, соблазняли меня поездкой на фестиваль.
– Пошли до нас, – приглашает дед, – самогон у нас свеженький.
Опять костерок, баранина, самогон. Старика совсем сморило, залез в землянку, на полати, вроде спит, а все слышит, особенно когда Петя начинает плести враки, время от времени подает с полатей голос:
– Кончай брехать, Петя. Все брех да брех.
– Да уймись ты, пьянь старая, – орет Петя.
Пастухи захмелели, опять про Сергея разговор: сумку-то его нашли в распадке недалеко от наших палаток (чуял же я что-то), а он прямо как ангел в небе растворился.
Возвращаюсь при звездах.
Кружится голова и такая легкость в теле: зазеваешься ненароком и взлетишь в небо, только бы в расселину не упасть.
А рядом ревет водопад, и я сажусь рядом с ним, я слушаю, и странное такое ощущение, будто вся звуковая громада моей жизни, отошедшей и будущей – пением, плачем, криками, ликованием рождения, войны, гибели, любви, все это рушится и звенит этим водопадом. И все обращено ко мне одному, а не будь меня, вообще – в Ничто, в природу. И в этом – расточительное великодушие Бога, не думающего о зрителях и слушателях, или намек на то, что все истинное открывается в таких потаенных местах. И я сначала вслушиваюсь, замерев, в это неистовство, а затем начинаю почти кричать какие-то любимые мною стихи, выкрикивать все, что накипело в душе, петь. И все тонет в грохоте водопада. Но во мне гнездится глупая мысль, надежда, вера, что все это не поглощается ревущими водами, а сохраняется, и кто-нибудь когда-нибудь, оказавшись в том же внутреннем состоянии, как я в эти мгновения, услышит мои тирады и ламентации, может Сергей этот их слышит и сейчас, и ощущение такое, что чем глубже ночь, тем воды неистовствуют сильнее, но вот я удаляюсь за скалу, и все мгновенно обрывается: только звон тишины в ушах.
И этот внезапный перепад вместе с самогоном сладко и печально кружит голову.
На следующий день, к часам одиннадцати, все вокруг внезапно темнеет, да так быстро, что я не успеваю понять: ведь это тяжкие глыбы облаков, цепляющиеся за кривые стволы совсем низкорослого дубняка. Ослепительно лиловая вспышка в двух шагах от меня, гром такой силы, что вообще его не слышу, шквал воды обрушивается с такой внезапностью, что едва успеваю ухватиться за ветки выскальзывающего из рук дубка. Земля оплывает вниз из-под ног, а я внутри грозы, прямо в тучах; вот облако слегка сместилось, видны провалы, и в каждом по водопаду, несущему камни, дерн, глину. Поток сшибает с ног, тянет, кажется, еще миг и весь дубняк вместе с корнями, землей, мною, сползет и канет в реве падающих вод. Наверно так выглядел Ноев потоп, пытаюсь я хорохориться, чтобы не потерять присутствия духа. Но вот ливень слегка ослабел, но вот в какой-то просвет даже выглянуло солнце. Сухие вади, вмиг взбухшие потоками, никак еще не могут успокоиться. Ливень прекратился, но облака так и не расходятся до ночи. И странное ощущение, как будто я вместе с палаткой нахожусь в каком-то ватном пространстве, и погружаюсь в сон, и в нем ручьи текут, шипя змеями по известняку яйлы, Ковалевский вместе с Беллой собирает пустые орешки, а на центральной площади Симферополя висит плакат "Остерегайтесь случайных связей".
Утром все те же облака. По знакомой тропе, которая на метр впереди меня исчезает в тумане, спускаюсь к Перевалу купить в магазинчике пару буханок хлеба.
На обратном пути начинает моросить дождь. Оказывается, в самих облаках он тоже идет, и я кружусь в этой плотной белой вате, и не могу найти палатку битых два часа, я уже промок насквозь, пальцы окоченели, жую для успокоения, откусывая от угла мокрой буханки, а палатки все нет и нет, хотя чувствую, где-то рядом она, совсем рядом. На каком-то витке внезапно натыкаюсь на никогда ранее не виденную хибару, рядом с ней старик, улыбается мне беззвучно ощеренным беззубым ртом, незнакомый, землистый, как видение смерти, из хибары выглядывает ослик. Вздрагиваю, предпочитаю пропасть в тумане, нежели видеть этот оскал, и тут неожиданно натыкаюсь на палатку, негнущимися пальцами с трудом расстегиваю полог, раздеваюсь догола, нагреваю воду в чайнике, нечаянно прожигаю стенку палатки; меня всего трясет, ну, думаю, не миновать воспаления легких, напиваюсь горячего чаю и ложусь спать.
Просыпаюсь два часа спустя: солнце, блеск, никаких туч, дождя, словно все это привиделось в дурном сне, стоит палатка в безмолвии, и надолбы скал вокруг, как зубцы крепости, одинокой, где-то на краю бескрайней татарской пустыни, и прибежавшая откуда-то в полдень лошадь, чья тень неожиданно надвинулась на палатку, – я сначала не понял, кто это, а выглянув, спугнул ее, – убегает, скача по яйле последним живым существом где-то еще существующей, но уже исчезающей цивилизации, напомнив о пире уже не во время, а после чумы.
И еще раз к ночи гроза захватит меня у Перевала, блеснет молния над столиками ресторана, разобьется и рассыплется электрическая лампа, девицы-гусары начнут визжать, скалясь в темноте, все будут метаться под ливнем на веранде, а после я буду подниматься по скользкой тропе к себе, на яйлу, при свете новенькой омытой луны, и такой будет подъем в душе, и снова я буду что-то выкрикивать и петь под дальнее ворчание грозы.
Последние дни на яйле перед тем, как спущусь в село около Алушты, особенно долги и неповторимы. Иду в самый дальний край яйлы, чтобы там, переночевать, встретить на рассвете восход. И внезапно, на повороте, врезавшаяся в память на всю жизнь глинистая красноземная дорога. Ее освещенный закатным солнцем горб, внезапная праздничность мгновения в одиночестве гор Крыма.
Погруженные в жаркое марево, как в горячечный сон, горы облиты жидким стеклом солнца. И время это – в горах – наполняет меня пространством: я живу в его протяженностях, сквозняках, грозах, и не понимаю, что это вообще – мелочиться.
Наступает ночь. Зубчатый край леса. Ложбина, полная опавших листьев. Собираю их ворохом у самого края пропасти, обращенной прямо на восток, и сводящая с ума своим сиянием луна встает над Демерджи-Яйлой, звенящей тишиной своих пропастей.
Луна, трепещущая форелью в водах.
Луна, воткнутая кривым ятаганом в "голову Екатерины".
Лежу на ворохе листьев, заложив руки за голову, и дорогие имена внезапно приходят в этих фосфоресцирующих сумерках, как птенцы, выпадающие из гнезда воспоминаний. Ветка треснет под зверьком, быть может, ящерицей, странный писк доносится из рядом затаившегося мира, который не дано различить человеческому глазу, и такое почти бездыханное чувство одиночества, что мир человеческой суеты, там, внизу, кажется чуждым, в ином измерении.
Татарские имена гор и ущелий – Улу-Узень, Кара-Узень, Суук-Хоба – одиноко и беспомощно светятся в оставленном их высланными хозяевами, никому не принадлежащем пространстве.
Набежит легкий ветер, пальцами слепого пошарит в кустах, взъерошит листья, коснется моего лица. И все прошлое, накопившееся суетным Вавилоном, стоит низиной у ворот в горы, а сами горы – воротами в море – в даль, в средиземноморское семитское пространство, лиловое в этот поздний лунный час, как виноград в давильне, сжатый сухими камнями гор.
Отчетливо ощущаю собственное погружение в сон, глубокий, но в горах особенно чуткий: малейший звук – травинка, задетая мышью, шорох ветки, и я просыпаюсь, но тут же опять счастливо втягиваюсь течением сна, плыву в его водах, на спине, руки за голову, переворачиваюсь набок, и несет меня течением.
Гул моря, громада гор, тяга в дали раздвигают узкие глинобитные стены родного дома, спят мама и бабушка, умиротворенные: быть может, я им снюсь вместе с такой огромной и не пугающей "головой Екатерины". И покой, столь надежно подпертый громадой гор, струится в их сон, как полая вода.
В полночь гул безвременья натекает в сон из будущих лет каким-то непонятным, главным предупреждением, но не боязнь, разлитая в теле, как темная заводь, все это обращает в тихую, натекающую из ночных пространств музыку.
Просыпаюсь с росой в волосах, и первый миг пробуждения среди палых листьев и диких горных трав пугает, как воскресение на пустынном кладбище среди можжевельника и бальзаминов. Предрассветная недвижность и безветрие кажутся потусторонними.
В сизо-серой бесполой мгле, прядающей от моих ног, и до самых краев мира что-то пытается пробиться, как птенец, бьющийся клювом в скорлупу, и вот он – огненный птенец, скорее, чем я успел к этому приготовиться, пробивается из сизого ничто: прямо подо мной восходит солнце.
Аспидно-зеленая дымка, подсвеченная огненным маревом, клубится, как бы испаряясь, в береговых бухтах и щелях гор, и я абсолютно один, и я ни с кем не могу поделиться серебром вод, окрашиваемых сначала в опаловый цвет, а затем сверкающих так неожиданно и неповторимо, как может сверкать открытый в этот миг алхимиком эликсир жизни, и весь лесок вокруг меня начинает трепетать бледным призрачным мистическим сиянием, и я ощущаю себя вновь младенцем, только раскрывшим глаза на мир.
На следующий день наши палатки уже будут стоять селе Генеральском, под горой, в запущенном фруктовом саду, на берегу той же речушки Улу-Узень, у подножия водопада Джур-Джур, и это уже будет иная жизнь, тоже пропитанная легендами, но более мягкими и чувственными в сравнении с сухой обнаженностью и категоричностью высот, где я стою в эти мгновения, наиболее приблизившись к самому себе, а там я уже начну снова сливаться с другими.
Крымская луна непозволительно роскошна среди ночных ветвей.
Мы еще у истоков вод улу-узеньских, вавилонских.
До плача так ли еще далеко?
Русалки выступают во тьме из щелей и расселин скал, поют голосами ветра, слышны мне по опыту одиночества на высотах.
Ночной шум вод чудится мне лепетом замечтавшегося при звездах Ангела, душа податлива этим ночным водам, ибо не ведает будущей боли.
Лежу, вспоминаю вчерашнюю последнюю ночь там, на высотах, трепещущее пламя свечи, строки псалмов, самолет, всю ночь гудящий над яйлой, странные мысли о шпионах, которых могут сбросить на парашютах, топор, в порядке самозащиты положенный под изголовье.
Через два дня покидаю Крым. Игнат остается еще на пару недель.
Вместе со стариком провожают меня до причала. У меня всего-то чемодан с дневниками, парой булок и фруктами из сада, да гитара.
Никакого имущества: удивительная легкость существования.
Море неспокойно. С трудом взбираюсь в катерок, взлетающий на волне над причалом. У горстки пассажиров зеленые лица, им явно не по себе. Обдаваемый брызгами, взлетая на гребне волны так, что приходится крепко держаться за поручни, вижу в последний раз в жизни машущего мне старика с пером в шляпе. Его быстро уносит, а вернее, относит самим пространством в забвение, и в этот миг, вся моя юность чудится цепочкой, флотилией таких катерков, швыряемых волнами вверх, но не переворачивающихся.
В Алуште цементная площадь автостанции покрыта лужами, отражающими облачное сентябрьское небо.
Покупаю билет в Ялтинском пароходстве: теплоход "Украина", идущий до Одессы, будет лишь завтра. Оставляю вещи в какой-то дешевой ночлежке с неизменными марлевыми занавесками на узких, как в тюрьме, окошках, иду гулять по вечерней Ялте.
Сижу в кафе за стаканом сухого вина, прощаюсь с Крымом, с Ай-Петри, переходящим к востоку в Бабуган-Яйлу с горой Роман – Кош, а далее знакомый очерк Чатыр-Дага и совсем родственный – Демерджи, и все это единым очертанием навек западает в мою память. Из соседнего кинотеатра выходят девочки, вероятно, старшеклассницы, обдавая свежестью дыхания, волнующей тайной своей отдельности, и все это – дешевая клеенка на столике, дешевый стакан, дешевое вино, девочки, почти девушки, не умеющие еще скрыть своего любопытства, – все это несет и замыкает в себе навечно это удивительное мгновение жизни – мгновение прекрасной потерянности в чужом, курортном, полном соблазнов, городе.
Горбатые ялтинские улочки с кипарисами скрывают тысячи тайн за каждым поворотом. волна, полная мусора, бьет в угол каменного парапета, оркестр играет на крыше ресторана, у мола, к которому пришвартовывается корабль, идущий в сторону Кавказа, все это сливается, еще более подчеркивая неповторимость моего одиночества. Даже робость перед этим полуодетым, украшенным драгоценностями, прожигающим жизнь миром тоже воспринимается частью этого одиночества. Не участвуя впрямую, я как бы растворен среди этого карнавального мира курорта, где все приезжие без корней, где все настояно на хмелю, на будоражащем запахе йодистого моря, пота в смеси с солью.
Просыпаюсь с ощущением, что ночлежная комната заполнена людьми, шаркающими и бормочущими. Раскрываю глаза: комната пуста. Шум доносится в окно. Выглядываю. Странное зрелище: на уровне моих глаз одни ноги – в сандалиях, туфлях, тапочках, переступают, почесываются, даже танцуют какую-то чечетку. Оказывается, окно выходит прямо на уровень улочки, где расположен базар.
Хожу по улочкам Ялты, подолгу торчу у церквушки, в которой снимался фильм "Праздник святого Йоргена" с Кторовым и Ильинским, обнюхиваю каждую вещь в домике Чехова: человеческое гнездо, оставшееся нетронутым, но мертвым, лишь странно ощущаемые крупицы жизни – в висячей лампе на веранде, в поблескивающем медью маятнике часов, море, чей уголок просматривается из окна.
В сумерках поднимаюсь по трапу на теплоход, билет у меня палубный, сижу, поглядываю на мгновенно отделившийся и уже ставший чуждым берег, Ялту, горы.
В Одессе сажусь в поезд. И вновь начинается и разворачивается музыка дороги, страстно и тщетно пытающаяся быть цельной и обрывающаяся с каждой новой связью, но уже прослушивается в ней тема на всю мою жизнь – мелодия вечного расставания с молодостью.
Шестидневная война
После почти восьми лет работы геологом, целого ряда публикаций, я был приглашен заведовать отделом культуры и литературы в республиканскую газету. Приглашение было неожиданным и, конечно же, льстило моему самолюбию. В дополнение к этой службе, меня забрасывали переводами из издательства с итальянского и английского языка.
Стояли знойные дни начала июня 1967 года.
В отвратительном настроении я сидел в полутемной клетушке, называемой кабинетом, в редакции, хотя, казалось бы, все шло как нельзя лучше. Была молодость, любимая жена, ребенок, шумные гулянки со старыми друзьями, южное солнце, мягкие зимы, высокие ночи с густой россыпью звезд.
Но все это не могло заслонить мерзость времени, которое тягостно и неотвратимо высиживало «роковые яйца» назревающих событий. Единственной отрадой были ночные часы. Жена и сын спали, и чудный покой нимбом витал над их головами. Я глядел на них и думал о том, что во сне человек более близок к растению, молчаливо растущему, несущему в себе не только идею, но и реальность цветка и плода. Не душа ли это – распускающийся цветок, дающий начало плоду – плоти?
Спящий человек, особенно женщина, полна покойно пульсирующей и потому особенно глубинной своей сущностью, квинтэссенцией жизни.
И потому, глядя на спящую жену, я ощущал причастность к тем глубинам, где сновидения соединяют с пугающей легкостью этот и тот миры. И все ушедшие, и даже еще не пришедшие – в фантазиях женщины о будущем ребенке, увиденном ею в других детях – уживаются вместе, ткут особый мир, из которого нередко так и не хочется уходить. Казалось бы, отсутствие словечек типа «Ты меня любишь?» или «О чем ты думаешь?» – всей внешней будничности пребывания в бодрствовании, отмечало пустоту проходящего времени. По сути же, связь между спящими и бодрствующими существами выявляла полноту существования. Кажущаяся бессознательность спящего несла в себе цельность существования, берущего в счет эту и ту сторону жизни, и тем самым расширяющегося да самых своих корней, да самого тайного ядра – жизни. И это было сродни иным проявлениям этого ядра, таинства самостоятельной пульсации чуда, называемого сердцем, с момента, когда комок плоти издавал первый крик, означающий вдох и выдох. И это было сродни лунному мерцанию, накату волн, скрытому гулу речных вод, неслышному росту трав под столь же неслышным, но ощутимым ветерком. Это были не сны о жизни, а сама ее суть, говорящая, что жизнь, кажущаяся сном, и есть жизнь. Не тут ли таилось чудо прикрытых глаз статуй, или даже открытых, но не видящих, погруженных в сон, во внутреннее видение? Не потому ли статуи эти особенно прекрасны? Спокойно спящий человек словно бы пребывает в облаке беззащитного, и потому истинного счастья. Может, это и есть корень и суть сна – обнаруживать тайную связь между душой и природой, все время помня, что в тебе душа – тоскующая, взыскивающая быть душой в этой как бы равнодушной природе. Вечность, принимаемая как равнодушие – находка человека, неустанного жалобщика на судьбу. Все это я обдумывал в поздние часы, и при слабой ночной лампе записывал бисерным почерком в дневник размышления, строки стихов, накапливающиеся за день. При этом я испытывал истинное наслаждение, смешанное со страхом, ибо понимал, что попади эти стихи и записи в руки «критиков в штатском», меня могут запросто упечь за решетку. И накликал. Главный редактор вызвал меня в кабинет, где ждал меня некто, и сам вышел, оставив нас вдвоем.
Заученным, уже знакомым мне, жестом некто повел перед моим носом красной книжечкой и прогнусавил: «Полковник Лыков». Предложил сесть, глядел в какую-то бумажку. Прочитал: «Элита, как улита, – боится «лита»… «Не литуют, а лютуют»… Это ваши афоризмы?»
Кто же это доносит в редакции? – мелькнуло в голове. Берут на испуг. Мог бы сказать, что не мои: вряд ли они записали с голоса. Сказал:
– Мои. Я вообще люблю играть словами. Например, можно ли в одном предложении семь раз обыграть слово «рука»? Вот: «Надо взять себя в руки, набить руку в своем деле, быть легким на руку, но, упаси Бог, быть нечистым на руку, чтобы, как торговец сбыть с рук, или, как вор, сбить с рук, и в результате остаться с пустыми руками».
– Но как быть с «литом», – спросил несколько сбитый с толку интеллигент-полковник, про себя, кажется, считая, действительно ли «рука» повторялась семь раз. Губы его едва шевелились, как у школьника.
– А что «лит»? Цензура. Кто же ее не боится
– Читали мы ваши переводы. Действительно, набили руку. – Сострил полковник. – Откуда вы так превосходно знаете языки?
– Стараюсь. А что, нельзя?
– Что вы? Нам иногда нужны переводы материалов, которые не предназначены для широкого чтения.
– Ну, я готов переводить.
– Но для этого вы должны подписать документ о сотрудничестве с нами.
Я окаменел. Чужой голос вырвался из моего рта:
– Один раз меня уже вербовали. И сильно напугали. Никаких документов о сотрудничестве я подписывать не буду.
На лице Лыкова, профессионально умеющего сдерживать свои чувства, возникло досадное удивление.
– Но мы можем вам не дать допуск.
– Что ж, надеюсь, вы не запретите мне переводить для издательства «Трех мушкетеров» Дюма или «Записки Пикквикского клуба» Диккенса. В конце концов, я законопослушный советский гражданин, и вы, назначенные государством печься о нас, не оставите без куска хлеба молодого специалиста с женой и ребенком.
Самое удивительное, что тирада эта была абсолютной импровизацией и, вероятно, именно это произвело на Лыкова впечатление. Возникла довольно долгая пауза. Лыков барабанил пальцами по столу.
– Ладно. Мы с вами свяжемся.
Я шел по улице, пытаясь расслабиться. И хотя руки и ноги дрожали, я был доволен собой. Ощущение цельности, идущей изнутри, открылось мне в шестнадцатилетнем возрасте. Оно несло в себе независимость, упреждающую любое давление снаружи. Ощущение этой цельности было настолько самодовлеющим и прочным наперед любого объяснения, что от него откатывались все, охотившиеся по мою душу. Может, это и было вызывающим улыбку покушением на мою бессмертную душу? Противостояло ли безмолвие пути окольного – колокольному грому и холуйно-аллилуйному пению, от которого у поющих глаза вылезали из орбит и закладывало уши? Внутренняя не заемная элитарность, раздражающая окружающих, противостояла внешней угнетающей утилитарности. Согласившись даже только переводить, я все же поддался этим костоправам. Вынужденная эта уступка не давало мне покоя.
На следующий день оправдались плохие мои предчувствия. В мою сумрачную клетушку развязно вошел не сразу узнанный мной человек.
– Привет, братуха, не узнаешь?
Конечно, узнал: одноклассник Вася Кожухаренко, друг ситцевый, которого я не видел с момента получения нами аттестатов зрелости.
– Откуда вынырнул, Вася? Я и не знал, что ты здесь, в городе?
– И не мог знать. Я ведь секретный сотрудник, сокращенно, как вы говорите, сексот.
– И что тебе от меня нужно?
– Принес тебе, как голубок в клюве, весточку от полковника Лыкова, соображаешь?
– Ну?
– Значит так, братка, – Вася извлек из внутреннего, вероятно, весьма обширного кармана пиджака журнал на английском, – тут помечено, что надо срочно перевести. Дело не только совершенно секретно, но сверхсрочно. Послезавтра зайду. И вообще буду часто заходить. Тебя у нас очень уважают. Привет.
Исчез, как и возник.
Материалов для перевода было довольно много, но, главное, они были на одну тему. О росте напряжения на Ближнем Востоке рассказывали корреспонденты из Каира, Дамаска и Тель-Авива.
Не ловушка ли это: мне, еврею, отказавшемуся подписать документ о сотрудничестве, так вот запросто дали переводить информацию, о которой даже не догадывались сидящие в соседних клетушках бумагомаратели, тем более, массы, прущие по улицам в поте лица: зной после обеда становился невыносимым.
В клетушке было прохладно, но то, что он читал, обдавало то жаром, то морозом по коже. Впервые в жизни впрямую подкатывало к сердцу ощущение растворенной буквально в воздухе гибели, нет, не его личной, а гибели народа, к которому он привязан, оказывается, скрытой, на всю жизнь не отсекаемой пуповиной. Не веря глазам своим, я читаю явно не симпатизирующих евреям европейских ских корреспондентов. Каирский прямо выпевает слова Гамаля Насера, собирающегося сбросить евреев в море. Тель-авивский явно посмеивается над евреями в черных шляпах, с пейсами, в капотах, которые вымеряют городские парки на случай массовых захоронений, и просто веселится по поводу того, что еврейские матери, услышав приказ короля Хусейна не щадить ни женщин, ни детей в случае войны, покупают яд. Ощущение, что на евреев надвигается вторая Катастрофа, и многие из них уже смирились с этой мыслью. Ведь какой страшной была первая, унесшая шесть миллионов, но, вот же, проглотили и это. Царило какое-то запредельное крокодилье равнодушие. И слезы были крокодильи. Израиль, все эти годы видевшийся ему как обратная стороны луны, как дуновение лермонтовской строки «Скажи мне, ветка Палестины…», внезапно, как игла, вошел в сердце.
Я рылся в энциклопедиях, искал все об Израиле.
Я перестал спать. Кусок не лез в горло. Особенно угнетало, что он должен был слово в слово переводить ненавистный мне материал для этих негодяев, вооруживших арабов и втайне ожидающих уничтожения Израиля.
Это уже могло показаться паранойей, но на следующее утро в газетах появилось заявление Советского правительства: Израиль своим поведением сам поставил на карту свое существование. Впервые в истории великая держава СССР откровенно умывала руки в случае уничтожения Израиля.
Я, как одержимый, перебирал радиостанции, слушал Париж и Лондон.
В ночь на пятое июня, совсем вымотавшись, вздремнул к утру, но тут же вскочил со сна. Дом был пуст. Жена увела сын в детский сад и ушла на работу. Я не находил себе места: я тут в тепле и покое, а там, быть может, в эти минуты, гибнет мой народ. В памяти его, взращенной насквозь циничным миром, впервые, как истинная сердцевина его существования, соединились эти два слова – «мой народ».
Включил Москву и замер.
Согласно египетскому информационному агентству МЕН Израиль напал на Египет и Сирию, которые отразили атаку, и теперь успешно ведут наступление. Египетские танки уже в Тель-Авиве. Ком подкатил к горлу. Не продохнуть.
Включил Париж, перевел на Лондон. Война на Ближнем Востоке. Ждите сообщений. Ждите сообщений. Breaking News. Возьми себя в руки. Который час? Одиннадцатый.
Слушал, остолбенев, не веря своим ушам. Военно-воздушные силы Израиля в течение считанных часов уничтожили авиацию Египта, Сирии, Иордании и Ирака. ВВС Израиля полностью господствуют в воздухе. В Синае идут ожесточенные танковые бои.
Так и сидел недвижно, опустошенный, как человек, переживший ожесточенную бомбежку, артиллерийский обстрел, засыпанный землей, с трудом выбравшийся наружу, глотающий свежий воздух и понимающий, что теперь ему жить долго. Все западные радиостанции внезапно возлюбили Израиль. Случившееся было – как удар в солнечное сплетение миру. А Советам – еще и по карману и престижу советского оружия.
Как больной после долгого лежания в постели, я с трудом поднялся с дивана, вышел на балкон.
И тут уж совсем неожиданно с балкона соседнего дома, где проживал – я это знал точно – русский человек, раздался голос из вынесенного приемника, да так громко, на всю округу: «Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля». Передаем последние известия. Сегодня ВВС Израиля уничтожили авиацию Египта, Сирии, Ирака и Иордании…»
Я вернулся в комнату. Руки его дрожали, слезы непроизвольно текли из глаз. Он уже знал: этот день расколол двадцатое столетие. Он еще знал: в этот день евреи во всем мире ощутили свое давно забытое и забитое достоинство.
Теперь я переводил с удовольствием приносимые Васей материалы. Каково им читать, что их миллиарды провалились в черную дыру. Израиль в качестве трофеев взял тысячи новеньких, как с конвейера, машин, сотни танков и орудий, с которых даже не был снят брезент.
В редакции потрясенно взирали на карту, на длинные названия в арабском пространстве: «Объединенная Арабская республика Египет», «Саудовская Аравия», «Королевство Иордания», «Объединенные арабские эмираты». И где-то, на самом краешке, полоска, на которой с трудом умещалось петитом семь букв – «Израиль». Выходит, маленькая точка, да вулканическая. Но самое невероятное было в том, что вчерашние крокодилы-евреи внезапно себя ужасно зауважали.
Стиль европейских журналистов был очень домашним, и это особенно подкупало.
…Поздним вечером начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Ицхак Рабин вышел из своего кабинета в Тель-Авиве и поехал домой в Цахалу. Был очень возбужден, беспрерывно курил, но ничего не предвещало драматического развития событий.
Однако, на следующий день, 5 июня, в семь часов сорок пять минут утра, все 196 боевых самолетов ВВС Израиля, звеньями по четыре, выключив радиосвязь, вылетели на бреющем полете в сторону Средиземного моря. В определенной точке они поворачивали на юг и влетали в Нильскую долину, чтобы в одну и ту же секунду (именно так, по секундомеру) появиться над девятью египетскими аэродромами. Десятый, Бани-Суэф, около Файюма, был далек. Атака на него была отлажена, но отложена.
Совсем обнаглев, я переводивший материал прямо в кабинете, на миг перестал стучать на машинке, довольный найденной им игрой слов, подтянулся до хруста, прислушался к внезапному хохоту за стеной.
Просто потрясало, как феномен Шестидневной войны, ворвавшийся, подобно летающей тарелке, в это скованное привычным страхом пространство огромной страны, был воспринят, как молния и гром среди ясного неба, внеся волну озона в не просто спертый, а уже слежавшийся воздух, высветил лица, развязал языки.
Я прислушался. Ну да, еврейские анекдоты, как все считали, сочиняемые самими евреями, резко изменили тон.
– Вот вам и устав израильской армии, – это голос Попова, как-никак заведующего отделом партийной жизни, – помните: во избежание лишних ранений прекратить разговоры в окопах; категорически запретить солдатам давать советы офицерам… во время атаки; каждому рядовому иметь общее мнение хотя бы с главнокомандующим.
Не хохот, а просто рёв.
– Насер просит внука: «Испугай меня!» Внучек закрывает ладонью один глаз: «Бу-у-у», – это явно голос Тифоя, ответственного секретаря, не умеющего рассказывать анекдоты, и потому дающего объяснение: «Поняли? Имеется в виду Моше Даян».
Это вызывает еще более сильный взрыв хохота.
Голос Витюка из отдела быта, большого любителя евреев:
– Сидит мужик в вытрезвителе. Сосед спрашивает: за что? – Да, понимаешь, встаю утром, слышу – явреи напали на наших братьев арабов. По дороге на работу зашел в забегаловку выпить сто грамм, слышу, они уже на Суэцком канале, захожу на работу – они уже здесь. Ну, я и дал одному в морду».
– Ха-ха, – смех какой-то неуверенный.
Опять хохол Витюк – неутомимый антисемит, хронический выпивоха, выкрикивает найденный мной каламбур:
– Литрабы – поллитра бы!
– Ребята, – удивленный и несколько испуганный голос художника Румянцева, – а ведь все эти побитые самолеты – наши «МИГи».
– Ну, Румянцев, выдал. Так вот, заставь дурака молиться, он и лоб расшибет.
Не разобрать: слишком тихий голос.
На всякий случай покрываю газетой переводимый текст, оставляя открытыми лишь несколько строк.
…Самолеты шли на бреющем полете, ниже действия всех радиолокационных систем – арабских, американских, советских.
Крестьяне-феллахи машут им руками, уверенные, что это самолеты Египта. Египетские офицеры-летчики сидят в кафе на обочине огромного центрального аэродрома, и вдруг замирают с открытыми ртами: командная башня на противоположном краю взлетного поля беззвучно рассыпается у них на глазах. Лишь последующий рев пронесшихся израильских самолетов выводит их из почти обморочного состояния.
Четверка заходит за четверкой, удары следуют через каждый семь – десять минут. Четыре аэродрома в Синае, три на Суэцком канале, два у Каира – всего девять – захвачены врасплох.
Объяснения израильского командования.
Эту фразу Орман с удовольствием печатает большими буквами, как и в оригинале. Очевидно, запись с пресс-конференции.
…Мы изначально решили не начинать атаку с восходом или заходом солнца, что является обычным для таких операций. 7.45 по израильскому – 8.45 по египетскому были выбраны, чтобы ввести противника в заблуждение и достичь полнейшей внезапности. Противник думает: мы готовились отразить атаку израильтян с восходом солнца, а ее и вовсе нет. У противника крепнет ощущение, что теперь уже атаки не будет до следующего дня, как и не было до сих пор. Египет впадает в новый приступ чванства, шлет на весь мир трубные звуки войны, а Израиль сжимается от страха и тоже шлет на весь мир – сигналы о помощи.
Для того, чтобы еще больше углубить эту иллюзию будничности, мы в то утро, до атаки, подняли учебные «Фуги» для обычных маневров. Пока египтяне забавлялись иллюзиями и благословляли Аллаха за слабость Израиля и рухнувший миф об его воинственности, наши Военно-воздушные силы превратили египетские в один огромный пылающий факел. Без полнейшей внезапности и филигранной точности каждого выверенного мгновения нельзя было достичь такого ошеломляющего успеха в такой короткий срок.
Все россказни, распространяемые мировой прессой о каких-то новейших видах оружия, использованных нашими ВВС – несомненно, одна большая и невероятная глупость. Впечатление от победы столь огромно, что просто напрашивается какое-то необычное объяснение, приподымающее завесу мистики над этим поистине фантастическим успехом. Газеты пекут вкусные булки, и массы, и в Израиле и за его пределами, хватают их на лету: специальные бомбы и всяческие выдумки еврейского гения.
Правда же, на самом деле, проста. И в этом, вероятно, ее сила. Речь идет о простой авиационной пушке, которую восемь лет назад французы посчитали абсолютно лишней и заменили ее ракетами воздух-воздух и воздух-земля. Эта пушка, из которой израильские пилоты научились стрелять с небольшой высоты с невероятно отработанной точностью, и была нашим оружием. До такой степени все просто, что даже как-то жаль разбивать сияющие мифы о каком-то гениальном оружии…
В кабинет вошел Тифой.
– Что ты тут притаился, как мышь. Ребята все пошли выпить к Борису в забегаловку.
– По какому поводу?
– Ну, день солнечный.
– А ты чего не пошел?
– Ты же знаешь, как всегда горит номер.
– Вот я и корплю над статьей о художнице Аде Зевиной. Через пару часиков принесу.
– Слышь, что это они в материалах ТАСС пишут – «Цахал»?
– Так это аббревиатура на иврите «Цва Хагана Ле Исраэль» – «Армия обороны Израиля».
– Вот оно как? А ты что, знаешь этот, ну, древнееврейский?
– Друг Тифой, эту аббревиатуру сегодня должен знать любой цивилизованный человек.
– Ты прав, – сказал Тифой и быстро ретировался из кабинета.
И вправду распирающие меня чувства требовали прерваться и выйти немного на солнышко. Бумаги положил на дно ящика, под газеты, а ящик запер.
На гулянье не было много времени. К шести должен был явиться сексот Вася за переводом. Но именно малость времени давала возможность наслаждаться каждой минутой.
Эти европейские коллеги, – думал Орман, – с плохо скрываемой гордостью дают понять, что французские «Миражи» победили русские «МИГи». Конечно, руками израильских летчиков, но оружие-то французское. С какой иронией, а то и просто смехом пишут они о том, как израильская разведка перехватила разговор Насера с королем Хусейном, где они уславливались дать мировой прессе фальшивую информацию: якобы всю операцию провели французские и американские летчики.
Мягко светило солнце. Дыша всей грудью, оглядываясь на каждую проходящую девицу, я свернул в переулок, чтобы не попасться на пути ватаге коллег, уже выкатывающейся из забегаловки Бориса.
Еще несколько шагов, и передо мной раскрылось вдаль и вширь пространство над озером. Всего лишь ряд зданий отделял это пространство от шумной улицы, но тут царил абсолютный покой. Рядом со сбегающей вниз тропой, парни в одних плавках красили прогулочные лодки, перевернутые кверху брюхом, как выбросившиеся на берег киты.
Я присел на скамью, недалеко от ротонды. Воды фонтана сбегали по каменным порогам вниз. С успокаивающим шумом вод словно бы соревновалась одинокая птичья трель, сама подобная родничку, пробивающемуся в отягченную то ли радостью, то ли печалью душу. И вдруг, как внезапный налет израильской авиации, небо мгновенно потемнело, неизвестно откуда накатили тучи, сверкнула молния, грянул гром. Орман бежал к ротонде, уже весь вымокший, ибо невозможно соревноваться с грозой в догонялки. Гроза в один миг смяла все погруженное в сладкую дремоту пространство.
Стоя под слабо охраняющей от струй аркой ротонды, Орман всеми фибрами души ощутил высшее напряжение мгновенно протянутой между небом и землей грозы – мимолетного божества природы, хлещущего во все концы, сотрясающего пространство преизбыточным разрядом энергии, чтобы через несколько минут, младенчески пузырясь, в блаженной расслабленности растечься по земле.
Какие-то странные стоны, уханья далей, еще более помолодевшие голоса перекликающихся парней-маляров словно обнажили на миг трепетную душу в человеке, как ливень, обдав волной, вылепляет в ворохе одежды чудо девичьего тела.
В редакции царили невероятный шум и возбуждение. Носилась шутка: гроза гораздо лучшее отрезвляющее средство, чем огуречный рассол. Все промокли, все сушились. Девицы-машинистки готовили всем горячий чай, и никогда раньше не был он таким ароматным.
Я зашел к себе в клетушку, запер дверь, разделся до трусов, развесил одежду, и стал стучать на машинке. В запертую дверь рвались не совсем отрезвевшие коллеги.
– Кончай гореть на работе.
– Номер горит. А я – человек ответственный, – ответствовал я, веселясь по поводу того, как вытянулись бы физиономии коллег, прочти они хотя бы несколько выстукиваемых мной абзацев.
…Самолеты, летевшие столь низко, чтобы не быть обнаруженными радарами противника, сжигали гораздо больше горючего, чем при обычных полетах. Из-за дальности расстояний самолеты не могли брать много бомб. Вообще бомбы – не столь эффективное оружие для уничтожения самолетов на земле. Точно бьющий пулемет и пушка гораздо более успешны в этом деле. Небольшой запас бомб, который несли наши самолеты, предназначен был только для уничтожения взлетных полос на короткое время, ибо исправить их не составляет особого труда. Цель была нейтрализовать взлет самолета противника на тот короткий – в семь-десять минут – перерыв, до появления следующей четверки наших самолетов, чтобы расстрелять египетские машины на земле. Простота победила в этой войне: часы, как средство ориентирования во времени, старый добрый компас, обычная пушка и, главное, невероятная дисциплина в умении и точности взлета, присоединения к четверке, в стелющемся над водами и землей полете.
В пятом-шестом часу была решена судьба иорданских ВВС. Сирийские уже были на грани уничтожения. Таким образом, в полдень первого дня войны была уничтожена боевая авиация Египта, Сирии, Иордании и Ирака. Свершилось то, что мы готовили столько времени и были потрясены делами рук наших не намного меньше, чем весь потрясенный мир.
Я перечитал все напечатанное, удивляясь, что нет ни одной ошибки. Очевидно, невероятное душевное слиянье с каждым словом перевода четко и однозначно вело пальцы по клавишам букв, словно человек, подобно пианисту знал партию наизусть.
«Удивительны дела Твои, Господи», – неожиданно пришли слова из псалмов Давида.
Раздался стук в дверь. Пришлось повернуть ключ. Вошедший Вася был удивлен: ты что, только из бассейна?
– Промок до нитки под ливнем. Вот бумаги. Вася, у меня вопрос. Не боишься ли, что коллеги в редакции могут догадаться, кто ты?
– Мы им быстро заткнем рот, – по-хозяйски решительно отрубил Вася.
– Да, но мне каково будет?
– Не боись.
Вася исчезал профессионально быстро. Вот, стоял, и вот, его нет. Словно растворился на месте, как в научно-фантастических фильмах. Я облачился во все еще влажные брюки и рубаху. Опять возник Тифой с газетной полосой в руке.
– Слушай, будь другом, вычитай. Все под мухой, не на кого положиться. Ты один – трезвый.
Статья была официальной, клеймящей империалистическую агрессию Израиля против семьи арабских народов.
Достойное завершение дня, подумал я.
Через неделю позвонил главный редактор заговорщическим тоном:
– Зайди ко мне.
Оглянувшись на всякий случай, не блестят ли чьи-то глаза из-за портьеры, он извлек из портфеля журнальчик:
– Вот, «белый ТАСС». Дали нам на несколько часов. Сам знаешь, кто. Ознакомиться и вернуть. Иди к себе, запри дверь, прочти и немедленно верни. Я знаю, ты ведь читаешь быстро.
Я знал, есть еще «голубой ТАСС», как говорится в песне Галича, – «для высокого начальства, для особенных людей». «Белый» же – для людишек пониже и пожиже.
Сидит Орман, усмехается, читает в «белом ТАССе» собственные никем, естественно, не подписанные переводы.
Жизнь в двух уровнях
В минуты прочного, как бы отцеженного одиночества, осознаваемого, как истинное состояние души, я видел себя человеком с картинки, который дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную рядну, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной.
Но потрясала наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.
Будучи неисправимым странником – я всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «Ce la vie» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на околице затерянного в земных складках городка.
В те дни, подобно страннику, пришедшему в городок, как бы жил сразу в двух уровнях, и оба были виртуальны, но более реальны, чем обычное течение жизни с ранним вставанием, чтобы успеть в очередь за молоком, опостылевшим выстукиванием статей, требующих почти нулевого напряжения интеллекта. Симуляция деятельности выражалась в перебирании никому не нужных бумаг, или бессмысленном взгляде в какую-либо точку в кабинете, означающем для окружающих глубокое размышление.
Два этих уровня существования находились как бы один под другим. В верхнем уровне переводы из европейской прессы о событиях в Израиле постепенно оборачивались моей каждодневной жизнью.
Вторым, более глубоким уровнем было проживание в парадоксах Ницше и тяжеловесной тевтонской непререкаемости Хайдеггера, в тайном упрямом сочинении стихов, явно не для печати.
В редкие минуты какого-то сюрреального отрезвления я ощущал лишь одно: страх за своих близких. Странно было то, что два этих противопоказанных моей судьбе имени, ощущались мной, как две связанные бечевой доски, два поплавка, держащие его на поверхности: Хайдеггер-Ницше, Ницше-Хайдеггер. В зыбком уюте светового круга настольной лампы лежали эти небольшие две книжечки, тайно, «в стол», комментируемые мной далеко за полночь. Туда же ложились стихи.
Беспомощно счастливое дыхание жены и сына, спящих рядом, вместе со световым кругом составляли некую светящуюся, достаточно прочную сферу, охраняющую душу от обступающей тьмы ночи, затаённой и непредсказуемой, одушевляемой лишь пением цикад.
«Генеалогия морали» Фридриха Ницше в переводе на русский язык была ветхой, дореволюционной. К ней применимы были слова Фета, обращенные к Тютчеву: «вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей». Не то, что достать, – увидеть эту книжечку, переплетенную множество раз, в те дни представлялось невозможным. Но вот же, один из фотографов, поставлявших в газету материал, худой и куцый, как сморчок, с крючковатым носом, Друшнер, вечно несущийся как бы одним боком, что, казалось, еще шаг, и он упадет, уронил в моей клетушке свою явно неподъемную по весу сумку, и оттуда просыпались бумаги, фото, книжки. Мелькнуло – «Фридрих Ницше. Генеалогия морали». По поводу худобы и надоедливой суетливости Друшнера шутили, что его «надоедание – от недоедания». В Друшнере подозревали осведомителя и потому всегда встречали его одним и тем же анекдотом:
– Друшнер, знаешь, в КГБ покрасили двери.
– Ну?!
– Следует стучать по телефону.
– Ха-ха-ха.
Друшнер от всей души смеялся, как будто слышал это в первый раз. Тут он и вовсе скрючился, и стал собирать с пола рассыпавшиеся вещи. У меня застучало в висках, и я слабым голосом – была – не была – пролепетал:
– Можно мне посмотреть… Ницше?
– Да берите ее. Читайте. Потом вернете.
Это могло быть провокацией, но устоять было невозможно. Был ли это знак свыше? Или действовал его величество Случай? Во всяком случае, это попахивало мистикой. В самом деле, каким образом в завалы книг на немецком, французском и английском, у старичка букиниста, в которых я нередко рылся, попала совсем недавно вышедшая в Германии книжечка – извлечение из двухтомника Мартина Хайдеггера, лекционный курс, прочитанный герром профессором в 1940 году в дышащей покоем и усиленным вниманием аудитории, за стенами которой уже вовсю гремела Вторая мировая война – детище фюрера, которого герр профессор благословил на великие дела во имя немецкой нации.
Книжка была издана в 1967, совсем недавно, и называлась «M.Heidegger. Nietzshe”. Словно некто кинул зерно на бесплодную землю в уверенности, что кто-то подберет проклюнувшийся росток. В оригинале, на немецком, книжка эта была подобна свету далекого астероида, притягивающего любопытство и угрожающего гибелью. По ссылкам понятно было, что за нею таится фундаментальный труд – «Бытие и Время»».
Средь бела дня была молодость, превозмогающая страхи и печали.
Кружила голову солнечная молочность весенней полноты проживания.
Размышления же Хайдеггера погружали среди всего этого в то ли губительные, то ли спасительные глубины души, где в одиночестве плачет человек, опять же, по выражению Фета, «как первый иудей на рубеже земли обетованной».
Спасительным был этот текст именно по своей абсолютной непонятности «критикам в штатском», даже если бы я дословно его перевел на русский.
Это по-настоящему меня веселило, это злорадно воспринималось им как метафизическая месть за собственную беспомощность, неумение и подспудный страх отказать в услугах перевода этим таящимся во всех щелях мастерам заплечных дел. Я понимал, что они следят за каждым его шагом, ибо Вася возникал всегда без звонка по телефону именно тогда, когда я был в редакции, хотя мог быть где-то по редакционному заданию. Кто-то из коллег сообщал куда надо о моем наличии на месте.
Обычно тех, кто отказывается подписывать обязательство о сотрудничестве, оставляют на значительное время в покое, чтобы затем осторожно возобновить попытки. Тут же для них был счастливый случай: они могли меня использовать на полную катушку, ибо профессиональные переводы были им нужны позарез. Всякие намеки на оплату переводов он отметал немедленно. Не хватало еще получать от них тридцать серебряников, что было бы полным падением. Вероятнее всего, переводчиков у них было раз-два – и обчелся. А, может быть, я был единственным. Потому они мне многое прощали. Например, тот факт, что я рассказывал в редакции явно антисоветские анекдоты, предварительно нагибаясь к розетке с дежурной фразой: «Это не я, товарищ майор. Вопрос армянскому радио: какая разница между бедой и катастрофой? Ответ: если на улице опрокидывается телега продавца продуктами, это – беда, но не катастрофа. Если же разбивается самолет с нашим правительством, это – катастрофа, но не беда.
Витюк из отдела быта, страдающий тяжкой шпиономанией, особенно после очередных ста грамм, понизив голос, начинал рассказывать всяческие небылицы. Я тут как тут с анекдотом: «В туалет зашел мистер Смит, вынул левый глаз и стал разматывать фотопленку. В это время из унитаза на него взглянули мудрые, слегка усталые, глаза майора Пронина, и он сказал: «Не пытайтесь бежать, мистер Смит, в бачке тоже мои люди».
Сотрудники, естественно, газетные, катались по полу.
Было ли это сладким издевательством души над собственным страхом, отчаявшимся сопротивлением, которое может привести к нервному срыву, – явлением будничным там, где все диктуется палачеством, выспренно и лживо называемым диктатурой пролетариата?
Оказалось, что и другие сотрудники хохотали над этим анекдотом, о чем сообщил мне Вася, с которым я по давнишней моей просьбе стал встречаться у ротонды над озером.
– А знаешь, полковнику Лыкову понравился твой анекдот с мистером Смитом.
– Скажи, Вася, вы прослушиваете нас или вам постукивают?
– Какое это имеет значение. Стены, дорогой, имеют уши, – сказал Вася, этак, по-братски коснувшись моего плеча Ормана, от чего меня всего передернуло, и я внезапно увидел при свете дня, а не в полутемном своем кабинете, насколько агрессивно выпячена нижняя Васина челюсть и тяжела рука. Таким кулаком гвозди можно забивать. Бедный поэт Николай Тихонов, знал бы он о ком его, припоминаемые мной наобум строки: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Я же опечалился: вот он им уже «дорогой».
– Зачем же тебе, Вася получать сведения из нечистых рук. Вот, пожалуйста, анекдот прямо для твоего шефа. Сидят четверо командировочных в какой-то заброшенной провинциальной гостинице, ну, естественно, несут антисоветчину про ветчину, которой нет в буфете. Один из них говорит: «А вы не боитесь, что вас подслушивают?» «Да брось ты, в такой глуши». Он выходит и говорит коридорной: «Ровно через пять минут занесите четыре чашки кофе». Возвращается и обращается к потолку: «Принесите, пожалуйста, четыре чашки кофе». Коридорная вносит. Все трое потрясены и разбегаются по номерам. Шутник встает утром, а трех уже забрали. «Почему же меня оставили?» – спрашивает он у коридорной. «А шефу очень понравилась ваша шутка с кофе».
Вася хохочет: обязательно расскажу шефу. Из путаных реплик Васи выясняется, что мои переводы проверялись под лупой «высокими специалистами» и была отмечена их «ювелирная» точность. Слово «ювелирная» проворачивалось Васей с крестьянской натугой, потому и запомнилось. Эта свирепая свора волков, рядящихся в овечьи шкуры, поигрывает со мной, как с мышью, наперед зная все ее хитрости и насмешливо удивляясь моей живучести.
То были дни, когда случайный знакомый при встрече вместо приветствия вопрошал: «Пора?» На что я отвечал столь же кратко: «Несомненно».
Если же случайный знакомый спрашивал: «Учишь иврит?» – это означало, что он вовсе не случаен. Я сдержанно отвечал:
– А я знаю его с детства. Мама хотела, чтобы я читал поминальную молитву по отцу.
Мысль о том, что, быть может, я единственный у них, изводила меня. Они ведь дали мне допуск, что сам по себе неплохая гиря, прикрепленная цепью к ноге раба. Если настанет день, и я подам документы на выезд, они попытаются меня этим шантажировать, чтобы завербовать. Это я решительно отвергну. И тогда уж они поиздеваются надо мной. Я тешил себя тем, что благодаря переводам лучше всех окружающих знаю, что творится в Израиле, который стал моим наваждением, воистину внутренней изматывающей вестью «земли Обетованной». Я радовался успехам этой крошечной страны, всегда возглавляющей список новостей по всему миру, скорбел по поводу ее потерь. Я видел пропасть между реальностью в Израиле, которую также хотели знать и эти исправные костоправы, и тем, что они лгали напропалую в газетах и по радио.
Но ведь не мог ни с кем поделиться, кроме своей жены, и в этом-то и было, в дополнение ко всему прочему, нечто предательское и нечистое.
В Хайдеггере же я сидел, как инопланетянин, принявший облик земного существа, как некий вариант человека – невидимки, живущего единственной надеждой когда-нибудь стать видимым, то есть самим собой.
В каком-то исследовании ангажированного философа я нашел имя Хайдеггера, которое автор явно ассоциировал с самым распространенным ругательством на три буквы.
В некий миг все это выстроилось, как во сне. Слабый, но острый, как игла, луч пронизал весь клубящийся хаос. Я вскочил со сна, явно поняв, что вся европейская, а, по сути, главным образом, немецкая классическая философия, начиная с Канта, вела в эту пропасть середины двадцатого века. Этой теме можно было посвятить всю жизнь. Я даже начертал на листке черновое название будущей книги, посвященной разработке этой темы.
Если будет жив.
«Эллиптическое и Апокалипсическое».
Эллипс удобно обтекаем, но замкнут, как тюремная камера. Апокалипсис – на разрыв: пророчит конец времен, напрягает Историю, заставляя ее балансировать над пропастью и, тем самым, взывая к ценностям жизни, как правды и справедливости, что, по сути, и есть изобретение еврейского духа: ожидание Мессии.
Мне не давала покоя идея единой теории духовного поля. Она должна была быть стержнем будущей книги. Мерещилось смешение полей рассуждений с полями текста, полями истории и философии, полями идеологии, самыми неустойчивыми и губительными. Особенно влекли к себе поля черновиков, обочины текста. Ассоциативные нити, как меридианы и параллели, стягивали эти текстовые поля, обращая их плоский раскат в четырехмерное пространство, напрягая подтекстами сейсмических подвижек, а то и внезапных разломов. И все это сотрясало, но и спасало меня, живущего со дня на день в атмосфере затхлости и застоя да еще с вечной виной зависимости от костоправов, которых вдруг очень заинтересовали материалы о бунте студентов в Париже. Благодаря допуску я часто посещал «спецхран» Библиотечного фонда, чтобы не столько переводить материалы о бунте студентов, сколько быть в курсе новинок входившей на Западе в моду постмодернистской философии. Это были, главным образом, журналы и книги, выходящие в Париже. Ощущение было, что Шестидневная война словно бы выбила застарелые пробки из ушей, явно слышалась поступь пришедшей в себя после длительного обморока Истории, ее судьбоносное шествие, восстанавливающее справедливость в море лжи, вливаемой в уши и затыкающей рты. Впервые передо мной обозначились имена почти моих сверстников из нового поколения мыслителей – Мишеля Фуко и Жака Деррида. При возникновении слова «поле», меня пробирал озноб. У Мишеля Фуко с его ставшей позднее откровением книгой «История безумия», это были «внутренние полемические поля». Реальность, окружавшая меня, удивительно укладывалась в открытые Фуко общественные законы безумия. Разве не было абсолютнейшим безумием вбивать в миллионы голов лживый и серый текст «Краткого курса» или марксистско-ленинского учения, в желании поднять их на уровень авторитета бессмертного Священного Писания?
Я узнавал, что в Европе считают величайшим философом современности Эммануила Левинаса, родившегося в тот же год, что и мой отец, который вынужден был покинуть антисемитскую Румынию, чтобы учиться во Франции. Левинас в то же время вовремя покинул антисемитскую Литву и учился на философском факультете Страсбургского университета.
Можно ли представить, что творилось в моей душе, когда я при мягком свете зеленого абажура, в затаившемся по-кошачьи зале спецхрана, посреди скалящего на меня пасть пространства загнивающей диктатуры пролетариата, читал толкуемые Левинасом тексты Талмуда, впитывал слова философа о том, что война это борьба человеческого лица с безликостью. А ведь истинно, думал я, убийца безлик, и потому для него невыносимо смотреть в лицо жертве. Он и завязывает ей глаза. Или стреляет в затылок. Только бы не видеть Лица.
Вот, сексот Вася абсолютно безлик.
Известно, что костоправы отличаются особой способностью отбирать безликих, но чтобы до такой степени. Обычно, после ухода человека, у в моих чувствительных ноздрях оставался от ушедшего некий запах. Вася же исчезает начисто вместе со всеми своими запахами. К нему даже нельзя применить насилие, ибо, по Левинасу, «насилие может быть нацелено только на Лицо».
Пытаясь отвлечься и успокоиться, я тут же, на конспекте, выписывал ручкой вензеля. Брал, к примеру, слово «прав» и поигрывал им.
Раз сто прав костоправ.
Выправить права.
На право нет управы.
А сознание точила мысль, пробужденная Левинасом, о том, что любая тирания самой своей сутью ненавидит еврейство, чувствуя в нем ту слабую воду, которая просачивается, несмотря на запруду.
Именно эта вода точит камень.
Когда очередной случайный знакомый спросил, учу ли я иврит, я внезапно как бы пробудился: ведь это мое преимущество – знание иврита, бесценное – для идеи единого духовного поля, и следует это его углубить. Я отыскал маленький, пожелтевший от времени свиток Торы, который бабушка пронесла привязанным к груди всю свою девяностолетнюю жизнь до последнего дня, через погромы и войны. Сняв «рубашку», заново сшитую Торе бабушкой почти перед смертью, я разворачивал свиток, читая текст через лупу. Демонстративно, назло костоправам, отправился в синагогу и выпросил экземпляр Танаха, то есть весь канонический свод еврейского Священного Писания, включающий Тору, Пророков и Летописи.
Теперь мой взгляд, уставившийся в одну точку в кабинете, был явно осмысленным. Я размышлял о том, что в Книге Книг, в этом одновременно замкнутом на себе, и абсолютно разомкнутом всему миру пространстве, возникают свои внутренние законы, толкования, свет затаенной радости, счастливого испуга.
Счастье ведь всегда сопряжено со знанием и болью его мимолетности и исчезновения, с бесконечно свертывающейся – вот уже более двух тысяч лет – тайной. Тот, кто пытается эту тайную сущность Книги Книг развернуть, как ребенок разворачивает подарок, завернутый во множество свертков, обнаруживает, в конце концов, ничто. Или срывая, как у розы, веки лепестков, обнаруживает под ними ничей сон – сон Бога.
Или где-то в начале развертывания запутывается, уже не помня, где это начало.
Потерянная изначальность скорее сводит с ума, чем покорно принятая душой и разумом бесконечность.
Над этим ломали головы и на этом ломали головы такие упорные мыслители, как Гегель, но эта головоломка не дает покоя разуму, инстинкту и просто проживанию набегающего днями и ночами времени.
Эта Завеса подобна завесе, расшитой золотом и серебром, за которой хранится Тора в молельном доме евреев. Она выводит из себя, вводит в ярость ум быстродействующий, генетически нахрапистый, гениально улавливающий слепую потную и плотную силу толпы, слитной человеческой массы.
Толпа эта уже самим своим сплочением перешагнула смерть отдельного человека, не столько растаптывая его, сколько вытаптывая из его души остаток человечности, чтобы в полной, урчащей удовлетворением раскованности, наслаждаться когда-то потерянной абсолютной животностью. Сократ именно потому ничего не писал, а жил лишь в устной речи, чтобы толпа не заворачивала в его рукописи селедку.
Куда же деть нашего каббалиста рава Ицхака Лурия – великого АРИ – Адонейну Рабби Ицхака, фрагменты текстов которого попались мне, книжному фанатику? Ведь АРИ тоже не записывал свои гениальные постулаты. Быть может, он просто существовал внутри Книги Книг, толкуя ее по-своему, но боясь соревноваться с текстом Бога. Он только говорил, передавая свою ответственность, равносильную казни, ученикам – записывать его. Есть такой экзистенциальный страх на тех глубинах, которых достиг АРИ и на которых в трепете собственного существования видишь соревнование с Божественным текстом, как не прощаемый грех. Ученик такой ответственности не несет, ибо автоматически записывает Учителя, и ему, ученику, закрыты смертельные глубины лурианских идей сотворения Мира. Быть может, и я такой прилежный ученик или притворяющийся им, чтобы приподнять Завесу
Они вошли ночью…
Костоправов весьма интересовало, что пишут европейцы о происходящем в Чехословакии. Орман просиживал под зеленой лампой в спецхране, веселясь карикатурам в неожиданно ставшей вольной чехословацкой прессе. Вот, указующий в будущее палец, перевязанный бинтом. Вот, стоящий на трибуне, лишенный индивидуальности тип толкает речь: мы никому не позволим руководить нацией… кроме нас.
В таком покое, под зеленой лампой, думал я, зреют семена будущих потрясений, но какое он имеет к этому отношение, прилежно переводя палачам всё это, чреватое начатками истинной свободы? Опять накатило омерзение к себе, стало трудно дышать от собственного ничтожества. У меня уже были такие приступы. Тошнотой прорывалось словоблудие в статьях, которое, кажется, уже обернулось второй моей натурой. Когда я успел так опуститься, выпестовав в себе ставшее хроническим неумение защищать своих друзей, когда они меня об этом не просили? Надо было срочно бежать домой, ощутить прикосновение жены. Она узнавала мое состояние по непривычно повышенной бодрости и остекленевшему взгляду. Ночью я в ужасе проснулся с почти смертельным ощущением того, насколько разрушительно действует на меня эта зависимость от вежливых костоправов. К горлу подкатывало отвращение к себе, ко всем философским изысканиям, словно бы они были лишь прикрытием этого убегания от самого себя. Спасением было лишь спящее рядом существо – жена. Я никогда не называл ее по имени, часто меняя всякие ласкательные словечки, чтобы они не приедались, но лишь взгляд на нее внушал, что я жив и могу еще спастись. Назвать ее по имени означало для него отчужденность, ибо она была ближе ему всяческого имени, ближе собственной его сонной жилы.
Чудо есть чудо. Однажды, опустошенный и равнодушный ко всему, я, автоматически занимающийся каким-то переводом в читальном зале, мельком увидел ее. Молнией обозначался этот миг, мелькнувший ореолом светлых волос, зелеными глазами и гибким, отрочески-чудным движением девической руки, посылающей кому-то привет. Она искала какой-то текст, готовясь к экзаменам, и я вызвался ей помочь. Наши руки нечаянно соприкоснулись, и я впервые, после омерзительных дней, когда вообще не хотелось просыпаться по утрам, удивленно подумал о том, что у меня все же было безоблачное детство, где дымящиеся от ослепительного солнца тени обещали долгую счастливую жизнь. Дальше я жил как бы в беспамятстве, время от времени с удивлением обнаруживая ее рядом. Окончательно пришел в себя, увидев и не поверив, что она заглянула в темный опостылевший угол, который я снимал, вытирала пыль даже с каким-то удовольствием. И он тоже нашел понравившееся ему занятие: ходил за ней, трогал за плечи, чувствуя, как нарастает состояние радостной, до замирания в кончиках пальцев, взвешенности. Она повернулась, и он взял ее лицо в ладони, и они поцеловались, и сели на топчан, именуемый им кроватью, и длилось счастливое безумство, обессиливающая невероятность. Потом вышли на улицу в неожиданно прихлынувшую из ушедшего лета теплынь, под слабо тлеющие звезды, как будто в них дул кто-то, и это странно не вязалось с безветрием.
Стояли, прижавшись к какой-то стене, и губы их набухали и подрагивали от предвкушаемой тайны сближения. И никогда затем, через все годы, не ощущалась с такой силой причастность окружающего мира к этим мгновениям. До того, что темень ночного неба льнула к их сливающимся губам в желании хоть чуть удостоиться того меда прикосновения, сродни пчелам, сосущим цветок. А за краем глаз толклись звезды, стараясь помешать полному слиянию, как это бывает с самыми близкими друзьями и подругами, любовь которых весьма похожа на зависть на грани неприязни.
Все было примерено и примирено.
Успокаивала и уравновешивала мою впавшую в омерзение душу ее красота, ее ровный характер с неожиданными вспышками детского, лишенного всякой логики и потому особенно спасительного для меня упрямства. Это существо не знало компромисса. Только в миг ее присутствия, объятия или отталкивания возникало чувство, что жизнь не проходит мимо, и тут же исчезало с ее отдалением. Она была настоящей красавицей Дальше он жил как бы в беспамятстве, время от времени с удивлением обнаруживая ее рядом. Окончательно пришел в себя, увидев и не поверив, что она заглянула в темный опостылевший угол, который он снимал, вытирала пыль даже с каким-то удовольствием. И он тоже нашел понравившееся ему занятие: ходил за ней, трогал за плечи, чувствуя, как нарастает состояние радостной, до замирания в кончиках пальцев, взвешенности. Она повернулась, и он взял ее лицо в ладони, и они поцеловались, и сели на топчан, именуемый им кроватью, и длилось счастливое безумство, обессиливающая невероятность. Потом вышли на улицу в неожиданно прихлынувшую из ушедшего лета теплынь, под слабо тлеющие звезды, как будто в них дул кто-то, и это странно не вязалось с безветрием.
Я не переставал удивляться, как эта вольная, упрямая птица, не терпящая лжи, попалась мне. Что она во мне нашла?
С каждым ее исчезновением мне казалось, что она не вернется, хотя я точно знал, где она – в магазине, на рынке, у подруги, на работе в районной библиотеке.
В родильное отделение, куда я ее отвез, не разрешали зайти. Через приоткрытую дверь я вижу ее похудевшее, совсем девичье лицо, две торчащие косички, опустившийся живот.
– Что такое гидроцефал? – спрашивает она.
Всё во мне обрывается:
– Кто тебе это сказал?
– Слышала, как врач говорил.
– Не волнуйся, ничего особенного…
Мороз отчаянный, индевеют брови, Несусь к наблюдавшему за ней врачу.
– Что за чепуха, – врач звонит в отделение, – немедленно вызвать роды. Немедленно.
Когда она вернулась из родильного дома и ночью, прижавшись к моему плечу, рассказывала обо всем, что ей пришлось пережить, я понял, насколько она может быть беспомощной, и чуть не задохнулся от любви к ней. Там, говорила она, свет, свет, и во всех углах тревога, особенно за дверьми. Пройдет нянечка, чуть одну дверь отворит – из-за нее вскрик, бормотание, чуть другую – целый вал младенческого плача выкатится, и снова – тишина. О нем она не думала. Все существо ее сосредоточилось на том, кто должен отделиться от нее, он или она, лишь бы здоровенький, потому что кроме того, что начиталась о разных уродцах и калеках, ей казалось, что часто неловко поворачиваясь или упираясь животом в что-либо, могла повредить ребенку ручку или ножку.
Когда начались схватки, она и об этом забыла и только думала: скорее бы, будь что будет. Ее положили на стол. Три женщины в белых халатах несуетливо ходили вокруг. Скорее, молилась она, потому что слышала в палате, что если долго длятся схватки, ребенок может задохнуться. Она кусала губы от боли, но не кричала, боясь, что это будет неприятно женщинам, они будут раздражительны и недостаточно внимательны к ребенку. Боль была везде – в лицах женщин, в каких-то лампах, во всех предметах, она была налита болью. Временами впадала в забытье, но внезапно и ясно увидела, как женщина в белом халате, такая добрая и располагающая к себе, деловито держит за ноги головой вниз маленькое красное тельце. Она закричала: «Почему он не плачет?» Женщина шлепнула малыша по ягодицам, он запищал, и она откинулась легко и безучастно.
Долго отходила боль, и отдых был, как потрясение. Живота не было, значит, снова будет талия: в это не верилось. Принесли его впервые кормить в полночь, и он показался ей таким некрасивым: маленькое, сморщенное, как у старика, личико. Увидела ручку: точно такая же, как и большая, привычная, только очень маленькая, и пальчики тонкие, как соломинки.
Осторожно, удивляясь неизвестно откуда взявшейся кошачьей мягкости и сноровке в себе, взяла его на руки, дала сосок, и он принялся бойко и независимо сосать, втягивать в себя молоко, и в этой независимости особенно остро проступала полнейшая его беспомощность, и волна нежности и горечи, сладкой и неизведанной, прихлынула к ней.
Я лежал, почти не дыша, в темноте, чувствуя, что все мое лицо увлажнено слезами.
Ссорился с ней нередко, но только для того, чтобы убедить себя, что не совсем уступчив. Иначе мне казалось, что она со временем просто перестанет меня терпеть. Потому-то и ссоры были настолько бессмысленными, что в следующий миг уже невозможно было вспомнить, по какому поводу они возникли.
Иногда я пугался всерьез мысли, что без нее буду вычеркнут из жизни. Это подозрение в почти наркотической от нее зависимости заставляло меня быть несправедливым к ней, хотя, честно говоря, более несправедливой, говорящей назло и явно наслаждающейся этим была она. В этом деле ей не было равных.
В эти дни он вдруг понял: моя беззащитность перед костоправами еще больше привязывает ее ко мне. Чувствовала, что только она может меня защитить. Могло ли это утешить его или хотя бы утишить? Мужчины, выпив, начинали хвастаться своими победами, но вскоре раскисали, приходя скопом к одному и тому же неутешительному выводу, что женщины обладают разрушительной силой и только они разбивают семьи. Я подливал масло в огонь, цитируя о женщине из «Притчей царя Соломона» – «Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти».
Был март шестьдесят восьмого, насыщающий воздух слабыми, но подступающими к сердцу, запахами гниения. У женщин под глазами проступали черные круги, подобные черноте пожухшего, еще вчера искрящегося белизной и молодой упругостью, снега.
В каморке раздался звонок. Орман снял трубку и потерял дыхание, услышав костлявый, косой срезающий висок, хрип отчима:
– Мама твоя умерла.
В трубке еще слышалось какое-то хлюпанье, но мучительно сводила челюсть расстановка трех слов, так сводит с ума застрявший в мозгу занозой вопрос: «Мама твоя умерла… Почему не «Твоя мама…», почему «умерла»? Остальное я помнил, как бы время от времени приходя в сознание. Жена держит его за руку. Что я тут делаю в пропахшей мертвечиной и потом толпе в какой-то заслеженной грязью кулинарии? Куда нас несет в разваливающемся от старости такси по страшным колдобинам, встряхивающим неизвестно где находящуюся в эти мгновения мою душу?
Пустые улочки родного городка казались нескончаемыми аллеями кладбища. До слуха доходило лишь карканье ворон. Я даже не узнал дом своего детства. Все было бессмысленно. Крышка гроба во дворе. Тело матери, лежащее почему-то на раскладушке. Нелепый стул, на котором я просидел всю ночь, вглядываясь в такое непривычно спокойное лицо матери. Вокруг скользили беззвучные тени, и дом, долженствующий быть крепостью, напоминал проходной двор.
Я и сам не помнил, как ухитрился выскользнуть в одиночку и спуститься к реке, столь много значащей в его юности. Сидел на каком-то заледеневшем камне. Река расползалась льдинами, как дурной сон, как сама бессмысленность существования и уничтожения, могущая в единый миг всосать восковую плоть, называемую человеком. Только бессмысленность этого всасывания и забота о том, что маму-то надо похоронить, спасали от сладкого желания броситься в это ледяное быстро уносящее крошево.
Разве Шопенгауэр не подхватил слова, вложенные Гёте в уста Мефистофеля, чтобы на этом построить такую в этот миг льнущую к моей опустошенной душе теорию о том, что жизнь вообще ошибка природы: «Я дух, все отрицающий, и, поступая так, бываю совершенно прав, потому что все существующее кончает непременно погибелью, вследствие чего лучше было бы, если бы оно не существовало совсем».
Потом была яма, сами по себе текущие слезы и чувство стертой начисто жизни. Вот и приспело время говорить «Кадиш». Было ли это и вправду Высшим призрением, но слова выплывали из размытого беспамятством сознания ясно, четко, без единой запинки.
Не желая ничего брать из дома, я дождался, когда все ушли, извлек из-за перекладины буфета заветные бумаги отца и вложил их в пазуху точно так же, как бабушка вкладывала туда маленький свиток Торы.
В одну из ночей снился мне нескончаемый сон, из которого не было сил вырваться. Светлеет, светает, сверкает, глазам больно. Да это же медь и солнце, музыка, демонстрация, и я сижу на папиной шее, вижу лишь затылок. «Папа, поверни голову, я видеть тебя хочу, я тебя никогда не помню, ну, па-а-апа, повернись, миленький, я же тебя больше могу не увидеть никогда, слы-ы-ши-ишь?» Смеется отец, вполоборота повернув смуглое свое лицо, зубы радостно сверкают. Смеется и удаляется.
«Постой, папа, только ответь мне, и все, пост-о-ой!» Выпрыгнуть в окно. А там совсем сухо, асфальт бел и пылен, дышать нечем, сушь неимоверная. А на другой стороне улицы в свете фонарей видно, как идет сильный дождь, а отец за дождем, удаляется и смеется: «Прощай и помни обо мне…» Слова отца Гамлета? А далее, через квартал, идет снег, рыхлый, мартовский, смешанный с грязью, и мама стоит, аккуратно одетая, и держит палку, а на палке дощечка, на которой чернильным карандашом начертаны имя, отчество и фамилия отца. А он все смеется и удаляется. «Прощай», – уже как шелест. Мама улыбается: живи, сынок, у тебя еще запас наших лет, мы рано истлели, но страсти и надежды наши оборвались на подъеме, они еще должны в тебе исчерпаться. «Нет, – кричу – нет, во мне не только страсти ваши и надежды, во мне ужас и страх ваш предсмертный, вы уже переступили черту, зачем же оставили меня, вы же так любили меня?»
Спас меня от депрессии бег. Уже через месяц я бегал на дальние дистанции, главным образом, вокруг озера. Обычно это происходило в часу шестом утра. В застойном мраке предрассветного времени того страшного для меня года, открытый мной, как второе дыхание, бег был единственным знаком возвращения к жизни. Однажды в абсолютной тишине, когда даже птицы еще не проснулись, внезапно взревели, в прямом смысле, медные трубы, заставив от неожиданности присесть не только меня, но и всю окрестность.
Духовой оркестр во всю силу своего духа наяривал еврейский танец начала века – «Семь сорок», отмечавший в то время отход поезда из Одессы в Кишинев. Оттеснив меня на обочину, мимо неслись полчища тяжело дышащих потных людей. И тут он увидел плакат: «Кросс гарнизона южного военного округа» и рядом военный духовой оркестр, пускающий медью зайчиков в первых слабых лучах зари.
Вероятно, после Шестидневной войны, несмотря на всеобщее осуждение израильской военщины, рейтинг еврейской воинской доблести сильно подскочил вверх, и ее следовало внедрить перед вторжением в Чехословакию в значительно расслабившийся дух солдат южного военного округа, так сказать, поднять моральный и физический уровень войск перед оказанием братской помощи.
К ночи началась мобилизация.
До самого утра ходили по аллеям, переулкам, лестничным клеткам люди с повестками, обязывающими в течение часа явиться в близлежащий мобилизационный пункт. Стучали в соседские двери. Выкрикивали фамилии. Меня не тронули. С утра в округе только и было разговоров о том, как одного соседа при стуке в дверь прохватил понос, вернее, медвежья болезнь, другой через балкон спустился по водосточной трубе, а жена сказала, что уехал на рыбалку.
На следующее утро в очереди за молоком кто-то осторожно коснулся моей спины. Обернулся. Женщина с изможденным лицом и живыми от скрытой боли глазами почти прошептала:
– Они вошли ночью.
С осенними сквозняками вкатывались в уши неизвестно из каких подворотен новые анекдоты. Советский солдатик с испуганным выражением на лице и автоматом наперевес кричит с танка посреди Праги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, а то стрелять будем!»
Во второстепенных кинотеатрах шел документальный фильм «Контрреволюция не пройдет». Потрясал замотанный бессонницей, небритый Брежнев. В глаза ему смотрел спокойно улыбающийся и уже ничего не боящийся Дубчек. Насколько легче было бы Брежневу видеть перед собой не Дубчека, а ГубЧЕКа.
Анекдот не заставил себя долго ждать: в животе Брежнева встретились Дубчек и Пельше. «Арвид Янович, вас тоже съели?» – спросил Дубчек. «Нет, я сюда пришел иным путем».
Но перед кем трусил Брежнев, который отныне будет для меня всегда небритым? В Бога он не верил. Трусил перед временем? Перед идеей, которая исчерпала себя, как высохший колодец? Перед властью, этой невидимой, но смертельной силой? Власть это Бог. Но, говоря, «Бог милосерден», мы не грешим против истины. Сказать «Власть милосердна» может лишь неизлечимый подхалим или обезумевший заключенный, после двадцати пяти лет отсидки хвалящий тирана, лишившего его жизни, сделавшего «живым трупом». Можно ли после четверти века тюрьмы и лагерей еще чего-то бояться? Оказывается, можно бояться власти, бездушной, слепой, давящей, как машина переходящего в неположенном месте дорогу прохожего.
Не потому ли за каждым действием или бездействием, за кажущейся спасительным забвением тенью стоит, не к ночи будь упомянут, Сталин, ибо во мраке ночном нет тени, а при свете дня он то идет по твоим пятам, то пятится перед тобой, по движению изводящего зноем светила.
Сумел же этот старообразный карлик с полупарализованной ручкой довести массы до ручки, чтобы, ухмыляясь в слежавшуюся щетку усов, слышать и принимать, как должное, – клич: «Сталин наше солнце!»
Чесались у меня руки все это записать. Удерживал страх, но он же врезал в память на будущее все эти, кажущиеся мимолетными, как бегущие облака, мысли. Именно, это скрываемое и мучительное, спасало душу, направляло мысль, оправдывало жизнь, наполняя ее болью истинного существования в минуты, когда, щурясь на солнце, я вёл домой за руку сына из детского сада.
Солнце шестьдесят восьмого страшного года стояло в зените угрожающе недвижно.
Единственная радость, которой я ни с кем не мог поделиться, была связана с небольшим срочным переводом для костоправов. Вася прибежал с материалом, запыхавшись. Оказывается, 31 октября эти неугомонные и никаким деспотическим державам не подчиняющиеся израильтяне высадили в Египте десант, взорвали два моста через Нил, вывели из строя электростанцию в 230 километрах от Асуанской плотины и погрузили весь южный Египет во тьму египетскую. Намек египтянами был понят: плотина была беззащитна, могла пострадать, а это означало, что, вероятно, половина Египта может быть залита наводнением – еще одной новой казнью египетской.
Вокруг меня эпоха застоя только начинала разворачивать свои совиные крылья и показывать ястребиные когти. В действительности, хоть слабо, но все же утешало ощущение, что я как бы проживаю в Израиле, который каждый раз вставлял фитиль нашей дорогой Софье Власьевне – советской власти. Тут же срочно возникал Вася, ибо никто так оперативно, и, главное, с удовольствием, как я, не переводил статьи и репортажи из европейских газет.
Декабрь шестьдесят девятого был на исходе. В предновогодние дни стоял мерзкий холод. Мне же было жарко, когда я, выстукивая перевод, представлял себе египетскую жару и опять же, израильских десантников. Переодевшись в египетскую форму, эти «молодчики», как их, скрипя зубами и скрепя сердце, называли самые правдивые в мире советские средства информации, высадились ночью на вертолетах в районе Рас-Араб, на египетской стороне Суэцкого канала. Быстрой атакой они захватили базу, где находился новый советский радар весом в несколько тонн. Отделили его от платформы, подвесили к одному из вертолетов и перевезли в Израиль. По мнению американских специалистов, этот радар представляет собой объект высшей стратегической важности. Французы тоже выражали возмущение. Оказывается, в ту же ночь те же беспокойные израильтяне выкрали из порта Шербур торпедные катера, заказанные ими у французов, которые наложили на них эмбарго. Эта «воровская ночь» потрясла всю мировую прессу.
Встречающие новый год в компании не могли понять, почему я, не выпив ни капли, был так весел.
Знаки безвременья
Стояло мирное сентябрьское утро семидесятого. Я вел сына в школу. Чувствуя, что кто-то его догоняет, обернулся. Вася обливался потом: срочный перевод. За окном каморки печально желтели листья дерева, дремлющего в медовой осенней солнечности, а строки, выбиваемые мной на пишущей машинке, пахли кровью и гибелью. Оказывается, палестинские «борцы за свободу», как их называли обучающие в своих лагерях советские «эксперты», решили свергнуть иорданского короля Хусейна, попытались совершить на него покушение на пути в аэропорт. Иорданская армия перешла в наступление. Две сирийские бронетанковые бригады пересекли иорданскую границу и захватили город Ирбид. Военно-воздушные силы Иордании разнесли в пух и прах колонны сирийских танков. Более восьми тысяч палестинских боевиков было убито, десятки тысяч ранено. Бежали они в Израиль и сдавались. Часть из них сумела пробраться в Ливан. Время катилось, принося все новые сотрясающие мировую прессу сообщения. В близящемся к концу семьдесят первого президент Египта Садат заявил, что готов положить миллион солдат в войне с Израилем, чтобы вернуть достоинство своему народу.
Резкий сдвиг в моей жизни произошел за неделю пребывания в Москве в качестве участника всесоюзной конференции журналистов. Давным-давно не знал таких дней интенсивного проживания в абсолютном безвременье.
Поселили нас в писательский дом творчества в подмосковном Переделкино. Среди незнакомых лиц, вызывая мимолетный столбняк, плакатно мелькали Юрий Трифонов, Вознесенский, Мариэтта Шагинян. Из глубин начала века, при свете керосиновой лампы, ибо временами гасло электричество, мерцали печально-насмешливые глаза, и сверкала гладкая, без единого волоска, голова Виктора Шкловского. Было странно, что столовались они рядом и ели то же, что все остальные – щи, шницель с гречкой и компот.
Могила Пастернака скромно вставала, как неуничтожимая истина среди моря лжи, среди сжавшегося до размера могилы воспетого пространства. Не дай Бог, думал я про себя, «привлечь к себе любовь пространства» сегодняшнего, ядом льнущего к устам человека.
Сгорало и тлело знойное лето 1972 года.
Ночами я уходил в глухой уголок парка, ложился навзничь на траву, глядел на небо между высоких чуть качающихся в полном безветрии сосен. Как в детстве, замирал в ожидании, когда земля подо мной начнет крениться. В небе светились Стожары, где-то под Москвой бушевали торфяные пожары. Они выжигали подпочву, так, что туда проваливались трактора и пожарные машины. Это медленное подземное тление, казалось, постигло всю страну, все более зависающую на тонком слое да лживом слове поверх выжженного нутра. В этом давно пропахшем серой – запахом преисподней – сером прозябании душа исходила тоской по дому и близким. Успокаивалась лишь в эти ночные часы лежания на сухих травах.
На конференции, в огромной толпе писак, ощущалось полное, не предвещающее ничего хорошего, безлюдье.
Странные события словно бы накапливались пеной у невидимой стены, не в силах сдвинуть время, душили, изнывали, пытаясь прорваться в абсолютно неясное завтра. Воистину нечто мистическое, подобное таинству самой жизни, противостояло таращащему слепые бельма будущему. Именно здесь, в стольной-престольной, в этот сжатый неделей срок, безвременье изводило своей бездыханной недвижностью.
Можно было предъявлять иск Истории, можно было творить суд над ней, вернее над творящими ее и столько мерзостей натворившими, но сама по себе История, как и судьба, зависела лишь от Бога, расставляющего всё на места даже в перспективе одного столетия. Ощущение близящейся смены декораций, а, вернее, падения декораций, Орман чувствовал шкурой, что и пытался выразить в стихотворных строчках.
В Москву! – О, клич публично-благостный В провинциальной мгле застольной. Отяжелевший тягой тягостной, Кручусь я в ней – первопрестольной. Глуха, невнятна, неозначена, Подобно белене-отраве, Из всех расщелин азиатчина Прет сорняком и дикотравьем. Старушится Москва-сударыня, Но держит впрок, не отпуская, Вполглаза дремлет, вся в испарине, По-старчески слюну пуская. Мне пятки жжет дорога дальняя На Ближний. Как с похмелья маюсь, Судьбу мечу, как кость игральную, И не живу, а – удаляюсь. А дни бегут бесполо-полыми И мне надежный страх пророчат. И так из – полыньи да в полымя — Я прожигаю дни и ночи, Где в сброде колченогих столиков Отравленное льется зелье, И плещут плеши алкоголиков, И тризну празднует безделье. Горит ли торф? Судьбой палимые, Горим ли мы на свете белом? — Из всех щелей покоя мнимого Вовсю, взахлеб несет горелым. Не потому ль мне в страхе кажется В кишенье – стольном и помпезном — Россия вся зависла тяжестью За миг – перед паденьем в бездну.Упрямая вера в справедливость, подобная «категорическим императивам» Канта или десяти заповедям еврейского Бога, явно принимаемая большинством, как душевный изъян, не давала душе смириться с сиюминутными выгодами. Если бы я это высказал вслух, меня бы приняли за безумца или провокатора. Потому я успешно проходил испытание молчанием, писал в «стол», окутывал мысли безмолвием.
Вышедший в 1969 роман Германа Гессе «Игра в бисер», стал еще одной вехой в моей жизни по силе поиска страны истинно высокого интеллекта, некого духовного Эльдорадо или Божественной пристани на реке Афарсемон, согласно еврейской Каббале. В реальном же смысле речь шла о невозможности метать бисер перед свиньями.
Себе дороже.
Потому особенно изводило меня массовое, хоровое, чумовое пение в перерывах конференции.
Группами. Всем скопом.
Власть, дряхлеющая на глазах, чувствовала себя уверенно лишь в оглашенном, оглушенном, а вернее, оглохшем пространстве.
Не потому ли я внезапно открыл, что сама жуткая материя окружения разбудила во мне дремлющее умение слышать обостренным слухом дальние разговоры сквозь сплошное пение, истинный талант заушателя. Людское бубнение словно бы поворотом внутреннего рычажка прояснялось в речь.
Глаз подмечал ранее размытое и обманчивое. я пугался всего этого, словно бы некое новое рождение или перерождение толкало, сосредоточенно и, в то же время, как бы отсутствующе, к принятию решения, согласно анекдоту о ведущем сионисте нового времени – Юрии Гагарине, который первым сказал: «Поехали!»
А ведь и вправду решение ехать было не менее драматичным, чем полет в космос, в который не верили сидящие на скамеечке в парке моего города старые евреи: мало ли что можно передавать по радио и показывать по телевизору. Казалось, легче полететь в космос, чем покинуть пределы этого заколдованного невидимыми, но весьма ощутимыми железными цепями, занавесами, задвижками пространства.
Мне представлялось, что мистику этой замкнутости могут отомкнуть лишь соответствующие ей по абсурдности действия, как полет ведьм на метле, мгновенное перенесение с одного места на другое, побег на лесосплаве через Карелию или угон самолета, который при нем обсуждали ребята, толкущиеся у синагоги.
Байка, приписываемая жестокому шутнику композитору Богословскому, обретала реальность мечты. Якобы, желая отомстить другому весьма пьющему композитору, Богословский подговорил компанию напоить его и довести до памятника Пушкину, где тот отключился. В таком состоянии его отправили на самолете в Киев и там положили около памятника Хмельницкому. Конечно, тот чуть не свихнулся. Но очень заманчиво было бы уснуть у памятника Пушкину и проснуться в Иерусалиме, положим, у стены Плача.
Когда была взята группа, пытавшаяся угнать самолет, это было с их стороны единственно трезвым действием, разрушающим опаивающую размягчением мозга магию этого чертова пространства.
Власть еще была куда как сильна – слать танки в Чехословакию, Египет и Сирию, слыть оплотом освобождающихся народов Азии и Африки, где президент какого-либо племени, узнав, что его клан приняли в ООН в качестве государства, падал с дерева и ломал хвост. Его срочно облачали в современный костюм и рубаху, используя отломанный хвост вместо галстука.
Когда в очередной раз на конференции сравнивали сионизм с расизмом, я про себя произносил, как заклинание, на иврите, слова пророка Исайи – «Ми Цион тецэ Тора вэ двар Элоим ми Ирушалаим» – «Из Сиона взойдет Учение и слово Господа – из Иерусалима».
Естественно, в этом сжимающем виски похуже мигрени пространстве независимые философские поиски могли восприниматься только как преступление. Кто ты, ваще, такой, гражданин хороший, какое имеешь право заниматься философией, не имея ученого звания?
В перерыве между заседаниями конференции я разговорился с научным сотрудником Института истории и философии, довольно молодым человеком, сделавшим небольшое, но насыщенное мыслью сообщение. Достаточно было нескольких положений, высказанных мной, как сотрудник разволновался:
– Почему бы вам не подать документы к нам в Институт на соискание хотя бы места младшего научного сотрудника?
– Да у меня же нет звания.
– Как? Вы шутите.
Не хотелось мне оскорблять научного сотрудника, сделав признание, что именно благодаря отсутствию диссертации он сумел сохранить незаемность мысли и независимость суждения.
Изводило меня одно: как переправить написанное за кордон?
Это держало меня здесь.
Ребята, с которыми познакомился в синагоге, дали адрес в Москве, предупредив, что записи должны быть сжаты. Никакой гарантии, что это будет переправлено, не давалось. Я позвонил, сказал пароль, получил указание: двигаться по таким-то улицам, найти такой-то дом, подняться на такой-то этаж, ровно в 17 часов 13 минут постучать в такую-то дверь. Понятно, что именно эти 13 минут и были современным кодом «Сезам, отворись!» В страшнейшем волнении я все это сделал. Дверь открылась, высунулась рука и взяла пакет.
На улице я сразу заметил слежку. Ухитрился юркнуть в метро. Менял направления и станции, дважды прокатился по Кольцевой линии, пока не вышел на станции Киевской. Уже огибая разбухшее брюхо переделкинского кладбища, все еще оглядывался, не топает ли кто-то сзади.
Долго сидел, словно отходя от страха, не в силах успокоиться, с соседом по коридору в Доме творчества, старым журналистом с Урала Селенским. Лицо его было изборождено глубокими морщинами. Значительную часть своей жизни он просидел в ГУЛАГе. Пил беспробудно, уважительно удивляясь моей стойкой трезвости.
– Надо бы проветриться, – говорил я, ведя пошатывающегося старика под руку среди сосен и высоко вымахавшего бурьяна. В тишине ночи, почти закладывающей уши, тот вдруг уперся мне в руку, расставив ноги, и произнес речь:
– Не отнекивайся, я знаю, – ты еврей!
– А я и не отнекиваюсь.
– Так вот, слушай. Мы с тобой два сапога пара по гегелевскому закону единства противоположностей. Ты – вечный Жид, я – вечный Арестант. Единственное, что Россия может выставить на мировом уровне. Все годы в лагерях я вспоминал слова Иова: «Бог сказал Сатане: сокруши Иова до края, но душу не забирай». Но если сокрушил, то и душу забирай. Не забирает. Вот откуда невыносимость. А можно душу сокрушить, а дыхание и члены оставить. Вот когда телом и умом овладевает страх. Они, костоправы дубленые…
– Костоправы? – я вздрогнул.
– Ну да. Они-то хорошо знают предел, до какого человек устоять может. Так вот, дружище, заполонили все поры жизни люди пота и страха. «Неверность как быстро текущие ручьи», говорит Иов. Вот, главная их черта, и ручьи эти вовсе не вода. Ручьи пота и страха. Не живут, а потом истекают.
Я еще долго слонялся по пустующим аллеям и думал о том, далеко ли полковнику Лыкову от рейхсфюрера Мюллера? Когда они за обедом обгладывают кость, не хрустит ли она, как кости безвинно замученных во имя идеи, которая, как уже обнаружилось, абсолютно пуста, преступна, если не безумна.
Минибус вез меня в аэропорт Внуково. Скрещение дорог навечно врезалось в память, исчезая за плотной стеной дождя.
В заоблачных высотах недвижно стыло ослепительно-неживое, стерильно-иллюминаторное солнце. Рядом сидели две знакомые девицы, не уступающие мне по травле анекдотов.
Вдруг накатила темень, самолет стало трясти и швырять в воздушные ямы. Они же продолжали травить анекдоты, в то время, как вокруг все с зелеными лицами травили в кульки, разносимые стюардессами. Анекдоты надежно ограждали от страха, подкатывающего тошнотой к горлу. И хотя сознание со всех сил сопротивлялось этому, анекдоты были на одну тему: о захватах самолетов.
К примеру: самолет взлетает. Встают двое с автоматами и зовут пилота.
– Лететь в Стамбул! – Не можем, – отвечает пилот. – Почему? – А в первом ряду сидит старуха с динамитом, она заказала Марокко.
Другой самолет взлетает. Входит пилот, грозно: – Литовцы есть? Молчание. – Последний раз спрашиваю, литовцы есть? Встает один:
– Ну, я, ну, я – литовец! – Куда лететь?
Следующий анекдот развеселил даже окружающих, чьи вовсе позеленевшие лица не отрывались от кульков.
На высоте девяти тысяч метров чукча зовет стюардессу: – Мне надо сходить! – Да вы что, на такой высоте?! – А я говорю, что мне надо сходить!
Стюардесса бежит к пилоту, теребит за руку, ибо тот дремлет, запустив автопилот. – Вася, Вася! – Ну!.. – Тут один сходить хочет. – Такой маленький? – спрашивает Вася, – Глаза косые? Выпускай, он тут всегда выходит.
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь. Яркий ослепляющий свет шел изо всех углов зала ожидания. Но за окном, во тьме, вдали, мерцал ведьминскими огоньками Виев Киев.
Было за полночь. Девицы договорились с таможенниками. Те разрешили нам втроем переночевать в таможне. В комнате было несколько коек для работающих ночью и отдыхающих между рейсами. В третьем часу ночи вырывают из сна: извините, прибывает самолет из Африки. Тут, в соседнем зале скамьи, дотяните на них до утра.
Только прилегли на скамьи, как вдруг вдоль противоположной стены, беззвучно, возникая из двери и исчезая в другой, начали двигаться существа, словно бы на глазах делящиеся простым делением, в синих комбинезонах и солдатских ботинках, с черными, как антрацит, головами, торчащими из воротников.
Это были, в прямом смысле, черные сотни.
Командовали два пожилых с явно костромским выговором офицера, каждое второе слово которых было «ё-твою».
Черный континент, пробуждающийся под бессмертную тарабарщину русского мата, леденил кровь.
Всё смешалось даже в мире привидений: черные сменили традиционно белых. Острый запах пота, как запах серы, свидетельствовал, что всего лишь миг назад здесь проходили дьявольские рати.
Бежать с этой земли как можно быстрее.
И настало – отрешенье…
В редакции, как всегда, подспудно бушевали страсти. По-прежнему сотрудники пытались просунуть главному редактору, доброму, серому человечку, давно и напрочь убитому страхом, статьи, кажущиеся ему крамольными. Он безбожно вычеркивал целые фрагменты, ставя на них размашистый крест и заставляя ответственного секретаря Тифоя, единственного, на которого он позволял себе кричать, орудовать ножницами.
Мои статьи по искусству и литературе редактор читал с философским словарем. Он по-своему был честен и не мог вычеркивать то, чего не понимал, зато черкал материал вдоль и поперек толстым красным карандашом, вызывал меня, и мы часами вели беседу на темы философии, истории, искусства под дружное подслушивание остальных за дверью. Это превращалось в спектакль, тешивший их самолюбие: мол, вот, кто решает судьбу их материалов, безграмотный партийный выдвиженец.
Свое подвергаемое унижению и повергаемое в прах самолюбие работники пера топили в водке, развязывающей языки, в часы, когда кто-либо из них праздновал свой день рождения в покрытых старыми трещинами и потемневших от дыма сигарет стенах редакции.
На доске хороших и плохих материалов, прикрывающих частично одну из самых значительных трещин, все время возникала надпись, который раз стираемая Тифоем под крики редактора – «Жизнь дала трещину, фортуна повернулась задом».
Ко дню рождения кого-либо из сотрудников редакция готовилась загодя. Сочинялись всяческие приказы от имени, естественно, мифического комитета общественного спасения, сокращенно – КОС.
К примеру: «В ознаменование 50-летия заведующего отделом партийной жизни Попова – 1) сменить первую букву фамилии юбиляра на «Ж» и переставить ударение. 2) выбить а) правый глаз юбиляру; б) медаль в честь 50-летия юбиляра. 3) все расходы по празднованию отнести в счет «неразменного рубля» ответственного секретаря Тифоя».
Последний пункт относился к фантастической скупости Тифоя, который любил участвовать в попойках, но когда приходил момент расплачиваться, вытаскивал из кармана неизменный рубль.
Явно навострившийся в Москве, я, после очередного нагоняя всем на планерке, вспомнил четверостишие Минаева:
Тут над статьями совершают Вдвойне цинический обряд: Как православных их крестят, И как евреев, обрезают.Восторгу не было предела. Кто-то шустро добыл лист ватмана, крупно написал эти строки и вывесил на доске.
Увидев написанное, редактор долго и сосредоточенно переваривал текст, и тут впал в настоящую истерику.
– Что вы стоите, как дубина стоеросовая, Тифой? Уберите это немедленно.
– Так уж стоеросовая, – буркнул Тифой, и медленно-медленно, как бы вымеряя шагом убывающее свое достоинство, подошел к доске, осторожно, не торопясь, открепил ватман и вынес его, оттопыривая пальцы, как дохлую крысу.
Я смотрел на все это с явно вызывающей зависть сотрудников отчужденностью. Странное, но с невероятной полнотой ощутимое ожидание нового начала жизни установилось в душе Ормана, подобно холодящей родниковой воде в сосуде. Однажды выдержанный мной экзамен – отказ подписывать обязательство о сотрудничестве с костоправами – оказывался, как говорится, на сей момент важнейшим во всей моей прошедшей и, несомненно, оставшейся жизни. Для меня стало законом отказываться даже от более легких и соблазнительных предложений и, главное, ничего не просить, ни прибавления к зарплате, ни повышения в должности. Внутренняя независимость, так поздно, а, может быть, именно, во время проснувшаяся в душе, изводила меня, стоило увидеть приближающегося с глупой своей, и, тем не менее, палаческой улыбкой Васю.
В последнее он стал появляться реже. Как-то даже нехотя передавал просьбу полковника Лыкова отыскать в «спецхране» материалы, опубликованные в европейских журналах, о процессах над «молодыми сионистами», как он выражался, в СССР.
Было такое чувство, что костоправы уже смирились с мыслью о моем отъезде в Израиль, и пребывали в ожидании, не принимая, как бы в оплату за бесплатные мои услуги в переводе, против меня никаких мер.
На этот раз Вася был непривычно грустен, грыз веточку, озирая озерное пространство.
– Вася, – неожиданно для самого себя сказал я, – знаешь ли ты источник своего имени?
Вася ошалело, и, тем не менее, заинтересованно посмотрел на меня, и как-то даже неуверенно произнес: – Не-ет.
– От древнегреческого слова «базилевс» – царь. Слышал, наверное, слово «базилика».
– Ну …вроде слышал.
– «Базилика» это царский храм. А у христиан стал церковью, по сути, тоже храмом.
– Ну, бывай, – неожиданно и как-то даже испуганно сказал Вася, встал со скамьи, и, не пожав мне руки, как это обычно делал, быстро пошел по тропе на выход из приозерного парка.
Все, происходящее со мной в эти дни, кажущиеся одним затяжным, недвижно замершим днем, ложилось, как всякое лыко в строку, возвещая тяготение к истинной сущности собственной души, которое можно было выразить знаменитой фразой Лютера: «Я здесь стою, я не могу иначе!»
Даже неожиданное сближение с фотографом Друшнером вписывалось в странные события, казалось бы, ведущие, как световой столп сынов Израиля из Египта. Обычно я встречался с Друшнером на той же скамье в приозерном парке, где отдавал ему прочитанные книги не только Ницше, а Друшнер доставал из своей, как у деда Мороза, никогда не скудеющей сумки нечто, просто сбивающее с ног своей запретностью. На этот раз он достал две совсем крохотные книжицы размером с ладонь, явно напечатанные за границей мелким шрифтом: «Доктор Живаго» Пастернака и «Бодался теленок с дубом» Солженицына.
Разговорились, что было и вовсе непривычно. Оказалось, Друшнер уже давно шел по этой жизни, подобно канатоходцу, который в любой миг рисковал свалиться в пропасть. Он и сам не понимал, как ему это сходило с рук, и никто его не прищучивал. Хотя ждал этого в каждый миг. Но, почему? А вот так, не мог иначе. Настал момент безумцу Орману смотреть на вовсе полоумного Друшнера, отца трех деток, то ли сверху вниз, то ли снизу вверх.
Ночью мне приснился сон: маленький человечек, рябой, в оспинку, по имени Сталин, закрыв глаза, тоненьким голоском пел «То не ветер ветку клонит… То мое сердечко стонет». Слезы катились из его глаз. И не было на свете человека, которого надо было бы более пожалеть. Брал бинокль. Куда-то ехал, окруженный трясущейся охраной. Притаившись в скрытой комнате, о которой никто не знал, но все боялись догадываться, следил в специально пробитое окошко через бинокль за тварями, ползающими и шевелящимися, и имена у них какие-то странно знакомые – Зиновьев, Каменев. Роскошный страх витал над Третьим Римом. Страх судей – и они лютуют. Страх подпевал – и они лизоблюдствуют. Страх народа – и он поет, не слыша самого себя. Страх рябого, обморочно-сладостный – он прячет его под маской кожевника. Папа ведь его был сапожник. Выходит, он – холоп на троне. Все видит на уровне башмака. Мать его была прачкой. Воздух для дыхания – запах разлагающейся плоти. Единым чувством охвачен весь народ. И чувство это – страх.
Но тут внезапно означился миг мирового молчания – Глас Божий с Синая. Не черное солнце мертвых, увиденное Мандельштамом, а черное солнце живых возникло с молнией и громами над высотами Синая, солнце высшего взлета Духа.
Кто-то тронул меня за плечо. Обернулся. Друшнер, стоя на канате прочнее, чем Орман на твердой почве, приветствовал его, подняв руку, словно именно он, Друшнер и сотворил все это светопреставление.
Сон был настолько отчетлив и подробен в деталях, что я долго еще не мог прийти в себя, и по безумному порыву, ставшему уже привычкой, вскочил с постели и стал прислушиваться к дыханию жены, сына и, совсем крохотной, два года назад родившейся, дочки.
Спустя несколько дней, в ранний утренний час, раздался стук в дверь. Я быстро припрятал книжицу Солженицына, которую читал, и открыл дверь. Незнакомая девушка сказала негромким приветливым голосом:
– Просили вернуть книжечки.
– Вы кто? Как вас зовут? – я оторопел.
– Меня зовут Лена.
Как-то не отдавая даже отчета своим действиям, я вынес книжицы девушке, закрыл дверь, и стал терзать себя, правильно ли сделал, отдав незнакомке, может, вообще подосланной костоправами, запрещенные книги. Мерещился обыск. На всякий случай перебрал все бумаги и самые на мой взгляд опасные сжег в нагревательной колонке, все время испытывая омерзение к самому себе. В редакции узнал у секретарши адрес Друшнера. Поднимался по лестнице, оглядываясь по сторонам. Постучал в дверь. Долго не открывали. Выглянула женщина, вероятно, жена Друшнера. И тут я увидел его как бы вдалеке, прижавшегося к стене, идущей внутрь от входа, в окружении словно бы защищающих его детишек.
– Да? – только и сказал я. Друшнер закрыл глаза в знак согласия.
Грянула война Судного дня.
Опять возник Вася и вручил пачку европейских газет, ибо требовалась самая свежая информация. Я переводил ночи напролет. Тревога, выгрызавшая душу, совпадала с корыстными целями костоправов знать правду. Для меня же это было особенно важно, ибо передачи всех западных радиостанций даже не на русском стали забивать с особой яростью и бесстыдством.
Корреспонденты писали репортажи по горячим следам войны. Особенно скребли сердце сообщения о репатриации большого числа евреев из СССР в разгар боев, рвущихся на передовую.
Утром, проработав всю ночь, я осторожно прикоснулся к руке спящей жены. Вскочила со сна в испуге:
– Что случилось? Ты что, решил бороду отпустить?
– Бороду не бороду, а ехать надо. Начинаем готовиться. Сегодня же пойду к ребятам в синагогу заказывать вызов.
– Ну, ты, надеюсь, побреешься.
– Далась тебе эта однодневная борода.
Кончилось вальяжно-ленивое прожигание времени.
В течение считанных часов я встретил Васю, отдал переводы, не обмолвившись даже словом, и тут же пошел в синагогу, где в любое время толклись молодые люди, молча пожавшие Орману руку, узнав о его решении. Они настолько были этому рады, что готовы были передать все накопившиеся у него рукописи и вообще бумаги за кордон, они намекнули, что пакет, отданный им в Москве, благополучно дошел до адресата. И вправду следовало напевать «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз», про себя меняя адрес на Израиль.
Я радовался, что нет хода назад: ядро моей духовной сущности уже было там, здесь была лишь физическая оболочка, с каждым днем все более отторгавшаяся от окружающей среды. Я говорил, смеялся, рассказывал анекдоты, но даже близкие друзья виделись как бы за туманной завесой.
Сколько еще завес надо будет приподнять, чтобы добраться к самому себе, думал я про себя.
Вызов пришел через неделю.
Предстояло пройти экзекуцию осуждающим изменника собранием в редакции, иначе невозможно было получить характеристику с работы, а без нее нельзя было подавать документы в отдел виз и регистраций – ОВИР.
Опять все застопорилось. Я продолжал ходить на работу, как ни в чем не бывало переводить для костоправов.
Армия обороны Израиля чуть не захватила Каир.
Повадился ко мне один специалист по сионизму по фамилии Гольденберг, носил статьи, заводил дискуссии о расистской сущности сионизма. Неужели, думал я, костоправы его подослали? Напрямую спросил Васю.
– Да ты что? – искренне возмутился Вася. – Этот шибздик? Порвем ему пасть.
Пару раз приходилось продлевать вызов. Серьезный испуг вызвало ощущение, что друзья снова отчетливо приблизились, упала завеса тумана.
Испуг прошел. Уже отменили осуждающие собрания.
Затем случилось самое простое. Сын пришел из школы, явно чем-то озабоченный:
– Пап, тебя вызывает директор.
– А что случилось?
– Я дал одному в морду.
– Ты?
– Он сказал мне – «жид».
В этот миг все снова затянулось туманной пеленой. Это был такой тихий хаос, пробирающий до костей, заглатывающий прожитую жизнь без остатка. Внезапно я ощутил, как перебой сердца, что надо начинать жизнь с первого чистого листа, и как можно быстрее, ибо и времени не останется, а после будешь жалеть о каждом потерянном мгновении.
Главный редактор как будто был готов к моему сообщению, только сказал, что должен справиться, нужно ли собрание по такому поводу.
– Отменили, – сухо сказал я.
После обеда позвонил Тифой:
– Приходи, тебе уже написали характеристику, пальчики оближешь.
Сотрудники толпились у дверей редактора, тревожились. Все же это было как взрыв бомбы в этом трещавшем по швам пространстве.
– Что ты там будешь делать?
– Землю рыть.
Увольняясь с работы, узнал, что все это время был всего лишь исполняющими обязанности заведующего отделом. Начальство застраховалось на случай, если вышестоящее спросит, как это еврей и не член партии занимает ответственный пост.
Сдал документы в ОВИР. Началось ожидание.
Я писал стихи:
Вот и принято решенье, И настало – отрешенье. Были стычки и придирки, И издевки надо мной. Миг. И мир, что был впритирку, Замер в злобе за стеной. А всего-то сдал бумажки — Не в окно – в какой-то лаз Сытой ряшке без поблажки С оловянной скудью глаз. Мир стреножен, но острожен, И уже тайком грозят, Что отказ весьма возможен. Только нет пути назад. Помню жизнь – корысти нет в ней, Были в ней тоска и страсть. Жизнь короче ночи летней Птичьей стаей пронеслась. Все старался, землю роя, Первым быть всегда во всем. Только тайный знак изгоя Пламенел на лбу моем. Вот и принято решенье — На земле я этой гость. Жду бумагу с разрешеньем — В ней судьба вся сжата в горсть. Ни к кому не обращаюсь, Да и не о чем просить. Не живу – со всем прощаюсь. Только можно ль все простить?Шли месяцы. Таяли снега. Возникала новая листва. Перезревшие плоды падали с деревьев. Я ловил себя на том, что присматриваюсь, как никогда, к явлениям природы. Некоторые из сотрудников газеты, случайно встретившись со мной в городе, шарахались, как от прокаженного.
Я был удивлен стуком в дверь.
За ней стоял Вася, неотвратимый, как судьба.
– Пришел – квартиру смотреть?
– Почему бы и нет, – сказал Вася и сделал знак: мол, проводи.
Сели на скамейку в сквере.
– Знаешь, твое объяснение моего имени сильно меня впечатлило.
Слова-то какие, явно не из лексикона Васи, подумал я.
– Для этого ты меня вызвал?
– Слушай, тебя решили выпустить. На днях вызовут в ОВИР. Ты даже не представляешь, сколько ребят из нашей школы работают у нас. Все они о тебе говорили только хорошее. Ну что ж, больше не увидимся. Так что давай вась-вась, – сказал Вася. Я пожал протянутую руку.
– Спасибо, Вася, – сказал дрогнувшим голосом.
Господи, думал я, что за страна несчастная такая. Сколько прожил в ней и все же не мог представить, что столько ребят из моей школы и университета – секретные сотрудники. Сплошная мания преследования.
Паранойя, возведенная в ранг государственной политики.
Предстояло пройти еще один шабаш ведьм и вурдалаков на таможне пограничной станции Чоп. Ведьмы рвали крышки с коробок с шоколадными конфетами, разламывали их по-паучьи шевелящимися руками, свидетельствующими о том, что они принадлежат нечисти.
Вурдалаки выкатывали водяные глаза, не переставали орать, выбрасывая вещи из чемоданов, с видимым наслаждением копаясь во внутренностях их владельцев.
Последней преградой были зеленые юнцы в зеленых робах с автоматами наперевес, требующие какие-то последние бумаги.
Только воспринимая это как шабаш, можно было пережить, унять сердцебиение, слабость и тошноту.
За окнами поезда, несущегося по Европе, катился июль 1977 года.
Лязгали сцепленья, отмычки, постукивали металлические буфера, сворачивая железный занавес отшумевшего спектакля сорока лет жизни, а рядом были только самые близкие, для которых человек и должен жить.
Я писал на каких-то клочках оберточной бумаги:
Прощай, страна былых кумиров, Ушедшая за перегон, Страна фискалов без мундиров, Но со стигматами погон. Быть может, в складках Иудеи Укроюсь от твоих очей Огнем «возвышенной идеи» Горящих в лицах палачей.


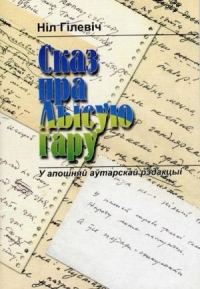


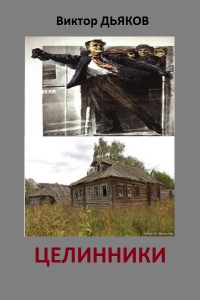





Комментарии к книге «За миг до падения», Эфраим Ицхокович Баух
Всего 0 комментариев