Дмитрий Саввин Превыше всего. Роман о церковной, нецерковной и антицерковной жизни
© Саввин Д., текст, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017
От автора
У большинства героев этого романа есть живые и ныне здравствующие прототипы, а в основе сюжета лежат реальные события. Однако, несмотря на это, роман остается художественным произведением. И те, кто будет судить о некоторых реальных людях на основании добродетелей и пороков книжных героев, рискуют сильно ошибиться – как по части добродетелей, так и по части пороков.
Глава 1 Встреча
Старые желто-белые табло с надписью «Пристегните ремни!» мигнули и вспыхнули вновь. Внизу, под крылом Ту-154, уже почти не осталось облаков, и черно-суриковый мартовский Мангазейск был хорошо виден. По-своему этот потрепанный восточносибирский город был даже красив. Озеро среди домов, кольцо сопок, сплошь покрытых лесом, и огромная, кажущаяся поистине безкрайней, грязно-желтая степь… В этом было свое очарование, которое не могли отравить даже многочисленные нагромождения типовых пяти– и девятиэтажек, с высоты казавшиеся нелепыми и безпорядочными.
Преосвященный Евсевий, епископ Мангазейский и Новоезерский, не отрываясь смотрел в окно. Мангазейск, город, где находилась его кафедра, он видел впервые. Евсевий был сравнительно немолод (пару месяцев назад он отметил свое сорокавосьмилетие), но епископом он стал совсем недавно. Два раза его рассматривали в качестве кандидата на архиерейскую хиротонию, но каждый раз что-то срывалось. Уже успев попривыкнуть к своим неудачам, он и в декабре 2000-го года не рассчитывал на епископство. И вдруг, вскоре после его дня рождения, вышло определение Священного Синода о том, чтобы ему, Евсевию (в миру Никодимову Александру Николаевичу), архимандриту и наместнику Павловского Покровского монастыря, что в Центральной России, быть епископом Мангазейским. Пусть и далековато от Москвы, и на бедной невлиятельной кафедре, но сразу – правящим архиереем. А ведь могли воткнуть и викарием для начала.
Внешне новопоставленный Преосвященный пока еще не очень походил на архиерея. Избыточной полноты, возникающей, согласно общепринятой политкорректной версии, «от нарушений обмена веществ», у него не наблюдалось. Он был строен и весьма благообразен: шатен с обильными вкраплениями седины, ростом чуть выше среднего, с узким и прямым, почти аристократическим носом и длинной прямой бородой – в общем, выглядел он почти иконописно.
Заметив стюардессу, пробирающуюся между рядов, епископ Евсевий застегнул и слегка затянул ремень, после чего привычным жестом обмотал четки вокруг запястья левой руки. Через несколько минут самолет с тихим жужжанием выпустил закрылки – Ту-154 вышел на глиссаду, и скоро его шасси должны были удариться о бетонную полосу.
– Похоже, прилетели, – сказал он, повернувшись к сидевшему рядом келейнику. Келейник Георгий (Егор по паспорту) – он же иподиакон, а также и водитель, ничего не ответил. Никаких эмоций на его угреватом лице, покрытом короткой белесой растительностью, не отразилось. Он был одним из трех спутников Евсевия, точнее – единственным, ибо остальные были не спутники, а спутницы – две монахини-келейницы, знакомые архиерею еще с тех пор, когда он был духовником в их монастыре. Георгий одной из них приходился племянником, по этой причине он и попал в ближнее окружение нового архиерея. После назначения на мангазейскую кафедру перед Евсевием встала обычная для всякого новоназначенного архиерея проблема: подобрать свою команду, вокруг которой образуется его ближний круг на новом месте службы.
Взять такую команду ему, монаху и священнику, было неоткуда, ведь после Духовной академии он жил только в монастырях. Поэтому пришлось довольствоваться минимумом: двумя монахинями, Варварой и Павлой, и племянником Павлы Георгием. Что до монахинь, то он их знал давно. В свое время они были духовными чадами его собственного духовника, многими почитаемого за старца, а после его кончины их духовным отцом стал он сам, Евсевий. Много ли стоила такая команда? Пожалуй, что немного, ибо ничего кроме щеток, тряпок и кастрюль, им доверить было нельзя. Но выбирать не приходилось…
Чуть покачивая крыльями, Ту-154 приблизился к бетонной полосе. Несколько секунд полета у самой земли, и вот уже шасси с глухим стуком ударяют о бетонку… Пассажиры, разумеется, не стали дожидаться «полной остановки самолета» и, вскочив со своих мест, начали оживленно рыться на багажных полках, вытаскивая оттуда зимние пуховики, шарфы, шапки и сумки. Георгий, по-прежнему не говоря ни слова, поднялся со своего места и занялся тем же самым.
Евсевий снова слегка улыбнулся, потом осенил себя крестным знамением. «Слава Тебе, Господи! Вот и прибыл на кафедру… Да, как-то обустроимся… Господи, благослови!»
Заметив, что пассажиры стали выходить из самолета, он поднялся и тоже двинулся к выходу. Ступив на трап, он на секунду остановился на самой верхней ступеньке, зажмурившись от яркого света солнца. Мартовский воздух был не только холодным, но и обжигающе сухим из-за низкой влажности, характерной для тех краев. Эта сухость, вкупе с порывами ветра, сделала первые шаги по мангазейской земле не очень комфортными.
– Ого, – тихо сказал Евсевий, кашлянув.
– Что такое, Владыка? – тут же спросила шедшая сзади мать Варвара. Обычно Павла вела себя тихо, но молдаванка Варвара была весьма бойкой и разговорчивой.
– Ничего, – ответил Евсевий, и начал спускаться по ступенькам трапа. – Воздух непривычный. Но надо привыкать! – добавил он, широко улыбнувшись. «Да, надо!» – думал он, шагая в сторону здания аэропорта, автобус в этот раз к самолету не подали. – «Надо обустраиваться! Тут теперь мне дом, не знаю, надолго ли…»
Евсевий окинул взглядом корпуса аэропорта. Один из них был закрыт и законсервирован еще в 1990-е годы, когда он стал ненужным из-за резкого сокращения авиаперелетов. Хотя с тех пор пассажирские перевозки немного возросли, но корпус, построенный в 1980-е, так и не понадобился. Приземистое серое здание, в котором архитектор хотел соединить экономичность с неким осторожным авангардизмом, в ярких лучах солнца производило какое-то особенно мрачное, тюремное впечатление. Что же до работающего корпуса, выстроенного еще 1950-е в традициях так называемого сталинского ампира, то он смотрелся чуть веселее. Однако обваливающаяся местами штукатурка, проржавевшие металлические заборы – все это после московского Домодедово навевало грусть.
Вокруг здания аэропорта во все концы простиралась темно-желтая степь, местами слегка присыпанная грязноватым снегом. Она упиралась в сопки, со всех сторон окружающие Мангазейск. Посреди этого степного пространства кое-где торчали кроваво-ржавые остовы заводских построек – единственный памятник эпохе реформ на этой земле. Чуть в отдалении виднелись панельные девятиэтажки, над которым возвышались трубы местной электростанции, благополучно отравившей своими стоками городское озеро Курокан. Это и была окраина Мангазейска.
«Дом… Н-да, дом… Хотелось бы, чтоб ненадолго!» – размышлял Евсевий, шагая к аэровокзалу. Ни представители духовенства, ни, тем паче, представители местных властей на полосе его не встретили.
«Неласково, надо сказать! Другой бы архиерей им за такое всыпал по первое число!» – подумал он, и легкая ироничная улыбка тронула уголки его губ. Да уж, сколько нервов в свое время было потеряно на таких вот делах – мелочах, если смотреть со стороны! Подготовка к архиерейским визитам, безконечные уборки, плавно перетекающие в ремонты, ибо хочется, чтобы все было не просто в порядке, а идеально… Безсонные ночи и, наконец, приезд Владыки, встреча в облачении, с крестом… «Ну, не такая уж и мелочь, на самом деле! – продолжал размышлять про себя Евсевий. – И могли бы и на полосе встретить, и с крестом… Ну да, видать, места дикие! Неученые они тут… Тюфяки!»
Сопровождаемый келейником Георгием и семенящими за ним монахинями, Евсевий вошел внутрь здания аэропорта. Тут, наконец, он увидел встречающих. Креста на подносе, впрочем, и здесь не оказалось. Само по себе это не было нарушением: ведь прибыл-то он в аэропорт, а не в храм. Однако с учетом последних церковных веяний, а равно и того, что он впервые ступил на мангазейскую землю, встреча с крестом была бы уместной…
В зале прилета его ждали лишь два священника, один из которых держал в руках букет цветов. Первый был невысокого роста, с округлым лицом и вообще весьма округлый этакой мягкой, домашней и уютной, полнотой. Борода была аккуратно подстрижена, а длинные волосы собраны в опрятный «хвост». Наверное, если б он жил во времена передвижников, то те непременно упросили бы его поработать моделью – настолько внешность его соответствовала стереотипному образу русского попа. Но, хотя облик и был стереотипным, карикатурных черт в нем не наблюдалось.
Второй встречающий священник тоже не отличался худобой, но его полнота выглядела иначе. Она не так бросалась в глаза – то ли из-за того, что он был выше своего собрата почти на голову, то ли потому, что во всем его облике чувствовалась какая-то начальственная напряженность – а начальству, как известно, лишние килограммы к лицу. Вроде и ничего особенного во внешности – так, небольшая борода, этакая кустарная эспаньолка, светлые волосы, слегка заостренный, почти орлиный нос. Разве взгляд – такой, что, встретив его, возникало ощущение, будто с разбегу налетел на кирпичную стену…
– Ваше Преосвященство, благословите!
– Благословите, Владыко святый! – заметив архиерея, они оба почти подбежали к нему, кланяясь на ходу.
Евсевий, улыбаясь, неспешно и размашисто преподал обоим благословение. Затем один из них – тот, что пониже и пополнее – вручил ему букет и произнес нечто вроде приветственного слова:
– Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко Евсевий! Простите нас за столь скромную встречу – к сожалению, согласовать с руководством аэропорта подобающий прием не удалось… Мы счастливы, что осиротевшая мангазейская земля вновь обрела архипастыря и отца, мы счастливы, что мангазейская кафедра, после краткого периода вдовства, вновь обрела своего Ангела! Многая лета, Владыко!
– Многая лета! – присоединился второй священник.
Евсевий выслушал приветствие с подобающей серьезностью.
– Как звать вас, отцы? – спросил он после провозглашенного многолетия.
– Иеромонах Игнатий Пермяков, настоятель Свято-Воскресенского кафедрального храма, – ответил священник, произносивший приветственное слово.
– Иерей Василий Васильев, – как будто отрубая каждое слово, по-военному отрапортовал второй священник. – Был благочинным Мангазейского округа.
– А почему был? – спросил Евсевий, слегка удивившись.
– Был раньше, а теперь как благословите, – так же четко и громко, но при этом опустив глаза, отрапортовал Васильев.
Евсевий чуть улыбнулся. Подобное поведение, на его взгляд, было признаком смирения, и это ему нравилось. Радовало его еще кое-что: в словах и манерах Васильева угадывалось военное прошлое. Хотя сам Евсевий после окончания срочной службы никогда в армии не служил и никак с ней связан не был, но, однако же, испытывал сильную симпатию к армейской выправке и армейским порядкам. Причины этого были просты. Евсевий органически, всей душой любил порядок. Идеальный порядок он навел у себя в келье, еще будучи монахом Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Столь же идеальный порядок он стал наводить уже в масштабе всего монастыря, когда стал его наместником. Идеально подстриженные газоны, аккуратно выкрашенные бордюры и постоянное строительство – все это наполняло его сердце искренней и глубокой радостью. Российская армия, также славная абсолютной аккуратностью в деле покраски бордюров и уголков автомобильных бамперов, в этом отношении вполне соответствовала его стандартам.
– А ты, отец Василий, часом не из бывших военных? – поинтересовался епископ.
– Так точно, – ответил священник, – майор запаса.
– А где служил?
– В танковых войсках.
Архиерей удовлетворенно кивнул головой.
– Ты как, отец, женатый, или в целибатах ходишь? – продолжал расспрашивать Евсевий. Иеромонах Игнатий наблюдал за их разговором внешне отрешенно; однако в действительности он внимательно следил за Преосвященным, пытаясь понять, с кем же ему, как священнику, настоятелю и монаху, предстоит иметь дело. Пока что было очевидно одно: отец Василий новому архиерею понравился буквально с первых минут разговора, и понравился, очевидно, своими военными замашками…
– Был женат, сейчас в разводе, – все так же четко, но несколько смущенно, ответил отец Василий.
– Ну ясно, – еще раз кивнул головой Евсевий. – Потом поговорим еще…
Он хотел было на этом закончить расспросы, но не удержался и все же решил спросить:
– А в монахи не думал? Или целибатом хочешь?
Отец Василий поднял глаза и ответил с демонстративной твердостью:
– Думал, Ваше Преосвященство. Если благословите – хочу принять постриг.
Евсевий еще раз многозначительно кивнул. Отец Игнатий наклонил голову, дабы окружающие не могли видеть его лица – этот рефлекс он выработал за годы службы рядом с архиереями.
«Ну все, обаял!» – подумал он.
В это время из зала выдачи багажа показался Георгий, тащивший пару больших сумок.
– Ваше Преосвященство, пройдемте в машину! – сказал Васильев.
На автостоянке перед аэропортом, среди такси и частных автомобилей, стояла уже потрепанная черная епархиальная «Волга» и небольшой праворульный японский минивэн, отходивший по дорогам Японии и России не менее пятнадцати лет. Монахиням и Георгию предложили сесть в микроавтобус, а новый епископ со священниками расположились в «Волге».
– Холодно тут у вас! – сказал, поежившись, Евсевий. – Но зато солнечно!
Солнце, действительно, светило ярко, а на небе почти не было облаков.
– Так точно, Ваше Преосвященство! – ответил Васильев. – Холодно, но по количеству солнечных дней – как в Сочи.
– Ну, можно считать, что на курорт приехал! – с улыбкой сказал Евсевий. Оба священника также вежливо улыбнулись.
Затарахтел двигатель, и «Волга» плавно снялась с места. Архиерей стал внимательно смотреть в окно, разглядывая просторы своей новой епархии. Просторы эти, надо сказать, выглядели довольно уныло. Местная природа – сочетание леса и степи – сама по себе относится к тому типу, который принято именовать суровым. Будучи же разбавлена развалинами колхозных построек, застрявшими там и сям около десяти лет назад комбайнами – точнее, сгнившими остовами этих комбайнов – и кучами мусора, она выглядела совсем уж депрессивно.
«Прям как после атомной войны», – невольно подумал Евсевий. И еще раз задумался над тем, что хорошо бы здесь задерживаться не слишком долго. Что ж, это представлялось вполне реальным. Мангазейская кафедра была для епископата чем-то средним между гауптвахтой и яслями: в такие епархии отправляли либо провинившихся, которых по каким-то причинам нельзя было отправить на покой досрочно, либо новичков. Первые имели возможность реабилитироваться, вторые – научиться управлять епархией и, в идеале, показать класс. Тогда они могли рассчитывать на более привлекательное место.
С момента восстановления Мангазейской епархии в 1993 году и до назначения на нее Евсевия здесь было два епископа. Первый ранее занимал не последнюю кафедру в Центральной России, но оскандалился на одном коммерческом деле, в сущности, невинном (он был как-то причастен к торговле автомобилями, ибо водил дружбу с местными властями и директором тамошнего автозавода). В иные-прочие времена его бы никто и не подумал тронуть, но на дворе стоял 1992 год, год неиллюзорной гласности с позывами на демократизацию. Потому Владыку Синод решил почислить на покой, а через 10 месяцев, когда восстановили Мангазейскую епархию, отправили его туда правящим архиереем. В этом качестве он благополучно прожил до 1997 года, когда на покой попросился уже сам. Прошение было без проволочек удовлетворено.
Второй архиерей, Владыка Евграф, оказался человеком необычной судьбы. Самым необычным было его происхождение: сын генерала КГБ СССР, выпускник МГИМО, он плюнул на открывавшуюся перед ним блестящую карьеру и ушел в семинарию. О том, как в дальнейшем сложились его отношения с родителями, он предпочитал не распространяться, но было известно, что сложились они плохо. В результате его церковная карьера складывалась не так блестяще, как должна была бы складываться. Рукоположиться в Москве ему не удалось, и в итоге он, уже будучи женатым человеком, смог добиться хиротонии в Иркутске. Какое-то время служил там, потом его перевели в Мангазейск, потом снова в Иркутск. Меж тем наступили 1990-е, началась либерализация и тут, наконец, вспомнили и о нем, и о его образовании и навыках (для Московской Патриархии тех лет довольно редких). Ему предложили постричься в монахи и стать епископом. Что он, собственно, и сделал, предварительно разведясь с женой.
Мангазейская кафедра для него стала творческим полигоном, и здесь в полной мере проявились его миссионерские способности. Он открыл пастырские курсы, начал участвовать в научных конференциях и даже выступал каждое воскресенье с авторской передачей на местном телевидении, что было и вовсе делом невиданным – ранее этим занимались только баптисты и пятидесятники. Вероятно, он смог бы здесь многого добиться, но в Патриархии на его счет имели собственное мнение: в конце 2000 года его прямо из Мангазейска назначили епископом в Австрию, в Вену. Для провинциального Мангазейска это было явление не просто редкое, а совсем уж чудесное: выпускник МГИМО был епископом и жил с нами, а теперь живым взят от нас – только не на небо, а в Вену! Такого в истории Мангазейска еще не случалось, и можно было быть уверенным, что предания об этом достославном событии будут передаваться из уст в уста много после того, как исчезнут очевидцы этого чуда.
И вот теперь настала очередь его, Евсевия (Никодимова). Очевидно, что и в Москве, и в самом Мангазейске его будут сравнивать с предшественником – тем самым, который и с дипломом МГИМО, и телепередачи вел, и в Вену улетел…
Эта мысль заставила Евсевия, молча наблюдающего проносящуюся за окном, слегка присыпанную снегом грязно-желтую степь, чуть поморщиться. Да, сравнивать будут! Ну да он на этого самого предшественника равняться не намерен. «Хватит нам модного, суперсовременного православия! – размышлял Евсевий. – Монастырем я управлял, и епархией также управлять нужно… Не в телепередачах дело!»
А кроме того, он знал, чем он сможет превзойти архиереев, бывших на кафедре до него. Незадолго до епископской хиротонии он, помимо всего прочего, был на приеме у управделами Патриархии, митрополита Сергия. Во время встречи речь шла о многих обычных делах, так – протокольные вопросы, протокольные ответы… Но среди них, как это часто бывает в таких разговорах, прозвучало и самое главное:
– А ведь я у вас в монастыре бывал, – как бы невзначай вспомнил митрополит Сергий.
– Да, Владыко, помню прекрасно! – максимально вежливо ответил отец Евсевий.
– Да… Удивил ты тогда многих… – управделами стал говорить чуть медленнее, с некой доверительной неспешностью. – Руины, можно сказать, были. А ты там такую обитель поднял!
Евсевий скромно опустил глаза.
– Да, удивительно! – продолжал митрополит Сергий. – Сейчас, сам знаешь, время строить. Храмы воздвигать! Да и монастыри… Кстати, в Мангазейске, где тебе епископом быть, дела-то эти подзапущены… Да, вот так…
Управделами выдержал паузу в несколько секунд и продолжил:
– Предшественник-то твой, между нами говоря, не особо этим интересовался. А напрасно! Ты себя хорошим строителем зарекомендовал, стало быть, тебе эти огрехи и поправлять…
– Благословите, – тихо ответил Евсевий.
– Да Господь, Господь тебя благословит! Стало быть, поправить нужно… Места далекие, там хозяйский, цепкий глаз требуется, там тебе просто так ничего не подарят. А слыханное ли дело: до сих пор кафедрального собора в епархии нет! В деревянной церквушке служат! – на губах управделами появилась слегка пренебрежительная улыбка.
Евсевий сидел, сложив руки на коленях и опустив глаза, весь превратившись в слух. Он понимал, что сейчас-то и будет сказано самое важное.
– Ты бы там порядок навел, а? – продолжил управделами. – Ну вот тот же собор бы построил. Благо, ты строитель у нас известный, дело это любишь и умеешь. А там, глядишь, и еще что-нибудь потребуется. Может, и не в Мангазейске, а где и поближе…
Тут Евсевий позволил себе чуть-чуть кивнуть. Митрополит Сергий отметил это, и сказал:
– Ну, хватит уже болтать! О делах мы уже переговорили, а эти разговоры – они до безконечности тянуться могут!
О делах, действительно, сказано было все. Задача была ясна, перспективы – более или менее. Экзамен – это постройка кафедрального собора, в случае успешной сдачи оного экзамена – перевод на более богатую и престижную кафедру. При этом очевидно, что чем более впечатляющим будет собор, тем лучше будет новая кафедра. Что тут непонятного? Все яснее ясного!
…Черная «Волга» уже мчалась по улицам города. Сначала мимо проносились типовые советские девятиэтажки грязно-голубого и сурикового цветов. Ближе к центру города стала попадаться дореволюционная застройка – от крепких бревенчатых изб до изящных (хотя и запущенных) зданий в стиле модерн.
«Волга» плавно затормозила у беленой оградки небольшого деревянного храма, выкрашенного в небесно-голубой цвет. Над колоколенкой и крохотным куполом его возвышались два восьмиконечных креста, обшитые металлом. В остальном церковь выглядела очень просто – продолговатое здание под двускатной крышей, нетипичное для русской церковной архитектуры, и по очень простой причине: до 1920 года здесь находился костел.
Евсевий вылез из машины, не спеша расправил плечи. Широко перекрестился на храм.
– Владыко, духовенство епархии в храме ожидает вас, – обратился к архиерею отец Игнатий. – Как благословите: сейчас в церковь идти? Или…
– Никаких «или»! – ответил Евсевий. – Сейчас же и пойду!
Еще раз оглядевшись, он в сопровождении священников направился в церковь. Тут же на колокольне начался трезвон. Двустворчатые входные двери храма были открыты, внутри горели все светильники, и уже на подходе ощущалась та запахо-звуковая симфония, которая бывает в небольших храмах на торжественных службах. Аромат софринского ладана, перебиваемый запахом горящего в кадиле угля и горячего воска, и тот характерный «дух», который стоит во всяком тесном помещении, заполненном людьми. Колокольный звон перемешивался с бряцанием колокольчиков на кадилах и стихарях, а фоном им было быстрое перешептывание священнослужителей и гул разговоров и благочестивых оханий прихожан…
Как все это было знакомо Евсевию! Сколько раз за последние два десятка лет он сам так же, с крестом на подносе или в ряду священников, встречал архиереев! Это были и викарные, и правящие епископы, не раз доводилось встречать и патриарха. А сейчас он сам впервые входит в кафедральный храм своей епархии уже как архиерей. Конечно, до того, после хиротонии, он уже служил в епископском сане в Москве, в храме Христа Спасителя. Но то было совсем другое дело! Он был очередным недавно рукоположенным епископом, каких там перевидали десятки. Архиерей, да еще и не из высших кругов, там не производил ни на кого впечатления, и даже соборные пономари смотрели на него чуть ли не свысока. Оно и понятно: тамошние попы регулярно служат с патриархом и членами Синода, они знают друг друга, а нередко и дружат. И реальных возможностей зайти к кому надо со своей просьбой и «правильно» решить тот или иной вопрос у тамошних священников или патриарших иподиаконов нередко гораздо больше, чем у провинциальных архиереев. Потому хоть по сану он был и святителем, но воспринимался в Москве как бедный родственник. Да и сам чувствовал себя так же.
Иное дело – здесь, в Мангазейске. Поднимаясь по ступеням маленькой старой деревянной церкви, он действительно ощутил, что он здесь не просто «носитель благодати», но воистину – архиерей, князь Церкви, Владыка! Вокруг, в любую сторону, на сотни километров, простирается его епархия. И на всей этой территории он – единственный архиерей, наследник апостолов, тот, кому дано вязать и решить… На все эти сотни километров ложится и его клятва, и его благословение…
От осознания своей власти он на секунду пришел в ужас. Ведь эта власть – это колоссальная ответственность. Ответственность вот за того священника, который стоит с крестом на подносе в дверях. И за попов, которые в несколько рядов выстроились по бокам и жадно смотрят на него, поднимающегося по ступенькам, силясь угадать, что принесет им его назначение. За прихожан, которые набились в эту маленькую церквушку как сельди в банку… За всех чад Церкви, кто живет на этих просторах, и даже не только за них, ибо его долг – не только пасти уже имеющихся «словесных овец», но и привлекать в свое стадо новых… Каждый из них отвечает только за себя, а он – за них всех…
«Господи, помилуй!» – мысленно произнес Евсевий и вошел внутрь храма.
Грянул хор, оказавшийся на удивление сильным для столь запущенной (по крайней мере, если говорить о церковной жизни) провинции. Алтарники кое-как набросили на Евсевия мантию, после чего он поцеловал крест и широко благословил им собравшихся в храме. Встреча проходила по обычному чину. Поклонившись иконам, он повернулся к отцу Игнатию:
– Отец, надо бы молебен на начало доброго дела отслужить. У тебя все готово? – и, не дожидаясь ответа и делая сноску на дикость здешних мест и их обитателей, Евсевий пояснил, что именно должно быть готово: – Требник, вода, кропило?
– Все здесь, Ваше Преосвященство, – ответил иеромонах. Действительно, на небольшом столике, покрытом голубой материей, находились и требник, и чаша со святой водой, и кропило. Евсевий одобрительно кивнул головой. Начался молебен. По окончании его архиерей произнес свою проповедь, первую в Мангазейске. Начал он, как обычно, с неких общих мест – о том, что церковь не в бревнах, а в ребрах, но потом дошел и до вещей, которые всерьез волновали его самого:
– Братья и сестры! Господь дал мне великую радость: тридцать лет прожить в монастырях. Но при этом я уверен: благочестивая, богоугодная жизнь не есть достояние одних только монахов, одних только монастырей. Уверен: благочестивое житие возможно и в миру. И как монастырь является одной семьей, так и вся наша епархия является тоже одной духовной семьей. И за нее я, как архиерей, чувствую свою ответственность перед Богом, и прошу вас молиться о том, чтобы Он дал мне сил достойно послужить здесь, в Мангазейске.
Священнослужители чинно молчали, внимательно вслушиваясь в слова архиерейской проповеди. Слушал отец Игнатий, настоятель Свято-Воскресенского кафедрального храма. Слушал и отец Василий Васильев, благочинный. Внимательно смотрел на архиерея отец Георгий Тарутин, а отец Аркадий Ковалишин постоянно поправлял очки, без которых не видел почти ничего. Отец Ярослав Андрейко чинно стоял, опустив очи долу, так же стоял и отец Аркадий Котов, а вот отец Филимон Тихиков, наоборот, устремил взгляд ввысь, но, вопреки обыкновению, думал не о своем, а о том, что же говорит новый Преосвященный. Впереди таких проповедей будет еще немало, и вряд ли священники захотят вникать в их содержание. Но сейчас все батюшки жадно впитывали каждое слово, стараясь понять, кем является их нынешний епископ. Ведь если для мирян он Владыка весьма условный, то для них – самый непосредственный, тот, от которого будет зависеть вся их жизнь.
– Аминь! – завершил свою проповедь архиерей. После этого губернаторский зам, пришедший по случаю назначения нового епископа, подошел к амвону.
– Уважаемый епископ Евсевий! – начал он свою речь. – От лица губернатора и всего руководства Мангазейской области поздравляю вас с прибытием в наш город. Православная Церковь искони была хранительницей лучших наших обычаев, особенно таких, как межнациональная и межконфессиональная терпимость. Мы надеемся, что успешное сотрудничество с епархией, начатое при епископе Евграфе, будет продолжено. Спасибо за внимание!
Евсевий с уважительной серьезностью выслушал и эту речь. Надо было, вероятно, сказать что-то в ответ, но тут он немного растерялся и ответил невпопад:
– Спасибо за доброе напутствие…
Чиновник, и без того чувствовавший себя неуютно в чуждой и со всех сторон непонятной ему атмосфере храма, неловко и зло улыбнулся и стал протискиваться через ряды прихожан к выходу.
– А суров новый Владыка! – шепнул отец Георгий Тарутин другому священнику, отцу Ярославу Андрейко. Отец Ярослав медленно кивнул, однако ничего говорить не стал, ибо догадался: дело было скорее не в суровости, а в растерянности. «Как-то будет дальше?..» – вновь задал он сам себе вопрос. Ответа пока не было.
Священники начали подходить ко кресту. Почти у всех в руках были букеты цветов – традиционный и, так сказать, дежурный подарок епископу. От некоторых приходов пришли еще и старосты (все – исключительно женщины преклонных годов), которых также представляли новому архиерею.
После того как все это закончилось, иеромонах Игнатий вновь подошел к Евсевию.
– Ваше Преосвященство, в трапезной накрыты столы… Благословите?
– О, это хорошо! – с улыбкой ответил архиерей.
Духовенство во главе с Евсевием, в сопровождении некоторых избранных мирян, вроде пары старост и нескольких околоепархиальных интеллигентов, направилось в трапезную. Надо сказать, что это помещение выглядело более чем скромно. Да и едва ли могло быть по-другому, ибо находилось оно в небольшом одноэтажном деревянном доме, причем в этом же доме располагался и кабинет архиерея, и приемная его секретаря, и кабинет благочинного Мангазейского округа.
«Н-да, убогонько!..» – мысленно отметил Евсевий, входя в трапезную. Стены были тщательно выбелены, на столах в хрустальных вазах установлены цветы, а на сами столы были постелены новые скатерти, но все это, естественно, не отменяло ни тесноты, ни того, что в соседней комнатушке гремела посуда, а в воздухе стоял душный кухонный запах.
«Прямо как в сельском приходе, – продолжал про себя оценивать обстановку Евсевий. – Надо будет все это перестроить!..»
Не без труда добравшись до своего места во главе стола и дождавшись, когда все гости протиснутся на свои места, он прочитал молитву. Потом все расселись, и трапеза наконец началась.
– А где заместитель губернатора? – поинтересовался Евсевий, не заметив столь высокого гостя среди сотрапезников.
– Видимо, ушел, Владыко! – немного смущенно ответил отец Игнатий.
– Ну, ушел да и ушел! – вновь улыбнувшись, сказал архиерей. Священники в ответ тоже улыбнулись, правда, немного скованно.
– Ты его хоть пригласил? – спросил Евсевий у отца Игнатия.
– Да, разумеется, – ответил тот. – Приглашение было вручено.
– Что ж он так? – Евсевий обратился уже к отцу Василию.
– Не могу знать, Ваше Преосвященство! – все в том же армейском стиле отчеканил тот. Васильев уже сообразил, что подобный стиль архиерею люб, и решил впредь по возможности держаться именно в этой манере. – Может, просто торопился.
Епископ кивнул, и больше за обедом о сбежавшем заме уже не вспоминали.
Первые минуты после молитвы трапеза протекала почти безмолвно, под негромкое бряцание вилок, ударяющихся о дно старательно опустошаемых тарелок, да тихий перезвон бокалов, пока осторожно наполняемых преимущественно минералкой. Заметив всеобщую скованность и справедливо полагая себя главным ее виновником, Евсевий решил несколько разрядить обстановку. Он начал рассказывать различные анекдоты из монастырской жизни, вспоминать о тех или иных забавных казусах, случавшихся с ним при встрече епархиальных архиереев, пересказывать смешные истории, которые слышал от своего духовного отца, и тому подобное. И добился успеха: священники заметно расслабились, в стаканы полилась уже не минералка или морс, а водочка, разговоры стали оживленнее. Трапеза начала все меньше походить на обед духовенства с архиереем и более напоминала обычные поповские посиделки, где все чувствовали себя на равных. Вскоре началось пение многолетия. Во-первых, конечно, «нашему Владыке многая лета!», во-вторых – произносившим тосты священникам. Все это с обычным для относительно непринужденной обстановки продолжением: «Так выпьем же, выпьем, выпьем за это!»
Наконец трапеза завершилась. После молитвы собравшиеся, отягощенные немудреной, но обильной пищей, стали, охая и толкаясь, пробираться к выходу. Оказавшись за дверями трапезной – вне досягаемости архиерейского слуха – отец Тарутин с тихим восторгом сказал иеромонаху Игнатию:
– Удивительный Владыка! Ведет себя не как архиерей, а как просто другой священник – по-братски!
– Угу, – голосом, лишенным всякого эмоционального оттенка, ответил ему иеромонах.
– Удивительно! С Евграфом просто не сравнить!
– Угу, – так же тихо ответил отец Игнатий. Заметив, что поблизости появился благочинный, Тарутин оборвал разговор.
– Архиерея обсуждаем, отцы? – иронично спросил Васильев священников.
– Как же можно! Князя Церкви, преемника апостолов!.. – негромко и еще более иронично ответил отец Игнатий. Васильев ехидно улыбнулся и пошел к своему микроавтобусу. А отец Игнатий, перекрестившись на храм, повернулся и пошел к своему дому. «По-братски себя ведет… Пока! – мысленно рассуждал он. – А впрочем… Как Бог даст!»
– Отец Игнатий! – от церковной ограды его окликнул его старый знакомый, Ярослав Андрейко. – Ты куда путь держишь?
Иеромонах остановился, обернувшись всем корпусом.
– Домой, куда ж еще?
– Слушай, извини, конечно… Не возьмешь в компанию? – спросил отец Ярослав.
– Пошли, – ответил Игнатий. Он знал, что это, скорее всего, надолго. Очень возможно, что отец Ярослав будет сидеть у него до позднего вечера, а поздно вечером, сославшись на то, что маршрутки уже не ходят, останется до утра.
Принимать кого бы то ни было на своей съемной квартире, где более половины его немногочисленных вещей уже который год лежали в картонных коробках, отцу Игнатию не хотелось. Даже своего старого и доброго друга, Ярослава Андрейко. Последний тоже понимал, что, напрашиваясь в гости, он поступает не слишком деликатно, ибо он был в курсе того, как живет настоятель кафедрального храма. Но оба они знали, что у отца Ярослава для этой просьбы были основания – настолько болезненные, что отец Игнатий едва ли решился бы ему отказать…
«Ну, теперь опять до поздней ночи! – с грустью подумал отец Игнатий. – А ведь затянулось это дело у них, а сколько веревочке не виться – конец будет… Кстати, и посмотрим, как “по-братски” архиерей с этим разберется…»
Архиерей, разумеется, обо всем этом не знал. В сопровождении благочинного он в этот момент осматривал свою квартиру, находящуюся в доме напротив церкви. Дом этот, построенный в первой половине 1990-х годов, считался «элитным». Элитарность проявлялась в нелепой планировке: в двухэтажном доме каждая квартира была также в два уровня, но при этом на каждом этаже находилось по две комнаты. Впрочем, если обычных домохозяек, сполна насладившихся беготней с пылесосом по лестнице, это раздражало, то Евсевию, напротив, такая схема понравилась.
– На первом этаже матушки пусть размещаются с Георгием, – сказал он, удовлетворенно обводя взглядом свои новые покои. – Ну, а на втором этаже я расположусь.
Осмотрев свою спальню (где, кроме кровати и пустого шкафа, ничего не было) Евсевий благословил и отпустил восвояси отца Василия. А сам, подойдя к окну, погрузился в мысли о предмете, который его все более занимал: о новом кафедральном соборе. Было очевидно, что нормально служить, тем более архиерейским чином, в нынешней крохотной церквушке нельзя. Да, понятно, почему его сюда направили! Он действительно очень любил строить, сам процесс планирования новых объектов и последующего их возведения всегда доставлял Евсевию огромное удовольствие. Это было подлинное творчество, создание чего-то нового – чего-то, что послужит на пользу Церкви и явится видимым всем воплощением его трудов.
Будучи наместником монастыря, он не только отреставрировал возвращенные властями полуразрушенные храмы и келейные корпуса, но и возвел ряд новых построек. В основном это были хозяйственные строения: коровники, пекарни и прочее в этом же роде, причем уровню их автоматизации могли позавидовать окрестные фермерские хозяйства и колхозы. Но то был лишь монастырь. Здесь же в его распоряжении была целая епархия! Совсем другой уровень, совсем другие возможности. Тут нет ни кафедрального собора, ни монастыря! Ни одного – и это на такую огромную епархию!
Но скоро, с Божией помощью, он это изменит! И он был уже уверен, что кафедральный собор, который подымет свои купола в мангазейское небо, будет не просто собором, а одним из самых красивых и больших в России. Еще и речи не было про выделение места под храм и тем более не было проекта. Но он уже не сомневался, что будущий собор должен стать именно таким – красивым и особенно величественным. Таким он представлялся его мысленному взору, и этот образ, до того момента бывший очень смутным, теперь ярко и в целом ясно вырисовывался в его уме. Так невидимый глазу ничтожно малый зародыш, появившийся в момент зачатия в материнском теле, в своих генах несет всю информацию о строении того человека, которым ему предстоит стать.
После совершения обычного монашеского молитвенного правила Преосвященный Евсевий заснул спокойным и радостным сном – подобно тому, как засыпает женщина, давно жаждущая ребенка и наконец-то достоверно убедившаяся в том, что она забеременела.
Глава 2 Пропуск на хиротонию
– А помнишь Владыку Пахомия? На девятое мая? – со смехом спросил отец Ярослав отца Игнатия. Сидя за столом, они уже третий час обсуждали епархиальную жизнь и вспоминали истории из общего священнического прошлого. Как и предчувствовал настоятель, напросившийся к нему в гости старый друг явно был намерен засидеться, и засидеться основательно.
– Забудешь, как же! – немного ядовито, но при этом и весело отвечал иеромонах. – Чуть все зубы мне тогда не выбил. Свалился с кафедры – и крестом мне по зубам! Тут же извиняться начал: «Ты прости, прости!..»
Оба священника рассмеялись.
– Да, Пахомий был великий человек! – сказал, улыбаясь, отец Ярослав.
– Что ты! – вторил ему Игнатий. – Старый архиерей, из старой священнической семьи! Да к тому же советского времени. Сейчас таких уж не осталось…
– Это да… – с мечтательной грустью согласился отец Ярослав.
Преосвященный Пахомий, первый епископ возрожденной Мангазейской епархии, не пользовался особой популярностью во времена своего правления. Но после его ухода на покой духовенство, служившее под его началом, кардинально изменило к нему свое отношение. Если в период своего архиерейства он рассматривался как тиран и хам, то после его ухода о нем стали вспоминать с теплотой и даже нежностью.
– Помню, как водителей своих он посохом со двора выгонял! Беда была с этими водителями, – продолжал предаваться воспоминаниям отец Игнатий. – Нанять нормального человека нельзя, одни дебилы приходили. К тому же еще и вороватые. То шапку у него, когда напьется, стащат, а то и кошелек…
– Да, было дело, – кивнул головой Андрейко.
– Ага, – продолжал отец Игнатий. – Да вот только он раз напьется, а другой раз и притворится только. А потом пинками да ударами палки такого водителя и выгоняет, а тот по всему городу ходит, сплетни про Пахомия разносит. Да только Пахомий мог бы его и не пинать, а просто милицию вызвать. И пошел бы такой водила на зону, да еще и на хороший срок, ибо у этих соколиков через одного судимость была…
– И это верно, – соглашался отец Ярослав. – Пахомий был большой мастер в смысле покричать да выматериться или в пономаря потухшим кадилом запустить. Но на этом, в общем-то, все и заканчивалось…
– Да-да! – с готовностью согласился Игнатий. – Никого не запрещал, никого не зажимал… Великий был архипастырь!
Оба священника замолчали, потянувшись к кружкам с чаем. Но оба продолжали размышлять о прошлом. Отец Ярослав, неспешно отхлебывая чай, в который раз вспоминал события одиннадцатилетней давности – то есть то время, когда он принял священный сан.
Хотя сейчас ему было всего-навсего двадцать восемь лет, он был одним из старейших по хиротонии священников епархии. Он был рукоположен в 1990 году в возрасте семнадцати лет, став одним из тех юных священнослужителей, которых в те годы много было по всей стране, особенно же – в провинции.
Тогда, в 1990 году, в кафедральном соборе и Епархиальном управлении Иркутска его все знали как Славу Андрейко – милого и умного юношу из интеллигентной семьи, который с пятнадцати лет иподиаконствовал у тамошнего Владыки. Иркутская епархия, в советские времена вобравшая в себя огромные сибирские просторы, в тот период была на пороге дробления: исторические сибирские кафедры, закрытые во время гонений тридцатых годов, должны были начать возрождаться в ближайшем будущем. По всей стране началась лавинообразная передача храмов Московской Патриархии. Духовенства не хватало катастрофически, и поэтому любой юноша, более-менее сведущий в церковных делах, мог рассчитывать на относительно скорую хиротонию.
Ярослав был как раз одним из таких. При этом он несколько выделялся на фоне остальных молодых людей, крутившихся в те годы вблизи иркутского архиерея. Семья его была не очень религиозной – относительно регулярно к службе ходила только мать, отец же был к Церкви вполне равнодушен. Но и мать, и отец были образованны и тактичны и сыну своему, с четырнадцати лет начавшему алтарничать, не препятствовали. В школе он учился хорошо, был начитан и эрудирован, и потому без проблем смог поступить в институт. Но еще до этого, в шестнадцать лет, он был официально зачислен в штат Епархиального управления, из-за чего ему пришлось перевестись на заочное обучение. Приходские бабки пророчили ему большое будущее, но кафедральные священники таких прогнозов предпочитали не делать. Однако все сходились в одном: такой разумный и скромный юноша рано или поздно должен «стать батюшкой».
Случилось это рано, а не поздно. В марте 1990 года, когда ему исполнилось семнадцать лет, его вызвал к себе в кабинет иркутский Преосвященный. Как обычно, благословил, однако садиться не предложил. Подобное могло означать либо архиерейское недовольство, либо особую торжественность момента.
– Вот что, Слава… – начал Владыка. – Ты, конечно, и сам знаешь, что духовенства в епархии не хватает. А новые приходы открываются чуть не каждый месяц. Попов не хватает до зарезу!.. Я к тебе давно присматриваюсь: по совести сказать, молодой ты еще, слишком молодой. Хорошо бы тебя еще лет пяток подержать в псаломщиках или, по верхней планке, в диаконах… Но нет у нас этих пяти лет!
Слава Андрейко застыл в радостном ожидании. Служение алтарю Господню, иерейское служение было его мечтой! Не было не то что дня, но даже и часа, когда он не думал о том миге, когда он будет рукоположен во священники, и миг этот, казалось, будет самым великим и самым счастливым в его жизни. И вот, кажется, его самая заветная мечта сбывается…
– Поэтому я решил тебя до лета рукополагать, – сказал архиерей.
– Благословите, Владыка святый! – счастливо выдохнул Ярослав.
– Господь благословит! – серьезно, почти торжественно ответил Преосвященный. – Но есть одно дело, которое тебе следует уладить безотлагательно.
– Какое? – чуть насторожившись, спросил Слава.
– Жениться, – совершенно серьезно, даже без улыбки, ответил архиерей. – Неженатых попов я на приходы посылать не люблю. Да и присмотрелся я к тебе немного, женатый поп из тебя еще выйдет, а вот целибат – это вряд ли, а монах – тем более. Не твое это. Потому до хиротонии должен жениться. Сроку тебе два месяца, не больше.
– Благословите, – ответил Ярослав.
– Бог благословит! – тут уже Преосвященный улыбнулся. И, видя, что его иподиакон слегка смутился, добавил:
– Не робей, Слава! Не такое уж страшное дело – женитьба! А поставить я тебя хочу в Мангазейск, вторым священником. Приход хороший, опять же, областной центр, а не деревня какая-нибудь. Тебе там будет самое место. Потом, глядишь, и в Иркутск переведу. А ежели восстановят Мангазейскую епархию (слухи такие с недавних пор пошли), так будешь кафедральным священником. Глядишь, лет через пять тебя в кафедральных протоиереях увижу!
На этом аудиенция завершилась. Весь оставшийся день для Ярослава прошел как в тумане. Старая мечта (настолько старая, насколько она может быть у семнадцатилетнего юноши) сбывалась! Скоро, совсем скоро его поведут к царским вратам архиерейские протодиаконы, и он услышит, преклонив колена у Престола, знакомые тихие слова молитвы: «Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая…» Сколько раз он слышал эти слова из уст архиерея, когда, будучи иподиаконом, держал перед ним чиновник! Но теперь чиновник будет держать кто-то другой, а божественная благодать будет преподаваться ему – через возложение на его, Ярослава, голову рук преемника апостолов!..
Однако восторги – восторгами, но была и еще одна, нерешенная, задача: женитьба. Как, наверное, любой или почти любой юноша семнадцати лет, Слава Андрейко не имел ничего принципиально против того, чтобы жениться. Разговоры о будущей свадьбе и хиротонии – разговоры для поповской и пономарской среды обычные. Они являются неиссякаемым источником для шуток, изредка – остроумных. Над Славой подшучивали, ибо девушкам он нравился несколько больше, чем его друзья, да и сам он не прочь был позубоскалить над «собратьями-сослужителями».
Но что было кроме этого совсем уж невинного зубоскальства?..
Выйдя ранним вечером на улицу из здания Епархиального управления, Ярослав задумался об этом еще раз. Мартовский Иркутск был еще весь укутан снегом. Ветра в этот день не было, и потому над городом стоял легкий, морозный туман. Ярослав полной грудью вдохнул обжигающе холодный воздух и осмотрелся. Все было удивительно привычным, знакомым и родным. Но теперь этот мир – его мир, в котором он вырос, как будто бы отделился от него. Казалось, что он смотрит на него не непосредственно, своими глазами, а как будто из аквариума. «Странное чувство, – невольно отметил он про себя. – Наверное, так всегда бывает накануне значимых перемен. Как будто нужно заново родиться…»
В морозной тишине, которая лишь изредка прерывалась шумом проезжающих мимо автомобилей, отчетливо слышался скрип снега под зимними сапогами. Слушая этот скрип, Ярослав размышлял о том, как же он все-таки будет выполнять благословение архиерея.
Знакомых девушек и молодых женщин, с которыми он так или иначе общался, было не то чтобы много, но они были. С одной познакомился на дне рождения, с другой – еще в школе, с третьей – в кругах околоцерковной интеллигенции, с четвертой… Да какая разница, где и когда! Мало ли. Важно было не это, а то, что до сегодняшнего дня о женитьбе, о создании своей семьи он сам всерьез еще не задумывался. То есть разговоры о том, чтобы жениться да рукоположиться – эти разговоры он слышал еще подростком. Но по-настоящему, так сказать, предметно, он об этом начал думать только сейчас.
И понял, что свататься ему особо не к кому. Ибо никакой девушки, с которой он бы твердо хотел связать свою судьбу, на примете не имелось.
Снег под сапогами продолжал скрипеть. «Значит, надо искать! – твердо сказал он сам себе. – Владыка благословил, в конце концов, архиереев Дух Святый умудряет. Раз благословение дано, значит, пришло время. С Божией помощью, кто-нибудь найдется…» Мысль о том, что хиротонию, возможно, есть смысл отложить, даже не приходила ему в голову. Как! Столько времени мечтать о священстве и отказаться от него только потому, что не смог жену найти? Это казалось абсурдом. В конце концов, он же не олигофрен и не импотент какой, чтобы с таким делом не справиться!
«Положусь на волю Божию», – успокоил он сам себя. Более в тот вечер он о свадьбе не думал.
* * *
Весь следующий месяц Ярослав посвятил поискам невесты. Задача эта, теоретически простая, на практике оказалась весьма сложной для решения. Наверное, если бы Слава был обычным, светским юношей, то найти какую-нибудь девушку, согласную пойти с ним в ЗАГС, было бы легко. В конце концов, в институте, где он продолжал учиться, что на очном, что на заочном отделении таких девушек было полно. Красивые и некрасивые, из хороших и не очень хороших семей, худые и «в теле»… Выбирать можно было долго и с удовольствием. Не было только одного варианта: девушки, которая хотела бы стать поповской женой. И тем паче переезжать вместе с мужем в неинтересный и неперспективный Мангазейск.
Конечно, можно было искать себе спутницу жизни не в институте, а в той же епархиальной среде. На приходе в кафедральном соборе женщины все еще составляли абсолютное большинство, и отнюдь не все они были бабушками. А у бабушек, к тому же, были дочери и внучки. Но для Ярослава, воспитанного в книжной, интеллигентной среде, среднестатистическая прихожанка – очень часто не слишком образованная, да еще и обремененная самыми разными проблемами – от материальных и до психических, – была совсем уж непривлекательна…
Дни летели за днями. Слава целенаправленно общался со знакомыми девицами, однако даже не заговаривал с ними напрямую о браке, ибо было очевидно, что это безсмысленно. Одни были еще молоды и не нагулялись, другие были переполнены мечтами о собственной карьере, третьи просто «еще не думали», и ни одна из них не представляла себя в роли «матушки».
Прошел месяц. На очередной архиерейской службе после причастия духовенства Ярослав подошел под благословение. По обычаю поклонившись, он поцеловал руку архиерея, потом плечо, потом снова руку. Этот момент Преосвященный часто использовал для того, чтобы задать вопрос или сделать замечание. Так случилось и на этот раз:
– Ну что, Слава, скоро тебя венчать будем?
Ярослав наклонил голову и, глядя в пол, негромко сказал:
– С Божией помощью, надеюсь, скоро…
Однако архиерея такой ответ не устроил:
– Понятно, что с Божией помощью. Я спрашиваю, венчать тебя когда будем? Нашел кого-нибудь?
– Пока не нашел… – еще тише ответил Ярослав.
– Вот как! – уже чуть раздраженно сказал архиерей. – Мы же с тобой месяц назад говорили. Сроку я тебе давал два месяца, а у тебя подвижек никаких!..
– Простите, Владыко, – Ярослав совсем смутился. – Не получается вот так, сразу…
– Что? – Преосвященный рассердился уже всерьез. – «Не получается вот так сразу?!» Если ты жениться даже не можешь, то что ты вообще можешь-то? В общем, смотри, месяц у тебя остался. Не женишься – не будет тебе ни хиротонии, ни мангазейского прихода. Можешь потом хоть до седых волос кадило подавать.
– Благословите, – тихо ответил Слава.
Преосвященный раздраженно дернул кистью руки, давая понять, что разговор окончен.
Весь последующий день прошел для Ярослава как в ядовитом чаду. Священническая служба была его мечтой, он не представлял, что сможет жить как-то иначе. Понятие «счастье» для него было тождественно понятию «хиротония», и вот сейчас его мечта оказалась на грани катастрофы… Из-за какой-то свадьбы!
Мозг начал судорожно работать, перебирая всех знакомых женщин и пытаясь понять, женитьба на ком была бы если не радостна, то хотя бы минимально приемлема… И очень скоро его выбор остановился на Елене Черновой, с которой он был достаточно давно знаком или даже дружен.
Лена всегда была ему симпатична – образованная, умеющая «умно» поговорить и при этом считающая себя верующей и иногда даже заглядывающая на богослужения, она выгодно отличалась как от приходских обитательниц, так и от знакомых ему студенток. Познакомились они во время очередных интеллигентских посиделок. Слава прекрасно помнил этот момент. Он зашел в квартиру с мороза, в покрывшейся инеем дешевой меховой шапке, весь пропахший смогом зимнего города. В прихожей стоял его знакомый, историк-аспирант, о чем-то увлеченно беседовавший с приятной молодой женщиной, одетой простенько (так, кофточка-юбочка), но не безвкусно. Кофточка была именно кофточкой, а не безполым интеллигентским свитером в катышках, достаточно обтягивающей для того, чтобы дать понять окружающим, что под ней скрывается годное женское тело, но не настолько обтягивающей, чтобы это было неприличным. Примерно так же обстояли дела с юбкой. Косметики на лице, по обычаю второй половины 1980-х годов, было немало, но все же не сверх меры.
– О, Слава, привет! Рад тебя видеть! – знакомый аспирант протянул ему руку. И, повернувшись к своей собеседнице, сказал:
– Лена, знакомься: это Ярослав, молодой, но удивительный человек, диакон у иркутского епископа!
– Иподиакон, – поправил его Ярослав.
– Ну, в общем, он! – с улыбкой продолжил аспирант. – Ярослав, это Лена, служительница печатного слова!
– Просто работаю в типографии, – с улыбкой пояснила она.
– Ярослав, – сказал Слава и протянул руку.
– Елена, – улыбаясь, она чуть сжала его руку своими тонкими женскими пальцами. – Рада знакомству! Никогда не была знакома ни с кем из церковных людей…
Аспирант ухмыльнулся и ушел на кухню. А они продолжили разговор. Скованность, присутствовавшая вначале с обеих сторон, постепенно ушла. А к концу вечера Ярослав даже взял ее номер телефона.
С тех пор они стали изредка общаться, иногда – вдвоем, наедине. Он даже бывал у нее в гостях. Обсуждали книги, разные животрепещущие общественно-политические вопросы, он немного рассказывал ей о церковных делах, и под его влиянием она стала несколько чаще захаживать в храм – хотя это по-прежнему случалось редко. Тем не менее романтические отношения между ними не складывались, или, точнее, почти не складывались.
Причин тому было несколько. Во-первых, она была старше Ярослава на восемь лет, и поначалу ему это казалось непреодолимым препятствием для возникновения серьезных отношений – а несерьезные в то время он, горящий религиозным рвением юноша, в принципе считал недопустимыми. Во-вторых, она уже успела побывать замужем и развестись, а в качестве напоминания о былой семейной жизни у нее осталось двое маленьких детей, что тоже существенно снижало градус возможной романтики. И Ярослав знал, что хотя женитьба священнослужителей на разведенных женщинах на практике допускается, но по канонам это все-таки запрещено. Поэтому Ярослав предпочитал рассматривать взаимоотношения с ней исключительно как дружеские.
Что же до Лены, то Слава ей был симпатичен, но не более того. Ее также смущала его молодость, и к тому же, как и большинство советских женщин того времени, переживших развод, она была весьма невысокого мнения о собственных брачных перспективах. Замуж за него – молодого и интеллигентного? Неужели он не сможет найти никого получше? «Не смешите меня!» Впрочем, по этой причине ее могло бы устроить интимное общение без брака. Но Лена прекрасно видела, что хотя она и нравится этому странному церковному юноше, но перспектива такого рода связи («блуда, как у них говорят») его пугает. И потому решила ограничиться «просто дружбой». Уставших от «серых будней» интеллигентов, падких на кроватную романтику, в Иркутске было достаточно, и ввязываться в какую-то странную историю с этим церковным мальчиком ей было совсем не обязательно. А так… Приходит пить чай, таскает какие-то книжки, с ним интересно поговорить…
– Чем плохо? – спрашивала она себя, улыбаясь, и мысленно отвечала: «Ничем!»
Вероятно, их дружба так бы и оставалась всего лишь дружбой, если бы не внезапно возникшая на горизонте хиротония Ярослава.
На следующий день после неприятного разговора в алтаре Слава, не откладывая, решил сделать предложение Лене. Ничего лучшего все равно не было, ну а то, что она разведенная и с детьми – он будет не первым попом в Патриархии, который женат на разведенной. В конце концов, окончательное решение все равно принимать архиерею, а его дело – отыскать себе невесту.
В тот же вечер, предварительно позвонив, он навестил Лену. Обычная встреча, улыбки, чай… И совсем необычный разговор. Ярослав описал ей суть дела, присовокупив к этому, что она, мол, ему всегда нравилась и что если она согласна, то буквально в ближайшее время может стать его женой.
Естественно, Лена была таким предложением шокирована. Естественно, она попросила у него время на размышление. Естественно, на следующие сутки она сама ему позвонила и сказала, что согласна, ибо по-другому и быть не могло. Да, она действительно никогда не думала всерьез о том, чтобы выйти замуж за Ярослава, и уж тем более не была в него влюблена. Но при этом прекрасно понимала, что с каждым годом ее шансы выйти замуж, да еще и за хотя бы относительно приличного человека, стремительно тают. На всякий случай решила поговорить с мамой (которая ее саму когда-то воспитывала без отца) и получила вполне ожидаемый ответ:
– Не дури, дочь! Любовь-нелюбовь, но кто тебя с детьми возьмет? А тут молодой муж, да еще и сама же говоришь, что им жениться только один раз можно… Непьющий, негулящий, молодой, с каким-никаким, а заработком – что тебе еще надо?
Лена понимала, что больше ей, кажется, действительно ничего не надо.
Получив ее согласие, Ярослав отправился на прием к архиерею. В этот раз Преосвященный был настроен добродушно и принял его даже ласково:
– Проходи, Слава, садись! – сказал он, сидя в своем кресле за столом и потягивая чай из большой фарфоровой кружки. – Ну, с чем пожаловал?
– Ваше Преосвященство, пришел просить благословения на вступление в брак! – волнуясь, сказал ему Ярослав.
– А, наконец-то! – одобрительно ответил архиерей. – Ну, давай рассказывай: кто такая?
Слава рассказал. Преосвященный внимательно выслушал его и стал несколько более задумчив.
– Говоришь, разведенная, с двумя детьми… Н-да… А впрочем, почему нет? – рассуждал он вслух. – Ты вот что, зайди вместе с ней ко мне, ну, скажем, завтра… Сможешь?
– Благословите, Владыко! – с готовностью выпалил Ярослав.
– Ну и хорошо… А там и решим окончательно.
Ярослав, благословившись, вышел, а архиерей продолжил пить свой чай, размышляя о том, стоит ли «давать ход» этому браку. То, что для Славы первична была хиротония, а не свадьба, было совершенно очевидно. Соответственно, если бы Преосвященный запретил ему жениться, то никакого брака бы не было. Стало быть, у него, как у епископа, был в данном случае выбор. Можно, конечно, и запретить. Только вот стоит ли? Да, по канонам женитьба на разведенной для клирика недопустима. «Да кому они нужны, эти каноны!» – брезгливо подумал архиерей. Воспитанный Владыкой Хризостомом в духе «современности» и «открытости», каноны он с юности привык воспринимать как излишний исторический рудимент. А если вынести каноны за скобки, то все получалось не так уж и плохо. Ну да, старше его, разведенная. Так ведь такая за молодого мужа будет крепко держаться. А то, что старше – это еще не то же самое, что старая. Лет на десять-пятнадцать хватит точно. Главное, сейчас, пока Слава молодой, чтоб рядом с ним жена была нормальная, а там уже его самого годы да заботы придавят. Да и к священнической службе, со всеми ее особенностями, он уже будет привычный. Тогда вероятность того, что он по бабам начнет бегать, резко снизится. Если разобраться, такая жена еще и лучше иной молодой: женился бы сейчас на невоцерковленной студентке, она бы через пару лет от него сбежала, и стал бы он целибатом. И еще через годик-другой сам бы начал куролесить…
«Ну уж нет! – подумал Преосвященный. – Этого точно не надо!»
На следующий день Ярослав пришел уже вместе с невестой. Архиерей и в этот раз был приветлив. Он даже (крайне редкий случай!) распорядился принести в свой кабинет чай и какое-то печенье – почти роскошь по меркам Иркутска 1990 года! – и на правах заботливого хозяина угощал Славу и Лену. Последняя была просто очарована таким простым, отеческим приемом. Что же до Преосвященного, то ему она тоже понравилась. Интеллигентная, умная, воспитанная – как раз то, что Ярославу нужно. «Вот и меняются времена! – рассуждал он про себя. – В годы моей молодости матушки – это либо поповские дочери, либо девки колхозные… А теперь, наконец, и интеллигенция пошла. Высшее образование, филолог, в типографии работает… Меняются, меняются времена!»
– Ну, вот и славно! Подавайте документы в ЗАГС, а как зарегистрируют, так мы вас и повенчаем! – довольно сказал архиерей. – А вы, Лена, смотрите, построже с ним! Я на вас надеюсь!
Лена сияла счастливой улыбкой.
Документы в ЗАГС были поданы. И через месяц, как и полагается, в паспортах Ярослава Андрейко и Елены, теперь уже тоже Андрейко, появились штампы, свидетельствующие о регистрации брака. На следующий день после этого их обвенчал кафедральный протоиерей. Единственное, что омрачало радость свадьбы – это реакция родителей Ярослава. Отец, несмотря на всю свою воспитанность и тактичность, охарактеризовал выбор сына посредством лексики, к которой он не прибегал со времен срочной службы. Мать от подобных комментариев воздержалась, однако во время венчания ее лицо было столь мертвенно бледным, что можно было подумать, ее сына отпевают, а не женят… Впрочем, совсем скоро должна была состояться хиротония, а следом за ней и переезд в Мангазейск, и общение с родителями, внезапно ставшее столь болезненным, поневоле должно было свестись к минимуму.
Через пару дней после венчания Ярослав, вместе с архиереем и настоятелем кафедрального собора, поехал в иркутский облисполком. Это была обычная для Московского Патриархата процедура, оставшаяся от советских времен. На поповском жаргоне ее называли «смотринами». В СССР любой «служитель культа» мог действовать не иначе, как получив регистрацию у уполномоченного Совета по делам религий. По сути дела, именно такие уполномоченные часто были реальными руководителями епархий. Поэтому всякого кандидата в священники, во избежание недоразумений, накануне хиротонии представляли соответствующим «ответственным товарищам», которые должны были решить, может или не может этот человек быть «служителем культа» в государстве развитого социализма.
Еще лет пять назад от этих «смотрин» зависело очень многое. Люди с высшим образованием, особенно гуманитарным, дети из «уважаемых» семей или же те, кого подозревали в политической неблагонадежности, не имели или почти не имели никаких шансов.
Но сейчас на дворе стоял 1990 год. Воздух СССР был пропитан ощущением грядущих перемен и небывалым до того чувством свободы. Партийные и комсомольские структуры сжимались, как шагреневая кожа, и уполномоченные, некогда грозные для любого священнослужителя, ныне теряли всякий интерес к Церкви и начинали проявлять апатичную доброжелательность, подобно постаревшим и сытым сторожевым псам… «Смотрины», от которых совсем недавно столь сильно зависела карьера любого кандидата в священники, превращались в пустую формальность.
Ярослав шел за архиереем по темным, выдержанным в стиле позднесоветской номенклатурной эстетики, коридорам облисполкома. Одна дверь, вторая, третья… Вот, наконец, и искомая приемная. Секретарша тут же связалась со своим начальником, открываются еще одни двери, и вот уже они входят в большой, залитый зимним солнцем кабинет. Длинный и пыльный стол из полированного дерева, доброжелательные приветствия… Архиерея, по советскому обыкновению, именуют исключительно по имени-отчеству.
– Да не стоило и приезжать! Сейчас сами знаете, демократизация, все эти проверки и перепроверки уходят в прошлое! – с казенным оптимизмом говорил хозяин кабинета. – Страна меняется, жизнь меняется!
Архиерей вместе с соборным настоятелем понимающе и почтительно кивали.
– Да, разумеется, – поддакнул архиерей. – Но мы все же хотели посоветоваться… Иначе было бы неуважительно, неправильно…
Хозяин кабинета посмотрел на него с понимающим лукавством.
– Что ж, очень приятно, что, несмотря на все изменения – стремительные, надо сказать, изменения! – вы сохраняете столь разумное, действительно уважительное, отношение! Можете быть уверены, что это уважение взаимно… Так вы, значит, этого молодого человека хотите священником сделать?
– Да, именно так!
– Что ж, ну и замечательно…
Затем вопросы начали задавать уже Ярославу: из какой семьи, где учился, чем увлекается, не ведет ли какой-то общественной или политической работы? Вопросы были стандартными, ответы – тоже: не был, не состоял, не участвовал, интересуюсь только церковными делами, Родину очень люблю…
– Ну и прекрасно! – резюмировал чиновник и снова обратился к архиерею:
– А вы куда его планируете направить?
– В Мангазейск, вторым священником.
– А, в Мангазейск? Ну так это и вовсе не наша область, и дело не мое. Разумеется, никаких возражений нет. А вам, молодой человек, желаю удачи в вашем деле – нравственное воспитание нашему обществу сейчас очень и очень нужно!
На этом «смотрины» и завершились.
Еще через два дня состоялась диаконская, а на следующие сутки – священническая хиротония. Мечта стала явью: впервые он вошел в алтарь через царские врата, и вот он целует Престол, и вот уже на его голову ложатся руки архиерея, и звучат – наконец-то! – те самые слова: «Божественная благодать, всегда немощная врачующая, и оскудевающая восполняющая, проручествует Ярослава, благоговейнейшего диакона во пресвитера…»
Потом был сорокоуст – сорокадневное служение в кафедральном соборе, обязательное для всякого новопоставленного священника – традиционная практика перед направлением на приход. И, наконец, переезд в Мангазейск.
На новом месте молодая священническая семья устроилась удивительно легко. Сначала поселились на съемной квартире, а спустя год Лена сумела успешно обменять остававшуюся у нее после развода однокомнатную квартиру на «двушку» в Мангазейске. Настоятель тамошнего прихода, протоиерей Евгений Сорокин, принял нового сослужителя очень тепло. Начало 1990-х, бывшее для всей (ну или почти для всей) страны временем очень тяжелым, для четы Андрейко стало, наоборот, временем радостным, поистине солнечным. Мангазейский приход был не очень богат, но все же и не бедствовал, ибо оставался единственным на всю область. Денег получалось не очень много, но еда была всегда. Благодаря чему отец Ярослав довольно быстро располнел, превратившись из худенького юноши-студента в весьма объемного и вширь, и ввысь попа с небольшой аккуратной бородкой, черной как смоль. Издали эта бородка казалось нарисованной – так контрастно она смотрелась на фоне его белой, почти по-женски нежной кожи. Человеком он был, что называется, крупным, с соответствующими чертами лица – широкими, даже грубыми. Впрочем, очки, неизменно присутствовавшие на большом курносом носу, и осмысленный взгляд больших карих глаз за этими очками делали его внешность несколько менее простецкой.
В приходской общине царили простые и поистине братские отношения. Службы совершались регулярно, но не ежедневно, какой-либо миссионерской работы пока еще не велось, поэтому свободного времени у приходского духовенства было достаточно. Круг их знакомств был достаточно широк и интересен, ибо помимо местных священнослужителей в него очень быстро вошли и многие местные интеллигенты, особенно из числа преподавателей мангазейского пединститута. Одним из самых близких друзей как лично Ярослава, так и всей его семьи очень скоро стал иеромонах Игнатий, перебравшийся в 1992 году в Мангазейск из Алма-Аты. Был он человеком веселым и доброжелательным, и общаться с ним было приятно и интересно. Да и сам отец Игнатий тянулся к семье Андрейко, ибо там он мог получить частицу домашнего тепла и уюта, которого он, как монах, был лишен.
После восстановления Мангазейской епархии все осталось по-прежнему. Возглавивший ее Владыка Пахомий был архиереем старой, советской школы. Миссионерского пыла не проявлял, со СМИ и с местной общественностью брататься не пытался, интересовался преимущественно богослужениями. Но при этом он старался, чтобы подчиненное ему духовенство жило достойно. Он никогда не был белым священником, но вырос в священнической семье. Не только его отец, но и дед, и прадед, и даже прапрадед были протоиереями, и потому поповские нужды были ему известны, и он эти нужды старался по возможности обезпечивать. Поэтому храмов за время его архиерейства было открыто не так много, однако церквей без прихожан и нищих попов не наблюдалось. Соответственно, и семейство Андрейко тоже не бедствовало. К тому же как раз при Пахомии заработали в Мангазейске первые воскресные школы, и Елена стала заведовать одной из них.
Что же до собственно семейной жизни, то здесь все складывалось вполне успешно. Жили спокойно, без скандалов, с приемными детьми у отца Ярослава отношения складывались без особой теплоты, но и без проблем. Его смущало только, что своих детей у них так и не появилось. Поскольку у Лены от предыдущего брака было два ребенка, то Ярослав решил, что безплоден он, а не его супруга. К врачу, впрочем, обращаться не стал. Во-первых, ему казалось, что и так все ясно, а во-вторых, он просто-напросто стеснялся идти к доктору «соответствующего направления».
Годы размеренно потекли один за другим. На смену ушедшему на покой Владыке Пахомию пришел Владыка Евграф. Новый епископ сразу стал любимцем как церковной, так и нецерковной публики. Прихожане любили его за вежливость и миссионерскую активность, интеллигенция – за образованность, и даже вчерашние преподаватели научного коммунизма и атеизма благоговели перед ним как перед выпускником МГИМО. Начали открываться новые храмы, в епархии появились годичные Пастырские курсы для будущих священников. Впоследствии Евграф планировал превратить их в семинарию. Отец Ярослав начал преподавать на этих курсах. Миссионерская активность нового епископа ему скорее нравилась, чем не нравилась, а его супруга и вовсе была в восторге от нового, интеллектуального архиерея. Они прекрасно ладили. Елена Андрейко, заведуя воскресной школой и посильно помогая своему супругу в приходских делах, постоянно находилась «на контакте» с епископом Евграфом. К священникам – еще одна его характерная черта – он относился в целом хуже, чем к мирянам (особенно мирянам из числа интеллигенции), и поэтому в некоторых случаях решить тот или иной вопрос Елене было проще, чем ее мужу.
Как-то в один из знойных летних дней ей потребовалось занести очередную порцию документов для Евграфа. Как обычно, она позвонила ему:
– Владыка, благословите! – привычно сказала она в трубку. – Тут кое-какие бумаги накопились вам на подпись. Да и посоветоваться надо…
– Да, конечно, подъезжайте, – с готовностью ответил архиерей. – Я скоро буду дома. Вы когда планируете быть?
– Минут через сорок.
– Хорошо, я как раз буду, – ответил Преосвященный.
Примерно через сорок минут, как и было условлено, Елена нажала на кнопку звонка в архиерейскую квартиру, ту самую, которая находилась в построенном рядом со Свято-Воскресенским храмом «элитном» доме. Спустя примерно минуту послышались скорые шаги, глухо звучавшие из-за массивной, «бронированной», как говорили в те годы, двери. Щелкнул замок…
– Здравствуйте, проходите! – услышала она. – А Владыки еще нет…
На пороге стоял иподиакон Евграфа, Вадим Челышев.
– Ну, я подожду, если можно! – ответила Елена, торопливо заходя с прожаренной летним солнцем улицы в прохладный полумрак прихожей.
– Да-да, конечно, – с торопливой вежливостью ответил Вадим. – Хотите чаю?
* * *
Вадим Челышев был главным и, по сути, единственным иподиаконом Евграфа. По крайней мере, лишь ему было разрешено облачаться в подрясник и орарь – все прочие алтарники имели благословение только на стихарь. Биография его была несколько путанной и поэтому казалась необычной. Ранняя юность, впрочем, не являлась сколько-нибудь примечательной. Окончание школы со средними оценками, неудачная попытка поступления в вуз, армия… Еще в школьные годы Вадим всерьез занимался боксом, и во время срочной службы ему эти навыки очень пригодились. После демобилизации поступил заочно на только что открывшийся и считавшийся престижным юридический факультет мангазейского пединститута, примерно в то же время повышенного в статусе до уровня университета. После второго курса завис в длительном академическом отпуске. К тому времени он был уже женат, однако брак был явно неудачным. Супруга, не без некоторого основания решившая, что сейчас самое время делать деньги, попыталась наладить свой собственный бизнес. Уговорила Вадима занять денег под залог квартиры, прогорела вчистую и лишив себя, мужа и только что родившуюся дочь жилья, начала пить. Очень скоро пьянство перешло в хронический алкоголизм. Челышев развелся с женой, а маленькую дочь, постановлением суда отданную матери, в итоге стала воспитывать бабушка – мама Вадима.
Трудно сказать, пришел бы Вадим в Церковь в какой-то иной ситуации. Некоторый интерес к православию он имел и до того, как его семья претерпела столь сокрушительную катастрофу. Но несомненно, что именно эта катастрофа стала своеобразным катализатором. Он начал регулярно посещать богослужения и помогать при храме, когда его об этом просили. Было это все в последний год епископства Пахомия.
Новый архиерей, Евграф, сразу же обратил внимание на Челышева. Молодой, толковый и исполнительный, и при этом хорошо физически подготовленный (всерьез боксом Челышев уже не занимался, но форму поддерживал), он был идеальной кандидатурой на роль иподиакона, телохранителя и водителя в одном лице. Именно это и было ему предложено буквально через месяц после того, как новый Преосвященный с ним познакомился. Вадим без малейших раздумий согласился.
Почему без раздумий? Во-первых, в тот момент он переживал еще период неофитской ревности и восторга, когда хочется, чтобы церковная служба не кончалась никогда, а любая работа при храме, вплоть до уборки туалета, воспринимается как благословенный дар. Стоит ли говорить, что предложение не чистить туалеты или мыть полы, а прислуживать епископу за богослужением и выполнять его – весьма ответственные – поручения показалось просто счастьем.
Во-вторых, таким образом решались многие его личные проблемы. Образование, работа? Первое теперь казалось не столь важным, что же до второго, то ему предлагалась не просто работа, а служение. Не было жилья, если не считать однокомнатной квартиры матери, но теперь он жил на первом этаже архиерейских апартаментов, что оказалось существенно комфортнее. И ему, и матери, и дочери так было легче.
В-третьих, ему просто нравилось участвовать в церковной службе и постоянно находиться рядом с епископом. Владыка Евграф, кроме всего прочего, был очень интересным собеседником. Общение с ним и со многими мангазейскими интеллигентами из его окружения было и приятным, и полезным – полезным для восполнения пробелов в собственном образовании, которое состояло преимущественно из этих самых пробелов. Одной из представительниц этой интеллигенции была и Елена Андрейко.
И в какой-то миг Вадим почувствовал, что для него она не «одна из» – для него она лучшая и единственная. Конечно, он знал, что она замужем, причем за священником, причем за достойным священником, и он всерьез не мечтал о том, чтобы между ними возникли какие-то отношения помимо приятельских. Он просто радовался каждой возможности оказаться поближе к ней. В какой-то момент он понял, что сейчас, в этот период его жизни, счастье – это когда Лена рядом. Просто рядом.
В иной жизненной ситуации, вероятно, он никогда бы не обратил на нее внимания. Давно уже шагнувшая за тридцать, с двумя детьми, Елена, как и все живые существа, с каждым годом отнюдь не молодела. Но люди устроены так, что свою вторую половину – или временный заменитель оной – они склонны искать в своей социальной среде. Сейчас такой средой был приход кафедрального храма и кружок церковной интеллигенции вокруг епископа Евграфа.
А здесь Лена была единственной и неповторимой. Почтенные преподавательницы педуниверситета старших лет, по понятным причинам, не могли восприниматься как женщины – по крайней мере, как привлекательные женщины. Что же касается небольшого выводка студенток, которых какая-нибудь наставница-преподаватель железной рукой направляла на путь безоговорочного воцерковления, то это было зрелище скорее забавное, чем манящее. Сочетание обтягивающих брюк и полупрозрачных блузок с невнятным словесным потоком о прочитанной «Невидимой брани», наслаивающееся на твердое стремление совместить истовое благочестие с первым успешным (на зависть подругам!) сексуальным опытом… Для Вадима, у которого неофитская горячка потихоньку начинала спадать и который пережил первый сексуальный опыт много ранее, это было уже смешно и неинтересно.
На этом фоне Лена, умная и по-прежнему еще красивая, давно уже пережившая пору раннего воцерковления, свободная (но не развязная) в общении, не могла не казаться идеалом.
Для Вадима она и стала таким идеалом.
И вот он открыл ей дверь, и он предлагает ей чай, и никого другого нет, и времени у них много…
* * *
– Ой, не откажусь! – ответил Елена и широко улыбнулась. Вадим проводил ее на кухню.
Чай был давно выпит, заварен по новой и снова выпит, и снова заварен, и снова, снова, снова… Прошло уже два часа. Владыка Евграф позвонил, сообщил, что он, к сожалению, вынужден задержаться – он находился в офисе Мангазейской ГТРК, где обсуждался вопрос об его знаменитых телепередачах.
Владыка предложил Елене оставить документы или зайти на следующий день, однако она согласилась подождать его час, а если потребуется, то и два. Наверное, если бы ей предложили подождать сутки, она радостно согласилась бы и на это…
Лена, разумеется, знала Вадима и раньше, но до этого их общение ограничивалось редкими фразами и, изредка, понимающими улыбками в каких-то забавных ситуациях. Но теперь он для нее открылся совсем по-другому. В сущности, пустой разговор за чаем, состоящий из пересказа епархиальных анекдотов и обсуждения различных текущих дел, как будто поделил их жизнь на две части – до и после. Лена увидела в Вадиме мужчину – мужчину неглупого, немало уже пережившего и немало пострадавшего, мужчину не только разумного и тактичного, но и сильного. И она почувствовала, что ее к нему влечет все сильнее и что это влечение взаимно.
И когда у дверей раздался скрип тормозов «Волги», на которой Владыку Евграфа наконец-то привезли из МГТРК, они, не сговариваясь, вскочили из-за стола вместе, как вскакивают юные влюбленные, напуганные тем, что их могут застать родители или знакомые. На щеках и у Лены, и у Вадима горел румянец, и они улыбались, глядя в глаза друг другу и ничего не говоря…
Преосвященный Евграф был несколько сконфужен тем, что Елене пришлось ждать его так долго. Он снова предложил ей чай, долго и внимательно расспрашивал о делах воскресной школы, на прощание подарил небольшую икону, а Вадиму велел проводить ее и посадить на такси. Что тот, разумеется, и сделал.
На улицу они вышли молча, и так же молча дошли до ближайшей более-менее оживленной улицы, на которой можно было остановить машину. В конце июня в Мангазейске светло до половины одиннадцатого вечера, и сейчас город, уже опустевший из-за позднего времени, был освещен яркими лучами заходящего солнца. В этой светлой пустоте безлюдных улиц их собственная внезапно прочувствованная близость ощущалась еще острее.
До автобусной остановки они дошли молча. Вадим махнул рукой, останавливая потрепанную «пятерку». Договорившись с водителем, он, наконец, обратился к Лене:
– Можно будет вам позвонить – узнать, как вы доехали?
– Да не случится ничего, я думаю, – улыбнулась она. – Но… я не против.
– Чтоб Владыка не волновался, – также с улыбкой ответил Вадим.
– Ну, если Владыка – тогда обязательно! – сказала Лена и запрыгнула в машину.
«Пятерка» с визгом и скрипом сорвалась с места, а Вадим, как когда-то в ранней юности, когда переживал первую свою любовь, еще несколько минут стоял, глядя ей вслед.
Разумеется, он ей позвонил, и разговор этот получился долгим.
С тех пор Вадим стал чаще общаться и с Леной, и с отцом Ярославом. Свою дочь он устроил в воскресную школу, которой заведовала Лена, благодаря чему мог видеться с ней регулярно. Поначалу их взаимная симпатия была со стороны малозаметной. Что же касается отца Ярослава, то он даже обрадовался, что теперь у их семьи появился новый друг, на которого можно положиться…
В конце августа семейство Андрейко задумало делать ремонт в своей двухкомнатной квартире. Отец Ярослав, как и полагается главе семьи и заботливому хозяину, подошел к делу ответственно: накупил обоев более-менее симпатичных расцветок, вместе с супругой и детьми добросовестно отодрал старые обои, передвинул со своих мест приблизительно всю мебель и, наконец, к обеду двадцать пятого августа вместе с женой начал увлеченно варить клейстер. Клейстер варился вполне успешно, день был у отца Ярослава выходной, а дети с утра пораньше отбыли в летний лагерь на неделю. Казалось, ничто не предвещало беды, и чета Андрейко, облачившись в старые «рабочие» трико и не менее рабочие майки-«алкоголички», была уже готова начать облагораживать свое жилище. И в этот момент раздался звонок телефона.
– Слушаю… Благословите! – Ярослав услышал в трубке голос Преосвященного.
– Бог благословит, – ответил Евграф. – Прости, отец, Ярослав, но придется тебе сегодня со мной поехать. Отец Филимон заболел, больше некому…
Ярослав беззвучно выдохнул. Епископ собирался уехать на неделю, и конечным пунктом его поездки был город Кыгыл-Мэхэ – столица Тафаларской республики, которая входила в состав огромной Мангазейской епархии. Приближалось Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник одного из соборов Кыгыл-Мэхэ, и не посетить этот город епископ не мог.
Что же касается отца Филимона, то он в очередной раз сумел подложить свинью собрату-сослужителю. Почти наверняка он сделал это неосознанно – то есть как обычно. Этот священник не был монахом, Филимоном его назвали родители, он родился и вырос в Москве. Будучи студентом биофака МГУ, он увлекся книгами Александра Меня и стал прихожанином одного из московских храмов. После МГУ он поступил в Свято-Тихоновский богословский институт и по окончанию оного ждал рукоположения во священники.
Рукополагать его в Москве меж тем не спешили. И тогда он отправился в Мангазейск. Дело в том, что в годы юности, делая только первые шаги на своем церковном пути, будущий епископ Евграф познакомился с матерью Филимона, бывшей тогда активной прихожанкой в одной из московских церквей. Не то чтобы ее советы ему очень помогли, но он сохранил о ней память как о человеке добром и честном. И это определяло особое отношение к ее сыну. Чем сын и не преминул воспользоваться.
Сообразив, что в Москве и Московской области ему ничего не светит, Филимон созвонился с Евграфом и попросился к нему. Вскоре после прибытия в Мангазейск он был рукоположен в священники и, как и ожидал, стал любимцем Евграфа – в том смысле, что ему, как «интеллектуалу» и сыну старой знакомой, епископ спускал с рук то, чего ни одному другому попу никогда бы не спустил.
Отец Ярослав, услышав о «болезни» отца Филимона, почуял, что и в этот раз случилось нечто в этом роде. Недугом могло оказаться все что угодно – вплоть до мозоли на ноге и случайной диареи. А всего вероятнее, что «интеллектуалу» просто не хотелось тащиться в Кыгыл-Мэхэ и болезнь его была вполне виртуальной. Однако если любому другому священнику в этой ситуации пришлось бы как-то объясняться, то Филимону архиерей верил на слово.
– Ваше Преосвященство, мы тут ремонт затеяли… Простите, но у меня же был выходной по графику, жену одну бросить не могу…
– Прямо мор у меня в епархии! – раздраженно ответил Евграф. – Один болеет, у другого ремонт… Что мне, одному, что ли, ехать?!
– Простите, Владыко… – несколько неопределенно, но еще не сдавшись, промолвил Андрейко.
– Даже Челышев, и тот не может – с матерью у него какие-то проблемы… – так же раздраженно, но уже несколько задумчиво, сказал Евграф.
Возникла пауза. Архиерей, очевидно, о чем-то размышлял. Отец Ярослав посмотрел на свою жену, ожидавшую окончания разговора. Елена стояла, уперев руку в бок, в трико и растянутой майке; на голове у нее была свернутая из газеты пилотка. В другой руке находилась кисть, смазанная свежесваренным клеем, и кисть эта слегка покачивалась, раскидывая по настеленным на полу газетным полосам капли клейстера… И поза, и движения кисти не предвещали ничего особенно хорошего. В последнее время отношения с Еленой приобрели странную напряженность. Все, что ни делал Ярослав, стало ее раздражать. Если он, заходя домой, ставил обувь в одном углу, то жена непременно переставляла ее в другой. Точно так же дела обстояли с чайником на кухне и книгами на книжных полках и на столе. И все сопровождалось язвительными комментариями.
Раньше Лена так себя не вела. Столь неприятная перемена в ее характере, по странному совпадению, произошла вскоре после того, как Челышев стал «другом семьи». Однако отец Ярослав пока что эти факты не связывал…
– А сделаем так, – вновь раздался в трубке голос архиерея. – Ты собирайся, как я тебе и сказал. А что до ремонта, то я отправлю к вам Челышева. Вы вроде в нормальных отношениях, вот пусть он и поможет. Ему с матерью все равно не круглые сутки сидеть, так что пусть поработает.
– Хорошо, Владыко, я понял! Благословите! – отец Ярослав обрадовался тому, что ситуация, казавшаяся безысходной, разрешилась наилучшим образом.
– Бог благословит… А Вадима я сейчас отправлю. Жду тебя через три часа у Епархиального управления.
– Благословите! – вновь повторил отец Ярослав. Из трубки раздались короткие гудки.
– Ну что опять? – тоном прокурорского работника спросила Елена.
– Лена, ты не волнуйся… – чуть заискивающе и торопливо начал Ярослав. – Мне придется с Владыкой выехать в Кыгыл-Мэхэ, примерно на неделю. Но ты не волнуйся, он сюда Вадима пришлет, помочь с ремонтом…
– Ну вот, только что-то начали делать, и ты уезжаешь, – с деланным неудовольствием ответила Лена. На щеках ее вспыхнул румянец, а сердце внезапно заколотилось, как у бегуна-марафонца за сто метров до финиша. Лавина восторга и сладостного предчувствия захлестнула ее, и все, что она могла сделать в этой ситуации – это попытаться скрыть свой восторг от глаз мужа.
Отец Ярослав, разумеется, заметил, что его отъезд в действительности несильно ее огорчил. Однако пока что он решил думать, что это из-за благополучного разрешения проблемы с ремонтом.
– Ну, это уж извини! – так же с несколько деланным благодушием ответил он. – Как говорит отец Игнатий: «Такова наша поповская планида!»
И они даже вместе рассмеялись – и даже искренне.
Отец Ярослав стал спешно собираться. Через полтора часа появился Вадим. Как и полагается, он взял благословение у отца Ярослава и, широко улыбаясь, поздоровался с Леной. Она же, напротив, приветствовала его довольно сухо, и все по той же причине: то цунами счастья и восторга, которое захлестнуло ее в эти минуты, она хотела по возможности скрыть. Отчасти ей это удалось, и отец Ярослав даже пошутил:
– Что-то ты сурова, матушка! Ну со мной понятно, но Вадима-то могла бы и пожалеть!
И они рассмеялись уже втроем. Пока Ярослав, застегивая на ходу ворот серого летнего подрясника, засовывал вещи в небольшую потертую сумку, Вадим коротко рассказал о том, почему ему пришлось остаться в городе. Почти случайно выяснилось, что его мама находится в предынфарктном состоянии. Пришлось срочно госпитализировать, и он теперь каждый день ее навещает…
Отец Ярослав вежливо посочувствовал, мысленно отметив, что надо будет помянуть ее на проскомидии, а затем вышел из дому.
Оклейка стен обоями пошла весьма быстро…
На следующее утро, навестив мать, Вадим вновь направился к Елене, помогать завершить ремонт. Солнце светило ярко, однако утренняя прохлада еще не успела смениться невыносимым зноем. Дверь в подъезд, легкий холодок, запах плесени и немного – мусора, доносящийся от мусоропровода… Один лестничный пролет, второй, третий… Звонок, и вновь открывается дверь. На пороге – Елена, все в той же майке, смешной пилотке из газеты и нелепом трико.
Улыбки, чай… Разговоры обо всем и ни о чем.
– Ну, мы так ремонт никогда не закончим! – рассмеялась Елена, вставая из-за стола. Со смехом они перешли в соседнюю комнату. Шторы, по случаю ремонта, были сняты, и здесь, как и на улице, было много солнечного света, освещавшего и газеты, разбросанные на полу, и ободранные стены, и рулоны обоев, и саму Елену, и ее майку, и то, что ясно угадывалось под ней…
Вадим почувствовал, что его руки оказались на ее талии. Лена не пыталась их убрать. А потом произошло то, что должно было произойти.
* * *
Кыгыл-мэхинская командировка отца Ярослава закончилась, и жизнь, казалось, должна была вернуться в обычное свое русло. Однако буквально через несколько дней после своего возвращения он заметил, что обычного русла больше нет. Внешне все оставалось по-прежнему, разве только «друг семьи» стал несколько чаще появляться у них в гостях, да Лена виделась с ним едва ли не ежедневно. Встречались они, впрочем, исключительно по делу – либо решали какие-то епархиальные вопросы, либо вместе забирали дочку Вадима из воскресной школы, чтобы доставить ее бабушке. Что же касается гостевых визитов Челышева, то приходил он, конечно, не к Елене, а именно к семейной чете Андрейко. Отец Ярослав встречал его, стараясь быть радушным, даже упрекая себя за то, что в их общении появилась какая-то фальшь. «Ведь ничего же не изменилось!» – пытался успокаивать он сам себя. Получалось это, однако, плохо.
А Вадим продолжал заглядывать к ним регулярно. Его, естественно, поили чаем, а иногда и вином – тем дрянным паленым «кагором», который тогда можно было недорого приобрести в мангазейских магазинах – и вели безконечные разговоры об архиерее, благочинном и прочих великих людях епархиального космоса… Все было как раньше. Только вот отец Ярослав стал замечать, что его присутствие здесь, за этим кухонным столом, его реплики и замечания более не требуются. Это были встречи Елены и Вадима и их, и только их, общение. Иногда ему становилось почти что стыдно: как будто бы он не законный муж и хозяин, а чужак, подглядывающий в окно за чужой семейной жизнью…
Отец Ярослав чувствовал, что все развивается ненормально и что из этой ситуации нужно искать какой-то выход. Но какой – он не мог понять, и потому каждый раз откладывал не только действия, но даже и размышления об этом на потом. И так день сменялся днем, а неделя – неделей.
Как это часто бывает, первыми о возникшей в семейной жизни отца Ярослава проблеме заговорили люди посторонние – священники и церковнослужители. Вскоре обо всем узнал и архиерей. Он, в свою очередь, решил разговор не откладывать и в тот же день вызвал Челышева к себе.
– Вот что, Вадим, – начал Евграф почти сразу после того, как его иподиакон перешагнул порог архиерейского кабинета, располагавшегося в небольшом и тесном деревянном домике в ограде Свято-Воскресенского храма. – Я тебя хорошо знаю, да и ты меня узнать успел: под одной крышей живем. Потому говорить буду без долгих предисловий и особой тактичности. Скажи мне, пожалуйста: что там у тебя с Еленой?
В глазах Челышева вспыхнул мутный огонек испуга. Но в лице он не изменился, и отвечал твердо:
– Простите, Владыко, что значит – у меня с ней? Дочка у меня в ее воскресной школе… Документы мне иногда для вас передает… Что же еще?..
Евграф скептически хмыкнул:
– Ты взрослый мужчина, да и я хоть и монах, но не ребенок. Меня не воскресная школа с документами интересуют. Думаю, нет нужды объяснять тебе, какие отношения бывают иногда между мужчиной и женщиной… – и, заметив, что Вадим готов его возмущенно перебить, продолжил, слегка повысив тон: – И чем эти отношения являются в глазах Церкви!
– Владыка, это… Это бред какой-то! – возмущение Вадима выглядело вполне искренним. Впрочем, это и было возмущение, хотя причиной его была отнюдь не мнимая клевета: душу его вдруг наполнила жгучая, нестерпимая ненависть ко всей той приходской своре, всем этим матушкам и «трудницам», послушникам и пономарям, которые не знают лучшего развлечения, чем сутки напролет пережевывать сплетни о чужой жизни. «Своего ничего нет! – пронеслось в мозгу у Вадима, и, казалось, что не только в мыслях, но и на языке у него ощущается какая-то ядовитая, отвратительнейшая горечь. – Ни подвигов, ни грехов! Зато вот до чужих грехов всем дело есть, большое дело, огромное!»
– Бред, говоришь?.. – раздумчиво, но все же несколько повышенным тоном, переспросил Евграф.
– Да, Владыко! – твердо ответил Челышев.
– Бред… Что-то очень много народу сразу бредить начало! – продолжал вслух размышлять архиерей.
– Ваше Преосвященство, если нужно, я на кресте и на Евангелии готов подтвердить!.. – слова эти Вадим произнес с горячностью, и они прозвучали неожиданно для него самого. «Как на кресте! – вдруг вспыхнуло у него в уме. – Ведь это же клятвопреступление!..» Религиозное чувство было в нем по-прежнему сильным, и осознание того, что он только что пообещал солгать перед святым крестом и Евангелием, стало отрезвляющим ударом. Челышев замер, оцепенев, на том месте, где стоял.
– Не надо на кресте, – коротко ответил Евграф. На несколько секунд в архиерейском кабинете повисло молчание. Затем епископ продолжил:
– Что ж, всякое бывает. Бывает и такое, что сплетни на пустом месте рождаются, или из-за какой-то ерунды… Будем считать, что именно это и произошло. Иди. Но за собой смотри – диавол, яко рыкающий лев, смотрит, кого из вас поглотить – эти слова для нас всех сказаны и нас всех касаются. И тебя тоже!
Хотя Вадим категорически отказывался признать, что между ним и Еленой Андрейко что-то было, архиерей отнюдь не был склонен ему доверять, точнее – доверять на сто процентов. Кроме того, личный, и духовный, и просто житейский опыт подсказывал: если еще ничего не произошло, то со временем может произойти. Он и сам видел, как держатся друг с другом Елена и Вадим, слышал их разговоры, не раз наблюдал, какими они обмениваются взглядами. Содержание этих взглядов ему, человеку в прошлом женатому, прочитать было не слишком сложно. «Фейерверк на бензоколонке – дело интересное, но небезопасное!» – мысленно отметил он и решил принять меры. Как он надеялся, превентивные меры.
В это время как раз завершилась передача епархии здания одного из старых мангазейских храмов – Свято-Пантелеимоновской церкви, в прошлом именовавшейся Дальневокзальной. Она находилась в том районе, где в начале XX столетия располагалась грузовая железнодорожная станция. Когда-то украшенное куполом и звонницей, храмовое здание в советские годы превратилось в одноэтажное деревянное сооружение с двускатной крышей, напоминающее амбар. Изнутри оно еще сильнее походило на амбар: рассевшийся дощатый пол сурикового цвета и такие же стены, без малейших признаков церковного использования. Храм находился далеко от центра города и потому был важен: для многих небогатых людей (настолько небогатых, что даже оплата проезда на троллейбусе была для них проблемой) он должен был стать единственной доступной церковью.
В этот храм требовался толковый и распорядительный настоятель. Отец Ярослав вполне подходил на эту роль, и вечером того же дня, когда Евграф беседовал с Челышевым, он подписал указ о назначении иерея Ярослава Андрейко настоятелем Мангазейского Свято-Пантелеимоновского храма. Теперь общение четы Андрейко и Челышева волей-неволей должно было сократиться.
– Как говорится: с глаз долой – из сердца вон! – вполголоса проговорил архиерей, сидя в одиночестве вечером в кабинете и глядя на только что подписанный документ.
На следующий день об указе было сообщено супругам Андрейко – епископ пригласил к себе не только Ярослава, но и его жену.
– Свято-Пантелеимоновский храм надо восстанавливать, а людей не так-то много, – мерно рассказывал архиерей о тех задачах, которые стояли перед свежеиспеченным настоятелем и его супругой. – А вам, Елена, предлагаю заняться организацией тамошней воскресной школы, и как минимум на первое время – взять на себя обязанности старосты. Задача, понимаю, непростая, но уверен, что с Божией помощью справитесь. Опыта у вас более чем достаточно, – с улыбкой завершил он.
– Дай-то Бог! – ответила Елена. – Но не только ведь в опыте дело: приход там совсем маленький, людей, которые могли бы помочь, взять негде…
– Вот ваша с отцом Ярославом задача в том и состоит, чтобы приход стал большим и люди появились! – несколько назидательно сказал Евграф.
– Разумеется, Владыко, мы все, что сможем, сделаем, – сказал отец Ярослав. – Но если возможно, хорошо бы кого-то со Свято-Воскресенского прихода взять, хотя бы с минимальным опытом. Чтоб было, кому за службой читать или петь, не только Елене…
– Хорошо бы, не спорю, – Преосвященный медленно, задумчиво поглаживал бороду. – Только ведь сам знаешь: хору платить нужно, а толковых псаломщиков у нас почти нет. А тех, что есть, не сегодня-завтра рукополагать надо.
– Да, понятно, – с грустью кивнул Ярослав. Так же кивнула и Елена. Такой настрой не особо радовал Евграфа, но менять свое решение он не собирался.
– Отец Ярослав, я ведь не против, – сказал архиерей. – Но я не вижу никого, кто бы из хора, да и вообще с прихода, захотел бы переходить в Свято-Пантелеимоновский храм. Сам знаешь, тут не только в деньгах дело, люди со своей церковью сживаются, что-то менять не хотят. Но если найдешь добровольца или даже добровольцев, которые пожелают за тобой последовать, – обещаю, я препятствовать их переводу не буду.
На том разговор и был закончен.
Уже на следующий день о новом назначении стало известно всем, включая и Вадима. Тем же вечером он в очередной раз, на правах друга семьи и по приглашению Елены, побывал в гостях у Андрейко. Как обычно, был чай на кухне и обсуждение последних событий.
– Такие вот дела, – вяло резюмировал рассказ о своем назначении настоятелем отец Ярослав.
– Хорошие дела! – бодро отвечал Челышев. Елена, которая явно была подавлена карьерным ростом своего законного мужа, посмотрела на него непонимающим взглядом.
– Хорошие-то хорошие, да только надо из чего-то делать иконостас, из кого-то делать хор и чтецов… А вот из кого?.. – с той же опустошенной грустью продолжал Ярослав.
– Из добровольцев! Вам же Владыка сказал, что если добровольцы найдутся, то можете забирать. Ну, вот я готов быть добровольцем, забирайте! – несколько шутливо ответил Челышев.
Елена, которая за секунду до того выглядела даже не побледневшей, а пожелтевшей, после этих слов засветилась.
– Правда? – радостно спросила она и тут же, не давая Вадиму ответить (как будто бы он мог передумать!), продолжила, обращаясь уже к мужу:
– Слава, это же прекрасно! Лучше варианта и не найти! Вот тебе и чтец, и певец, и вообще специалист широкого профиля!
– Да, согласен… – несколько неопределенно, но, однако, улыбаясь, отвечал Ярослав. Его эта перспектива не радовала, но и не страшила. Он уже привык к тому, что Вадим присутствует в их жизни, и даже не хотел думать о том, чтобы что-то менять. Что тут изменить? Так, по крайней мере, сохраняется какая-то видимость семьи, дома, уюта… А что будет, если начать давить на Лену? Очевидно, что все это рухнет, и ничего, решительно ничего, чем можно заменить эту видимость, он не найдет… По крайней мере тогда он был уверен, что это действительно очевидно.
– Ну ничего себе! – громко, почти угрожающе сказала Елена. – Вадим готов оставить свою службу иподиакона при архиерее, чтобы тебе помочь, а ты только «согласен»! Мог бы и спасибо сказать!
– Да ну что вы… – с несколько фальшивым смущением сказал Челышев.
– Да, Вадим, извини, – обратился к нему отец Ярослав. – Спасибо, твоя помощь будет очень кстати…
На следующий день Вадим объявил архиерею о том, что хотел бы продолжить службу на приходе у отца Ярослава. Евграф был ошарашен этой новостью, однако вскоре понял, что отговаривать своего иподиакона едва ли есть смысл. Иподиакон, келейник и телохранитель – это лицо, которое должно пользоваться абсолютным доверием. А сейчас, особенно в случае отказа, о таком доверии уже говорить не приходилось.
– Скажи по совести: это из-за Елены? – спросил Вадима архиерей. Вместо ответа Челышев подошел к аналою в красном углу, перекрестился, поцеловал лежащие там крест и Евангелие и сказал:
– Говорю Вам, Ваше Преосвященство: не из-за нее. Никаких там отношений не было!
Евграф молча смотрел на него, потом перевел взгляд на аналой. Можно ли было после этого доверять Вадиму? Доверия не прибавилось, скорее наоборот. Но было ли у него право не доверять Вадиму? В конце концов, все, что было против него – это сплетни, слухи, догадки… Слишком мало, чтобы принять однозначное решение, особенно в отношении человека, который до этого служил верой и правдой.
– А если не из-за Елены, то из-за кого? – вновь спросил Евграф.
– Из-за отца Ярослава, конечно. Мы давно с ним дружим, а тут я с ним поговорил: он как в воду опущенный, боится, что не справится. Нужно ему помочь, хотя бы на какое-то время.
Упоминание о «каком-то времени» прозвучало успокаивающе. Любая, даже очень малоприятная вещь, начинает казаться сравнительным пустяком, когда объявляется, что она – явление временное. И хотя Евграф был человеком опытным, на него это, как ни странно, также подействовало. Хотя умом он и понимал, что нет ничего более постоянного, чем временное…
– Ну ладно. Пускай отец Ярослав сам ко мне зайдет и попросит – тогда я тебя отпущу… – резюмировал Евграф.
Отец Ярослав на следующий день зашел и попросил.
– Я не против, – по возможности дипломатично ответил ему архиерей. – Но тебе действительно нужен… Нужна помощь именно Вадима?
– Да, Владыко. Да и нет больше никого, – как-то отстраненно ответил ему Андрейко. Он уже дал согласие и Лене, и Вадиму, и ему казалось, что отыгрывать назад сейчас уже поздно. Да и есть ли смысл? И был ли у него вообще выбор?..
Архиерей еще раз взвесил ситуацию. Если все то, о чем сплетничают и что предполагает он сам, правда – то отец Ярослав должен быть об этом осведомлен. И кто-кто, а уж он-то в этой ситуации менее других заинтересован тащить за собой Челышева. Но Челышев перед крестом и Евангелием отрицает все обвинения, а Андрейко против него ничего не имеет. По крайней мере, на словах. Может, и на самом деле ничего нет, одни лишь сплетни, очередное искушение?
Помолчав несколько секунд, Евграф выдохнул и ответил:
– Что ж, будь по-твоему…
* * *
Вскоре после того, как отец Ярослав стал настоятелем Свято-Пантелеимоновского храма, все то, что осталось от его семейной жизни, приобрело некую странную, уродливую завершенность. И для самого отца Ярослава, и для его прихожан семья Андрейко превратилась в семью Челышевых, при которой приходской священник находится в качестве этакого приживальщика. Он, как и полагается попу, совершал воскресные и праздничные службы, исполнял требы, однако все решения, касающиеся обустройства прихода и, конечно же, его бюджета, принимали Лена с Вадимом. Денег у него в кошельке было столько, сколько они считали нужным ему выдать – иногда не было и вовсе.
Через полгода для приходских же нужд (по крайней мере, такова была официальная версия) приобрели старенькую праворульную японскую иномарку. И теперь едва ли не ежедневно можно было видеть, как на этой машине Вадим и Лена вместе отвозят в школу дочку Вадима и детей самой Елены. Так же вместе они ездили в магазин за продуктами и много еще куда. Когда нужно было доехать до Епархиального управления, они брали с собой еще и отца Ярослава.
Их общение, и ранее бывшее формальным, стало и вовсе эпизодическим. Вадим на ходу брал у него благословение, мог, особенно при людях, перекинуться парой вежливых фраз, но и только. Сам Челышев так же сильно изменился: если совсем недавно он был, казалось, искренне религиозным человеком, то теперь он ничего подобного в себе не замечал. Нет, Вадим не отрекся от веры, по крайней мере формально. О религиозных вопросах он теперь почти не думал, а церковная жизнь, по форме оставшаяся прежней, наполнилась для него принципиально иным содержанием. Если ранее он ощущал себя служителем Престола Божия, стоящим среди невидимо присутствующих тут же ангелов, то теперь он чувствовал себя техническим работником театра и актером одновременно. Следил за порядком в храме и в первую очередь в алтаре, старался выдерживать чинность богослужений, но ощущение реальности всех этих действий, некогда столь сильное, исчезло. Была работа – обезпечение функционирования учреждения, в котором он состоял то ли наемным работником, то ли пайщиком, то ли просто любителем, не желающим отказываться от старой привычки…
Если раньше перед отцом Ярославом он чувствовал себя виноватым и лишь сильнейшая страсть к Елене заставляла его перешагивать через эту вину, то теперь он относился к нему с безразличным пренебрежением. «Если его устраивает, что я у него под носом живу с его женой, почему, в конце концов, это должно не устраивать меня?!» – задавался он вопросом. И, разумеется, Вадим не видел причин, по которым это могло бы его не устраивать. Его чувство по отношению к Елене также претерпело трансформацию. Если раньше она была для него воплощением мечты, земным божеством, ради которого он готов был перешагнуть через многое – как оказалось, даже через крестоцелование, – то теперь он ее оценивал совсем иначе. «Богиня» превратилась в «бабенку», главным достоинством которой было то, что она «еще очень даже». Что же до Лены, то она эту перемену ощущала, и ее страстная привязанность к Вадиму начала приобретать болезненные черты. Это сказалось на ее отношении к мужу, которым она стала уже откровенно помыкать. Они почти не разговаривали, а в какой-то момент перестали спать вместе – ничего друг другу не говоря, без каких-либо обид и претензий. Обе стороны просто восприняли это как новую норму их жизни.
В один из майских вечеров, когда долгая мангазейская зима наконец уже уходит, сменяясь не календарной, а реальной весной, Ярослав, сидя на кухне, вдруг неожиданно (в первую очередь, для себя самого) спросил жену:
– Ты спишь с Вадимом?
Елена, в отличие от него, не была удивлена этим вопросом. Она продолжала громыхать вымытой посудой, привычными и быстрыми движениями вытирая ее полотенцем, и спокойно ответила:
– Зачем ты спрашиваешь? Ты же все знаешь.
Отец Ярослав уже пожалел, что спросил. Но почувствовал, что остановить этот разговор, единожды начатый, он не в состоянии:
– Я не знаю. Но мне нужно знать.
Лена продолжала составлять посуду в кухонный шкаф.
– Ты знаешь, – с какой-то усталой, горькой иронией сказала она. – Не будь трусом.
– Давай без оскорблений, – с непонятной и удивительной для него самого твердостью ответил Ярослав. – Я же не говорю тебе: «Не будь шлюхой!»
– Шлюхой? – в голосе Лены не было обиды. В нем прозвучало нечто иное: искреннее удивление. – Я не шлюха. Я люблю одного, единственного человека. А он – меня. При чем же здесь шлюха?
Отец Ярослав криво, почти судорожно улыбнулся:
– Ну да, конечно, любовь… А ничего, что ты вообще-то моя жена, что мы в венчанном браке? Это имеет какое-то значение? Или уже нет?
– Все имеет значение, пока нет любви, – устало ответила Лена. – А когда есть любовь, то уже ничто не имеет никакого значения. Я же говорила тебе: незачем спрашивать. Ты сам все прекрасно знаешь и помнишь. Ты же никогда не любил меня. Я для тебя была только пропуском на хиротонию, не более того…
– Не более?! – почти закричал Ярослав.
– Ну, может, не только пропуском… Еще домохозяйкой, помощницей… Женщиной, наконец. Но при чем здесь любовь?..
Отец Ярослав молча переваривал услышанное. Как ни странно, в этих словах, жестоких и наглых, была определенная истина. Действительно, если бы не благословение архиерея в кратчайшие сроки жениться и рукоположиться, он бы вряд ли связал свою судьбу с ней, Леной Черновой, интеллигентной молодой женщиной с двумя детьми.
– Я ведь помню, как ты ко мне тогда пришел делать предложение, – продолжала говорить Елена. – Очень хорошо помню. Ты тогда говорил о том, что ты должен жениться, о хиротонии, о приходе. Только о том, что ты любишь меня и хочешь связать свою судьбу с моей, ты не говорил.
И это тоже было правдой.
– Да, не говорил, – ответил Ярослав. – И, быть может, многого не говорил, что нужно было бы сказать! Я не говорил, что хочу связать с тобой свою судьбу – но, как видишь, связал! И если уж мы говорим откровенно, то я тебе напомню: когда ты принимала мое предложение и соглашалась выйти за меня замуж, ты уже была не девочкой-студенткой и не какой-нибудь мечтательной тургеневской девушкой. Опыта у тебя было много больше, чем у меня. Ты выбирала сознательно – и ты выбрала. И вот теперь ты меня обвиняешь, что, мол, я тебя не люблю! И потому прощаешь себе все!
– А что тебе не нравится? – Лена продолжала говорить все тем же спокойным, уверенным и потому особенно нагло звучащим тоном. – Слава, ты же предложил мне сделку. Я даю тебе возможность стать священником, помогаю тебе в быту, живу с тобой, а ты взамен даешь мне какой-то дом и вообще какой-то якорь в этой жизни. А про любовь речи не было. Так что же тебе не нравится? Мы как жили, так и живем под одной крышей, еду, как видишь, я тебе готовлю, в квартире убираю, белье стираю. Приходскими делами занимаюсь. А насчет любви в той сделке, которую ты предложил, ничего не было. Что же дурного в том, что я нашла ее где-то в другом месте, раз здесь ее нет?
Ярослав не смог ответить сразу. Услышанное на несколько секунд оглушило его. Стоит ли спорить? Да и с чем здесь поспоришь… Некая своя правда во всем этом была. Но помимо этой своей правды было кое-что еще, очень важное для Ярослава.
– Пусть будет сделка, – вновь заговорил он спустя пару минут. – Но скажи, пожалуйста: как эта коммерческая схема совмещается с тем, что ты – жена священника, староста православного прихода? Что Челышев – церковнослужитель? Что насчет седьмой заповеди, да и десятой тоже? Как быть с тем, что блудники Царствие Небесное не наследуют? Или это устарело, а я просто не в курсе последних новшеств?
– Мы любим друг друга, и Бог нас простит. Бог есть любовь! – ответила Лена.
– Не кощунствуй! – вдруг прикрикнул на нее отец Ярослав. Елена испуганно сжалась – быть может, впервые за много лет она испугалась своего мужа, в котором внезапно проснулась его юношеская нетерпимость ко всему, что он почитал противным православной вере.
Отец Ярослав молча встал из-за стола и направился в прихожую. Лена услышала, как он надевает свои летние ботинки.
– Ты куда? – удивленно спросила она его.
– А тебе не все ли равно? – ответил он вопросом на ее вопрос. Лена не стала больше спрашивать. Ибо ей, в общем-то, было действительно все равно.
С тех пор ежевечерние отлучки отца Ярослава из дому стали обычным делом. Теперь он очень часто стал бывать у своих друзей, главным же образом – у отца Игнатия. Последний, разумеется, знал о том, во что превратилась семейная жизнь его друга, и потому никогда не противился его визитам, хотя подчас они были довольно утомительными. Но он понимал, что сейчас их дружба и эти вечерние посиделки дают отцу Ярославу хоть какое-то отдохновение, а значит – хоть малую, но все-таки опору. И лишать его этой опоры было бы жестоко.
Впрочем, помимо квартиры отца Игнатия, в Мангазейске появился еще один адрес, который значил для отца Ярослава как минимум не меньше…
* * *
Чай был благополучно выпит. Какое-то время два друга, два священника, посидели молча, мысленно вспоминая общее прошлое. Затем отец Игнатий произнес фразу, ставшую уже почти традиционной:
– Отец Ярослав, время позднее…
Андрейко кивнул. Чайник и кружки были убраны, после чего два друга вместе прочитали вечернее молитвенное правило. Затем (что, опять же, уже стало своеобразной традицией) отец Игнатий удалился в соседнюю комнату, где стояла старая разбитая кровать, а отец Ярослав расположился на не менее старом и не менее колченогом диване.
Глава 3 Наша служба и опасна, и трудна…
– Значит, говоришь, надо все-таки съездить… – раздумчиво, медленно произнес Евсевий. С момента его прибытия на кафедру прошло уже почти три месяца, зимоподобную весну сменило лето, однако в своем архиерейском кабинете он как будто еще не освоился. Благочинный отец Василий стал для него гидом и эдаким чичероне, объяснявшим, что и где находится, а заодно и как строить взаимоотношения с миром за пределами кабинета и алтаря.
– Как благословите! – коротко, нарочито рублено ответил отец Василий. – Но в администрации области ждут. Губернатор, сами понимаете, очень высокого мнения о собственной персоне, – тут в словах благочинного появилась столь же нарочитая, ядовитая ирония. – Сам на прием ехать не хочет. Но звонили, приглашали. Даже обещали все особо торжественно устроить.
– А ты вместо меня не можешь? – спросил Евсевий. Интонация была почти просительной, отчего Васильев основательно смутился. Понятие субординации за годы армейской службы он впитал чрезвычайно крепко, и неуверенность, а тем более просьба со стороны вышестоящего лица – это было что-то диковинное и даже неприличное.
– Как благословите! – снова сказал он. Благочинному очень нравилась и эта фраза, и сам этот стиль. Он любил командовать и подчиняться – но первое все-таки больше.
Евсевий продолжал размышлять. Он все еще не мог привыкнуть к архиерейскому сану. И он сам, и епархиальные клирики ощущали, что ведет он себя со священниками скорее как один из них, первый среди равных в лучшем случае, а не как собственно епископ – «князь Церкви». Казалось, будто он надел костюм с чужого плеча. Но это была лишь половина проблемы. В конце концов, так ведут себя многие недавно рукоположенные архиереи, те, кто не впадает в противоположную крайность – упоение только что упавшей в руки властью. Вторая половина проблемы состояла в том, что Евсевий, в отличие от множества иных епископов, был монастырским монахом.
Разумеется, по традиции все архиереи были монахами. Однако в большинстве случаев свою жизнь до епископства они проводили отнюдь не в монастырях – служили на приходах и в кафедральных храмах, преподавали в семинариях, а чаще всего – были функционерами в епархиальных или даже патриархийных структурах. Получению навыка монашеской жизни это не способствовало, зато позволяло хорошенько узнать всю церковную управленческую кухню. Кроме того, такие кандидаты в архиереи очень неплохо ориентировались в мирских реалиях, более-менее ясно представляли себе расклады во власти на региональном и на федеральном уровне и хоть как-то, но умели с этой властью взаимодействовать.
В случае Евсевия все было совсем иначе. Еще семинаристом, в выпускных классах Московской духовной семинарии, он принял монашество. Однако на приходе не служил, а состоял в братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Оттуда его перевели в Данилов монастырь, потом и вовсе перебросили за пределы Московской области, но, так или иначе, всю свою жизнь он и жил, и служил исключительно в монастырях, последним из которых был Павловский Покровский, куда Евсевия поставили уже наместником.
Разумеется, в сане архимандрита ему приходилось общаться с местными властями, выезжать на приемы к ним, а иногда и принимать их у себя. Однако случалось это не слишком часто. И всегда он возвращался в свою обитель, в привычную и ставшую для него родной монашескую среду.
Теперь же все изменилось. С различными представителями «властей предержащих», местными учеными, общественниками и прочей подобной публикой нужно было встречаться чуть не ежедневно. Все они очень хорошо помнили интеллектуального и открытого Евграфа и теперь спешили познакомиться с его преемником, от которого ожидали такой же открытости и радушия. Но для Евсевия, который, в отличие от своего предшественника, был выходцем отнюдь не из номенклатурно-интеллигентских кругов, такое общение стало настоящей пыткой. Которой он и старался, елико возможно, избежать, либо отказывая во встречах (если речь шла о местных университетских преподавателях и всяческих общественных активистах), либо посылая вместо себя благочинного (когда дело доходило до взаимодействия с властями). Естественно, обижались и те, и другие. В глазах большинства местных интеллигентов, избалованных вниманием Евграфа, поведение епископа Евсевия выглядело высокомерным. Что же до Областной администрации, то там небезосновательно усматривали в попытках вести дела через благочинного грубейшее нарушение протокола.
Евсевий понимал, что подобный стиль чреват серьезными рисками. Во-первых, пренебрежение местными властями может весьма скоро аукнуться охлаждением отношений с руководством области. Да, в Москве, на всероссийском уровне, было принято решение о некотором государственно-церковном сближении (по крайней мере, об этом можно было судить по первым шагам нового президента). Но сближение – сближением, а в Мангазейске хозяином остается местный губернатор, и если ему очень захочется, то он может основательно попортить кровь здешнему епископу, невзирая даже на официальные московские директивы. Во-вторых, перекладывая значительную часть своих обязанностей на благочинного, он, как архиерей, попадал в зависимость от этого самого благочинного. Скоро не только в администрации, но и в епархии начнут путать, где заканчивается епископ Евсевий и начинается иерей Василий. А следом за епархией, чего доброго, начнут путать и в Патриархии…
– Ты сам-то как думаешь? – после некоторого раздумья, спросил благочинного Евсевий.
– Простите, Владыко, но дело важное. Если благословите, то, конечно, поеду. Но будет, кроме всего остального, обсуждаться вопрос и о кафедральном соборе… – отец Василий мягко оборвал фразу и вопросительно посмотрел на Преосвященного.
– А-а, вот так бы сразу и сказал! – ответил тот и даже улыбнулся. – Кафедральный собор – это дело важное, тут съездить надо обязательно!
– Благословите! – вновь повторил, вежливо улыбнувшись, отец Василий.
Архиерей встал из-за стола и после того, как благочинный спешно поклонился ему, коснувшись кончиками пальцев пола, преподал благословение.
– Бог благословит. Машину завтра организуешь? – спросил Евсевий. Привычка вникать во все дела выработалась у него давно и была уже неискоренима.
– Да, разумеется!
После этого, выйдя от архиерея, отец Василий, шелестя краями широченных рукавов своей рясы, направился к своему столу, который стоял возле дверей в кабинет Преосвященного. Здесь, в небольшом «предбаннике», находилось рабочее место секретаря епархии (каковым числился сам благочинный), а также редактора епархиальной газеты «Православный Мангазейск» Александра Шинкаренко. Шинкаренко был человек совсем не замкнутый, но по отношению к людям незнакомым демонстративно немногословный. Эта немногословность, вкупе с армейским прошлым (до 1992 года он служил в ГРУ), стала одним из очень значимых факторов, обусловивших их с отцом Василием взаимную симпатию. И хотя оба они были не слишком уживчивы, но вот вдвоем в одном тесном помещении существовали если не совсем прекрасно, то без больших потрясений.
Отец Василий снял трубку телефона и неторопливо начал тыкать старые пластиковые кнопки с наполовину стершимися цифрами. Вскоре на том конце кто-то ответил.
– Это Свято-Пантелеимоновский храм? Это благочинный иерей Василий Васильев… Бог благословит! Позовите отца Ярослава, – Васильев заметил, что Шинкаренко смотрит на него выразительным и понимающим взглядом, и столь же выразительно кивнул ему в ответ.
Через пару минут на том конце провода послышался голос Андрейко.
– Как дела, отец Ярослав?.. Как обычно?.. Ну, слава Богу. Сможешь ко мне в храм сегодня подъехать? – после этих слов благочинного взгляд Шинкаренко стал еще более выразительным.
– Да, надо, откладывать не стоит. После девяти вечера…
Благочинный положил трубку.
– Значит, вот все-таки так? – спросил его сосед по кабинету. Предложение прибыть на беседу не в Епархиальное управление, а именно в храм, в котором служил настоятелем благочинный (и при котором он жил), было признаком серьезности момента. И Васильев, и Шинкаренко прекрасно знали, чем именно может быть вызвана такая серьезность.
– Да, так! – ответил отец Василий.
– Ну ясно, – сказал Шинкаренко голосом, лишенным сколько-нибудь выраженной интонации. Однако за безцветной тональностью благочинный расслышал вполне отчетливый упрек. И посчитал нужным пояснить:
– Слишком большое смущение от всех этих их дел… Надо ставить точку. Запустил Владыка Евграф всю эту ситуацию! – негромко, но резко произнес отец Василий.
Шинкаренко довольно демонстративно ухмыльнулся. Прошло меньше трех месяцев после того, как Владыка Евграф отбыл в Вену, и вот уже благочинный дает весьма суровую характеристику его действиям. Хотя пока Евграф был здесь, в Мангазейске, он не только не высказывал столь жестких оценок, но и пытался одергивать отца Игнатия, который любил иногда посплетничать о своем епископе.
– Не знаю, – пожал плечами Шинкаренко. – В таком деле аккуратность нужна. Может, потому Владыка Евграф и медлил.
– Запустил! – нахмурившись, безапелляционным тоном заявил Васильев. – А новый наш Преосвященный – он не таков! Тридцать лет в монастырях – сам понимаешь, какая это духовная школа… Он это терпеть не будет. Надо принимать решение.
Шинкаренко с треском захлопнул старую кожаную папку с документами, данные из которых он забивал в какую-то таблицу, открытую у него на мониторе.
– Надо так надо, – негромко ответил он. – Но отца Ярослава жалко. Хороший он человек.
– Знаешь, Сергеич, как Жеглов говорил: «Наказания без вины не бывает»! – отрезал отец Василий. Сделав еще два шага, он оказался в следующем помещении – в прихожей или приемной, где за столом сидела прекрасно известная всей епархии Наталья Юрьевна Склярова, некрасивая женщина лет сорока пяти, выполнявшая функции секретарши. Она была искренне предана отцу Василию, несколько менее искренне – Шинкаренко и люто ненавидела бухгалтершу, сидевшую в соседнем с ней кабинете. Именно она отвечала на почти все входящие телефонные звонки, а также проводила первичную фильтрацию пришедших на прием.
– Наталья Юрьевна, сможете мне документы по нашему храму завезти сегодня часам к десяти? – спросил ее отец Василий. Под нашим храмом он подразумевал Свято-Иннокентьевскую церковь, где был настоятелем. До революции там находилось Духовное училище, а два года назад эти помещения вернули епархии. На первом этаже расположилась иконная лавка, склад и трапезная, на втором, в бывших классах училища, занималась воскресная школа; на том же этаже был и собственно храм. А на первом этаже, кроме прочего, была комната, в которой жил отец Василий и которую он сам предпочитал именовать кельей.
Наталья Юрьевна выдохнула не без некоторого демонстративного недовольства:
– Смогу…
– Очень хорошо! – ответил отец Василий и направился к выходу из Епархиального управления.
* * *
«Жалко ему, видите ли! – мысленно рассуждал он, шагая по двору Свято-Воскресенского храма к своему микроавтобусу (или, если угодно, микроавтобусу Свято-Иннокентьевской церкви). – А мне не жалко? И мне жалко, человек, что правда – то правда, недурной… Но смущение от его действий вышло большое. Понятно, что не мне его грехи судить, но тут – смущение пошло. Авторитет Церкви страдает! Честь Имени Христова!» – с этими мыслями он уселся за руль, пристегнулся (он всегда пристегивался: «мы повинуемся властям и законы не нарушаем!») и легонько нажал на газ. Микроавтобус плавно соскользнул на проезжую часть, и неспешно – опять же, в полном соответствии с установленным скоростным режимом – покатился к центру Мангазейска.
«Грехи его – дело не мое, а вот смущение – это уже мое дело. Как благочинного. Его надо прекращать – стало быть, прекратим», – мысленно резюмировал он, подавив начавшее было шевелиться в душе сомнение.
Это качество – умение подавлять сомнения – было едва ли не самым важным в не слишком многогранной натуре отца Василия.
В свое время оно помогало ему решать немало непростых вопросов в жизни, начиная еще со школьной скамьи. И далее – в Киевском высшем танковом инженерном училище, по окончании которого он получил погоны лейтенанта, на воинской службе и вот теперь – в священном сане. Что до лейтенантских погон, то появились они на его плечах в самом конце 70-х годов, то есть, естественно, в СССР. Сколько-нибудь серьезных связей у молодого лейтенанта Васильева не было, и потому на службу его определили в Восточную Сибирь, в Мангазейскую область, в один из множества безчисленных гарнизонов, долженствовавших охранять покой советских граждан от посягательств маоистского Китая.
Гарнизонная жизнь вдалеке от всех крупных городов (Мангазейск таковым не был, да и до него нужно было добираться автомобилем не менее двух часов) давала замечательные возможности для умственной и нравственной деградации. Взаимодействие с замордованной солдатской массой, основанное на использовании садистической иерархии с дедами во главе, один и тот же «узкий круг ограниченных офицеров», их жены, в массе своей тоже не отличающиеся широтой в чем бы то ни было, кроме талии, и все это – в воинской части, одиноко стоящей посреди степи… Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Отпуск, даже продолжительный, даже когда удавалось съездить на какой-нибудь курорт, не мог разрушить эту давящую монотонность бытия.
На разных людей она действовала по-разному. Некоторые держались неплохо, исправно тянули служебную лямку и самостоятельно обустраивали свой досуг – разные рыбалки и охоты, увлечение фотографией и т. п. Все вместе это позволяло если не остаться человеком, то, как говорили в военном кругу, «не потерять человеческий облик». На противоположном полюсе находился собиравший все мыслимые и немыслимые выговоры и взыскания «контингент». К службе в этом кругу относились равнодушно, главным развлечением было обильное употребление спиртосодержащих жидкостей и различные подвиги, совершенные на почве такового регулярного употребления. Помимо пьянства, была также какая-нибудь рыбалка (впрочем, практически всегда начинавшаяся, продолжавшаяся и заканчивавшаяся попойкой), а определенная часть офицерского состава додумывалась до вещей и вовсе экзотических. Например, до группового секса и прочих развлечений подобного рода. Для советских гарнизонов это было явление не то чтобы очень типичное, но встречалось оно гораздо чаще, чем об этом думали многие совсем уж простые смертные в СССР. Воинская часть с длинным номером, в которой служил будущий благочинный, относилась к числу тех, где подобные вещи встречались. Что же касается супружеских измен и вообще «похождений на стороне», то это всеми, включая даже руководство местной партийной ячейки, воспринималось как норма. Без этого обойтись было никак нельзя, ибо о чем же тогда говорить в офицерской компании за рюмкой водки во время очередного обмывания звания или, скажем, на 23 февраля?..
Василий Васильевич Васильев никогда не был идеальным советским офицером, по крайней мере в глазах своего начальства. Все его командиры полагали, что он «звезд с неба не хватает». Да он и сам к этому особо не стремился; но, не хватая звезд, чего другого он тоже не выхватывал. Служил ровно, без взлетов и падений, благодарности случались нечасто, но и без выговоров удавалось обходиться. Начальство ценило его как исполнительного, хотя и не особо умелого командира. С товарищами по службе ладил, но не всегда и не со всеми. В общем, «все как у всех». Этой же формулой можно было описать и его личную жизнь. Женат он был то ли на хохлушке, то ли на русской киевлянке, которую встретил еще в период обучения в училище. Жили не то чтобы совсем душа в душу, но костей друг другу не ломали и синяков не ставили (по крайней мере жена), родили двух детей – мальчиков. Водкой и похождениями на стороне Васильев не брезговал, но до пьянства или групповухи не опускался. Жена, понятно, была недовольна, но считала, что все это, так или иначе, укладывается в некую норму. И жена, и муж были уверены: по советским меркам им повезло. Повезло со службой – офицерские погоны давали хоть и не запредельный, но и не нищенский заработок, к тому же был паек, какие-то льготы, уважение в обществе. Да, жизнь в гарнизоне – скучная жизнь, но, с другой стороны, природа, простор, чистый воздух, детям, опять же, хорошо… (Хорошо ли им – никто не спрашивал, да и едва ли они могли дать разумный ответ, хотя бы потому, что сравнивать им эту жизнь было не с чем; по умолчанию же считалось аксиомой, что детям в гарнизоне, стоящем посреди степей, привольно и раздольно.) Логика жены была проста и сурова: муж выпивает иногда? Так ведь он не алкоголик, а иной раз и можно. Да и кто не выпивает? На стороне погуливает? Так ведь, может, и не погуливает он нигде, сплетни одни, завидуют бабы, вот и наговаривают. Да и кто из мужиков на сторону не хаживал? Из семьи ведь не уходит. Опять же, повышение скоро ему должно выйти по службе, звезду на погоны должны накинуть… В общем, как не крути, а выходило хорошо.
С осознанием чего и жили. Приблизительно до конца 1980-х годов, когда советский мир стал стремительно рушиться.
Понятно, что уже самое позднее году к 1986-му официальную советскую абракадабру совсем всерьез воспринимали либо дети, либо пенсионеры и сумасшедшие (последние две категории, впрочем, часто перетекали одна в другую). Но не воспринимать всерьез – это отнюдь не значило не воспринимать вовсе. Да, митинги 7-го ноября и 1-го мая, неизменные построения в колонны, авральное рисование никому не нужных плакатов и транспарантов, политзанятия, заседания и многие другие способы советского времяпрепровождения достали уже приблизительно всех. Но при этом во многих, очень многих головах сохранялось сознание того, что СССР, партия, советское правительство – это данность, такая же, как восход солнца, небо над головой и земля под ногами. Это не хорошо или плохо, это – часть жизни. И лишиться этого – это значит провалиться в какую-то бездну, в которой жизни быть попросту не может.
И вот эта бездна стала разверзаться. Вдруг стали выясняться удивительнейшие для советского человека подробности. Оказалось, что никакой «новой советской общности» не существует, а на территории СССР проживают все те же народы, которые жили и семьдесят пять лет назад. И теперь вчерашние советские люди готовы друг друга расстреливать и резать, лишь бы добыть себе свои национальные государства. Внезапно выяснилось, что это не СССР богатый, а западные трудящиеся – нищие, а строго наоборот. Что Церковь – это как минимум неплохо, а Ленин – это, очень возможно, даже и нехорошо… И многое, очень многое другое, от чего мозги советских трудящихся стали закипать и свистеть, как забытый на плите чайник…
Воинская часть, в которой служил Васильев, оказалась подлинным срезом советского общества – в том смысле, что кипение и свист начали сносить верхние этажи у всего личного состава. Васильев, как и многие его сослуживцы, вдруг с удивлением обнаружил, что прослуживший с ним рядом десять лет прапорщик Иванюк, родом из Ивано-Франковска, совсем даже не советский человек. Оказывается, дома у него всегда были книги на украинском языке, небольшая греко-католическая икона, а Степана Бандеру он (о ужас!) считает героем. В отличие (опять ужас!) от Богдана Хмельницкого. Тот факт, что Иванюк был кандидатом в члены КПСС, этому никак не мешал. Аналогичным образом обстояли дела и с двумя молдаванами, которые теперь стали говорить, что русские лишили их национальной культуры. А секретарь партийной ячейки прямо на собрании сообщил, что один из его дедов служил у Петлюры и что сам он, секретарь, всегда верил в Бога. Когда же партсекретаря стали расспрашивать о его верованиях, он ответил, что Бог – это не Бог, а БОГ: Биоэнергетический Объект Галактики. И что об этом как раз была замечательная статья в предпоследнем номере «Техники молодежи».
Наиболее интеллектуальные офицерские жены также не отставали от своих мужей, старательно изучая куцые журнальные заметки о карме и реинкарнации. И, конечно, вся воинская часть исправно сидела перед телевизором, когда в нем появлялась физиономия Кашпировского, или же заряжала от этого телевизора воду – если на экране показывали Чумака.
Что же до молодого поколения, то ученики начальных классов радовались появлению жевательных резинок с фантиками-вкладышами и первым комиксам. А подростки сосредоточено читали статьи о сексе, которые в огромном количестве публиковали пионерские издания «для детей и юношества». Самые же взрослые собирались на квартирах у тех, кто сумел обзавестись видеомагнитофоном (таких квартир в части было всего две), и немигающими глазами смотрели первые пиратские копии «Эммануэли».
Васильев, как и большинство его коллег, ошалело вращал головой, пытаясь понять, где в этом вихре из Бандеры, Чумака, Камасутры и рыночных отношений есть хоть что-то, за что можно зацепиться. Прежний мир, который он знал и по-своему даже любил, рухнул. Закончилось все, что было раньше: исчезли все смыслы, изменилось понятие о выгодном и невыгодном, стало зыбким то, что почиталось моралью. В возникшем водовороте предстояло решать самому: для чего и как ему, Васильеву Василию Васильевичу, капитану Советской армии, следует жить? Никогда ранее ему об этом задумываться не доводилось. Так впервые в своей жизни он задался пилатовским вопросом: «Что есть Истина?»
Пару лет он ковырялся в различной эзотерической литературе, которой тогда были в изобилии усыпаны все прилавки и которой его собственная квартира, стараниями жены, была полна. Что-то ему нравилось, что-то – нет, но того ответа, который бы его устроил, он не находил. Пару раз Васильев сходил на собрания местных неопятидесятников, оставившие у него гнетущее впечатление (особенно тот момент, когда, по мнению проповедника, началось «сошествие Святого Духа» и «говорение языками»). К баптистам, которые тоже развернули активную миссионерскую деятельность в Мангазейске, он заглянул разок и более не стал. Вообще, проповедники, которых тогда собирательно именовали западными, Васильева пугали и раздражали одновременно. Пугали – потому что он, как и большинство советских граждан, был воспитан в страхе перед всевозможными сектами, которые заманивают в свои ряды советских трудящихся для последующих изощренных издевательств над ними до сожжения заживо включительно. Как правило, всех «сектантов» именовали баптистами (даже если речь шла о иеговистах или кришнаитах). И хотя прежним страшилкам Агитпропа уже не особо доверяли, но таинственных «баптистов» на всякий случай побаивались. И нельзя сказать, что боялись всегда напрасно: появление «Белого братства», а потом и «Аум Синрикё» вновь подстегнуло недоверие к новоявленным религиозным проповедникам.
И, конечно, западные миссионеры раздражали. Особенно таких людей, как Васильев. Ведь совсем недавно он был советским офицером – носил погоны той державы, которая открыто боролась с США за мировое первенство, чьи военные базы стояли в обоих полушариях, а политическая доктрина имела сотни миллионов приверженцев во всем мире. И вот, в одночасье, все это рухнуло. Вместо былой мощи и величия, пусть и сопряженных с бедностью, очередями, дефицитом и многим другим, остались только бедность, очереди, дефицит и многое другое. Безо всякой мощи и величия. И несмотря на то, что из телевизора нескончаемым потоком лились речи о советско-американской (а потом о российско-американской) дружбе и сотрудничестве, Васильев чувствовал себя солдатом побежденной армии – и побежденной страны. В этой ситуации видеть подтянутых, гладко выбритых, в хорошей, качественной одежде американских проповедников, которые с голливудскими улыбками, сверкая отбеленными зубами, раздают гуманитарную помощь, было унизительно до тошноты. Эти сцены очень живо напоминали Васильеву пропагандистские фотографии в советских военных музеях, на которых добрые воины-победители раздают продуктовые наборы жителям поверженного Берлина. Новообращенные из местных, получающие гуманитарку от американских миссионеров, казались коллаборационистами, предателями, продающими Родину за ношеные кроссовки или заваривающуюся лапшу.
– Все равно что власовцы! – не раз с ненавистью говорил о них Васильев. И никакой мат и никакое проклятие в его устах – устах советского офицера – не имело такой же убойной силы, как это ненавистное со школьной скамьи слово: «власовцы».
Русская Православная Церковь Московского Патриархата на этом фоне выглядела своей: такой же бедной, привычной и совсем не западной и несектантской. И хотя поначалу Васильеву она казалась менее интересной, чем разного рода эзотерические сообщества и всякая экстрасенсорика, но с конца 1992 года он стал периодически заглядывать в Свято-Воскресенский храм. Там его встречал тогда еще совсем молодой отец Ярослав Андрейко. Васильев поначалу задавал ему те вопросы, которые любому среднеарифметическому советскому человеку кажутся неразрешимыми с точки зрения христианства.
– А почему Бог допускает войны? Болезни? Гибель невинных людей? Почему то, что у нас сейчас происходит, Он допускает? – спрашивал Васильев и смотрел в глаза отцу Ярославу, слегка прищурившись, замерев от предвкушения скорого полемического торжества.
Андрейко мысленно вздыхал (на этот вопрос ему регулярно приходилось давать ответ лет с пятнадцати как минимум), и говорил:
– Бог всемилостив и благ, и всякое благо исходит от Него. А что до нашей жизни – жизни, действительно, очень непростой – то было бы удивительно, если б мы, оставив Бога, жили хорошо…
Васильеву этот ответ казался интересным, но не исчерпывающим. Он задавал новые вопросы, столь же типичные, что и вопрос номер один, и снова получал ответы. Затем он начал читать те немногочисленные книги (в основном – изданные на дрянной желтой бумаге брошюры, на большее средств у тогдашних православных издателей не было), которые продавались в иконной лавке. Через полгода размышлений и сомнений он пережил то осознание себя православным человеком и приобщение к церковной жизни, которое ныне принято именовать воцерковлением. С этого времени он стал постоянно посещать богослужения, держать посты и более-менее регулярно читать утренние и вечерние молитвы дома. А с декабря 1993 года он (разумеется, добровольно) стал по выходным выполнять и некоторые послушания при Свято-Воскресенском храме.
Еще через год с небольшим, на Святках 1994/1995 годов, он был рукоположен во священника. А еще через полгода его жена подала на развод; сразу же после того, как суд вынес соответствующее постановление, она уехала к родителям в Киев, прихватив с собой обоих сыновей. Семейная жизнь надломилась – как оказалось, без надежды на исцеление – в первые же месяцы активного воцерковления Васильева. Его супруга готова была спокойно, не без некоторой даже житейской мудрости, воспринимать и нечастые пьянки, и даже эпизодические измены, ничего не имела против запойного чтения книжек про экстрасенсов – но вот ежедневные утренние и вечерние молитвы, да еще и в сочетании с постами, вызывали у нее неподдельный ужас. «Совсем рехнулся!» – поставила она диагноз своему супругу, и ничто не могло ее заставить изменить своего мнения. Муж, ранее бывший «нормальным человеком», стал в ее глазах даже не просто «ударившимся в религию», а «сумасшедшим». Что же до самого Василия Васильевича, то он тоже действовал достаточно прямолинейно (что свойственно почти всем неофитам) – требовал от супруги посещения богослужений, неукоснительного соблюдения постовых норм в домашнем питании и т. п. Последнее было существенной проблемой: жили они тогда совсем небогато, выбор еды был небольшой, и в этих условиях пост подчас балансировал на грани голодовки.
Когда Васильев был рукоположен, жена окончательно утвердилась в своем выводе:
– Мой совсем с катушек слетел!.. – охотно, но при этом и с очевидной горечью, жаловалась она подругам.
После хиротонии, когда и молитв, и постов, и требований к ней, как теперь уже «матушке», стало больше, а денег – меньше, жена уже почти не колебалась. Если «рехнувшегося» мужа-офицера она еще как-то терпела, то с мужем-попом она примириться не могла. И Васильев, прослужив полгода женатым священником, превратился в целибата – безбрачного. По канонам жениться он более права не имел.
Впоследствии он не раз задумывался: можно ли было избежать такого исхода? И, хотя ему трудно было признаться в этом даже самому себе, где-то в глубине души он все же говорил: да, при иных условиях можно было хотя бы попытаться.
Но вот с условиями были как раз проблемы. Ибо вскоре после того, как будущий отец Василий начал активно воцерковляться, на его жизненном пути возникли очень серьезные затруднения.
* * *
Начало 1990-х годов оказалось для постсоветских военнослужащих временем крайне скверным не только в моральном плане, но и в материальном. Цены росли катастрофически быстро – и для людей, которые привыкли с детства и до седых волос жить примерно с одними и теми же ценниками, это стало сущим светопреставлением. Какое-то время существовала карточная система. После ее отмены, впрочем, сильно лучше не стало. Начались перебои с выдачей заработной платы. Военным, конечно, не задерживали зарплату так же основательно, как рабочим, учителям и прочим совсем уж ненужным тогдашней власти людям, то есть месяцев на десять-одиннадцать. Но на пару-тройку месяцев все же задерживали. И к тому моменту, когда дензнаки выдавались на руки, стоимость их существенно уменьшалась. В какой-то момент прапорщики, а следом и офицеры начали с ужасом осознавать, что им не на что купить даже хлеба. В небольшом магазинчике, который имелся в их воинской части, появилась толстая истрепанная тетрадка. В нее продавец вписывал ФИО периодически заглядывавших офицеров и количество буханок хлеба, которые они брали в долг – до ближайшей зарплаты…
В один дождливый сентябрьский день, в 1992-м году, Васильеву пришлось с утра отправиться в Мангазейск – участвовать в «утрясании» очередного вопроса в штабе округа. Назад вернулись уже довольно поздно, в половине пятого вечера. Когда казенный уазик заехал на территорию части, Васильев вместе со спутниками увидел, что что-то случилось: перед одним из двух трехэтажных панельных домов собралась толпа. Тут же стоял другой УАЗ, только милицейский, и скорая помощь.
– Тормозни-ка тут! – негромко сказал он водителю – сорокалетнему прапорщику, который, впрочем, и так уже остановил машину.
Васильев выпрыгнул на мокрый растрескавшийся асфальт и быстро подошел к толпившимся у подъезда людям.
– Что случилось? – громко, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил он. Никто не ответил. Женщины с нервной тревожностью пару раз оглянулись на него испуганными и безсмысленными глазами, мужчины продолжали стоять, перешептываясь и тихо переругиваясь друг с другом. Дождь продолжал противно, изматывающе моросить, но расходиться никто не собирался.
– Что случилось-то? – уже тише спросил Васильев своего знакомого, капитана Николаева, стоявшего тут же, рядом с ним.
– Васька застрелился, – тихо ответил он.
– Как застрелился?! – недоуменным, но уже почти кричащим шепотом переспросил Васильев.
– Так, – Николаев стал говорить еще тише. – Застрелился. Как все стреляются. Оставил записку: мол, никого не виню, стыдно, что детей кормить нечем. Не могу, мол, так жить.
Васильев почувствовал, как у него слегка подкосились ноги, а волосы на голове, намазанные скверным армейским «Шипром», начинают противно чесаться от выступившего пота. Вася Петренко был его старым приятелем, он тоже когда-то окончил Киевское училище. Вася был чуть помоложе. Они никогда не были особенно близки, но общая альма-матер, вкупе с тем, что они были тезками, – это невольно сближало их в тесном гарнизонном мирке. К тому же Петренко был человеком в общении легким, добродушным и на редкость хлебосольным (а такое в армейской среде всегда ценится особо). Пять лет назад Вася стал местной знаменитостью: его супруга родила тройняшек. Приезжали фотограф и журналист из районной газеты, в которой вскоре вышла небольшая заметка со столь же небольшой фотографией молодого и в один момент ставшего многодетным семейства Петренко. Вася был очень горд: и заметкой, и женой, но в первую очередь – тремя своими сыновьями.
А вот теперь эта радость и гордость стала для него смертным приговором. Даже те офицеры, у кого в семье был всего один ребенок, не знали, где найти деньги, чтобы одеть, обуть, собрать его в школу (не говоря уже про еду – о еде вообще почти не удавалось забыть). «Вытянуть» же троих сыновей оказалось просто невозможно. И вскоре Вася понял, что помощи ему ждать неоткуда. Неясно, когда именно он решил наложить на себя руки. Со стороны ничего, решительно ничего нельзя было заметить. Но вот настал этот сентябрьский день, и вышло так, что Вася дома был, а его жены и всех троих сыновей – не было. Тогда он написал короткую записку на грязно-желтом листе, вырванном из старой телефонной книги, достал свой табельный ПМ (который не должен был, вообще-то, находиться у него дома – но тем не менее находился) и выстрелил себе в висок…
Васю – точнее, Васин труп – увезли в морг. Было обязательное вскрытие, протокольные «мероприятия», которые в таких случаях должна проводить милиция, а еще через несколько дней – поминки. Бедные, почти нищенские поминки и гроб с красной обивкой, военный оркестр, играющий: «Гори, гори, моя звезда…» – и, в завершение всего, старый «пазик» с черной полосой по грязно-желтому борту заместо катафалка.
Для Васильева самоубийство его сослуживца, Петренко, стало своеобразным Рубиконом. Он вдруг не просто осознал, а именно прочувствовал, самой своей дубленой армейской шкурой ощутил, что надеяться ему более не на кого. Если что – никто не поможет, и не будет другого выхода, кроме как «лечь виском на дуло». Надо было выживать, вместе со всей своей семьей.
А выживать в этих условиях значило только одно – воровать. Никаким легальным приработком на стороне заняться было нельзя – во-первых, потому, что заниматься бизнесом военнослужащим было запрещено. А во-вторых, чтобы начать собственное дело, нужно уметь что-то делать. А Васильев, как и большинство его товарищей, умел почти исключительно одно: «руководить». Это умение ни в каком бизнесе, ни в легальном, ни в нелегальном, востребовано не было. Оставалось только красть. А возможности для этого были почти идеальные. За десятилетия советской жизни на армейских складах накопились огромные запасы самого разного добра, включая, конечно, и оружие с боеприпасами, но не только и не столько их. Поскольку часть была танковая, то здесь имелся довольно солидный запас горюче-смазочных материалов, запчастей для армейских грузовиков и прочего в этом роде. Кроме того, естественно, были и склады с обмундированием, и остатки кое-каких стройматериалов, и, наконец, просто разный металлический хлам, который, однако, можно было выгодно толкнуть как чермет (а бывало, попадал и цветмет). Дело казалось абсолютно безопасным: кто там разберет, когда именно армейский ЗИЛ, двадцать лет назад сошедший с конвейера и вскоре ставший на консервацию, лишился своих покрышек, свечей зажигания, а то и всего двигателя?.. Бардак в государстве, знаете ли, держава рухнула, за которую, знамо дело, обидно, где уж тут было за двигателем-то уследить…
Поначалу Васильев испытывал некоторую неловкость, но очень быстро это чувство прошло. «Крадем, положим, у государства – ну так это государство нам тоже кое-что должно! А главное, выбора не оставило!» – говорил он себе. И последние сомнения в его голове исчезали тогда, когда вновь перед глазами возникала навеки врезавшаяся в память картина: красный гроб, поставленный на две табуретки, и лежащий в нем Вася Петренко с плохо загримированным пулевым отверстием на виске…
Продажа на сторону мазута, бензина, покрышек и прочих запчастей оказалась делом довольно выгодным. Сколько-нибудь больших денег на этом заработать не удавалось, но хлеб, по крайней мере, не нужно было покупать в долг. Когда Васильев начал активно воцерковляться, перед ним возникла дилемма: можно ли ему и дальше иметь столь неоднозначный с христианской точки зрения приработок?
Думал он об этом не раз и даже спрашивал на исповеди у священника – молодого иеромонаха Игнатия. Стоя у исповедального аналоя, он коротко изложил ему суть ситуации. На несколько секунд отец Игнатий замер, размышляя, а затем тихо, старательно отделяя слова, сказал:
– Это грех. Несмотря на все обстоятельства, о которых вы говорите – это грех… Но время сейчас такое, что я не могу вам давать однозначные советы. Все написано в Евангелии, мне добавить тут нечего. И если уж вы воруете – то постарайтесь хотя бы не воровать сверх того, что вам необходимо… Если сможете не воровать вообще – это будет лучше всего.
Васильев и пытался следовать этому совету – в том смысле, что тащил со складов то, что, по его мнению, лежало плохо, но лишнего старался не прихватывать.
Ощущение надвигающихся проблем возникло где-то в апреле 1994 года. Для большинства своих сослуживцев он уже к тому времени стал чужаком: как и его собственная супруга, они считали Васильева «слетевшим с катушек», «ударившимся в религию». Совсем еще недавно обычный советский офицер – а теперь регулярно ходит на богослужения, демонстративно не пьет водку и не ест мяса и рыбы в пост, постоянно говорит о Боге, православии и Церкви… Для вчерашних друзей он стал инопланетянином. Некоторые даже искренне спрашивали его жену: не в секту ли попал Вася?.. Отчуждение постепенно превращалось в тихую, но все более явственную враждебность. Васильева это, однако, не печалило и не смущало: он переживал период искреннего религиозного подъема и негативное отношение со стороны своих сослуживцев воспринимал как диавольское искушение, которому надо твердо противостоять. И противостоял со всей решительностью неофита: читал вслух молитвы в столовой, широко крестясь, а вместо «спасибо» почти всегда говорил: «Спаси Господи!»
И вот в апрельские дни, в самый разгар Великого поста, сигнальной ракетой вспыхнула новость: грядет проверка! Будут ревизовать склады, и ревизовать их будут, кажется, не совсем в шутку. Поскольку на складах, при некотором желании, можно было наревизовать на несколько уголовных дел, товарищи офицеры начали заметно нервничать. Стало ясно, что может потребоваться стрелочник, на которого все и спишут.
– Слышал уже про проверку, а, святой отец? – вдруг спросил Васильева командир части, когда тот в очередной раз, по какой-то надобности, забежал к нему в кабинет. Спросил ядовито и зло.
– Я не святой отец, – слегка потупившись, ответил Васильев. – Святые отцы – это учителя Церкви. Такие как Иоанн Златоуст, а не я.
– Ну вот сейчас будет ревизия, там и разберутся, кто святой, а кто златоуст! – тем же ядовитым и насмешливым тоном продолжил командир. – Смотри! Говорят, непорядок там у тебя. Если что крупное вылезет – прикрывать не стану, по-хорошему тебе говорю! А то, понимаешь, святые-то мы святые, а как склады, которые под вашей ответственностью находятся, растаскивать – так уже и не святые! Так что ты смотри у меня, если что!
Все стало окончательно ясно. Стрелочника не ищут – его уже нашли. Нашли в лице майора Васильева Василия Васильевича.
– Разрешите идти? – привычно, по уставу, спросил Васильев своего командира.
– Давай, иди… – по-прежнему развязно, и совсем не по уставу, ответил тот.
Проверка, действительно, оказалась отнюдь не формальной. Даже весьма поверхностного ознакомления с тем, что имелось в наличии, было достаточно, чтобы официально признать давно всем известную истину: склады разворовывались, и очень основательно, и очень давно. И чем дальше, тем больше вопросов почему-то возникало к Васильеву. Времена были довольно либеральные, а вернее сказать – анархические, и уголовное дело на него заводить вроде не собирались. Но вот перспектива Суда чести и увольнения с позором вырисовывалась все более явственно.
Васильев сопротивлялся этому исходу, как мог, подключая все те связи, которые у него пока еще оставались, в основном – в Штабе округа. В середине июля, когда позорное увольнение, казалось, стало неизбежным, в кабинете у Василия Васильевича зазвонил телефон.
– Вася, здравствуй! – услышал он голос одного из сотрудников Особого отдела, которого давно знал. Дружить они не дружили, но отношения всегда были ровными и даже доброжелательными. – Как дела?
– Здравствуй, Николаич!.. Слава Богу дела, да бывало и лучше. Слышал про меня, наверное? – настроение было препаршивое, и голос, в тон настроению, звучал замогильно.
– Да, слышал, слышал… Ты сегодня в Штаб не собирался?
Васильев задумался. В Штаб он не собирался, но в вопросе совершенно четко прозвучало приглашение. Только что это могло означать? Означать это могло все, что угодно, но пренебрегать им, в нынешнем положении, не стоило.
– Да, может, и… собирался, – ответил он.
– А вот это хорошо! – жизнерадостно ответил особист. – Ты когда подъедешь? Часам к пяти будешь?
– Да, думаю, успею.
– Вот и хорошо! Как освободишься – заглядывай ко мне, чайку попьем! – и в трубке раздались короткие гудки.
Выдумав не особо убедительный предлог, Васильев взял машину и через два часа с небольшим был в Мангазейске. Привычно показал удостоверение на КПП в фойе Штаба округа – огромного желто-белого здания в стиле сталинского ампира, построенного в конце сороковых годов. Затем, никуда не сворачивая и ни с кем не вступая в разговоры, он направился через многочисленные лестницы и переходы в большой, но уже давным-давно обветшавший кабинет, где гнездились остатки совсем недавно еще столь грозного Особого отдела. Впрочем, даже после многочисленных реформ и дробления КГБ остатки эти, подчинявшиеся в тот период структуре, носившей название Федеральной службы контрразведки, еще кое-что могли. В том кабинете, куда шел Васильев, живым представителем сих остатков был Андрей Николаевич Буянов, три часа назад позвонивший ему по телефону.
Распахнув дверь, Васильев увидел, что живой представитель в кабинете не один.
– А, Васильич, заходи! – приветливо махнул ему рукой Буянов.
Сам Андрей Николаевич был облачен в военную форму – даже не будучи подчиненным армейским командирам, сосуществовать с ними в одном здании (в котором, к тому же, имелся целый генерал-лейтенант), не нося мундир, было невозможно. А вот второй, доселе неизвестный Васильеву человек, который сидел в кабинете и неспешно потягивал чай из надтреснутой керамической чашки, был одет в самый обычный гражданский костюм – пиджак, светлая рубашка, галстук.
– Васильич, это Юрий Иванович! – продолжал улыбаться Буянов, пожимая Васильеву руку и на ходу представляя ему своего гостя. – Мой коллега, хочет с тобой пообщаться… Человек Иваныч хороший, мы как раз с ним твое дело обсуждали, думали, как это лучше устроить… Ну, в общем, не буду вам мешать! – с этими словами и улыбкой лукавой деликатности, столь характерной для чекистов, когда они находятся на своей территории, Буянов покинул кабинет.
– Иваныч, ты если что – дождись меня, я пока в магазин метнусь, жена просила! – напоследок сказал он, закрывая плотную, тяжелую дверь.
– Дождусь, дождусь! – негромко ответил ему человек, представленный Юрием Ивановичем. Голос у него был тихий, мягкий – такой, который бывает у педиатров или прирожденных педагогов, знающих свое дело и влюбленных в свою профессию. Да и выглядел он как добродушный школьный учитель: гладко выбритое, чуть полное лицо, слегка приплюснутый нос, большие зеленые глаза и мягкая, какая-то детская улыбка…
– Да вы присаживайтесь, Василий Васильевич! – сказал он, все так же дружелюбно улыбаясь и глядя на него большими и как будто добрыми, влажными глазами. – Чай будете? А то мне Андрей Николаевич велел вас чаем напоить, после такой-то жары…
Июльское солнце действительно жарило нещадно, и после двухчасовой поездки на уазике, в пыли и духоте, чай был совсем не лишним.
– Спасибо, – коротко ответил он, присаживаясь за стол.
Юрий Иванович налил чай – сначала ему, потом себе. Затем достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение – как и предполагал Васильев, неожиданный гость оказался майором ФСК.
– Надеюсь, вы не против пообщаться? – сказал он со все той же обезоруживающей детской улыбкой.
– А разве мне решать? – угрюмо ответил вопросом на вопрос Васильев. – Вас, надо полагать, интересует это дело… По поводу проверки складов…
– Ну что уж вы так! – добродушно ответил Юрий Иванович. – Решать вам, отчего же нет? У нас сейчас, сами знаете, свобода и демократия. Приказывать мы никому ничего не можем, хотя и раньше, по правде сказать, не так уж часто приказывали… А уж теперь… – тут он вяло махнул рукой, по-прежнему улыбаясь. И продолжил:
– Да и вся эта суета со складами, на самом деле, никого особо не интересует. Все же в одной стране живем, по одним улицам ходим. Все всё понимают. Тоже, подумаешь, преступление века! Кто-то списанный карбюратор из части вынес! Если мы сейчас каждого прапорщика, который покрышку или там два кило сахара из части утащил, будем арестовывать, так нам придется чуть не всю армию пересажать…
– Ну, не всю, – Васильев «на автомате» вступился за армию.
– Не всю? Ну вот у вас в части много есть народу, кто ни разу ни канистры бензина не вынес, ни какой-нибудь тряпки со склада?
– Ну, это уж да… – неопределенно промычал Васильев.
– Вот именно! Система! Довели людей, что тут говорить!.. А семью кормить надо, да никто об это не думает – из тех, кто решения там, наверху, принимает. Раньше и помыслить такого было нельзя – вот, как у вас в части случилось, с Василием Петренко…
– Что вы имеете в виду? – удивленно спросил Васильев.
– Да что я имею в виду… Можно сказать, довели человека до самоубийства… Или я не прав?
– Да правы, в каком-то смысле… Ему ведь семью кормить было надо, – ответил Васильев.
– Да-да… Двойняшки у него были?
– Тройняшки.
– Эх-х! – Юрий Иванович вздохнул, отпил глоток чая. – Тройняшки! А у меня один сын… Не поверите, всегда хотел, чтобы двое пацанов были, а лучше трое. Так жене и говорил, помню, когда еще в институте учился: чтоб, говорю, тройню мне родила!
Васильев улыбнулся, и Юрий Иванович вместе с ним.
– А у вас ведь двое парней? – спросил Юрий Иванович.
– Двое…
– Завидую! А у меня вот один. Как моя мать говорила: «Один ребенок – это не ребенок, это полребенка».
– Да и моя мать так же говаривала, – ответил Васильев. – А вот у Васи, у Василия Петренко, сразу трое родилось. Да кормить стало нечем. Не раз мне жаловался…
Юрий Иванович понимающе кивал.
– Говорит: «Жена замуж шла – думала, за офицером, как за каменной стеной! А мне семью кормить нечем!» – с горечью вслух вспоминал Васильев.
– Да, жизнь пошла!.. – грустно поддакнул Юрий Иванович.
– Так он до самоубийства и дошел… До смертного греха! – сказал Васильев. Последние слова у него вырвались как-то сами собой, и он даже слегка поежился, опасаясь, что проявление его религиозности будет воспринято негативно (а то, что он верующий, наверняка должно было быть известно его собеседнику из ФСК).
– Да, Василий Васильевич, именно так, до смертного греха! – неожиданно сочувственно отозвался Юрий Иванович. – Хотя на мой взгляд, это не в меньшей, а в большей степени вина тех людей, кто его до этого довел. Ну да это мои собственные мысли. С православием они, наверное, плохо согласуются?
– Ну, не мне решать, насколько они согласуются, – ответил Васильев.
– Ну почему же не вам, Василий Васильевич? Кстати, я ведь вас всерьез спрашиваю. Да и кого же еще спрашивать, как не вас? Вы человек глубоко верующий, трудитесь при церкви…
Васильев несколько растерялся от неожиданно дружеского тона. Что это значит, он еще не понял, но почувствовал, что столь терпимое и демонстративно сочувственное отношение к его церковной деятельности совсем не случайно.
– Ну, если вас интересует мое мнение… – чуть смущенно, начал говорить Васильев, – то, конечно, доведение человека до самоубийства – это грех. За такое Господь серьезно спросит…
– Вот и я так думаю, – поддакнул Юрий Иванович.
– Честно говоря, неожиданный вопрос, – признался Васильев.
– Неожиданный? Что ж, понимаю вас… – на лице его собеседника снова засветилась тихая, детская улыбка. – В нашем обществе о таких вещах ведь не принято говорить, тем более всерьез. Пока, по крайней мере, не принято. Но, если честно, я ведь с вами именно об этом и хотел переговорить.
– О чем конкретно, простите? – насторожился Васильев.
– О вашей церковной деятельности, Василий Васильевич, о вашей церковной деятельности… Кстати, что вы чай пустой пьете? Тут еще какие-то печенья завалялись, а Андрей Николаевич мне вас угощать наказывал. Не хотите?
– Спасибо, – Васильев взял половинку печенья, на ощупь казавшегося каменным, и отправил ее в рот.
– Вы ведь собираетесь становиться священником, Василий Васильевич? – спросил его Юрий Иванович.
– Это не мне решать. Если Владыка благословит…
– Думаю, благословит. Насколько нам известно, планы такие у него есть, да и не хватает в епархии священников, – сказал Юрий Иванович.
– Благословит – буду, – коротко ответил Васильев.
– Вот и очень хорошо! – сказал его собеседник. – Вы не подумайте, я ведь искренне говорю: хорошо! Состояние нашего общества такое, что, по правде сказать, только на Церковь надеяться и приходится. Смотришь вокруг и думаешь: что будет с нашей молодежью? Кто ее будет воспитывать?
– Да, это верно! – горячо согласился Васильев. – У нашей страны только одно спасение: православие.
– Пожалуй, что так, – снова согласился с ним Юрий Иванович, вновь очаровательно улыбнувшись. – Коммунистическая идеология, хорошая она была или плохая, – но она больше не государственная. Хотя, как по мне, у коммунизма и христианства много общего. Хорошие ведь идеи были! Сейчас ругают и комсомол, и пионерскую организацию, а ведь кое-какое воспитание они давали. И не самое плохое! Какая-то мораль, понятие о дозволенном и недозволенном… – почти мечтательно рассуждал чекист.
– Да, было! – с готовностью подхватил Васильев. Он действительно искренне веровал и считал себя православным. Но при этом вера в его душе уживалась с горячей, страстной советской ностальгией – ностальгией по советскому детству, пионерским лагерям, дешевому и вкусному пломбиру и радио, которое каждое утро велело вставать на зарядку, отчитывалось о собранном в Средней Азии хлопке и об очередном запуске космического корабля…
– Я вообще считаю, все лучшее, что было в советские времена – это нам досталось от православия. От православного прошлого! – горячо начал рассуждать Васильев. – И это и было в советской системе воспитания. Атеизм, богоборчество – это наносное, гниль… – произнеся эти слова, он чуть споткнулся, вспомнив, что его собеседника они едва ли обрадуют. А ругаться с ним не стоило.
– Возможно, – легко согласился Юрий Иванович. – Но как бы там ни было, что было – то уже прошло. Сейчас другие времена, хорошие ли, плохие ли, но – другие. А заботиться о воспитании молодежи, да и всего населения, нужно. Как и об их безопасности.
– Безопасности? – спросил Васильев.
– Да, безопасности. Сейчас у нас полная религиозная свобода, и это, наверное, хорошо. Но у этой свободы есть и обратная сторона: посмотрите, сколько разных сект ринулось в нашу страну!
Глаза Васильева загорелись яростным огнем, полыхавшим в его душе ревнителя-неофита. Секты! О, их он возненавидел еще до того, как пришел к православию! Все эти «баптисты» и прочие Аум Синрикё, лезущие в Россию!..
– Это огромная опасность! – с чувством сказал он. – Они же людей натурально зомбируют! Люди просто контроль над собой утрачивают! Страшное это дело, сатанинское!
– Согласен, – ответил Юрий Иванович. – А нынешнее законодательство, к сожалению, нас по рукам и ногам вяжет…
– Это точно! Разрешили всякой мрази к нам ехать! Творят что хотят! – в пылу Васильев забылся настолько, что начал перебивать своего собеседника-чекиста.
– Совершенно верно, – вновь согласился Юрий Иванович. – А со своей стороны скажу, что такие секты часто являются прикрытием для работы иностранных разведок. В частности ЦРУ. Ведь под видом гуманитарной помощи могут доставляться самые разные, в том числе и запрещенные грузы. Например, шпионское снаряжение. Сами понимаете, промыть мозги человеку, чтобы он начал заниматься шпионажем, да и вообще чем угодно, хоть терроризмом, такие секты могут…
– Это уж точно! – яростно поддакнул Васильев.
– Для примера, вот, могу рассказать… Хотя это и служебная, в общем-то, информация, – тут Юрий Иванович доверительно улыбнулся. – Секта мормонов. Слышали, наверное, про такую?
– Ну еще бы! – ответил Васильев.
– Ну вот… Мормоны за пределами США, по нашим данным, очень тесно работают с ЦРУ. На протяжении последних полутора лет, когда они стали проникать в Россию, их неоднократно ловили вблизи наших военных объектов. Как бы случайно там оказывались. «Гуляли». Понимаете?
Васильев понимающе, с демонстративной ироничностью ухмыльнулся.
– А сейчас, по нашим данным, они собираются открывать свои представительства в Мангазейской области. На пограничной с Китаем территории, кстати.
Васильев сокрушенно кивал головой, демонстрируя полнейшее понимание.
– Но не только в мормонах дело, – продолжил Юрий Иванович. – К сожалению, есть и Православные Церкви, деятельность которых, так скажем, вызывает вопросы…
– Православные? – удивленно и настороженно переспросил Васильев. Неожиданный переход от мормонов к православным застал его, почти убаюканного рассуждениями об американских сектантах, врасплох.
– Например, Русская Православная Церковь Заграницей, так называемая РПЦЗ, – пояснил его собеседник.
– А, эти! – с презрением, а равно и с облегчением, ответил Васильев. – Но какая же это Церковь! Это раскольники! Безблагодатные раскольники! – твердо завершил он.
– Ну вот видите! – улыбнулся Юрий Иванович. – А говорите: не вам решать! А сами, на самом деле, все-то знаете…
– Простите, не хотел вас… – смущенно промямлил Васильев.
– Нет-нет, Василий Васильевич, все в порядке! – поспешил его успокоить чекист. – Я просто как раз и хотел сказать: вот, сразу видно, когда человек искренне интересуется, разбирается… Все вы правильно говорите.
На несколько секунд возникла пауза. Юрий Иванович отпил чаю и продолжил:
– Вот вы говорите – раскольники. А вы, может быть, в курсе, с кем эти раскольники связаны?
– То есть – с кем связаны? – не сообразив сразу, куда клонит его собеседник, спросил Васильев.
– Я имею в виду, за рубежом связаны… У нас есть все основания полагать, что они тесно сотрудничают с ЦРУ, да и другими разведками блока НАТО, – многозначительно сказал чекист.
– Это да. Знаем, как же! – поддакнул Васильев.
– Религиозные вопросы – это, сами понимаете, не наше дело, – мягко продолжал Юрий Иванович. – Но вот что касается разведдеятельности, да и вообще вопросов безопасности – то это, извините, мы просто так оставить не можем.
Васильев понимающе кивал.
– Поэтому, – продолжал Юрий Иванович, – мы хотели бы попросить вас нам помочь…
– Как? – спросил Васильев.
– Не безпокойтесь, Василий Васильевич. Ничего сложного, ничего страшного! – голос чекиста шелестел мягко и успокаивающе, а его влажные зеленые глаза лучились доброжелательностью. – Вот мы сейчас сидим с вами, общаемся, разговариваем о разных вопросах… Причем ведь видно, что вы в них разбираетесь существенно лучше, чем я…
Васильев чуть опустил голову, смущенный довольно откровенной лестью.
– …А я этими вопросами занимаюсь уже более десяти лет, – внезапно в доселе мягких, убаюкивающих интонациях чекистского голоса промелькнула сталь, заставившая Васильева встрепенуться.
– Собственно, нужно будет вот также периодически встречаться, обмениваться мнениями, – продолжал Юрий Иванович. – Какие-то вопросы я буду вас просить прояснить специально, иногда (это, впрочем, едва ли будет часто) мне может потребоваться ваша помощь… Ну, например, чтобы довести наше мнение до нужного человека. Что вы об этом думаете?
Васильев помолчал несколько секунд. Все было абсолютно ясно: его вербуют. Ему предлагается стать агентом ФСК (совсем еще недавно бывшего КГБ), который будет информировать ФСК о церковной жизни. А иногда и выполнять их прямые приказы. Раньше таких называли сексотами…
С одной стороны, Васильев был морально готов к такому повороту. Времена воинствующего безбожия прошли – по крайней мере, официально утверждалось именно так. Почему бы не сотрудничать с государственными структурами? Тем более что и про секты, и про американскую РПЦЗ (карловацкий раскол!) Юрий Иванович говорил все правильно… «Что же в этом плохого? – спросил себя Васильев и тут же ответил: – Да, в общем, ничего».
Но при этом в голове невольно крутилось все то, что он прочитал в плохо изданных желтоватых брошюрках, которые продавались в иконной лавке Свято-Воскресенского храма: о новомучениках, о тех, кто отказался пойти в услужение чекистам и получил от Господа мученический венец, о безбожной власти, которая даже хуже языческой… И это невольно сдерживало его от немедленного согласия.
– Встречаться, говорить, конечно, можно… – медленно, уклончиво ответил Васильев.
– Хорошо, – мягко ответил Юрий Иванович, как будто бы не заметивший его колебаний. Он запустил руку под стол, вытащил оттуда потертый кейс и извлек из него бумагу, напоминавшую анкету.
– Простая формальность, Василий Васильевич, но, к сожалению, необходимая! – сказал он, положив перед Васильевым эту бумагу. – Если вы согласны с нами сотрудничать, то мы обязаны взять с вас подписку. Вот здесь подпишитесь… Если, конечно, вы согласны.
– Да, в общем, конечно, да… – глухо, почти басом, промямлил Васильев. – Как-то неожиданно только…
Юрий Иванович улыбался все той же тихой, детской улыбкой.
– Я, конечно, не против… А можно мне подумать? – почти умоляюще спросил Васильев.
– Да, можно, – спокойно, так же по-доброму, ответил Юрий Иванович и убрал бумагу обратно в кейс. – Чай будете?
– Да нет, спасибо… – ответил Васильев. – Я, наверное, пойду… Если вы не против?
– Нет, конечно, не против, – сказал Юрий Иванович.
– Я подумаю и сразу же сообщу, – пробормотал Васильев и тяжело поднялся из-за стола. Постояв в нерешительности несколько секунд, он двинулся к двери. И в этот момент чекист, как будто спохватившись, сказал ему вдогонку:
– Да, Василий Васильевич, совсем забыл сказать, а Андрей Николаевич как раз просил по вашему делу, насчет складов. Должен вас предупредить, что там все, к несчастью, развивается очень серьезно: собираются заводить уголовное дело.
– Как… уголовное дело? – Васильев почувствовал, что ноги его подкосились, будто их подрубили. Он развернулся и буквально впился побелевшими пальцами в спинку стула.
– Да знаете, совсем из головы вылетело, забыл сразу сказать. Уголовное дело будут заводить, о хищениях. Насколько я понимаю, оно должно стать показательным – понимаете ли, борьба с воровством и коррупцией в армии…
– Воровством и коррупцией?! – возмущенно, на выдохе переспросил Васильев. – Да какое ж тут воровство с коррупцией?!
– А разве нет? – коротко переспросил его Юрий Иванович. И слова, и взгляд его стали заметно жестче.
– Ну да… То есть… – Васильев окончательно запутался в своих мыслях, по-прежнему судорожно сжимая спинку стула.
– Да, такие дела, к сожалению… Такие дела! – сочувственно промолвил Юрий Иванович. После этого он встал из-за стола, расправил плечи и снова включил старенький металлический электрочайник.
Повисла пауза. Юрий Иванович снова сел за стол и как будто на минуту совсем забыл о своем госте. Васильев же продолжал стоять.
– Такие дела, – вновь отрешенно произнес чекист. – Там, насколько я знаю, все уперлось именно в эту «показательность». Хотят реального наказания, суда, возможно, даже не условного приговора. Судом чести, к сожалению, там явно не закончится…
– Вы… можете мне помочь? – спросил Васильев.
– К сожалению, мы далеко не всесильны… Да и времена сейчас не те!.. – с некоторой мечтательностью произнес Юрий Иванович и вдруг продолжил резким, деловым тоном: – Но кое-что мы еще можем. Только сами понимаете, не я лично или Андрей Николаевич. Помочь мы можем, так сказать, на ведомственном уровне. А на этом уровне мы в таких вопросах помочь можем только своим.
Васильев понял, что попался.
– Я согласен, – ответил он.
– Очень хорошо, – сказал Юрий Иванович, вновь поднырнул под стол, вынул кейс, а из кейса – все тот же листок и пишущую ручку.
Васильев дрожащей рукой поставил свою подпись. Юрий Иванович, наблюдавший за ним уже почти отеческим взглядом, произнес:
– Да не волнуйтесь вы так, Василий Васильевич! Все хорошо. А насчет этого дела со складами – забудьте. Главное, сами сейчас поводов не давайте – понимаете меня?
Васильев кивнул. Подразумевалось: по крайней мере сейчас, накануне выхода в отставку, не тащите из части все, что не приколочено.
– Ну и замечательно. Дослуживайте себе спокойно и становитесь священником. У вас для этого все данные есть, – последние слова прозвучали чуть насмешливо. Но возможно, что будущему благочинному это только показалось. Он снова с готовностью кивнул.
– Может, мне вам телефон оставить, на всякий случай? – выпалил он и тут же понял, что сказал глупость.
– Да не надо, – вяло отмахнулся Юрий Иванович. – Он у меня уже есть. А вот вы мой запишите, – тут он продиктовал номер. – На всякий, как говорится, пожарный, – и тут чекист снова улыбнулся своей детской улыбкой.
Выпив чашку чая, майор Васильев попрощался с ним (Буянова он так и не дождался) и пошел к машине. Чувствовал он сейчас себя гораздо более уверенно, чем несколько часов назад: ревизия складов ему более не угрожала. И руки уже почти не тряслись.
* * *
Через два месяца майор Васильев вышел в отставку. У него была хоть и небольшая, но все-таки воинская пенсия. К тому же Владыка Пахомий объявил ему, что намерен его рукополагать – и действительно рукоположил на Святках. Причем где-то с октября его отношение к Васильеву переменилось. Вообще Пахомий ругался часто и много, не брезгуя иногда и матом, причем объектом его ругани было преимущественно духовенство. В частности, именно поэтому, как единодушно предполагали все кафедральные клирики, он облачался перед службой в алтаре, скрытый от глаз прихожан иконостасом, а не на середине храма (как положено по церковному Уставу).
– Идиоты! Дебилы! – величал своих священников Пахомий, наматывая на руки шнуры от поручей и пинками и ударами локтей отгоняя тех попов, кто в тесном пространстве маленького алтаря старого Свято-Воскресенского храма имел неосторожность оказаться слишком близко к его монументальной фигуре.
Предположение о том, что Владыка стесняется прихожан, хотя и было естественно, но имело явный логический изъян: в иных ситуациях наличие прихожан никак Пахомия не сковывало.
– Ты что буровишь, мать твою?! – разносился архиерейский рык из приоткрывавшихся диаконских врат, когда хор (тогда еще во многом самодеятельный и необученный) допускал очередную ошибку. Подобные замечания время от времени звучали под сводами храма, и духовенство, а равно и постоянные прихожане, к ним давно привыкли (хотя тех, кто сталкивался с этим впервые, подобный стиль шокировал).
Но вот Васильева почему-то Пахомий ни дебилом, ни идиотом не называл. И вообще не ругал – ни приватно, ни прилюдно. Держался с ним, сначала и вовсе простым алтарником, а потом священником, совершенно ровно. Благодарил очень скупо, но и замечаний почти никогда не делал. После рукоположения оставил его при Свято-Воскресенском храме в качестве еще одного попа – в основном для служения треб. При этом, если других клириков он иногда вызывал по разным делам к себе, то отец Василий за все то время, что Пахомий находился на мангазейской кафедре, порог его кабинета переступил буквально несколько раз. И с октября 1994 года до самого отъезда Владыки у него с ним не было почти ни одного сколько-нибудь продолжительного разговора.
Другие священники – в основном, еще молодые – терялись в догадках: что бы значило столь необычное поведение их архипастыря? Тем более что раньше он с Васильевым общался так же, как и со всеми остальными пономарями. Некоторые думали, что случившаяся перемена – следствие каких-то особых отношений, вдруг возникших между новым клириком и архиереем, поначалу даже поговаривали, что он намерен его «двигать» по карьерной лестнице. Однако с чего бы взяться особым отношениям, никто предположить не мог. Дежурная среди недоброжелателей версия о гомосексуальной связи явно не работала – Пахомий подобных наклонностей не имел, и это было слишком очевидно даже для недоброжелателей. Так братия-сослужители и терзались разными догадками вплоть до отъезда Владыки.
Сам же отец Василий сообразил достаточно быстро, в чем дело. Правда, сообразить было значительно легче, чем признаться себе в этом… Пахомий был старым архиереем, сделавшим церковную карьеру еще в советское время. Уровень его знакомств, а стало быть, и уровень информированности был весьма значителен. В бытность свою архимандритом и преподавателем Духовной семинарии в Одессе он перезнакомился не только со многими епископами РПЦ МП, но даже и с зарубежными богословами и архиереями. В те времена власти старались лишний раз не пускать в Москву церковные делегации, прибывавшие в СССР из-за рубежа. Не то чтобы от этого мог быть какой-то ущерб даже и с советской точки зрения – скорее из принципа. Мол, знайте свое место! Поэтому делегации везли на юг – в Одессу, где было море, вино и фрукты и где можно было организовать достойный прием.
За время своего служения Пахомий видел очень многое и научился многому. Да и не только за время служения – ведь рос-то он в священнической семье, и времена антицерковного террора и сталинских концлагерей его родители помнили прекрасно. Они могли рассказать многое, очень многое – и рассказали. Потому огромный личный опыт, в сочетании с природной интуицией, позволял Владыке Пахомию видеть то, что другим людям было незаметно.
«Почуял сексота», – как-то признался сам себе Васильев, в очередной раз задумавшись о необычном поведении архиерея. Для всех остальных он был обыкновенным молодым попом, не лучше и не хуже. Но у Пахомия сработал его внутренний радар: он безошибочно засек чекистского информатора. И далее стал действовать по оптимальной для архиерея советских времен схеме. Гнобить сексота он не стал – по двум причинам. Во-первых, это безполезно (все равно кого-то зашлют или завербуют, всех не загнобишь), во-вторых – небезопасно (епископ, который не хочет присутствия вблизи себя людей из госбезопасности, становится крайне подозрительным в глазах госбезопасности). Но, демонстративно не трогая и вообще никак не задевая завербованного попа, он постарался от него отдалиться. Как говорится, от греха.
Подобного рода чутье и навыки неизбежно вырабатывались у всех или почти у всех епископов и старых священников советского времени – за вычетом, разумеется, тех, кто сам работал на КГБ. У Пахомия, несмотря на его буйный и несдержанный нрав и любовь к выпивке, «внутренний радар» работал по-прежнему безупречно, а чекистские капканы он чуял лучше, чем старый волчище чует капканы обычные. Молодые священники, рукоположенные уже после 1991 года, такими способностями не обладали, и именно поэтому никто из клириков Свято-Воскресенского храма, за исключением самого отца Василия, не смог разгадать, почему их архипастырь в отношении одного-единственного попа повел себя столь странно…
Странности закончились только тогда, когда Пахомий покинул Мангазейск. Новый архиерей, Владыка Евграф, не обладал чутьем своего предшественника и вскоре приблизил к себе отца Василия, сделав его благочинным Мангазейского округа. Что устраивало все заинтересованные стороны.
Глава 4 Один берется, а другой оставляется
В начале десятого вечера в трапезной Свято-Иннокеньтевского храма было необычно тихо. Особенно шумно здесь, впрочем, никогда не было – отец Василий старался соблюдать монастырские нормы, и поэтому во время приема пищи слышался лишь стук ложек да ровное чтение какого-нибудь жития. Но сейчас тишина была особая: всех работниц и работников, трудившихся на кухне, либо отпустили домой, либо попросили в трапезную не заходить. Двери были заперты, и за длинным столом, покрытым старенькой клеенчатой скатертью, сидели только отец Василий и отец Ярослав Андрейко. На благочинном, несмотря на летнюю жару, поверх подрясника была наброшена черная ряса с желтым («золотым») крестиком сверху. Отец Ярослав был одет попроще – в серенький летний подрясник.
– Отец Ярослав! Ты прости, но говорить буду прямо! – решительно, с резкостью ружейного экстрактора, начал благочинный. – Твоя семейная ситуация ни для кого секретом не является. Идет смущение. Владыка Евграф на это глаза закрывал, но новый епископ уже не будет.
Андрейко слушал отца Василия молча, с каким-то расслабленным, обреченным спокойствием. Казалось, резкие, даже обидные его слова никак не задевали отца Ярослава. Он не пытался прервать благочинного и даже никак не показывал, что ему все это слышать неприятно.
– Сам понимаешь, мне от этого удовольствия никакого… Но мне нужно будет что-то архиерею докладывать, – продолжал отец Василий. – Сам понимаешь, я обязан. Что мне говорить-то?
Отец Ярослав неохотно, но мягко ответил:
– Что? Не знаю… Вам, вероятно, виднее…
– Послушай, отец Ярослав! – Васильев стал говорить чуть тише, и в голосе его появились доверительные интонации. – Понимаю я тебя. Очень хорошо понимаю. Сам ведь разведенный… Ну неужели ты не можешь эту свою… жену на место поставить? Ну будь мужиком, ну если она тебе изменяет открыто, разведись! Нельзя так.
– Да она сама со мной разводиться собирается, – так же мягко, беззлобно ответил отец Ярослав.
– А, вот как! – отвечал отец Василий. – Ну что, это выход… Какой ни есть. Ты извини, конечно, – спохватившись, сказал он отцу Ярославу.
– Ничего, вы все правильно сказали: именно выход, – отвечал тот.
– Только тут еще один момент… – деликатность темы была такой, что слегка запнулся даже отец Василий. – Насчет этой девушки… Наталья, кажется?
Андрейко тихо вздохнул, впервые позволив себе выразить легкое недовольство течением разговора. Не произнеся ни слова, он кивнул, давая понять, что – да, Наталья.
– Ты прости, но я должен тебе сказать. Об этом тоже слишком много слухов ходит. Тоже смущение, – отец Василий, уцепившись за слово «смущение», продолжил уже с обычной твердостью и резкостью: – Так что и этот вопрос нам надо как-то закрыть.
– Понимаю… – неопределенно ответил Андрейко.
– Что делать будем? – строго спросил его благочинный.
– Я вас понял, отец Василий, – ответил ему Андрейко, и в его голосе уже не было равнодушия. – И я разберусь…
Благочинный посмотрел на него испытующим, ехидным взглядом.
– Вот и хорошо, – сказал отец Василий. – Решай со своей женой, и с этой… с Натальей. Если все уладишь как надо, я доложу Владыке, и все устроится.
«Вот как мы заговорили, – подумал отец Ярослав. – Новый архиерей на кафедре без году неделя, а этот себя уже в фавориты записал. Все, значит, у нас теперь будет устраиваться по его докладу… А впрочем, может, так оно теперь и будет».
– Дело это у тебя подзатянулось – уж прости, говорю прямо, – продолжал отец Василий. – Времени на то, чтобы все решить, у нас немного. Сколько тебе надо?
– Чего? – не понял Андрейко.
– Времени.
– Два дня, – ответил отец Ярослав.
– Хорошо, – удовлетворенно кивнул отец Василий. – Послезавтра вечером я тебе перезвоню. Даст Бог, у тебя все уже наладится…
Тут благочинный позволил себе улыбнуться и даже предложил отцу Ярославу чай. Тот не стал отказываться. Поскольку конфиденциальная часть разговора завершилась, двери в трапезную были отворены, и вскоре зашумел чайник, а на столе появилось нехитрое угощение – печенье и сгущенка. Вместе с ними появилась и Лидия Марковна, староста Свято-Иннокентьевского прихода и (естественно!) доверенное лицо отца Василия.
– Батюшка! Благословите! – обрадованная, и даже искренне, визитом отца Ярослава, она подошла к нему под благословение.
– Бог благословит, – тихо ответил ей Андрейко, благословляя. Руку для целования, впрочем, не дал – несмотря на то что это было нарушением церковного устава. Но он за все время священнического служения так и не смог привыкнуть к тому, чтобы другие люди целовали его руку. Лидия Марковна же наоборот, лобызать поповские руки любила, особенно если речь шла о тех священниках, которых она уважала. Отца Ярослава она как раз уважала и любила. И даже высказала ему легкое неудовольствие:
– Что ж вы, батюшка, ручку-то не даете!
Андрейко тихо, устало улыбнулся, ничего не ответив. Затем начались обычные расспросы о храме, о приходской жизни и т. п. Обыкновенно отец Ярослав, как и почти любой священник, ничего не имел против таких разговоров – наоборот, любил поболтать (да и о чем еще говорить попу, как не о своем приходе!). Но сейчас он отвечал рассеянно и невпопад. Ибо мысли его сейчас были о другом.
Меж тем раздался скрип двери и через несколько секунд на пороге трапезной возникла Наталья Юрьевна с намотанным на голову полупрозрачным синтетическим платком, в летнем женском пиджачке, голубоватой длинной юбке и с потертой толстой папкой в руках.
– Благословите! – довольно громко сказала она, глядя на отца Василия большими и мутноватыми глазами из-за толстых стекол очков.
– Я пойду, наверное… – сказал отец Ярослав благочинному. Тот кивнул:
– Хорошо бы, конечно, еще поговорить. Но вон, видишь, Наталья Юрьевна приехала. Нам Наталью Юрьевну ждать заставлять нельзя! – с игривой издевочкой ответил отец Василий.
Андрейко улыбнулся, поздоровался на ходу с Натальей Юрьевной (которая ему едва кивнула), и пошел к выходу. Для себя он уже все решил: каков бы ни был сам отец Василий, но он прав: слишком все затянулось. И покончить с этим надо как можно быстрее.
Выйдя из храма на прожаренную летним солнцем улицу, он быстро перешел через дорогу, к троллейбусной остановке. Несмотря на сравнительно позднее время, он решил немедленно же съездить к той девушке, которую благочинный неласково назвал «этой Натальей». Позднее время, впрочем, помехой не было: она готова была принять его в любой час.
* * *
Отец Игнатий хотя и был самым близким другом отца Ярослава, но все же не являлся единственным человеком, в чьем обществе последний искал хоть какого-то успокоения после начала медленного распада собственной семьи. Как и всякий человек, которому его дом стал неприятен, Андрейко стал часто бывать у своих знакомых, среди которых было немало местной православной интеллигенции. Ему, в свою очередь, рады были везде. Ибо все единодушно считали его человеком прекрасно образованным, легким в общении и вообще очень приятным.
Прошло уже более четырех месяцев после того, как состоялось его откровенное объяснение с собственной женой. На дворе стоял октябрь, номинально второй месяц осени, в Мангазейске же бывший первым месяцем зимы. Дни были уже очень коротки, вечера – темны, и в один из таких темных вечеров он находился в гостях у знакомой преподавательницы местного университета. На кухне, освещенной желтыми лампочками накаливания, за не особо изысканным столом собралась обычная компания: сама преподавательница, пара ее студенток, Шинкаренко (неизменный участник таких сборищ) и отец Ярослав. Присутствие Шинкаренко за столом делало неизбежным присутствие водки на столе. Каковую водку и пили, обсуждая разные церковные сплетни и сплетни университетские.
– У Александрова сейчас новая идея: мемориальные доски! – возбужденным, громким голосом рассказывала преподавательница. Михаил Васильевич Александров был проректором по научной работе Мангазейского университета, доктором исторических наук и археологом. В городе он числился среди очень уважаемых людей, по той простой причине, что много лет преподавал там на истфаке. Исторические факультеты в советский период были факультетами идеологическими, и значительная часть местной комсомольской и партийной «головки» была выпускниками местного же истфака – и учениками Александрова. Археологическая юность, с романтикой работы в раскопах, тушенкой и гречкой, сваренной на костре, со студенческими любовными приключениями и первыми венерическими заболеваниями оказалась для многих местных управленцев одним из самых светлых периодов в их серой и несуразной жизни. А профессор Александров был живым олицетворением этой солнечной юности и потому воспринимался ими и как учитель, и как воплощение всего «самого светлого», и вообще был в их глазах этакой местной совестью общества. Совесть общества это прекрасно осознавала и регулярно этим пользовалась: личное влияние Михаила Васильевича было в Мангазейске весьма значительным.
Александров был атеистом, и достаточно агрессивным: как и очень многие советские либералы, он искренне не понимал, как можно допускать какую бы то ни было религиозную активность за пределами храмов. Местную епархию при Пахомии он просто не замечал (да и сам Владыка Пахомий проводил своего рода изоляционистский курс, избегая контактов за пределами церковной среды без острой необходимости). Но вот с прибытием в Мангазейск Преосвященного Евграфа позиция Александрова радикально поменялась.
Евграф был епископом. Что в глазах Михаила Васильевича являлось огромным минусом. Но Михаил Васильевич был не просто атеистом и либералом – он был советским атеистом и либералом. А Владыка Евграф был выпускником МГИМО и сыном генерала КГБ, то есть по рождению и воспитанию принадлежал к советской аристократии. У Александрова, как у советского Бонасье, всего-навсего буржуа, которому удалось лишь приподняться над общей серой массой, при слове «МГИМО» перехватывало дыхание. Чувство сословного превосходства Евграфа над ним, которого в СССР и на пушечный выстрел бы к МГИМО не подпустили, заставляло профессора Александрова относиться к новому архиерею как минимум почтительно.
А Владыка Евграф, сам будучи человеком хорошо образованным и тяготевшим к интеллигенции, смог установить с Михаилом Васильевичем доброжелательные и даже дружеские отношения. Так профессор-атеист стал частым гостем в местном Епархиальном управлении и даже начал участвовать с Мангазейской епархией в общих проектах. По той же причине сплетни об Александрове стали частью единого корпуса епархиальных сплетен и давали обильнейшую пищу для застольных бесед православных преподавателей местного университета и духовенства.
– По случаю чего мемориальные доски? – осведомился Шинкаренко, разливая водку по рюмкам и стаканам.
– Случай не важен! Важно, что нужно вешать доски! В честь всяких там просветителей, каких-нибудь заслуженных забытых преподавателей…
– Заслуженно забытых, – вставил Шинкаренко, наполняя свой стакан.
В очередной раз раздался взрыв смеха. Со всеми смеялся и отец Ярослав. Но при этом он обратил внимание на одну студентку, присутствовавшую тут же. Роста она была невысокого и выглядела очень мило. Наряд был обычный, девическо-студенческий – так, кофточка-юбочка. Черты лица были правильными и потому красивыми; то, что со временем могло стать недостатком внешности, пока что, как плащом-невидимкой, покрывалось ее молодостью. В отличие от других девиц, которые тянулись к Шинкаренко (штатному джентльмену и дамскому угоднику в епархиальных и околоепархиальных кругах), она держалась несколько обособленно, но и не скованно. Видно было, что и люди, и разговоры их ей интересны, но несколько тяжелое, пропитывавшееся водочными парами веселье начинает ее утомлять. Это было созвучно тому, что чувствовал сам отец Ярослав. И это также вызывало симпатию.
Наконец вечер завершился. Маршрутки давно не ходили, время же было поздним, и те, кто жил далеко, начали соображать, кому в какую сторону двигаться, дабы скинуться на такси. Тут выяснилось, что сторона у отца Ярослава и у той симпатичной молчаливой девушки, которую он невольно выделил среди всех присутствующих, одна. Так они оказались вместе в одном такси. Разговора, однако, не получилось: Андрейко отнюдь не хотел играть роль очаровательного светского собеседника, а девушка была молчалива. Но при этом Ярослав чувствовал, что это не то отчужденное молчание, которое обычно возникает, когда человека вынуждены терпеть рядом буквально из последних сил, а молчание иное, доброжелательное. Так молчат тогда, когда без слов все ясно и потому хорошо. Он много лет прожил в браке, но подобное ощущал впервые. И сейчас это новое, сильное чувство буквально подавило его – подавило настолько, что вплоть до того момента, когда колеса такси заскрипели напротив подъезда, где жила Наталья, Ярослав не произнес ни слова. Наконец, понимая, что это радостное, ликующее молчание, к сожалению, обрывается и дальше все-таки нужно что-то сказать, он произнес:
– Давайте я вас провожу! А то тут у вас темно…
– Не надо, – ответила девушка, – тут же рядом.
Водитель, персонаж не вполне определенного возраста со следами многолетней алкогольной интоксикации на небритом лице, с грациозной безтактностью влез в разговор:
– Да вы вон, когда подниметесь, светом поморгайте, мы и увидим…
– Как это: поморгать? – с легким раздражением спросил Андрейко.
– Ну это, включить-выключить!.. Вы на каком этаже живете? – обратился таксист к девушке.
– На восьмом. Вон мои окна, – она показала рукой, какие.
– Может, мне все-таки вам позвонить потом? – спросил Андрейко и тут же мысленно выругал себя за этот неуместный, мальчишеский вопрос. «Как подросток!» – пронеслось в голове.
– Не надо, – ответила Наталья. – Я сама вам позвоню. Напишите телефон, – и она на удивление быстро, почти мгновенно достала из своей женской сумочки листок бумаги. Ярослав торопливо написал свой номер.
Так состоялось их знакомство. И она действительно позвонила, и в ближайшее воскресенье, произнося отпуст с амвона своего храма, он увидел ее, в бордовой зимней куртке, стоящую у самого входа. С этого времени их общение началось и более не прекращалось.
Виделись они не очень часто, но регулярно. Иногда она тихо, не привлекая к себе внимания, появлялась у него в храме. Иногда он заглядывал к ней, в то место, которое она называла домом – в комнату в общежитии, которую она снимала и вследствие этого не должна была делить с кем-то еще. Благодаря этому обстоятельству Ярослав мог гостить у нее столько, сколько хотел – что он и делал.
Наталья стала для него открытием. Совсем еще молодая, очень тихая и скромная девушка, она умела быть твердой и даже храброй. Ярослав чувствовал, что полюбил – полюбил по-настоящему впервые, полюбил взаимно. Но едва ли он осмелился бы свалиться в смерч новых и явно безнадежных отношений, если бы не удивительная смелость Натальи, его Наташи, которая умела сочетать эту смелость с не менее удивительной женственностью.
Она кое-что знала о канонических нормах и требованиях церковного устава. А то, чего не знала, Ярослав ей рассказал, ничего не утаивая. Ей было известно, что он женат, пусть и более чем неудачно. Знала она также и то, что священник второй раз жениться не может и что Ярослав, если перед ним встанет выбор, предпочтет священство, а не ее. Также она понимала, что рано или поздно этот выбор ему делать придется.
То есть, коротко говоря, они оба осознавали: в конечном счете ничего, кроме боли – возможно, самой сильной боли, которую они когда-либо испытывали – им эти отношения не принесут.
– Наташенька, неужели тебе это нужно? – спросил Ярослав.
– Да, – ответила она. И более таких вопросов они друг другу не задавали.
С тех пор она стала для него самым близким человеком – во всех смыслах, в том числе и в том, в каком бывают близки мужчина и женщина.
Наталья была очень тактичной девушкой и довольно смиренно переносила свою роль – роль любовницы (хотя никто и никогда ее так не называл, но свой реальный статус она оценивала верно). Именно поэтому на приходе она появлялась нечасто, а если и появлялась, то в самом конце службы, и с отцом Ярославом старалась слишком долго не беседовать. Однако ее присутствие вскоре начала отмечать законная жена священника, Елена. К тому же долгие телефонные разговоры, которые он вел с Натальей, от нее укрыться не могли – ибо жили они по-прежнему в одной квартире.
Какое-то, весьма непродолжительное время она демонстративно не замечала этих отношений. Однако хватило ее ненадолго. И в один из тех редких вечеров, когда отец Ярослав был дома, она решила с ним об этом поговорить.
– У тебя что, какие-то отношения с этой девушкой? – услышал Андрейко. Накануне он купил новую книгу одного известного диакона-публициста и теперь сосредоточенно ее читал. Потому появления своей законной супруги он не заметил.
Лена стояла в дверном проеме, уперев одну руку в бок и выставив вперед грудь. В другой руке была зажата тряпка для мытья посуды.
– А это имеет какое-то значение? – вопросом на вопрос ответил Ярослав.
– Да нет, – Лена постаралась интонацией продемонстрировать крайнее безразличие. Как всегда в таких случаях, получилось ровно наоборот.
– А если нет, так что же ты спрашиваешь? – снова спросил Ярослав.
– Да так… Под одной крышей все-таки живем, интересно просто… – Лена начала мять тряпку в руке. Нелепость ситуации становилась слишком явной и очевидной.
– Даже если и есть, тебе-то какое дело? – раздраженно сказал Ярослав.
– Да никакого! – также раздражаясь, ядовито ответила Лена. – Просто как ты там говорил: православный священник, в одном браке…
Несколько секунд Ярослав смотрел на нее молча: на лицо, перекошенное демонстративной усмешкой, на тряпку, которую Лена начала судорожно мять, на упертую в бок руку, на выставленную вперед грудь… И вдруг понял, увидел совершенно отчетливо: несмотря на свой затяжной роман с Вадимом, несмотря на свою наглую, демонстративную измену, несмотря на то, что она уже давно его буквально в упор не видела – она его ревновала!
Эта ситуация показалась ему настолько нелепой и смешной, что он улыбнулся и тихонько, совершенно беззлобно, рассмеялся. Лену же этот смех взъярил: ничего не сказав, она резко выдохнула носом и вышла из комнаты.
А вскоре поползли слухи о том, что отец Ярослав Андрейко завел себе любовницу. Елена посчитала нужным рассказать о случившемся своим подругам и знакомым – не столько даже из ревности или злобы, сколько из расчета переключить внимание с ее собственных похождений на стороне на похождения своего мужа. Вадим Челышев также поучаствовал в распространении этой информации – по тем же соображениям. Очень скоро она дошла до приходских бабок Мангазейска.
Церковные сплетницы вцепились в этот инсайд, как стая гиен вцепляется в полусгнивший труп – жадно и мертвой хваткой. Отныне личная жизнь отца Ярослава, и без того бывшая мучительной, стала предметом всеобщего обсуждения, а для него обернулась сущей пыткой.
Он видел, что он запутался, и запутался крепко. Он винил себя за то, что ему не хватило ни страха Божия, ни силы воли удержаться от внезапно обрушившейся на него любви. При этом он понимал: шансов удержаться не было практически никаких. Одиночество, безбрачие – это не для него. Ведь он никогда не хотел быть ни целибатом, ни монахом, себя он видел именно женатым священником. Однако предыдущий брак рассыпался не по его вине и восстановить его было невозможно. Но оставаться одному?.. Он знал себя и знал, что он не сможет. Поэтому появление Натальи – появление в тот момент, когда он был раздавлен крушением своей семьи – было своего рода роком. Встретив ее, он не мог от нее отказаться.
Но как поступать дальше? Если бы Ярослав был неверующим – а он, как и всякий воцерковленный человек, не раз встречал неверующих священнослужителей – то ему было бы легче. Замаскировать свои отношения с Натальей было не так уж и сложно. Например, можно было бы сделать так, чтоб она вообще не попадалась на глаза общим знакомым. А можно было наоборот, максимально приблизить ее к себе, посадить в свечную лавку, научить экстатически закатывать глаза и говорить несколько благочестивых фраз – и никто бы ничего не заподозрил. А приходские старушенции еще бы и восхищались «верующей девочкой» и «добрым батюшкой», который «вон, какой хороший, заботится о бедняжке».
Но отец Ярослав так не мог. Ибо он действительно веровал и органически не мог цинично и расчетливо дурить головы своим прихожанам. Потому их с Натальей связь рано или поздно должна была стать очевидной для всех. Благодаря слуху, который распустили жена отца Ярослава и Вадим, это произошло несколько раньше, но это произошло бы в любом случае.
Теперь же отец Ярослав ощущал, что он постоянно находится в фокусе общеепархиального внимания. Кто-то смотрел на него с жалостью и сочувствием, но таких было очень мало. Большинство же примешивали к жалости ледяное презрение: мол, что ж ты за поп такой, как до этого докатился и т. д. А многие, хотя и думали, что жалеют или же, наоборот, осуждают, на самом деле не жалели и не осуждали, а просто развлекались. Ведь теперь появился не просто даже человек, а целый священник, которого можно безконечно обсуждать, шушукаться у него за спиной, понимающе перемигиваться, когда он попадался на глаза – словом, отец Ярослав оказался очередной игрушкой, чрезвычайно подходящей для морально-психологического избиения.
И горше всего было от осознания того, что несмотря на все оправдания и все извиняющие обстоятельства, он это, так или иначе, заслужил…
Было также ясно и другое: сплетшийся узел развязать было невозможно, его можно было только разрубить. Однако собственных сил для этого у отца Ярослава не имелось – слишком уж мрачна и безпросветна стала его жизнь, чтобы самому, своими руками закрыть то единственное световое окошко, которым стала любовь к Наталье.
И вот теперь произошло неизбежное: вмешался благочинный, а жена, наконец, запросила развод. И выбор стал предельно ясен: либо Наталья, либо священство. И для отца Ярослава, с ранней юности мечтавшего о службе у алтаря Господня, всю свою сознательную взрослую жизнь бывшего священнослужителем, не могло быть сомнений: он выбирал священство.
* * *
Старый троллейбус, вихляя, плавно разгонялся после каждого светофора и так же плавно тормозил перед остановками. Привычные картины за окном, привычно выглядящие люди, привычные летние запахи: запах горячего от солнца ржавого металла, фанеры, тяжелый дух пропотевших тел (по счастью, пассажиров было не так много)… Как всегда, кто с неодобрением, кто, наоборот, с почтением, но все – удивленно смотрят на его летний серый подрясник. Обычно отец Ярослав избегал появляться в общественных местах в подряснике или тем более в рясе. Сказывалось старое, советских времен воспитание: тогда священнослужитель в одежде, приличествующей его сану, мог ходить только в церковной ограде. Ряса, которую советское государство милостиво терпело на ступеньках церкви, в нескольких шагах от них превращалась в административное преступление, за которое можно было получить до пятнадцати суток ареста – эта мера применялась не всегда, но все же применялась. И духовенство привыкло к тому, что подрясник после богослужения либо оставался в ризнице, либо же сворачивался и убирался в пакет или чемодан; а сам батюшка, «как нормальный советский человек», вливался в общий поток пешеходов в пиджаке или в куртке.
После 1991 года все эти ограничения были отменены, однако отец Ярослав, воспитанный старым, советским священством, вполне перенял его обычаи и по улицам города ходил в обычной гражданской одежде. Но сейчас ему было не до выбора гардероба. Он понимал, что завязавшийся узел нужно рубить как можно быстрее и решительнее, иначе потом у него просто не достанет душевных сил.
И вот знакомая остановка – троллейбус с его потными и любопытными пассажирами уезжает дальше – и знакомая, много раз уже хоженая дорожка, состоящая из асфальтовых заплаток и песка. Общежитие располагалось на окраине города, почти посреди поля, заросшего полынью, и до него еще нужно было дойти. А окна той комнаты, в которой жила Наталья, как раз выходили на троллейбусную остановку. Когда Ярослав приезжал, предупредив ее заранее (а он почти всегда ее предупреждал), он неизменно видел в окне ее силуэт. Летом, когда светло допоздна, это была светлая, как будто серая из-за висевшего на окне тюля, фигура – которая тут же начинала махать рукой, когда он выходил из троллейбуса. Зимой, когда темнело рано, это был черный силуэт на фоне неяркого желтого света, который источала единственная лампа, висевшая под потолком. Ярослав очень любил смотреть, как она машет ему рукой из своего окна, любил эти несколько минут, пока он шел от остановки к подъезду, когда столь ясно и столь отчетливо ощущалось, что он идет к действительно любимой и любящей его женщине.
Сейчас он шагал быстро и торопливо, не поднимая глаз. «Да и не ждет она меня», – подумал он, но глаза все-таки поднял. И с удивлением обнаружил, что Наташа и в этот раз была у окна и, как обычно, не отрываясь смотрела на него. Он остановился и неловко улыбнулся. В ответ она помахала рукой – тоже как будто неловко. Ярослав пошел дальше.
На первом этаже, как и полагается в общаге, находился КПП. Иногда там никого не было и его удавалось благополучно проскочить, иногда – нет. В этот раз случилось именно последнее.
– Вы куда? – громко, визгливым и одновременно скрипучим голосом спросила его вахтерша, когда он попытался ее «не заметить».
– На восьмой этаж… – ответил Ярослав.
– Куда?
Он назвал комнату и фамилию.
Вахтерша склонилось над журналом посещений и стала сосредоточено записывать полученные данные. Но где-то на середине этого процесса прервалась, и подняла на него свой остренький, усиленный толстенными линзами очков взгляд:
– Вы верующий? – спросила она так громко, что ее, наверное, услышали как минимум в половине комнат первого этажа.
«Вот тебе дело!» – с горечью подумал Ярослав и ответил коротко:
– Да.
Вахтерша снова уткнулась в журнал. Наконец, дописав все, она милостиво разрешила ему пройти.
Лифт, по обычаю, не работал. Отец Ярослав волновался, и подъем на восьмой этаж, вкупе с летней жарой, заставил его попотеть. Дверь в комнату Натальи была приоткрыта – как и всегда, когда она его ждала.
Ярослав почувствовал, что у него немного перехватывает дыхание – и отнюдь не от подъема по лестнице. Вот еще несколько шагов – и он должен будет сказать ей то, что должен сказать. Что на этом – все. Конечно, она не закатит истерики… Ну или скорее всего, не закатит… А может, и закатит… Но какая разница? С истерикой или без нее, здесь и сейчас, он со всем этим покончит. Он будет верен своей священнической присяге. Он… Он будет жить без нее. Он. Жить. Без нее.
– Привет! – как всегда, на пороге Наталья его обняла и поцеловала. Он тоже неловко обнял ее.
– Привет, – ответил он тихо.
– А я не ждала, что ты приедешь. То есть ждала. Почему-то думала, что ты приедешь.
– Правда? – так же тихо и несколько смущенно спросил он.
– Да. А впрочем, я тебе соврала: я знала, почему. Соврала потому, что волнуюсь…
Стало совсем тяжело. В книжках, конечно, очень много написано про то, что любящие люди чувствуют друг друга даже на расстоянии. И среди этих книжек есть не только сентиментальные романы, но и святоотеческие труды. И то, и другое Ярослав читал. Но вот теперь он, священник, прослуживший уже более десяти лет, сотни, если не тысячи раз принимавший исповедь, кажется, впервые с этим столкнулся.
– Волнуешься?.. Я тоже, мне тебе надо кое-что сказать… – Ярослав приготовился произнести самые важные и самые тяжелые слова.
– И мне тоже! – перебила его Наталья. Она вновь подбежала, почти подскочила к нему, обняла и сказала на ухо:
– Славушка, я беременна!
– Ты? Беременна? – переспросил Ярослав. Нервное напряжение внезапно обернулось разлившимся по всем мышцам расслаблением, и он присел на край стоявшей тут же кровати. После нескольких секунд ошеломления в голове лихорадочно стали мелькать мысли.
– Но как? – начал быстро спрашивать он. – Ведь я же… Или от кого?
Наталья отшатнулась от него. Ярослав почувствовал, что в этом движении был даже не гнев и не порицание, но скорее ужас.
– Как от кого? Неужели ты…
Он схватил ее за руку и поцеловал ее холодные пальцы.
– Прости! Я не хотел… Да, от меня, конечно… Просто помнишь, я ведь тебе, кажется, рассказывал…
Наталья осторожно вынула свою ладонь из его судорожно сжавшейся руки.
– Да, Славушка, ты говорил: про жену, про то, что ты не можешь иметь детей. Но я беременна, и забеременеть могла только от тебя, – тут он почувствовал в ее голосе слезы, и дальше уже не мог удержаться от того, чтобы обнять ее.
– Значит, можешь! – уже сквозь слезы говорила, а вернее, кричала она. – Значит, это Богу угодно! Почему ты вообще решил, что не можешь?
«Действительно, почему?» – задумался Ярослав. И только тут, впервые за много лет, его осенило: никаких оснований считать именно себя безплодным у него не было. Да, у них с Еленой нет детей. Но почему, собственно, следует думать, что дело в нем, а не в Лене? Ведь за все это время ни одного медицинского обследования он так и не прошел. А то, что у Лены когда-то дети были, а от него она родить не смогла, еще ничего не означает. Могла ли Наталья ему изменить?..
– Я все понимаю, – чуть более твердым голосом продолжала Наташа. – Я ничего от тебя не требую… Просто… Просто чтобы ты знал!.. – тут она наконец разрыдалась.
«Что ж, я должен был решить проблему, и она и решилась», – подумал Ярослав. Он усадил Наталью рядом, на ее кровать, бывшую, кроме стула, единственным местом для сидения в ее комнате.
– Моя жена хочет со мной развестись, – сказал он. – Да и давно пора.
Наташа кивнула, вытирая маленьким скомканным платочком слезы.
– А я… Я женюсь на тебе, – завершил он.
Наташа удивленно посмотрела на него:
– Женишься?..
– Ну, если ты не против, – Ярослав впервые за несколько дней искренне, тепло улыбнулся.
– Нет, конечно, – ответила она. – Но ведь ты же не можешь? Ты же не сможешь быть священником?
Ярослав вздохнул, слегка отвернувшись от Натальи.
– Посмотрим. Может, и смогу – есть ведь второбрачные попы. А может, и не смогу. Как Бог даст. Но вот что для меня точно невозможно, так это быть священником, зная, что где-то без меня растет мой сын. Или моя дочь.
Наталья ничего не ответила. Какое-то время они молчали вместе. Затем она спросила:
– А что ты мне хотел сказать?
– В смысле? – немного удивленно, как будто выйдя из ступора, переспросил Ярослав.
– Ну, ты же что-то хотел сказать, когда приехал?
– Ах, ты про это… Ну вот про жену, про развод…
– Только про это?
– Да… Все остальное… Все остальное уже неважно.
Наталья кивнула, и больше в ту их встречу вопросов не задавала.
Вечером следующего дня, как и было условлено, отец Ярослав позвонил благочинному.
– А, отец Ярослав! – услышал он голос Васильева. – Ну, как дела?
– Жена решила разводиться и со съемной квартиры собирается съезжать, так как квартиру снимает приход.
– Ясно, – коротко и удовлетворенно ответил благочинный. – А по… второму вопросу?
– По второму вопросу все немного сложнее.
– То есть? – голос Васильева снова начал звучать, как ружейный затвор.
– Подробности я бы хотел рассказать не по телефону…
– Ну, смотри… – начал было, не дослушав, говорить Васильев.
– …рассказать Владыке, – договорил отец Ярослав.
– Вот так? – спросил благочинный.
– Так, наверное, будет правильно, – ответил Андрейко.
– Ну, смотри сам, – сказал благочинный. – Это все?
– Да.
– Ну, с Богом, до свиданья!
– До свидания!
* * *
– Видишь? – спросил епископ Евсевий благочинного, показывая ему на огромный чертеж, разложенный на столе в его кабинете. Огромный лист бумаги не умещался на столе, свешиваясь с него, как скатерть, поверх которой лежало несколько журналов и больших фотографий.
– Да, Владыко! – ответил отец Василий. Чертеж был большой, и он его, конечно, видел.
– Во-о-от, вот такой нам надо построить! – протяжно сказал архиерей, любовно поглаживая схему и в очередной раз беря в руки фотографии, чтобы вновь их рассмотреть. На снимках был запечатлен один из новых кафедральных соборов, построенных в Центральной России. Быть может, он и не отличался особым архитектурным изяществом, но Евсевию нравился. У этого собора было одно несомненное достоинство: по своей величине он занимал второе место после храма Христа Спасителя в Москве. Это очень нравилось архиерею, ибо строить он любил. И, естественно, строить что-то грандиозное ему было гораздо интереснее, чем что-то небольшое.
Чертеж и фотографию ему прислали его духовные чада. Преосвященный, постепенно преодолевая свою неловкость, начал наконец встречаться с представителями областной администрации. И сразу же поставил перед ними тот же вопрос, на который некогда ему намекнул управделами Патриархии: такому большому городу, да еще и областному центру, как Мангазейск, не пристало обходиться без большого, «нормального» кафедрального собора.
Представители городских властей вежливо кивали и говорили, что относятся к этому предложению с пониманием. Что они в принципе только «за». Что они тоже считают, что это очень важно – поддерживать традиционные религии и укреплять нравственные ценности. Что моральные ориентиры обществу очень нужны. В общем, было ясно: выдавливать из них земельный участок под строительство, не говоря уже про финансовую помощь, придется долго и упорно.
Однако Евсевий был уверен, что и земля найдется, и собор построится. «С Божией помощью!» – говорил он себе. И, действительно, искренне верил в то, что Господь поможет и все препятствия будут преодолены. Дело-то ведь богоугодное!
Как монах, причем монах искренний, верующий, принявший постриг не ради архиерейской митры, а по призванию, он был убежден, что любое внешнее, материальное действие должно сопровождаться определенными духовными усилиями. То есть в данном случае рост стен кафедрального собора был немыслим без духовного роста – паствы, духовенства да и его собственного. Потому Евсевий, наряду с мобилизацией материальных ресурсов, собирался мобилизовать и ресурсы духовные. Еще в Москве, знакомясь с самыми общими сведениями о своей будущей епархии, он был неприятно удивлен тем, что здесь не было ни одного монастыря. «Вот так-так! – подумал он, листая справку из синодальной канцелярии. – Десять лет возрождаемся, а даже маленькой обители – и той нет! Вот тебе и возрождение!»
Строительство нового кафедрального собора уже явно превращалось в главную цель, и Евсевий был намерен подчинить этой цели всю епархиальную жизнь. Однако материальное строительство – борьба за участок земли, поиск финансовых средств и прочий кирпич с цементом – ему представлялось лишь половиной работы. Вторая половина трудов по созиданию кафедрального собора виделась архиерею как труд духовный. И если для поиска денег нужно было мобилизовать разных «благодетелей», то для духовной брани требовалась срочная мобилизация монашества…
Благочинный, глядя на огромный чертеж, сочувственно кивнул головой.
– Хорошо бы! – сказал он.
– Хорошо-о-о-о бы! – передразнил его Владыка. – Трудиться и молиться! Вот что нужно!
– Да, Владыко, простите! Благословите! – тут же посерьезнев, в фирменно-армейском стиле ответил ему Васильев.
Архиерей удовлетворенно кивнул и, глядя на чертеж, с улыбкой продолжил:
– Денег у нас нету, губернатор земли в городе давать не хочет… А строить надо! С Божией помощью!
– Простите, Ваше Преосвященство, – продолжил благочинный. – Тут ситуация одна… Благословите доложить?
Евсевий обошел вокруг стола, почти не отрывая взгляда от чертежа, и сел в кресло:
– Что за ситуация?
– С отцом Ярославом Андрейко.
Поймав вопросительный взгляд архиерея, Васильев начал свой рапорт. Все теми же рублеными фразами он изложил суть «ситуации», рассказав о «странных» семейных отношениях отца Ярослава и его жены, об ее измене и о Наталье. Разумеется, не забыв в красках описать, какое смущение все это производит среди прихожан.
– Ох, Господи, помилуй! – грустно, почти сокрушенно повторял архиерей, слушая рассказ благочинного.
– Отец Ярослав заявил, что со мной он больше разговаривать не станет, – сказал в заключение Васильев.
– О как! – хмыкнул Евсевий. – А с кем же будет?
– Только с вами, Владыко.
– Ну что ж, пусть приходит, говорит… – архиерей заглянул в свой ежедневник, проверяя расписание. – Вот пусть завтра к одиннадцати утра и приходит.
– Благословите! – ответил Васильев.
– Скажи-ка, отец Василий, – вновь обратился к нему архиерей, – а что Владыка Евграф? Неужели не видел всего этого?
Благочинный сдержанно, но при том и демонстративно ехидно улыбнулся:
– Не могу знать, Ваше Преосвященство… Владыка Евграф был из интеллигенции. И отец Ярослав у нас интеллигент. Люди возвышенные, – на слово «возвышенные» пришлась максимальная концентрация яда. – Так что трудно мне судить…
Евсевий слегка улыбнулся, и в глазах его Васильев с удовольствием прочитал то же саркастическое чувство:
– Ну понятно. Интеллигенция мудрила и домудрилась… – резюмировал архиерей. – Пусть завтра зайдет.
– Благословите! – ответил Васильев и с грацией дирижабля выскользнул в двери епископского кабинета.
* * *
– Здравствуйте! – спокойным, ровным тоном – как и всегда – поприветствовал Наталью Юрьевну, сидевшую за своим столом в тесной прихожей Епархиального управления, отец Ярослав. Как ему и было велено, он пришел к одиннадцати часам, даже на двадцать минут раньше. – Владыка у себя?
– У себя, – тихо, без каких-либо эмоций, ответила Наталья Юрьевна.
– Мне можно пройти или подождать?
– Спросите у отца Василия, – Наталья Юрьевна милостиво пропустила Андрейко через свой фильтр.
Благочинный величественно кивнул в ответ на приветствие отца Ярослава, неспешно встал со своего места, подошел к архиерейской двери. По монастырскому обычаю, теперь перед входом в кабинет епископа стали читать Иисусову молитву.
– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас, грешных! – чеканно, с удовольствием произнес благочинный.
– Аминь! – раздался из-за двери голос Евсевия. – Чего там?
– Отец Ярослав, Ваше Преосвященство, – сообщил в приоткрывшуюся дверную щель Васильев.
– А, пусть заходит!
Отец Ярослав зашел. Как обычно, поклонился, кончиками пальцев коснувшись линолеума, подошел под благословение. Архиерей встал, благословил. Однако садиться не предложил, да и сам не сел.
– Вот что, отец Ярослав… Мне тут отец Василий доложил о твоих… семейных делах.
Андрейко чуть опустил голову, ни слова не сказав.
– Так вот, – продолжил, преодолев секундное замешательство, Евсевий. – Ты ведь со мной хотел говорить?
– Да, Ваше Преосвященство!
– Может, лучше поисповедуешься? – спросил архиерей.
Ярослав немного смешался – епископы, под началом которых он служил ранее, крайне редко принимали исповеди у своих священников, да и те к этому, по причинам вполне рациональным, не стремились. Но сейчас он, действительно, шел как на исповедь. И тут говорить было лучше у креста и Евангелия, а не сидя за столом.
– Благословите, Владыко!
Они подошли к небольшому аналою, установленному в углу кабинета. Архиерей благословил епитрахиль, затем поручи, и вполголоса начал читать обычные молитвы. Затем приподнял край епитрахили, а отец Ярослав, опустившись на колени, начал говорить. Изредка Евсевий задавал вопросы, всегда конкретные и точные. По своему звучанию они напоминали вопросы опытного врача или следователя и произносились с профессиональной четкостью и отстраненностью:
– Когда это произошло? Где?
Отец Ярослав давал столь же ясные ответы. Наконец исповедь подошла к концу, и разговор стал более плавным, а фразы – пространными:
– Да, нехорошее дело… – грустно резюмировал архиерей. – Ты сам-то служить хочешь?
– Да, Владыко! – горячо ответил отец Ярослав. Священническое служение по-прежнему оставалось для него стержнем его жизни, и без него он себя не мыслил.
– Хочешь… Хотя по канонам тебя, вообще-то, к службе подпускать нельзя, – тихо, вполголоса, продолжал архиерей. – Я тебе вот что предлагаю. Мы тут будем монастырь устраивать, мужской. Даю тебе полгода на подготовку, а там постригу тебя. Будешь иеромонахом, вот тебе и служба будет. Пойдешь?
– Но я не могу, Владыко! – растерянно ответил отец Ярослав.
– Это еще почему?
– Но ведь у меня скоро ребенок родится! Как же я его брошу?
– Эк тебя лукавый зацепил! – с грустью сказал архиерей. – То служить хочешь, то вот это… Ты уж выбирай, блуд или священство! Я ведь, по канонам, с тобой возиться не обязан. Имею полное право на тебя в Синод написать, чтоб из сана извергнуть…
– Простите, Ваше Преосвященство, но ведь не о блуде речь, – голос отца Ярослава дрогнул, – а о моем ребенке!
– Да от тебя всем больше пользы будет, если ты в монастырь пойдешь! – убежденно сказал Евсевий. – Монахов у нас нет, а таких вот… папаш полно.
Ярослав, стоявший на коленях, явственно ощутил слабость в ногах. Когда-то он бросил, недоучившись, институт, спешно женился, рассорившись с родителями, уехал из Иркутска в куда менее привлекательный Мангазейск, и все ради одного – ради священства. И вот теперь оно у него может быть отнято, и все жертвы, все лишения – все впустую? И даже не впустую, а еще и в осуждение… И не лучше ли подчиниться епископу и согласиться на монашество? В конце концов, так ли уже много он даст ребенку? А Наталья – Наталья поймет. Всегда понимала, и никогда, никогда ничего не требовала…
Ярослав молчал. И Евсевий молчал. Секунды медленно, тягуче сменяли одна другую.
Наконец отец Ярослав заставил себя ответить:
– Простите, Ваше Преосвященство, но своего ребенка я оставить не могу…
Архиерей с грустью выдохнул. Исповедь закончилась. Андрейко поднялся с колен, а архиерей начал снимать с себя епитрахиль и поручи, при этом по-прежнему негромко произнося свой вердикт:
– Не порадовал ты меня, отец Ярослав… Да ерунда, что меня, – тут он посмотрел ему в глаза, – Бога ты не порадовал. А правильнее сказать, прогневил. С сегодняшнего дня ты запрещен в священнослужении. Пока что на год. Там посмотрим, может, Бог даст, образумишься. Указ завтра получишь.
Отец Ярослав, поклонившись, ответил:
– Благословите, – и после едва заметного кивка епископа покинул его кабинет.
Евсевий сел в кресло и нажал на кнопку вызова, находившуюся у него за спиной, на стене. Тут же у дверей послышался голос благочинного, читающего Иисусову молитву.
– Аминь! – громко произнес Евсевий.
На пороге появился Васильев.
– Вот что, подготовь-ка завтра утром указ о запрещении священника Ярослава Андрейко в служении, сроком на год, – сказал ему архиерей. – Сможешь завтра к десяти утра сделать?
– Благословите! – как обычно, ответил благочинный.
Архиерей кивнул. Но, верный своей привычке все перепроверять и переспрашивать, уточнил:
– Знаешь, как такие документы составляются?
Васильев мысленно саркастически крякнул: будучи благочинным еще при Евграфе, он такого рода бумаги, естественно, делал.
– Да, Ваше Преосвященство! У нас по части делопроизводства Александр Сергеич с Натальей Юрьевной большие специалисты. Так что если не соображу – у них проконсультируюсь.
– Ну вот и хорошо! – уголками губ Евсевий чуть улыбнулся. – Не получилось, видишь, мне нашего отца Ярослава образумить…
Васильев постарался всем своим видом изобразить смирение и скорбь о погибающем собрате:
– Я, Владыко, надеялся, что он образумится. Что вас увидит… Вашего слова послушает…
– Ну, как видишь, не образумился! – серьезно, и даже с искренней горечью, резюмировал архиерей.
А благочинный, покинув владычный кабинет, прошествовал через помещение, которое они занимали на пару с Шинкаренко, и остановился у стола Натальи Юрьевны.
– Наталья Юрьевна, вы сможете ко мне в храм в восьми часам подъехать? – командирским голосом спросил он.
– А это очень так вот нужно? – негромко, но с явным недовольством, ответила Наталья Юрьевна, не отрываясь от бумаг, которые лежали у нее на столе.
– Это очень так вот нужно! – передразнивая и постепенно повышая голос, ответил Васильев. – Это именно очень так вот нужно!
– Ну, тогда подъеду, – так же недовольно ответила Наталья Юрьевна.
– И бумаги по отцу Ярославу не забудьте. Какие бумаги, надеюсь, объяснять не надо? – все так же громко, в тональностях допроса, продолжал благочинный.
Наталья Юрьевна кивнула. Удовлетворенный достигнутым демонстративным смирением, благочинный вернулся за свой стол. Бухгалтерши, сидевшие в соседнем кабинете за не слишком толстой дверью, прекрасно слышали этот диалог и довольно улыбались, поправляя платочки на головах: Наталья Юрьевна в очередной раз была прилюдно поставлена на место. И им это безумно нравилось.
А Евсевий в это время склонился над бумагами за своим столом, однако сосредоточиться на них не смог. Впервые в своей жизни он, как архиерей, принял решение о запрете священника в служении. Решение это он обдумал еще с вечера, как и предложение отцу Ярославу стать монахом. Ощущения неправоты у него не было, однако непривычное чувство власти – и чувство применения этой власти – было слишком сильно и заставляло задумываться о произошедшем снова.
О том, что сейчас отец Ярослав останется без жилья (квартира ведь была приходская) и без денег (жил ведь он с прихода), Евсевий не думал. Евсевий сразу после армии ушел учиться в семинарию, где и принял монашеский постриг. Всю последующую жизнь он провел в монастырях. Это было отнюдь не легко – точнее, это было тяжело. Но это было совсем иначе, чем в миру. Чтобы поставить себя на место отца Ярослава, архиерею нужно было иметь соответствующий опыт – опыт семейной жизни в качестве мужа и отца. А такого опыта у него не было. Поэтому о тех трудностях, с которыми придется столкнуться запрещенному священнику, он имел, в сущности, весьма смутное представление и даже не воспринимал их всерьез. Священство и монашество, в глазах Евсевия, были фронтом, а мир – тылом. Тот, кто оставлял священство и уходил в мир, уходил, в его глазах, с фронта в тыл, а в тылу, по мнению любого фронтовика, всегда легче. По крайней мере, материально.
Но, быть может, стоило проявить большую мягкость? Хоть он и молод, но служит давно. Опять же, и самая молодость может служить некоторым оправданием… А кроме того: не позволил ли он дремлющей в глубинах его души нелюбви к «вшивой интеллигенции» – той самой, которую так любил его предшественник Евграф – возобладать над сознанием архиерейского долга?
«Господи, помилуй!» – мысленно произнес архиерей. Он поднялся из-за стола и направился к тому аналою, у которого только что принимал исповедь отца Ярослава. Там, рядом с Евангелием, лежала Псалтирь. Еще в семинарии он усвоил за правило: если возникают какие-то сомнения и душевные терзания, нужно остановиться и прочитать из Псалтири кафизму-другую. Сейчас он собирался поступить так же. Но тут у двери снова раздался голос благочинного, громко читающего Иисусову молитву.
– Аминь! Ну что там еще? – несколько недовольно спросил Евсевий.
– Простите, Владыко, но вы просили напомнить. В администрации области встреча назначена. Машина ждет, если благословите.
Архиерей глянул на часы: действительно, было без двадцати двенадцать, а в двенадцать должна была состояться очередная – и почти наверняка безплодная – встреча по поводу выделения участка под строительство кафедрального собора. Но не ехать было нельзя.
– Забыл совсем, – недовольно произнес Евсевий. – Ну, поехали тогда…
Сидя в машине – все в той же «Волге», оставшейся еще от времен Пахомия, он продолжал размышлять о принятом решении. Однако теперь он думал не только о священнике, но и о соборе.
«Нет, нельзя было по-другому! – твердо сказал он самому себе. – Мы сейчас у Господа о великой милости просим, о чуде, можно сказать. Нам нужно укрепляться всем духовно, жизнь исправлять, а тут поп такое начинает… Нет, нельзя!» Ведь постройка огромного собора в Мангазейске – это действительно было бы чудо! Но тогда для этого нужно напряжение всех духовных сил. Здесь не просто фронт – здесь самый горячий участок, тут нужен настоящий спецназ. И тут спрос особенно суровый.
«Выход у него был – мог бы в монахи пойти. Ну а не пошел, так сам и виноват. Его выбор! Распускать себя мы тут не можем!» – на этом Евсевий думать об отце Ярославе перестал и стал думать о будущем кафедральном соборе.
Каким он станет, пока еще было неясно. Те чертежи, которые епископ просматривал – и просматривал много раз – ему нравились, но говорить о том, что архитекторы будущего храма станут опираться именно на них, было преждевременно. Ведь еще непонятно, где будет выделена земля и сколько ее будет – а от этого многое зависело. Евсевий был твердо намерен добиваться земли в центре города (или, по крайней мере, не очень далеко от него). А в тех чертежах и прилагаемых к ним документах, которые он тщательно, даже любовно рассматривал вечерами, ему особенно запомнилась одна фраза: «Второй по величине храм в России (после храма Христа Спасителя в Москве)». Второй после храма Христа Спасителя!.. Правда, с учетом того, что по этому проекту один собор уже строится, Мангазейску на второе место претендовать не придется. Придется довольствоваться третьим. Но третье место по России, для бедной и, в сущности, совсем недавно воссозданной епархии – это было очень впечатляюще! Тем более что к востоку от Урала мангазейский собор стал бы самым большим.
Правда, местные власти явно были не в восторге от этой перспективы. Но это нужно было преодолеть.
Будущий кафедральный собор, казавшийся удивительно прекрасным, скрывавшийся туманом грядущего, как некий удивительный град на горе, достигнув которого, можно будет забыть обо всех понесенных трудах и утратах. И вместе с тем крепло чувство, что путь к этому прекрасному граду будет тяжелым и потребует принести очень многое в жертву. А может, не только многое, но и многих.
«Волга» тормознула у огромного серого параллелепипеда – здания областной администрации (в недавнем прошлом областного обкома КПСС). Евсевий открыл дверь и с легкостью вышел, почти выпрыгнул на потрескавшийся асфальт. Он был готов идти к новому собору, как к сияющему граду, и был готов на этом пути приносить жертвы. Он чувствовал, что готов.
* * *
– Бумаги не забудь, – сказал Васильев, обращаясь к Наталье Юрьевне, с обычными наставническими интонациями. Однако обычной же резкости в его голосе не было, наоборот, он звучал довольно мягко, миролюбиво. Таким тоном благочинный обычно разговаривал с маленькими детьми, которых ему подносили для целования креста, и крайне редко – со своими собственными сыновьями, в те минуты, когда они оставались наедине, и он не был ими сильно недоволен.
– Не забуду, – и тоже мягко, а вернее сказать – нежно отвечала ему Наталья Юрьевна. В голосе ее была некоторая рассеянность, объяснявшаяся тем, что как раз в этот момент она сосредоточенно застегивала свой старый застиранный лифчик. Это была самая сложная процедура; все остальное она умела надевать с той же молниеносной быстротой, с какой и снимала.
Васильев некоторое время еще смотрел ленивым, лишенным уже похоти взглядом на это несвежее, немолодое женское тело, а потом также начал натягивать трико. Задерживаться не стоило, хотя система маскировки и конспирации была уже давно отработана и пока что сбоев не давала. Дверь была заперта не только в комнату благочинного, но и в коридор, и во двор. По официальной версии, они с Натальей Юрьевной находились в трапезной, куда также посторонних не допускали. Ну а если кто-то посторонний бы и просочился, то ведь отец благочинный мог отойти на какое-то время, за бумагами ли, или по делам. А если там нет и Натальи Юрьевны, то, по правде сказать, чего бы ей там быть? Может, она уже уехала? Ах, снова появилась? Значит, снова приехала. Она часто приезжает, по разным делам…
Прицепиться было очень сложно. Но нужна осторожность, и Васильев не хотел растягивать их встречу. Да и что растягивать? То, ради чего они встретились, было сделано, а встречались они не ради бумаг. (Нужно ведь, действительно, быть клиническим идиотом, чтобы целый вечер обсуждать, как правильно составить самый обычный архиерейский указ о запрещении в священнослужении – такие бумаги пишутся за 10–15 минут максимум.) А вести долгие разговоры, обнявшись и лежа в кровати, как молодые восторженные любовники – это было не к месту. Во-первых, кровать была узкой и для подобного рода времяпрепровождения подходила очень плохо. А во-вторых, они были немолоды, и отношения их подобного рода диалогов не предполагали.
Началось это, как водится, почти случайно. Наталья Юрьевна проработала в Епархиальном управлении к тому моменту почти полтора года, и он с ней, так же как и с Шинкаренко, успел хорошо познакомиться. Эти трое уже очень хорошо знали друг друга: у кого какие дети, у кого какие в семье проблемы, кто на что-то надеется, а кто уже надеяться перестал. Семейным человеком, в актуальном состоянии, был только Шинкаренко. Отец Василий давно уже был целибатом, а Наталья Юрьевна пребывала в разводе, которым завершились почти двадцать лет ее брака. История обычная – муж, рано ушедший на пенсию офицер (и сразу же удачно устроившийся на работу в городскую администрацию), устал от своей супруги, которой он одномоментно припомнил все. Что-то было, быть может, несправедливо – хотя обвинения в бытовой безтолковости и неумении следить за домом явно имели под собой основание, что-то – не совсем несправедливо. Как бы там ни было, успешный и считавший себя не старым муж сдал в утиль некрасивую, неинтересную и ставшую в его глазах старой жену. «Обычная история», – понимающе кивали головами общие знакомые.
Наталья Юрьевна и до развода изредка ходила в храм и считала себя верующей. А после развода стала ходить регулярно, появились знакомые в церковной среде, а вскоре пришло предложение работать в канцелярии епархии, которое она и приняла.
Это все и предопределило тот факт, что Васильев в какой-то момент обратил на нее внимание, как на женщину. Разумеется, женщины Васильеву, даже когда он стал священником и благочинным, встречались и помимо нее. Но это были либо приходские тетки неопределенного возраста, с очень специфическим пониманием духовности и церковности (на грани помешательства, а то и за гранью), либо женщины более-менее самодостаточные. Семейные или нет, но те, кого сама мысль о романе со священником-целибатом если не ужасала, то и не прельщала. Быть может, если начать бороться за одну из них, то можно было бы достичь успеха… Но Васильев бороться не собирался. А Наталья Юрьевна являлась тем подгнившим надкушенным яблоком, которое можно было подобрать без всяких усилий. Что и было сделано во время очередной встречи по каким-то «делам». Сделано спешно, некрасиво, почти без удовольствия. Но – по обоюдному согласию, которое не было высказано, но было и отцу Василию, и Наталье Юрьевне очевидно.
Отца Василия эти отношения тяготили, особенно поначалу. И он не раз и не два, когда очередное их свидание подходило к концу, решительно говорил Наталье Юрьевне:
– В последний раз. Хватит!
Тогда она вопросительно, с обидой смотрела на него. И он отвечал:
– Хватит! Хватит Бога гневить!
В последующем Наталья Юрьевна научилась смиренно кивать головой, а отец Василий стал меньше рассуждать о благочестии по окончании полового акта. Наталье Юрьевне была присуща некоторая женская мудрость, сочетавшаяся с мудростью канцелярской. И она понимала: это как раз тот случай, когда временное является по-настоящему постоянным.
Чтобы сделать свою связь максимально незаметной, при окружающих Наталья Юрьевна разговаривала с благочинным демонстративно неохотно и дерзила ему так же, как и прочим. А отец Василий ее так же демонстративно осаживал. Получалось натурально, главным образом потому, что они почти и не играли. Васильев искренне, с сознанием собственного превосходства, орал на нее и давал приказания – а она, искренне возмущавшаяся, так же искренне подчинялась ему, и даже с удовольствием, внутренне обмирая от этих окриков. «Мужик!» – было единственным словом, вспыхивавшим в такие моменты в сознании Натальи Юрьевны. И была для нее заключена в этом слове вся горькая радость их тайной связи.
* * *
– Э-э, «бугор» идет! – резко оборвал беседу один из работников склада, увидев, что вдалеке, среди складских помещений, показалась фигура зама гендиректора, которого для простоты называли начальником, или же, по старой традиции, «бугром». Ситуация получалась штатная: отец Ярослав, как и все прочие участники беседы, неспешно продолжавшейся уже два часа, схватился за специально припасенную дежурную доску. И вместе с остальными рабочими не спеша пошел через огромный, похожий на плац, заасфальтированный двор к мусорным бакам.
Церемония эта повторялась почти каждый рабочий день, но не слишком часто, максимум – раза два-три. Сценарий был на редкость однообразен: у каждого рабочего, на случай появления начальства, имелся какой-либо дежурный мусорный предмет – доска, полупустой мешок с не очень тяжелым и не сильно вонючим барахлом и т. п. Начальник, он же «бугор», из-за особенностей складской архитектуры не имел ни малейших шансов появиться незамеченным, да и едва ли этого хотел. Завидев его, каждый брал свой персональный мусорный предмет и начинал неторопливо перемещаться по двору-плацу. Начальник удовлетворенно созерцал эту картину («люди работают»), иногда говорил что-нибудь – хорошее ли, плохое ли, но всегда матерное – и снова пропадал в складских катакомбах. После этого рабочие бросали свои доски и мешки и продолжали неспешную пролетарскую беседу или просто курили, глядя на проплывающие по ярко-синему небу облака глазами философов.
Теоретически они должны были разгребать те мусорные завалы, которые скопились на складском дворе за последние годы, а вернее сказать – десятилетия. Штатные должности работников, которые обязаны выполнять соответствующую функцию, были предусмотрены еще в советские времена и благополучно сохранились и после того, как склады были приватизированы и попали в собственность нового безликого ООО. Поскольку сами по себе завалы не мешали ни тем, кто арендовал складские помещения, ни тем, кто ими владел, то всем было в общем наплевать, чем там занимаются рабочие, которые отвечают за уборку и очистку территории. ООО, владевшее складом, зашибало неплохие деньги на сдаче помещений в аренду, и заправляли им люди советской закалки, не склонные задумываться об оптимизации своей деятельности. Благодаря этому в штатном расписании годами сохранялась пролетарская синекура, которой воспользовался и отец Ярослав Андрейко.
Воспользовался, ибо она оказалась наилучшим вариантом.
На следующее утро после исповеди у архиерея, как и было велено, отец Василий вручил ему указ о запрещении в служении на год.
– Прости, отец Ярослав, – с довольно плохо сыгранным сочувствием, за которым ощущалось некое мстительное торжество, обратился к нему благочинный. – Но приходскую квартиру нужно освобождать…
– Да, конечно, – стараясь быть спокойным, ответил Андрейко. И он, и его жена (которая в таковом качестве доживала последние дни – заявление на развод к тому моменту было подано) уже паковали коробки и чемоданы. Елена съезжала на свою квартиру, и он тоже съезжал, хотя и не очень еще понимал, куда.
– Вообще-то надо было бы в течение суток освободить, – продолжил благочинный. – Но, с учетом ситуации, даем тебе четыре дня.
«Почему в течение суток? – недоуменно подумал отец Ярослав. – Где это записано? Куда они торопятся? Ведь нового священника все равно нет, заселять в квартиру некого…»
– Простите, отец Василий, разрешите хотя бы на неделю задержаться? – попросил он.
Благочинный нахмурился и скорбно покачал головой. Затем вдруг увидел что-то важное в мониторе своего компьютера и начал сосредоточенно, с крайне увлеченным видом, щелкать мышкой. Так прошло больше минуты. Наконец, когда что-то очень важное было до конца дощелкано, он снова посмотрел на отца Ярослава и недовольно ответил:
– Ну, это максимум. Но постарайся за четыре дня уложиться.
– Хорошо, – ответил отец Ярослав и, взяв с собой указ, вышел из Епархиального управления.
Что дальше? Служба у престола Божия – служба, которую он по-прежнему считал смыслом и основой своей жизни, теперь была для него недоступна. Может быть, на год, а может, и навсегда. Осознание этого тяжелейшим бременем легло на его душу, и бремя это ощущалось почти физически. Как и всякий более-менее опытный священник, отец Ярослав знал, что для священнослужителя пребывание в запрете – это всегда очень серьезное испытание. Немало попов, попавших в запрет, спивалось, а некоторые (и это было не редкостью) сходили с ума. Он понимал: в духовном и психологическом плане он сейчас вошел в зону очень сильной турбулентности. И вырваться из нее адекватным человеком – это уже будет немало.
Но помимо этого груза, на него упал целый ворох иных проблем. Где жить? Чем зарабатывать себе на жизнь? Все это было не очень ясно, а денег в кармане меж тем оставалось совсем немного.
Для начала Андрейко решил навестить своего старого друга, отца Игнатия. Благо, искать его не требовалось: было утро, и он как раз в Свято-Воскресенском храме заканчивал литургию.
Отец Ярослав вышел за пределы церковной ограды и с полчаса прогуливался по округе. Теперь, когда он получил указ о запрещении в служении, мозолить глаза иным попам, да и архиерею, который в любой момент мог выйти во двор, совсем не хотелось. Наконец, когда в неумелых руках очередного алтарника забились, как караси в сетке, колокола, возвещая окончание богослужения, отец Ярослав зашел в храм. Зашел вовремя – отец Игнатий уже успел разоблачиться и, быстро перекрестившись, стрелой летел к выходу из церкви.
– Здравствуй, отец Игнатий! – поприветствовал его Андрейко.
– О! Привет! – доброжелательно и не без легкого юродства ответил ему иеромонах. – Какими судьбами у нас?
– Да вот, заходил в Епархиальное управление… Получил указ. В запрете я.
– Ммм-да, – не очень внятно ответил отец Игнатий. – Меня тут в воскресной школе ждут.
– Да, конечно, – ответил отец Ярослав. – У меня просьба к тебе.
Отец Игнатий кивнул головой:
– Давай ко мне забежим.
И они быстро направились на квартиру к отцу Игнатию. По дороге Ярослав рассказал ему, в каком именно положении он находится, а заодно и попросил в долг денег. В свою очередь отец Игнатий, дойдя до дому, обшарил все свои многочисленные коробки, кульки и карманы в разных куртках и рясах, и насобирал там около одиннадцати тысяч рублей.
– Спаси Господи, отец Игнатий! – ответил Андрейко, принимая обеими руками скомканные купюры. А отец Игнатий в ответ кивал головой и махал кистями рук, примерно так же, как дрессированные тюлени машут ластами.
– Ну, мне надо бежать уже! – сказал иеромонах, вспотевший после срочных поисков денежных заначек. – А ты, отец, если что – заходи, как всегда…
– Спаси Господь! – ответил Андрейко и почувствовал, что глаза его непроизвольно заслезились. Слишком давно он нес разные послушания, служил при слишком многих архиереях, чтобы не понимать, что значат эти слова. «Заходи, как всегда…» Запрещенного священника сейчас многие начнут избегать, как прокаженного. Прихожане будут глядеть большими испуганными глазами, пытаясь догадаться, что же за страшное грехопадение послужило причиной запрета. Собратья-священнослужители, сочувствуя в душе (сочувствуя уже хотя бы потому, что от прещений никто не застрахован), тоже постараются с ним лишний раз не общаться, по крайней мере публично – мало ли, прознает архиерей, и ему это может и не понравиться… Так поведут себя те, кто хорошо знает патриархийную кухню, а молодые и еще не пуганные мангазейские попы могут это просто не брать в расчет. Но отец Игнатий как раз в тонкостях патриархийного политеса разбирался прекрасно. И он дал понять, что их дружба никуда не исчезает и не «временно отменяется» – а это кое-чего стоило!
На взятые в долг деньги отец Ярослав смог решить первую, и самую неотложную, задачу: снять небольшую потрепанную квартирку, куда он мог срочно вывозить свои вещи (выяснилось, что их было не так уж мало) и куда смогла переехать его Наташа. Следующей задачей оказывалось трудоустройство… И тут выяснилось нечто неприятное.
Всю свою жизнь отец Ярослав провел среди интеллигенции. Интеллигентами – и по образованию и, так сказать, по стилю жизни – были его родители. Такими же были и их друзья, и его друзья. Круг его общения во все времена по большей части состоял из университетских преподавателей, журналистов и тому подобной публики, среди которой встречались и местные знаменитости, вроде известных в регионе телеведущих или поэтов с писателями. И по своим интересам, и по своему интеллектуальному и культурному уровню отец Ярослав принадлежал именно к этой среде. И поначалу именно здесь он намеревался искать работу.
С соответствующей просьбой он и обратился к одной знакомой университетской преподавательнице.
Встретила она его, по старой памяти, приветливо, хотя и чувствовалось, что в ее отношении к нему появилась некая доза отчуждения, смешанного с не вполне осознанным страхом перед «падшим священнослужителем». Андрейко это очень задевало – задевало вдвойне сильно потому, что он сам мучился от осознания собственного греха – однако виду он старался не подавать.
– А я к вам с просьбой… – начал он максимально скромно, сидя в маленькой гостиной (такие в Мангазейске обычно называли «залами») на стареньком потертом диванчике.
Преподавательница вежливо кивнула.
– Я, вы знаете, сейчас в запрете… А жить как-то надо. Нельзя ли найти какую-нибудь работу у вас в университете?
– У нас? – немного удивленно ответила она. – А что именно вас интересует?
– Ну, может быть, можно преподавать что-то… Как-нибудь, – неловко добавил он, почувствовав, что разговор перестал клеиться.
– Сейчас как раз последние ставки разбирают, – немного задумчиво ответила преподавательница. – Хотя можно попробовать… Ничего не обещаю, конечно…
Отец Ярослав понимающе кивнул головой.
– Но давайте попробуем! – в ее голосе зазвучал даже легкий оптимизм. – Простите, я забыла, напомните: какое у вас образование?
– Три курса филфака, – смущенно ответил он. – Потом, вы знаете, меня рукоположили и направили сюда, доучиться я не мог…
На несколько секунд повисла пауза. Затем преподавательница заговорила снова, немного суетливо:
– Давайте попробуем в любом случае… Конечно, у вас неоконченное высшее, это, вы понимаете, проблема. То есть я, конечно, понимаю, что это все формализм. Глупый формализм, я, конечно, вас знаю, в вашем случае… Но там у нас критерии определенные, формальные критерии именно… Может быть, удастся какие-нибудь дополнительные курсы организовать, где-то почасовиком… Я попробую обязательно!
– Спасибо, – кивал головой Андрейко, пытаясь, елико возможно, за приподнятой интонацией скрыть разочарование. Ибо было ясно, что все варианты «с какими-нибудь курсами» и редкими факультативными лекциями с почасовой оплатой никакого заработка не дадут.
Потом он обращался с просьбой о работе к знакомым журналистам и даже пытался достучаться до телевидения. На худой конец, интересовался, как обстоят дела в школе. И везде разговор строился по одной и той же схеме: как только он «напоминал», что у него нет законченного высшего образования, все начинали мяться и говорить, что они, конечно, обязательно попробуют, но ничего обещать не могут. Попытки устроиться в какие-либо частные фирмы заканчивались так же. Правда, здесь беседа протекала быстрее и безо всякого политеса. При словах: «неоконченное высшее», – потенциальные работодатели демонстративно кривили губы. Даже в тех случаях, когда было очевидно, что и они сами, и большинство их офисных сотрудников по уровню интеллекта никак не превосходят отца Ярослава.
Поиски условно приличной работы заняли более месяца. Меж тем деньги, взятые в долг, начали заканчиваться. И тут очень кстати подвернулся один знакомец, дочь которого отец Ярослав крестил за семь месяцев до того. Подвернулся в буквальном смысле – на улице. Андрейко коротко обрисовал ему суть проблемы. Знакомый – а работал он на складе, заведуя там какой-то погрузкой-выгрузкой – выслушал его абсолютно спокойно и предложил:
– Могу на склад к нам пристроить. Для начала рабочим, но это так, одно название. Делать там ни хрена не надо, а зарплата двенадцать тысяч. Какое-то время перекантуетесь, потом, может, чего в фирме поприличнее подберется. А может, сами куда-то пристроитесь.
Отец Ярослав согласился попробовать.
Знакомый не соврал: работы действительно не было практически никакой. И поначалу безделье утомляло сильнее, чем иной тяжелый труд. Самой же тягостной стороной на первых порах была необходимость поддерживать отношения с «коллегами».
В первый день, когда он вышел на работу, остальные рабочие смотрели на него во все глаза и даже отвечали не сразу и невпопад: некурящий, не матерящийся, с интеллигентскими привычками, да еще и бородатый… Наверное, если бы в их маленькую бригаду пришел работать говорящий крокодил или уэллсовский марсианский спрут, они бы удивились не больше. Наконец один из работников во время очередного многочасового перекура сел рядом с ним и, затянувшись сигареткой «Петр I», задал мучивший всех сакраментальный вопрос:
– Слышь, ты это… Поп, что ли?
– Поп. Пока, по крайней мере, поп, – ответил отец Ярослав.
Соработник мотнул головой. Затянулся пару раз сигаретой и снова спросил:
– А почему по крайней мере?
– Сейчас не могу служить потому что. Запрещено, – Андрейко старался отвечать максимально терпеливо, ибо понимал, что вопросы эти задаются не со зла, а самое главное, отвечать на них все равно придется. Хотя бы потому, что ему с этими людьми еще работать.
– Хе! – еще более недоуменно произнес его собеседник. – А чего запретили-то?
– Слушай, это вообще-то личное дело, – ответил ему отец Ярослав.
– А-а-а! – глубокомысленно изрек его собеседник. Но, надо отдать должное, на этом разговор закончился.
Впрочем, такие беседы повторялись чуть не ежедневно. Поскольку отношения сложились уже относительно доброжелательные, то иногда другие работники позволяли себе, как им казалось, остроумные шутки:
– Слышь, ты там это, монашку какую-нибудь это самое? – под взрыв гогота спрашивал очередной остроумец отца Ярослава. Тот в ответ улыбался снисходительной улыбкой (так, должно быть, улыбаются педагоги в интернатах для умственно отсталых), а дружный пролетарский коллектив искренне веселился своей шутке, которая коллективу казалась очень оригинальной и совершенно незлобной.
Впрочем, они действительно не злобствовали и очень скоро стали относиться к нему с некоторым уважением. А иногда и обращались за советом по «духовным» вопросам:
– Ярослав, у меня теща с тестем в квартиру переехали. Сначала теща в больницу загремела, а через два дня – тесть. Может, это квартира какая несчастливая? Ну, может сделать там чего надо?
Отец Ярослав как мог объяснял, что с христианской точки зрения «несчастливых» квартир и иных объектов недвижимости не бывает, но ему не очень-то верили. И заметно оживлялись, когда он прибавлял, что квартиру, конечно, можно освятить, для чего нужно обратиться к священнику в любую православную церковь.
Но и такие диалоги случались нечасто. В основном, изнывавшие от безделья рабочие лениво вели разговоры о делах бытовых, о рыбалке, о даче и о том, кто с кем переспал.
Казалось, отец Ярослав как будто прижился среди своих новых коллег.
И тем не менее, в тот момент, когда «бугор» в очередной раз убедился, что «люди работают», и ушел восвояси, после чего вся пролетарская команда расселась на сваленном у забора полусгнившем брусе, отец Ярослав вновь – в который уже раз! – испытал жуткую тоску и обиду, обиду, которая едва не вышибла из него слезы.
Был конец сентября, в Мангазейске – самый разгар осени, когда жгучие степные ветры гоняют немногочисленные оранжевые листья вперемешку с песком, который скрипит на зубах и забивается в глаза. Рабочие гоготали над очередным рассказом о чьих-то интимно-конских подвигах. Издалека из складских закоулков, летел истошный мат. «Вот такая у меня теперь среда обитания», – с иронической горечью подумал отец Ярослав. А перед глазами с безпощадной яркостью проносились картины времен его студенческо-пономарской молодости и совсем недавнего священнического служения. Иподиаконская служба при Владыке, секретарская работа в Иркутской епархии, хиротония, Мангазейск… И, само собой, люди – совсем другие люди, образованные и интересные, которые совсем недавно еще смотрели на него даже не как на равного, а как на старшего. А теперь? Теперь вот потрескавшийся асфальт складского двора, безделье, матерные рулады и жеребячий юморок, и от всего этого к концу рабочего дня кажется, будто из головы вынули мозги и вместо них набили череп грязной стекловатой. Правда, дома ждала Наталья, любимая и любящая жена. Но только «домом» была съемная квартира, а живот Наташи начинал потихоньку округляться. Как содержать ее и ребенка? Как не утонуть в быте, когда с одной стороны этот самый быт, а с другой – вся эта пролетарская «стекловата»? Как так получилось, что он, отнюдь не дурак, да и вроде бы не подлец, оказался там, где оказался? Почему он, в самом недавнем прошлом интеллигентный и умный мальчик из хорошей семьи, вдруг вынужден искать себе пропитание едва ли не у самого социального дна? Почему те, кто отнюдь не благочестивее, не порядочнее и не совестливее его, устраиваются гораздо лучше?..
Ответы на эти вопросы были, но покоя от них – не было. Хотелось то ли плакать, то ли выть…
Глава 5 Рождение монастыря
«Ну и погодка!» – подумал Евсевий, глядя в окно своей квартиры, и слегка поежился: на улице дули ветры, столь обычные для Мангазейска в конце сентября, а в квартире отопление еще не включили. Впрочем, мысли о холоде не были тягостными, скорее, наоборот – радостными и даже по-хорошему озорными. Было интересно находиться в непривычной обстановке. Новая природа, новая условия, новые люди, новые задачи – словом, новые вызовы, на которые ему предстояло отвечать каждодневно, если не ежечасно. И пока что он чувствовал, что сил у него достаточно, и потому эти вызовы порождали не уныние и тоску, а боевой задор, который бывает у боксера, предчувствующего успех на ринге, или у адвоката, вступающего в сложное, но перспективное дело.
Пока что все развивалось если не идеально, то, так сказать, многообещающе. Мангазейская администрация, несмотря на формально продекларированную готовность «помогать и содействовать», пока что явно упиралась рогом. Землю в центре города под кафедральный собор она давать не хотела. Это, впрочем, было ожидаемо. Но начали появляться и союзные силы, и силы эти были, как минимум, интересными. Министерство путей сообщения поддержало идею строительства кафедрального собора в Мангазейске. Более того, прозвучало даже устное обещание: МПС профинансирует строительство полностью, при условии, если собор будет построен не по новому проекту, а восстановлен в историческом своем виде и на историческом своем месте. «Кстати, надо бы кого-то направить в архивы, поискать, какой там был проект», – вновь отметил про себя Евсевий. Впрочем, верилось слабо, что кто-то отдаст под строительство центральную площадь, на которой стоит здание обкома-администрации, да еще и позволит убрать оттуда памятник Ленину. Но, во всяком случае, МПС уже сообщило, что оно готово участвовать в восстановлении собора. Кроме того, потихоньку мобилизовывались духовные чада, среди которых были и не совсем уж мелкие бизнесмены, и не совсем уж легковесные чиновники.
Наконец, архиерей хотел выгодно использовать ту особенность, что его епархия включала в себя не один, а два субъекта Федерации – Мангазейскую область и Тафаларскую республику. Теперь, когда ему откровенно намекали, что для небольшого Мангазейска собор, сопоставимый с храмом Христа Спасителя в Москве, будет великоват, он многозначительно говорил:
– Мангазейский собор станет кафедральным храмом не только Мангазейской области, но и Тафаларской республики.
Это было правдой, и звучало впечатляюще. К тому же можно было попытаться привлечь к финансированию строительства чиновников и бизнесменов из соседнего региона.
План был не то чтобы очень хорош, но и не особенно плох. Но, как всегда в таких случаях бывает, стали выясняться «нюансы». Точнее, «нюанс», у которого даже были имя, фамилия и протоиерейский сан. И даже должность: протоиерей Виктор Джамшадов, благочинный Тафаларского благочиния. Благочиние это охватывало все районы Тафаларской республики (так же как Мангазейское благочиние – районы Мангазейской области). Фактически Джамшадов оказывался церковным наместником целого субъекта Федерации, по полномочиям близким к викарному епископу, с той лишь разницей, что он был женат и носил иерейский, а не архиерейский, сан.
Кроме того, Джамшадов пользовался в Кыгыл-Мэхэ большой популярностью. Прежде всего, он был очень доброжелательным, тактичным и выдержанным человеком. Он имел по тамошним меркам очень хорошее образование: в свое время отучился в Красноярском институте искусств, а сверх того защитил кандидатскую диссертацию по религиоведению в Иркутске. Он давно жил и давно служил в Кыгыл-Мэхэ, его любило местное научное сообщество, а местные власти – привечали. Кроме того, хотя сам он местным не являлся, а национальность его для многих оставалась загадкой (то ли армянин, то ли перс), но жена его была из Кыгыл-Мэхэ, тафаларка. А для кыгыл-мэхинской «национально ориентированной» публики это был момент очень важный. Не будет преувеличением сказать, что для некоторой части местных чиновников, обладающих кое-каким влиянием, это был факт, который окончательно и безповоротно склонил их мнение в пользу отца Виктора Джамшадова. Правда, женитьба на тафаларке стала палкой о двух концах: некоторые ревнители национальной чистоты видели в таком браке покушение на «генетическое богатство» собственного народа. Впрочем, таковых ревнителей было очень мало.
Наконец, отец Виктор был в несомненном фаворе у предшественника Евсевия, Евграфа, который всемерно поддерживал деятельного интеллектуального священника, поставил его благочинным и выхлопотал для него протоиерейский сан. Поговаривали, что Евграф был настолько очарован Джамшадовым, что даже планировал добиваться награждения последнего митрой, и лишь перевод в Вену не дал ему возможности это сделать.
Но и без митры Джамшадов был в Кыгыл-Мэхэ скорее не протоиереем и благочинным, а этаким церковным вассальным князем, который, выказывая мангазейскому епископу знаки всяческого почтения, своим феодом правил так, как ему хочется.
Такое положение вещей уже само по себе не радовало Евсевия, а тут еще выяснилось, что с феодалом случилось то, что обычно бывает с влиятельными феодалами. А именно, ему захотелось независимости.
– Вот те раз! – вслух сказал (хотя и был в тот момент в кабинете один) Евсевий, читая официальный отчет, присланный в начале сентября благочинным Тафаларского округа:
«…К сожалению, на развитии Тафаларского благочиния отрицательно сказывается недостаток архипастырского внимания к жизни отдельных приходов, миссионерской работе, развитию духовного образования в регионе. Подобное положение дел является следствием огромных размером Тафаларского благочиния, включающего в себя всю Тафаларскую республику, как по площади, так и по численности населения соответствующую обычной епархии РПЦ МП. В силу этого представляется невозможным, при отсутствии епископской кафедры непосредственно в Кыгыл-Мэхэ, должным образом осуществлять архипастырское попечение об этой огромной территории. Поэтому, выражая искреннюю, сыновнюю благодарность Вашему Преосвященству за многочисленные труды по окормлению нашего благочиния, считаю своим долгом вновь поставить вопрос…»
– Вновь! – снова вслух недовольно пробормотал Евсевий.
«…вновь поставить вопрос о создании в пределах Тафаларского благочиния Мангазейской епархии отдельной епархии Русской Православной Церкви с центром в столице республики – городе Кыгыл-Мэхе. С уважением, протоиерей Виктор Джамшадов».
Столь явное свидетельство сепаратистских настроений оставлять без внимания было невозможно. Для начала Евсевий попытался подсобрать кое-какую информацию об отце Викторе, но поскольку собирать ему ее было особо негде, обратился с соответствующим вопросом к отцу Василию.
– У них давно там такие идеи, – подтвердил тот.
– Давно, говоришь?.. – переспросил Евсевий. – А как Владыка Евграф на все это смотрел?
– Простите, Владыка, если честно… он их поддерживал.
– О как! – Евсевий улыбнулся с явственным сарказмом. – У нас ведь что в этой их… республике, что здесь приходов раз-два и обчелся. Как такое поддерживать можно было? Какая им там сейчас епархия?
Отец Василий, за считанные месяцы ставший кем-то вроде архиерейского конфидента (по крайней мере, в управленческих вопросах), позволил себе ухмыльнуться и пожать плечами.
– Ну, Ваше Преосвященство, Владыка Евграф был… – тут он демонстративно взял паузу, как бы подбирая уместное слово.
– Интеллигэнт! – не без легкой дозы яда закончил фразу Евсевий. Отец Василий снова язвительно ухмыльнулся.
– А что этот, как его… Джам-ша-а-адов? – спросил Евсевий.
– Его я плохо знаю, – ответил Васильев. – Его на должность благочинного поставил Владыка Евграф. Очень его ценил, – присовокупил он (окончательно добивая рассказом об евграфовском благоволении репутацию Джамшадова в глазах нового епископа).
– Чего ему надо? Он что, думает, что если им туда епископа поставят, то у них там в одночасье процветание начнется? Там храмов-то – горстка! – продолжал расспросы архиерей.
– Не знаю. Наверное… – ответил благочинный, при этом сделав мечтательное выражение лица, тем самым давая понять: я, конечно, кое-что знаю, но кое-что такое, что вот Вашему Преосвященству даже и совестно говорить. Архиерей посмотрел на него вопросительно.
– Не знаю, Владыко, – снова сказал благочинный. – Только слухи.
– Какие это слухи?
– Разговоры среди духовенства. Доказательств нет.
– Ну, давай, выкладывай, какие там разговоры, – архиерей был явно возмущен и заинтересован.
– Говорят, что он сам хочет стать епископом в Кыгыл-Мэхэ.
– Епископом? – Евсевий даже развеселился. – Так он же женатый поп! Какой ему епископ? Да даже если епархию и создадут, решать-то будут в Синоде, кому там архиереем быть!
– С женой он может и развестись. Как Владыка Евграф, – вновь упомянул благочинный имя предшественника Евсевия, догадавшись, что тому это имя уже почти стало ненавистным. – И у него есть кое-какие связи в Кыгыл-Мэхэ. В том числе и во власти. На них он, наверное, и рассчитывает.
– Такие большие связи? – в голосе Евсевия прозвучала нотка иронии.
– Не знаю, Владыко. Но, судя по всему, кое-какие связи у него есть.
– Ну ясно, – ответил Евсевий, давая понять, что разговор окончен.
Поскольку спросить, кроме благочинного, было некого, то следовало самому немедленно выехать на место, чтобы присмотреться к мятежному протоиерею поближе. Кроме того, было еще две важных задачи: в Тафаларской республике появилось несколько человек, мужчин, которые бы хотели стать послушниками в монастыре, а в последующем – и монахами. Одновременно с этим кыгыл-мэхинские власти заявили о своем намерении передать РПЦ МП здания (впрочем, более похожие на руины) бывшего Спасо-Преображенского монастыря, до 1917 года довольно крупного и даже знаменитого своей миссионерской деятельностью. Евсевий увидел в этом явный промысел Божий: появилось место, которое в будущем может стать монастырем, и люди, которые в будущем могут стать монахами. Стало быть, монастырь нужно устраивать именно там.
Разумеется, восстановление монастыря потребует средств. А тут как раз в гости к Владыке Евсевию собрался его старый знакомый, Людвиг Майер, лютеранский пастор, с которым он познакомился еще в середине 80-х годов. Среди прочего, Майер занимался благотворительностью и гуманитарной помощью и мог финансово «посодействовать». По опыту их знакомства Евсевий знал, что Майер, хотя и говорит, что приезжает в гости, на самом деле никогда не появляется просто так. В поездках он всегда высматривает то, что, по его мнению, действительно нуждается в поддержке. И конечным итогом таких визитов является выделение некоторых денежных сумм – не очень больших, но и не совсем маленьких – на какие-то конкретные нужды. Вероятно, где-то там у себя Майер это оформлял как гранты и благотворительные выплаты, но Евсевий никогда не был охотником до такого рода формализма и в эти вопросы старался не вникать. Главное, была ясна схема: приезжает Майер – ему что-то, достойное, с его точки зрения, показывают – Майер дает денег. В этот раз Майеру предполагалось показать то, что осталось от Спасо-Преображенского монастыря.
Евсевий, не любивший модернизма и считавший себя противником «всякого там» экуменизма, не только никогда не отказывал Майеру в приеме, но наоборот (еще в бытность наместником в монастыре), старался встречать его максимально широко. Вот и сейчас, когда он, зябко вздрагивая, глядел в окно на проносящиеся там песчаные вихри, келейник Георгий, бывший по совместительству также и водителем, уже готовил «Волгу» к поездке в аэропорт, а Варвара с Павлой были погружены в стряпню, стараясь изобразить что-то особенно вкусное и оригинальное.
За дверью комнаты послышался гнусавый невнятный голос, бормочущий Иисусову молитву.
– Аминь! – громко ответил Евсевий.
На пороге появился Георгий, который, по обыкновению, ничего не сказал, а просто остановился и начал вопросительно глядеть на епископа исподлобья.
– Пора? – спросил Евсевий.
Тот кивнул. Архиерей перекрестился на иконы и пошел на улицу. Обычно он старался избегать любых контактов с иноверцами. Однако этого иноверца он считал нужным встретить лично, боясь передоверить эту ответственную миссию кому-либо другому. «Бог даст, что-нибудь и для собора сможем получить…» – размышлял он, спускаясь по лестнице к входным дверям.
* * *
Игорь Кулагин был уже не очень молодым человеком – буквально накануне визита Владыки Евсевия в Спасо-Преображенский монастырь ему исполнилось тридцать семь лет. Собственно, именно возраст и заставил его подумать о монастыре: единственный брак – три года непростых отношений, которые он сам считал «тремя годами мучений», – давно остался в прошлом. Больше жениться он не думал, а впереди – впереди уже маячила зрелость, в перспективе – старость. И куда еще податься немолодому одинокому человеку, если он православной веры и уже несколько лет был послушником (алтарником, чтецом и т. п.) на различных приходах? Только в монастырь. Монастырь в его жизни возник естественно, как логическое следствие того выбора, который он сознательно сделал почти пять лет назад.
Сказать, что и его путь церковнослужителя, и приход в монастырь были следствием отчаянности или неустроенности в жизни, было бы неверно. Или, как минимум, не вполне верно. В Мангазейске, родном городе Игоря, у него осталось еще много знакомых, помнящих молодого, застенчивого, но при этом толкового и умелого инженера Кулагина. Правда, его инженерные навыки в начале 1990-х годов оказались практически не востребованы, и он, как и множество других советских интеллигентов, рисковал пополнить огромную армию полуголодных как бы интеллектуалов, перебивающихся случайными заработками. Собственно, какое-то время именно так и было. А потом помог случай: в конце 1992 года, заступив на работу в одно невнятное акционерное общество, он познакомился с тамошним «компьютерщиком» – человеком с неясными должностными обязанностями, который «соображал в компьютерах», за что его фирма ценила и содержала.
«Компьютерщик», как и Игорь, был человеком с довольно широкими интеллектуальными интересами, а вернее сказать – с претензией на такую широту. А Игорь, как и очень многие советские интеллигенты того времени, как раз активно изучал разную эзотерическую литературу, пытался заниматься йогой и т. п. Поскольку всем остальным коллегам по работе йога с агни-йогой были до зеленой лампы и вообще их интересы были материалистическими в вульгарном смысле этого слова, то «компьютерщик» был просто обречен подружиться с Игорем. А там, по дружбе и между делом, он и посвятил его во все подробности своего ремесла. И поскольку Кулагин был инженером действительно толковым, то все премудрости он усвоил быстро и вскоре уже сам мог выступать в амплуа «компьютерщика». В то время многие офисные конторы нуждались в специалисте, способном установить Windows 3.1 и помочь перезапустить «Пасьянс» с «Сапером». Поэтому без работы, а, главное, без денег он уже не сидел. А в свободное от работы время продолжал ковыряться в трудах Хаббарда, изучал «Бхагават-гиту как она есть» – в общем, как умел, так и развивался.
И, наверное, такое вялотекущее ковыряние в конце концов бы и закончилось приблизительно ничем, если б в середине июля 1994 года, искупавшись в озере, Игорь, почесывая себя в районе поясницы, не обнаружил, что родинка, родинка, которая там, на пояснице слева, была всегда, как-то странно увеличилась. Не то чтобы сильно, но заметно. Отметив этот факт, Игорь о нем благополучно забыл и думать.
Еще через три месяца родинка стала неприятно зудеть. Он попробовал ее смазывать тетрациклином, потом – мазью Вишневского. Вроде помогло.
Наконец, через полтора месяца после этого он все же решил навестить городскую больницу. Времена были непростыми, а врачи – голодными и злыми, и прием они вели в соответствующем стиле:
– Здравствуйте! – сказал Игорь, отсидев в очереди около полутора часов.
– Что у вас? – с явным раздражением, игнорируя приветствия, бросили ему в ответ.
Он рассказал, что у него. Врач со все тем же усталым недовольством осмотрел его, затем сказал:
– Думаю, ничего серьезного. Но на всякий случай сделайте рентген и сдайте анализы.
Вдохновленный тем, что у него почти наверняка «ничего серьезного», Игорь тянул с рентгеном и анализами еще около месяца. Когда же и то, и другое было сделано, выяснилось:
– Онкология, – несколько смущенно сказал врач, сидевший за столом, на котором лежали рентгеновские снимки.
Игорь почувствовал, как у него перехватило дыхание:
– Вы уверены?
– Уверены, к сожалению, – тем же тоном ответил врач.
Потом была операция. Опухоль вроде была небольшая, казалось, имелись хорошие шансы на успех. Однако спустя некоторое время после операции выяснилось: все начало развиваться по новой.
Чем дальше, тем яснее становилось: традиционная медицина ничем помочь не может. (По крайней мере, не может помочь посредством той техники, которая тогда имелась у нее в распоряжении в Мангазейске и ближайших регионах.) Как и множество людей в его положении, Игорь стал искать помощи у медицины нетрадиционной – благо, и в Мангазейске, и особенно в Тафаларской республике имелись и буддистские дацаны, и шаманы, и прочие «народные целители».
Болезнь постепенно стала давать о себе знать: периодически начали появляться боли. Работать становилось все труднее, а с учетом безконечных поездок к ламам, шаманам и экстрасенсам – и вовсе невозможно. Навещая врачей, Игорь выслушивал дежурные слова одобрения – мол, «ничего-ничего, молодой человек, все образуется» – и понимал, что это обычная для советской медицины метода: как бы гуманистическое успокоение приговоренного своей болезнью к смерти пациента.
В конце концов с мыслью о смерти он смирился, и в это время, устало перебирая разные варианты «духовности», обратил внимание на православие.
Впоследствии Игорь не мог точно сказать, когда он ощутил, что является православным. Но он четко запомнил момент, когда зашел в небольшой, только что открывшийся храм в одном из поселков в Тафаларской республике, и именно тогда уверенно сказал себе: «Я – православный христианин». Верил ли он тогда? Если бы его спросили, то он ответил бы – и даже вполне искренне, – что – да, верил. Он так считал. Но вера эта была выбором, сделанным в результате логических сравнений, та вера, которая идет из головы, а не из сердца. И, в сущности, это вполне могло быть лишь еще одним этапом на длинных и путаных путях его духовных исканий.
Там, на небольшом, фактически сельском приходе он провел месяц с небольшим. Нужно было ехать в Мангазейск, проведать маму, которая, казалось, от его болезни мучилась больше, чем он сам.
Мать, конечно же, очень была ему рада, старалась угодить во всем, а о болезни – к тому времени неизбежно смертельной – не упоминала. И ей, и Игорю было ясно, что врачи уже не помогут, что ничего хорошего уже не случится. И хотя сейчас он чувствует себя сравнительно неплохо (даже боли на время прекратились), через несколько месяцев, а может, и через несколько недель, его ждет смерть.
Несколько дней Игорь провел рядом с матерью, практически не выходя из дому, стараясь не упустить ни единой минуты общения с этим единственным по-настоящему близким ему человеком. А потом, чтобы внести окончательную ясность, он тайком собрал все свои медицинские справки и бумаги с данными анализов, сказал маме, что отправляется повидать одного своего друга – он назвал имя человека, с которым не виделся уже лет пять, мать поняла, что он говорит неправду, но сделала вид, что поверила – и отправился в больницу.
После осмотра и рентгена врач велел явиться через трое суток, за точным результатом. Что Игорь и сделал.
Доктор, будучи знаком с его историей болезни, старался с ним держаться максимально корректно и излучать оптимизм (отчего становилось уже совсем тошно), но все же был чем-то явно недоволен. Он смотрел снимки на свет, вновь брал в руки длинные белые бумажки с какими-то латинскими буквами и цифрами, и раздраженно говорил:
– Ерунда какая-то!.. Не может этого быть… Кретины! – добавил он уже определенно яростно.
– Что-то не так? – осторожно поинтересовался Игорь.
– Да они ваши анализы перепутали. И снимки к тому же, – раздраженно сказал врач. – Все придется заново делать.
Игорь вздохнул. Процедура эта была не самая радостная, но альтернативы не было.
– Извините, – даже и не без некоторого смущения сказал врач. – Я проконтролирую, чтоб больше такой ерунды не было.
Все повторилось снова – рентген, анализы и трехдневное ожидание. И вновь Игорь под предлогом встречи с мифическим другом покинул дом и вновь пришел к тому же врачу. На этот раз доктор был искренне радушен и заинтересован.
– Скажите, ваша фамилия действительно Кулагин? – спросил врач.
– Да, – удивленно ответил Игорь. И он доктора, и доктор его давно уже запомнили, и вопрос прозвучал как минимум странно.
– Простите, что переспрашиваю… Когда прошлый раз мы рентгеновский снимок делали, я подумал, что в лаборатории чего-то намудрили. В этот раз специально все проверяли, но результат тот же.
– Какой? – нетерпеливо спросил Игорь.
– Я вас поздравляю: вы абсолютно здоровы! – врач улыбнулся искренне и радостно.
– Я… здоров? – переспросил Игорь.
– Совершенно верно. Вы здоровы. Честно говоря, я сначала не поверил: такое ощущение, что вы никогда и не болели. А вот, однако же!.. Скажите, где вы лечились?
– Я? – переспросил Игорь. Голос врача доносился как будто откуда-то издалека, а земля под ногами ходила ходуном, как после долгой верховой прогулки или основательной морской качки. Привычные бело-голубые краски больничного кабинета – врачебные халаты, ширмы, старая кафельная плитка как будто изменились, стали необычными и яркими. Голова немного кружилась, и Игорь чувствовал, что отвечает невпопад, и понимал, что по-другому он сейчас ответить не сможет.
– Вы, разумеется! – врач снова улыбнулся.
– Я нигде не лечился…
– То есть как? – доктор чуть наклонил голову и удивленно посмотрел на него исподлобья. – Вообще нигде?
– Нигде. Только у вас…
– Кхм… – недоуменно кашлянул врач.
На несколько секунд в кабинете стало совсем тихо. Врач снова кашлянул и заговорил опять:
– Если вы лечились у каких-то специалистов, мне, да и моим коллегам, было бы интересно знать, у каких. Или же это была, как сейчас говорят, нетрадиционная медицина?
– Нетрадиционная медицина была, – уже довольно твердо ответил Игорь. – Но она мне не помогла.
Врач кивнул и спросил снова:
– Тогда что же, все-таки? Надеюсь, не секрет?..
– Нет… Это чудо… Божие чудо.
Доктор снова поглядел на него исподлобья, и во взгляде его читался скепсис и тот характерный страх, который возникает у всякого человека, говорящего с сумасшедшим.
– Так вы нигде не лечились? – снова спросил доктор.
– Нет, нигде, только у вас.
– Н-да… Необычно. Очень необычно… Ну да главное, что вы теперь здоровы! Живите, не болейте, радуйтесь жизни!
Для Игоря было очевидно: его выздоровление – это чудо Божие, которое свершилось именно тогда, когда он пришел в Православную Церковь. Именно этот момент и стал моментом его подлинного, так сказать, полноценного религиозного обращения. Православие для него перестало быть логическим, интеллектуальным выбором, еще одной станцией на длинном до безконечности пути религиозных исканий. Отныне оно явилось мистической реальностью, ощущаемой не менее остро и непосредственно, чем реальность вещественная. С окружающего мира как будто спали покровы, и Игорь его видел отныне таким, каким он описан в трудах Отцов Церкви: вот действия ангельских сил, вот плоды молитвы, а вот козни духов злобы поднебесной…
Соответственно, и образ жизни, и жизненные приоритеты Игоря изменились кардинально. О том, чтобы возвращаться к работе инженера или еще какого-нибудь «компьютерщика», не могло быть и речи. Отныне он хотел быть исключительно и только при Церкви – в любом качестве, в полном соответствии с поговоркой, бытовавшей в Московской Патриархии в 1970-е годы: «Хоть колом, да в церковной ограде торчать».
Он снова вернулся на приход в Тафаларской республике, который покинул для того, чтобы съездить в Мангазейск и узнать о своем излечении. Несколько лет служил в этом храме алтарником, а равно и чтецом, и уборщиком, и всем, кем нужно. А вскоре после того, как Владыка Евсевий был назначен на мангазейскую кафедру, написал ему письмо с просьбой, если возможно, определить его на жительство в какой-либо монастырь, ибо монастыри, по слухам, должны были вскоре начать открываться…
Письмо без ответа не осталось: Владыка Евсевий велел прибыть в Мангазейск для личного знакомства. Что Игорь и сделал, когда в очередной раз навещал свою мать.
Встреча эта врезалась ему в память во всех подробностях, чрезвычайно ярко. По характеру своему он был человеком скромным, даже стеснительным; а теперь, когда ему предстояла встреча с епископом, носителем уникальной духовной власти – теперь он стал и вовсе робким.
– Вы куда? – недовольно и громко буркнула Наталья Юрьевна, когда он открыл дверь Епархиального управления и неловко поклонился ей. Там, на обычном приходе в Тафаларской республике, нравы были простые, и все давно было понятно. А как вести себя здесь, вблизи владычного кабинета, внутри коего находился сам преемник апостолов, Игорь не понимал. И епархиальные сотрудники казались ему не взбалмошными тетками и бедно одетыми мужиками с мешками под глазами, а почти ангелами, с огненными мечами в руках охраняющими покой князя Церкви.
– Простите! – искренне сокрушаясь, ответил он. – Я к Владыке!
– Вам назначено? – требовательно спросила Наталья Юрьевна.
Ему было, конечно же, назначено, но Игорь почему-то испугался. Собравшись с духом, он ответил:
– Да, назначено.
Наталья Юрьевна наконец дала ему зеленый свет. Далее находился кабинет, в котором обитали Шинкаренко с благочинным. Шинкаренко лишь моргнул глазами в ответ на его поклон. А когда он попытался подойти к отцу Василию, чтобы взять у него благословение, тот благочестиво зашипел:
– Владыка рядом, не будем, – и Игорь еще более смутился от своего незнания епархиальных нравов, и снова сокрушенно попросил прощения.
Наконец дверь открылась, и он был допущен в архиерейский кабинет. Евсевий встретил его довольно приветливо, благословил, предложил сесть. После встречи с показавшимися столь серьезными и страшными стражами – Натальей Юрьевной и благочинным, – подобный прием оказал на Игоря чарующее воздействие. Как будто он, как в сказке, прошел через некую пещеру, населенную чудовищами и страшными призраками, чтобы в глубине ее встретить великого и мудрого старца, в руках у которого – ответы на все вопросы и ключи и от истины, и от твоего счастья.
– Вы хотите поступить в монастырь? – спросил его Евсевий тоном, который вернее всего определить как деловой. Если все прочие вопросы управления епархией были для него в новинку и, приступая к ним, он подчас чувствовал нерешительность, то здесь все было понятно. Он сам много лет был монахом, был и духовником, и наместником монастыря, и в этих вещах ориентировался прекрасно.
– Да, Ваше Преосвященство, – ответил Игорь.
– Почему приняли такое решение? – снова, и тем же требовательно-деловым тоном, спросил архиерей.
Игорь рассказал то же, что и изложил в письме, только более подробно: что он уже давно находится на различных церковных послушаниях, что ничем другим заниматься не собирается, да и не хочет. И вообще не представляет себе другой жизни. С женой давно развелся, еще до своего воцерковления, и жениться по новой также не планирует. Меж тем годы идут, и ему, как и всякому человеку, надо определяться – встретить старость под забором не хочется никому. А куда же ему с такими желаниями и таким образом жизни, податься, как не в монастырь?
Игорь говорил откровенно и при этом боялся, как бы такая простая, почти материальная мотивация не испортила мнение Владыки о нем. Мол, в монастырь идут ради духовного самосовершенствования, а не ради того, чтобы было куда в старости приткнуться. Единственное, чем утешал себя Игорь: он ведь не просит о постриге. Он просит только, чтобы ему разрешили жить при монастыре.
Однако Евсевия мотивы, которые Игорь ему изложил, ничуть не смутили. Более того, было видно, что его такая позиция вполне устраивает.
– Что же, дело доброе, – резюмировал архиерей. – Как раз в Тафаларском благочинии нам передают Спасо-Преображенский монастырь. Вот туда и отправляйтесь!
– Благословите, – сказал Игорь, вставая. Архиерей кивнул.
– Вы пока не торопитесь, поживите там, обдумайте все. А там посмотрим. Все ясно? – спросил Евсевий. Игорю было все ясно, и аудиенция на этом закончилась.
…И вот теперь он стоял в воротах Спасо-Преображенского монастыря, рядом с еще тремя послушниками. Один из них, невысокий, жилистый Евгений Коваленко, ранее уже успел побывать на послушании в Санаксарском монастыре, а сюда прибыл совсем недавно. Двое других, Григорий и Глеб, были совсем новички, ранее при монастырях не жили и вообще не имели сколько-нибудь продолжительного опыта церковной жизни.
Священников среди них не имелось – следовательно, не было никого, кто мог бы встретить архиерея по чину: в фелони, с крестом на подносе и т. д., так что ситуация была в известном смысле нештатная. И хотя Игорь и Евгений имели некоторый опыт церковного служения, но с епископами практически не сталкивались, и как теперь следует себя вести, понимали не очень ясно. К тому же Владыка о своем приезде известил их лишь накануне вечером, телефонным звонком, и единственное, что они могли успеть – это прибраться в небольшом деревянном здании, долгие годы использовавшемся под склад, а ныне ставшим «келейным корпусом», да в маленькой церкви. (Церковь была старая, XIX века постройки; из-за небольших размеров ее удалось довольно быстро приспособить для совершения богослужений, в отличие от большого старого собора, восстановление которого требовало времени и немалых средств.) Даже встретить архиерея колокольным звоном было невозможно – за неимением колоколов.
– Едут? – вопросительно произнес Евгений, когда вдалеке послышался гул мотора.
Игорь кивнул. Машины в этих местах появлялись нечасто, и вероятность того, что это был мотор именно архиерейского автомобиля – а по звуку было понятно, что ехала легковушка, а не грузовик – была весьма велика.
Через минуту Глеб, стоявший за воротами, закричал:
– Владыка! Владыка едет!
Оставшиеся трое послушников подошли к недавно сколоченным хлипким деревянным воротам, которые уже были открыты, но которые они, на всякий случай, постарались открыть еще шире. Наконец показалась и «Волга», которая с хриплым воем влезла на подъем перед въездом в монастырь и, покачиваясь, как корабль на волнах, на кочках и рытвинах (дорога была, естественно, грунтовая), въехала на монастырский двор.
Как всегда, неспешно и не говоря ни слова, из-за руля вылез архиерейский келейник, Георгий, и открыл дверь сначала с той стороны, с которой сидел Владыка, а потом с другой. Откуда, к удивлению братии монастыря, вылез какой-то иностранного вида человек, лет так пятидесяти пяти – шестидесяти, в сером пиджаке, под которым виднелась черная рубашка с еретической колораткой.
Послушники разом низко поклонились Владыке и по очереди подошли к нему под благословение. Настроен архиерей был явно благодушно и, благословляя, широко улыбался. Весьма улыбчивым был и сопровождавший его иностранец, вставший рядом с ним.
– Ну, как вы тут живете? – с улыбкой спросил Владыка, обращаясь к немногочисленной монастырской братии.
– Вашими молитвами, Владыка святый! – ответил, снова чуть поклонившись, Евгений.
– Эге! – иронически произнес Евсевий. – Ну, встречайте гостей! Пастор Людвиг Майер, из Германии, к вам соблаговолил пожаловать!
Майер продолжал стоять рядом с ним и беззвучно улыбаться. Также беззвучно, но уже без улыбок, будто переломившись в поясе, поклонились ему монастырские послушники.
– Ну, давай показывай, как вы живете! – приказал Владыка Евгению.
– Простите, Владыко, – запинаясь от смущения, ответил тот. – Благословите в трапезную, отобедать?
– Ну, наконец-то догадался! – все так же благодушно, но не без некоторого укора, ответил Евсевий. – Веди тогда!
Трапезная была небольшим помещением в «келейном корпусе», где едва умещался стол, две скамьи и самодельный аналой под иконой в красном углу. По случаю владычного визита братия постарались выставить все самое лучшее и вкусное, но даже и в таком люкс-варианте все это выглядело довольно скромно: чай с сахаром, белый хлеб местного хлебозавода, гречневая каша да рыба жареная и соленая. Рыба, впрочем, была свежая, с одного из местных озер, и в этот раз Григорию, который выполнял обязанности повара, удалось ее испортить не совсем уж вконец. Алкоголя не было вовсе – с самого начала возрождения монастыря как-то само собой установилось, что на территории обители действует негласный сухой закон.
За обедом, как и полагается по монастырским уставам, один из послушников читал жития святых (по Четьим Минеям Димитрия Ростовского), все прочие, включая Евсевия и Майера, ели молча. Послушники, однако, периодически бросали косые взгляды на лютеранского пастора, сидящего с ними за одним столом. Ведь по канонам, вроде бы инославным, то бишь еретикам, вместе с православными обедать, а тем более молиться до и после еды нельзя?.. Ситуация была несколько соблазнительной, но, однако же, никто не проронил ни слова, утешая себя мыслью, что еретика привел архиерей, а уж архиерей наверняка знает, что делает. Что же до еретика, то его, очевидно, все устраивало. И хотя уровень комфорта в трапезной (да и в целом в монастыре) был явно далек от западноевропейских стандартов, его это ничуть не смущало. Он спокойно, под чтение житий, прикончил основательный кусок жареного судака, закусил его соленым омулем и дочиста выскреб от гречки поданную ему фарфоровую тарелку (одну из двух – вторая была у епископа; остальные ели из мисок).
Поскольку еды было не слишком много и говорить за ее поглощением не полагалось, обед закончился быстро. Затем Владыка велел вести в храм. Следом за ним потащился и его келейник с большим чемоданом, в котором, как оказалось, было архиерейское облачение. Евсевий надел поверх рясы епитрахиль, поручи и, подумав некоторое время, малый омофор, после чего начал служить молебен, что заняло еще около сорока минут. Майер присутствовал и на молебне, внимательно осматривая – а вернее, ощупывая взглядом – церквушку изнутри.
Храм выглядел очень аскетично. После закрытия монастыря в 1928 году его церкви еще какое-то время оставались в пользовании местного сельского прихода. Вначале отобрали большой собор, который превратили в зернохранилище, а еще через год – небольшую церковь, освященную в честь Пресвятой Троицы, в которой и молились сейчас архиерей с послушниками. Поскольку Троицкий храм был невелик, местный колхоз использовал его для хознужд не столь активно, и он заметно меньше пострадал. Однако из церковного убранства не сохранилось ничего. Росписей там никогда не было, иконостас был уничтожен, прочие иконы, по всей видимости, тоже (по крайней мере они исчезли, и больше их никто не видел). После того как монастырь передали РПЦ МП, в храме заново перекрыли крышу, соорудили из фанеры некое подобие иконостаса, на который прикрепили дешевые софринские иконы, а из жестяных ящиков, наполненных песком, сделали пару подсвечников – и, в общем-то, это было все. Да и сам храм еще только предстояло освятить: несмотря на наличие некоего подобия иконостаса, престола в алтаре еще не было.
На молебне Евсевию прислуживали, выполняя обязанности чтецов, пономарей и импровизированного хора, Игорь и Евгений (Глеб с Григорием пока что для этого мало годились.) Они справлялись не идеально, но было заметно, что действуют они уверенно, более-менее в церковном обиходе разбираться научились и при этом изначального благоговения к службе отнюдь не растеряли. Это Евсевий мысленно отметил с удовлетворением. Он, естественно, знал биографию и Игоря, и Евгения – оба перед поступлением в монастырь изложили ее письменно, а потом он обоих дополнительно расспрашивал во время беседы. Сейчас эти два человека вели себя так, будто они и вправду были родными братьями. Однако в действительности, до своего воцерковления, они были полной противоположностью едва ли не во всем.
* * *
Евгений Коваленко родился и вырос в небольшом городе Торей в Мангазейской области. Торей был городом довольно интересным – возник он в 1969 году, буквально в голой степи, недалеко от границы с Китаем, и начал быстро развиваться. Причина – обнаружившиеся в этой степи запасы редкоземельных металлов, крайне необходимых оборонному комплексу СССР. Поэтому власти действовали быстро: там, где еще год назад стояло несколько вагончиков и палаток геологов, началось лихорадочное строительство. Причем изначально все это было засекречено. В рекордные сроки выросли десятки домов и, конечно же, научно-исследовательские центры и заводы по переработке ценного сырья. Какое-то время город был закрытым и носил гордое название Мангазейск-47. Впрочем, и его он носил в весьма узких кругах, ибо официально он не существовал и на картах не обозначался. С другой стороны, особо жесткого режима там никогда не было: жители области имели более-менее ясное представление о его существовании и заборами с колючей проволокой его никто не окружал.
А в 1988 году, по каким-то собственным соображениям, Москва сняла с города статус закрытого, и он появился на картах под изначальным именем «Торей».
Женя Коваленко родился во вполне обычной и вполне советской семье: отец рабочий, родом из Харькова, переброшенный на стройки закрытого города, мать – учительница в местной начальной школе. Район, в котором они обитали, был заселен соответствующим пролетарским контингентом, призванным партией и правительством на местные ударные стройки. Естественно, тамошняя молодежь люто ненавидела молодежь из соседних кварталов, где проживали всякие физики-экспериментаторы с физиками-теоретиками, густо разбавленные партийными и советскими функционерами, военными и приправленные сотрудниками КГБ. Досуг, коего было очень много, рабочая молодежь проводила в драках либо друг с другом (что считалось нормой), либо с молодежью нерабочей (что было намного приятнее, но подчас каралось почти всерьез).
Несмотря на свой низенький рост (а может, и благодаря ему – комплексы ведь могут пробуждать в человеке удивительную энергию), Женя с ранней юности был хорошим бойцом, за что пользовался исключительным уважением прочих гопников. Несомненно, немалую роль сыграл тот факт, что он на протяжении многих лет основательно занимался боксом. Но, наверное, самым важным было не это, а бешеная злоба, с которой он ввязывался в любую драку. Или, если драки не было, затевал ее сам. А безстрашие его подчас выглядело безумием, но именно оно позволяло ему почти из всех стычек выходить победителем.
Как это работает, он и сам не понимал. Бывали случаи, когда он в одиночку кидался на десятерых противников.
– Он мне говорит: «Их там десятеро!» – вспоминал он сам впоследствии, уже неохотно, без всякой рисовки. – А я ему: а, мол, фигня! И вниз по лестнице, начинаю их в обе стороны… Честно говоря, не помню, как их бил. Потом как очнулся: двое на площадке лежат, в крови все, третьего по морде бью, остальные убегают.
Такие истории с ним случались регулярно. Кроме того, несмотря на склонность к подобного рода занятиям, Женя был неглуп и сравнительно много читал. Потому среди местных гопников пользовался чрезвычайным, прямо заоблачным авторитетом: во-первых, как непревзойденный боец, во-вторых, как непревзойденный интеллектуал. Последнее качество впечатляло не только дворовых люмпенов, но даже и сотрудников милиции, которые во время очередного привода неизменно говорили ему:
– Коваленко, ну ты же неглупый парень! Ну не дурак же ты, Коваленко! Ну зачем тебе это надо? Что ты на зоне забыл?
Пару раз эти милицейские симпатии сыграли решающую роль в его судьбе – Евгения вполне могли осудить по уголовной статье, с учетом всех его приводов и «блестящих» характеристик отовсюду, где он только ни побывал, но пожалели именно за ум, за который ему в очередной раз советовали взяться.
В 1991 году, когда СССР рухнул, Евгению исполнилось двадцать два года. Для Торея распад Советского Союза стал катастрофой. Если раньше этот город пользовался особым благоволением (выражавшимся, в частности, в специальном снабжении, благодаря чему прилавки в здешних магазинах выглядели поинтереснее, чем даже и в областном центре), то теперь он вдруг стал никому не нужен. Заводы встали, сотрудникам НИИ перестали платить зарплату. Рабочим, впрочем, тоже перестали, равно как и врачам, и учителям. Исчезли деньги, с ними исчезла и еда. Что в этой ситуации делать, советским людям, ничего, кроме «снабжения» и «распределения» не знавшим, было непонятно. Относительно неплохо стали устраиваться лишь те немногие – в основном это была молодежь, – кто занимался предпринимательством. Или «предпринимательством». В первом случае речь шла о челночной торговле с Китаем, которая потихоньку начала питать частные киоски и небольшие магазинчики («комки»). С этого можно было жить, и даже относительно неплохо. Во втором случае весь бизнес строился на воровстве: разного рода заводов и режимных объектов, в одночасье ставших никому не нужными, осталось множество. Можно было ночами вырубать медный кабель, можно было свинчивать в опустевших заводских корпусах прочий цветмет с черметом и все это продавать в тот же Китай. Риски были небольшими, а вот доходы – очень ощутимыми.
Естественно, ни ниве этого полукриминального и вполне криминального бизнеса пышным цветом зацвел рэкет. И здесь навыки Евгения Коваленко оказались чрезвычайно востребованными. Битье физиономий коммерсов, ночные поджоги «комков» и кафе, «стрелки» и «разборки» и даже стычки с использованием огнестрельного оружия – именно это и стало его профессией на несколько лет. Собственно, он был готов заниматься этим ради одного удовольствия от процесса. Адреналин в кровь бил фонтанами, братва уважала – казалось, именно в этом было счастье. Но было не только это, но еще и некий приятный бонус: впервые у него появились деньги, причем, по меркам Торея тех лет, большие деньги. И хотя понятие «лучший ресторан» или «лучший клуб» в то время применительно к Торею было в высшей степени условным, теперь у него появилась возможность выбирать исключительно то, что считалось лучшим. Есть лучшее, пить лучшее и, само собой, спать с теми «девочками», которые тоже считались самыми-самыми.
Так пролетели три шальных года, с 1991-го по 1994-й. В это время Евгению казалось, что он нашел себя и что жизнь действительно удалась. Ему везло: несмотря на весьма опасный род занятий, он ни разу не был ранен (при том, что коллег по ремеслу на местное кладбище провожал неоднократно). Однако постепенно, вместе с хмелем от не кончающихся денег и не кончающихся женщин, стали приходить усталость и горечь. Как и всякий человек, выросший в бедности (а жизнь рабочей семьи в советском Торее, несмотря на все его спецснабжения и льготы, была, конечно, бедной), поначалу он просто лишился рассудка от обрушившихся на его голову материальных благ. Еще бы! Вот совсем недавно они с «братанами» стояли в подворотне, радуясь редкой удаче: удалось по случаю раздобыть пару бидонов разливного пива. И это было счастьем, и это был праздник. А теперь? А теперь он каждый день обедал в лучшем ресторане города. И мог позволить себе заказать все, что было в меню (а в меню, несмотря на всю провинциальность, была и дичь, и водка «Абсолют»). Однако шли месяцы, а за месяцами пролетели и годы. И вдруг стало понятно, что, например, дичь под дорогую водку – это, конечно, лучше, чем тушенка, запитая спиртом «Рояль», но, в общем, и то, и другое – еда. Именно еда, а не счастье и не смысл жизни.
Наверное, будь Евгений классическим гопником, ему такие мысли в голову бы не пришли никогда. А еще вероятнее, что его бы пристрелили или прибили значительно раньше, чем у него появился бы шанс об этом задуматься. Но его голова, та самая голова, на которую в свое время столько надежд возлагали и милиционеры, и педагоги, и его родители, сработала, заставив своего носителя задуматься над тем, что он вообще делает на этой земле.
Первые же попытки рефлексии обнажили нерадостную картину. Ему было двадцать пять лет, и ему было очевидно, что жизни, как таковой, еще не было. Просто не было. Была лишь безконечная адреналинная гонка. Семья? Своей семьи у него нет, и он даже не представлял, как это: жениться, рожать и воспитывать детей. Да и только ли семьей все исчерпывается? Чего он достиг? Уважения, прямо говоря, других бандитов? Что ж, когда ему было лет четырнадцать, это казалось значимым достижением. Во многом потому, что, хотя он и вырос в гопнической среде, но долгое время до конца не понимал, что в действительности представляет собой бандитский мир. Уголовники казались этакими веселыми, удалыми и неунывающими разбойниками из сказок и старых детских фильмов, а их жизнь – непрекращающимся праздником, хорошенько приправленным приключениями с острыми ощущениями. Но теперь, когда он сам несколько лет активничал на бандитском поприще, он узнал истинную природу этого мира. И убедился воочию, что все эти крутые бандюки – это люди с изломанной психикой, нагруженные массой душевных патологий и к тому же очень трусливые. И образ жизни они вели соответствующий: «малины» были отнюдь не романтическими пещерами в лесной чаще, где храбрый атаман с верными товарищами, сидя на грудах золота, пировал в окружении хмельных красавиц. Это были притоны для патологических подонков, патологических же проституток, наркоманов и садистов. И от того, что в этих притонах была расставлена как бы элитная позолоченная китайская мебель, а шампанское с водкой «Абсолют» натурально лились если не рекой, то струей из горла на ковер, – от всего этого такие притоны ничуть не становились романтичными и привлекательными. Нет, цену разбойной романтике он теперь знал хорошо, и чем дальше, тем больше его от нее начинало тошнить.
А что же тогда делать?.. Он не знал. Но на всякий случай поехал в Мангазейск в декабре 1994 года и незадолго до Рождества там крестился.
Нельзя сказать, чтобы крещение сразу же изменило его жизнь. Нет, все осталось поначалу прежним. Жизнь вокруг него начала меняться сама. В 1995 году «безпредельные» бандитские разборки уже начали постепенно уходить в прошлое. Да, отдельных авторитетов еще расстреливали из автоматов на улицах и взрывали вместе с их автомобилями, на «стрелках» еще, случалось, убивали иных невезучих «братков», но все же подобные вещи теперь уже рассматривались как эксцессы.
Соответственно, и умения Евгения – мордовать, стрелять и поджигать – стали менее востребованы. А сам он из местной бандитской элиты как-то незаметно выпал, спустившись на вторые и даже на третьи роли. Деньги, которых раньше всегда было много, также незаметно исчезли. И оказалось, что за то время, когда через его руки проходили десятки тысяч долларов, он не купил себе даже отдельной квартиры. А машину он продал, так как в очередной раз срочно потребовалась наличность… Чтобы не остаться совсем уж у разбитого корыта, в сентябре 1996 года Коваленко вместе с несколькими друзьями, также потерявшими в деньгах и влиянии из-за случившихся перемен, создал частное охранное агентство «Удар». В сущности, занимались они тем же самым рэкетом, только более-менее легальным и, конечно, сильно облагороженным. Законы они почти не нарушали, и предприятие давало какие-то доходы. С тем, что имелось раньше, это было не сравнить, но на жизнь хватало.
Так продолжалось еще два года. Однако и переход в более тихую и легальную сферу не принес Евгению душевного спокойствия. И чем дальше, тем больше боли вызывал постоянно вспыхивавший в уме вопрос: зачем? Зачем он живет? К чему нужно стремиться? Чего он достиг? И вообще, есть ли какие-то достижения в этом мире? Рационального ответа он не находил. Неудовлетворенность жизнью выливалась в боль, а боль, когда становилась нестерпимой, оборачивалась агрессией. И снова начали случаться жестокие драки. Опять разбитые в кровь лица, опять столы и стулья, вылетавшие в окна ресторанов (иногда вместе с иными посетителями этих ресторанов), вой милицейских мигалок… Доставка в отделение милиции, стандартный допрос, протокол… И нечто новое, что появилось во взгляде опера, этот протокол составляющего. Раньше там всегда считывался страх перед местным уголовным авторитетом, соединенный с уважением. Но теперь там появился страх иного рода: тот, который возникает у обычного человека, когда он понимает, что говорит с сумасшедшим.
Евгению и раньше говорили, что он пропадает, гибнет, и прочее в этом роде. «Фигня!» – отмахивался он. У него было твердое ощущение, странная, логически необъяснимая уверенность: все в норме, с ним ничего плохого не произойдет. Теперь же появилось иное чувство: что вот теперь – да, теперь он гибнет.
Евгений редко принимал решения рационально. С детства, сколько он себя помнил, он привык скорее повиноваться чувствам, чем разуму. Именно так случилось в конце августа 1998 года, когда он позвонил своим родителям и друзьям (с которыми вместе они держали охранное агентство) и сказал, что уезжает. Куда? Сообщит позже (он сам еще не знал, куда). Надолго? Надолго.
Бросив все, он поехал в Центральную Россию, где попросился трудником в первый же попавшийся монастырь. Почему именно в монастырь? И почему в Центральной России, а не, скажем, в Тобольске? Задавать такие вопросы Евгению было безполезно, ибо ответить на них он бы не смог. Решение было иррационально: просто он ощутил, ощутил остро, что вот сейчас и здесь ему нужно поступить так, а не иначе. Когда-то он, так же повинуясь голосу своих эмоций, срывался по лестнице собственного дома вниз, чтобы избить десятерых. Или же первым начинал бить тех, кто приехал «на стрелку». Он чувствовал, что так надо. Теперь же он ощутил, что ему нужен монастырь. И этого для него было достаточно.
Несколько месяцев он путешествовал из обители в обитель, где-то останавливаясь более-менее надолго, где-то не задерживался и недели. Так он добрался и до Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря – и прожил там почти два года. А в самом конце 2000-го решился вернуться назад, в Мангазейскую область.
Почему? Впоследствии в узком кругу он говорил:
– Сам не знаю… Почему-то стал молиться Пресвятой Богородице, чтобы вернуться на родную землю. Сам не знаю, почему.
Так он покинул Санаксарский монастырь, хотя его оттуда никто и не гнал. Тогда он был уверен: для него монастырская жизнь закончилась. Теперь он стал действительно всерьез верующим, воцерковленным православным человеком, однако жить дальше он хотел в миру. Что делать? Да мало ли что можно делать! О родителях позаботиться, для начала. Да и самому жениться, почему нет? Семью завести… Смысл жизни? Этот вопрос для него был закрыт. Теперь в его жизни появился Христос, и других смыслов он уже не искал.
Доехав до Москвы, он сел там на поезд. Билет у него был, само собой, самый дешевый, в плацкартный вагон. К тому времени Евгений Коваленко внешне никак не напоминал самого себя прежнего – «крутого братана», лихо разруливавшего вопросы в родном Торее. За время пребывания в монастырях он отрастил длинные волосы, которые были собраны в хвост с помощью зеленой резинки, и отпустил небольшую реденькую бородку (борода у него росла плохо). Старая, видавшая самые удивительные виды куртка висела на нем мешком, хорошо маскируя по-прежнему развитую, тугую мускулатуру. А на левой руке, в память о монастырской жизни и монастырской молитве, были намотаны четки.
Первый день поездки (а от Москвы до Мангазейска поездом ехать четверо суток) прошел стандартно, без приключений. А на второй день соседи поменялись. И вместо бабушки, дедушки и их маленького внука на полках, с шумом и грохотом, заполняя окружающее пространство запахом давно нестиранной верхней одежды, перепревшего пота и водочного перегара, появились трое каких-то великовозрастных гопников. Сразу же, как только состоялось явление этой компании, Евгений интуитивно понял: конфликт неизбежен. Своим внутренним радаром он тут же определил хорошо знакомый ему с детства типаж хамоватого и подловатого как бы пролетария. Такие всегда ищут стычки, несмотря на то что в таковых стычках почти всегда получают много и больно. Также было очевидно, что сии люмпены и в Евгении увидели кого-то, связанного с Церковью. То есть, по их логике, ранимого и беззащитного. А на люмпенов описанного типа это действует так же, как на борзую собаку – вид убегающего зайца.
Интуиция не подвела – расположившись на своих местах, новые соседи задали пару глупых (даже для них) вопросов пенсионного возраста мужчине, путешествовавшему на боковой полке, после чего все их внимание сосредоточилось на Коваленко.
– Ты это, верующий, что ли? – не поздоровавшись, с места в карьер начал диалог один из люмпенов, лет так тридцати пяти – сорока. По всей видимости, он был в этой компании за старшего.
Евгений пристально посмотрел на него. Тем не менее вопрос, хоть и задан был грубо, но сам по себе, ни по каким нормам и даже понятиям, оскорбительным не был. Поэтому он коротко ответил:
– Верующий.
Люмпен удовлетворенно хрюкнул. Диалог, который, как ему казалось, должен был быть веселым, начался.
– А, ну а я так и понял… Слышь, да ничо, мы тоже верующие!
Его спутники, искривившись в улыбках, покивали головами. Евгений ничего не ответил.
– А ты это, ты типа поп? Или монашек?
– Монах, – тихим голосом, который, однако, уже напрягся, как натянутая струна, ответил Евгений.
– Ты монах?
– Я – нет.
Люмпен решил, что пора изобразить легкое недовольство:
– А что ты сказал, что ты монах?
– Я тебе ничего не говорил, – так же тихо и тем же тоном ответил Евгений.
– Это как это: «не говорил»? Сам же сказал!
– Я сказал, что правильно говорить «монах».
Люмпен ядовито улыбнулся, и продолжил:
– А, ну я не понял… А по мне, так монашек или монах – один хер! Вот ежели монашка…
И вся компания дружно заржала. Евгений молчал. А предводитель пролетариев продолжал:
– Вот монашка – это ж другое дело! А, монашек?! – и снова, несколько наигранно, заржал.
– Я тебе не монашек, – ответил Евгений. Ответ его прозвучал явственно зло.
– Ну ты это, извини, конечно, – откровенно издевательски отвечал ему собеседник. – Я ж это так… Я ж про это, – тут он снова подавился смехом, и Евгений почувствовал, как капли люмпенских слюней долетели до его лица. – Монашку-то ведь можно эта…
Тут пролетарский предводитель сделал характерный жест обеими руками – жест, который во всем мире означает сексуальное сношение. Евгений смотрел на него в упор.
– Ты чо смотришь? – вступил в разговор второй, несколько более молодой парень из той же компании.
«О! Вот это то, что надо!» – подумал Евгений и мысленно улыбнулся, услышав классическую для гопнических наездов фразу.
– Вы бы успокоились, – тихо, предупредительно-злым тоном сказал он им.
– Чо?! – презрительно бросил главный люмпен.
– Вы бы успокоились, – тем же тоном сказал Евгений.
Все трое пролетариев слегка напряглись, однако напряжение это было не особо сильное. Скорее даже, эта была та легкая, освежающая собранность, которая возникает перед неким приятным, радостным делом. В данном случае, таким делом была разборка с неким церковным хлюпиком (как им казалось) в соотношении один к трем.
– А может, ты успокоишься, а?! – крикнул второй, молодой участник дискуссии.
– Да я-то спокоен, – сказал Евгений.
– Ну так и сиди спокойно, понял!? – продолжал кричать юный гопник.
– А если нет? – спросил Евгений.
– Чо, может, поговорить хочешь, э?!
– А если хочу?
– Ну давай поговорим!.. – ответил глава компании.
Евгений молча встал.
– Давай.
Предводитель люмпенов кивнул в сторону тамбура. Евгений пошел вперед, они – за ним. Они, конечно, специально его пропустили, подумал он, и снова мысленно ухмыльнулся. Они, конечно, думают, что это даст им какие-то преимущества.
Дальнейшее происходило так, как он и предполагал. Когда они зашли в тамбур, один из пролетариев попытался схватить его сзади за шею. Однако прошло менее половины секунды, и гопник уже лежал на заплеванном, в ободранных металлических пупырышках, полу, переломившись в поясе и с воем сжимая руками живот. Двое других, естественно, кинулись на Евгения. Остальное происходило как будто автоматически…
…Спустя три минуты Евгений пришел в себя. Все трое его противников валялись на облупленном суриковом полу тамбура, желтое от грязи окошко на двери, за которым проносились перекошенные домики очередной деревни, было густо перемазано кровью. Кровь была на стенах, кровь была на полу. Евгений понял, что он все еще бьет кулаком по голове главного люмпена, который уже перестал кричать и тихо скулил. Сообразив, что нужды в этом уже нет, он отдернул руку, занесенную для очередного удара.
Он посмотрел на свои руки. Кожа на ладонях и на пальцах давно уже загрубела, однако в этот раз он бил столь сильно, что все равно ее сорвал. Пальцы были в крови – немного своей, но в основном, конечно, чужой.
«Почему так много крови? – промелькнуло в мозгу. – Носы им переломал, что ли?»
Красные пятна были и на лацканах рубашки. И даже четки, которые он намотал на левую руку еще в Санаксарском монастыре, и те были перепачканы в крови. Сплетенный из тугих черных ниток крестик, болтавшийся на запястье, стал бурым и влажным…
Внезапно Евгения охватил страх, страх чрезвычайно сильный, почти панический. Он увидел, увидел со всей пугающей ясностью: вся его прежняя жизнь до монастыря – это был ад. Преисподняя на земле, в которой душа его коптилась не годами, но десятилетиями, столько, сколько он себя помнил. Полтора года назад он из этого ада убежал, но вот, стоило ему выйти за порог обители – и он в него вернулся. И тут он погибнет.
– Я понял, что если вернусь в мир – начнется прежняя моя жизнь, – впоследствии вспоминал он.
Прибыв в Мангазейск, Евгений не поехал в Торей, а сразу же отправился в Епархиальное управление, чтобы выяснить, есть ли в епархии мужские монастыри и можно ли ему туда поступить. Ответ был неопределенным – как раз уезжал один архиерей, должен был вскоре приехать второй, и будет ли он создавать монашеские общины (открытых монастырей еще не было), никто толком не знал. Однако Евгений не рискнул возвращаться в Торей, опасаясь, что прежняя жизнь его там настигнет. Он провел несколько месяцев в Мангазейске, живя при тамошних православных приходах. И как только стало известно, что должен вновь открыться Спасо-Преображенский монастырь, попросился туда. Прошение его было удовлетворено.
* * *
По окончании молебна Евсевий вместе с Майером, в сопровождении своего келейника и Игоря с Евгением, отправился осматривать монастырскую территорию. Менее ста лет назад здесь находилась Духовная миссия, и даже, номинально, резиденция викарного архиерея (который, впрочем, проживал обычно в Мангазейске). Поэтому площадь монастыря, некогда окруженного стенами, была весьма велика. Стены эти, первоначально выстроенные еще в конце XVII века, впоследствии неоднократно возобновлялись и укреплялись. Причины для этого были: если изначально боялись «немирных мунгалов» (от рук которых в свое время погиб не один насельник монастыря), то потом появились иные опасности, иногда весьма специфические. В частности, в пятидесятых годах XIX века спешно прибывшая воинская команда основательно укрепилась тут потому, что ожидали нападения на монастырь большой группы бежавших с каторги поляков, которым, ко всему прочему, удалось раздобыть кое-какое оружие. Нападения, правда, так и не произошло, но скучать ни до, ни после монастырским монахам не приходилось.
А внутри стен стоял большой собор в стиле сибирского барокко. Помимо него и Троицкого храма здесь же находился четырехэтажный братский корпус, двухэтажное здание, где помещались церковно-приходская школа и школа для детей инородцев (так она называлась, хотя вернее было бы ее назвать школой для иноверцев – детей православных тафаларов обучали вместе с русскими детьми в другом месте) и несколько хозяйственных построек. До 1917 года монастырь владел рыбными ловлями, покосами и пахотной землей – в общем, был центром и церковной, и даже культурной и экономической жизни.
Сейчас же от этой маленькой империи осталось совсем немного. Единственным относительно неповрежденным зданием, которое удалось реанимировать и начать использовать по первоначальному назначению, была Троицкая церковь. Там братия совершала обычный монастырский богослужебный круг. Спасо-Преображенский собор стоял без крестов. Купол был снесен, а с ним снесена и старая крыша. Вместо нее много лет назад колхозные власти сделали другую, «елочкой», как на дачном домике. Но она давно прохудилась, и зимой внутри храма лежал снег, а по весне по стенам, на которых еще сохранялась штукатурка восемнадцатого столетия, журчали потоки талой воды. Келейный и школьный корпуса были снесены до основания, снесена была и большая часть стен. В общем, монастырский архитектурный комплекс, который государство передало епархии, был в основном не монастырем, а территорией монастыря.
Именно это и старался максимально наглядно показать Евсевий Майеру. Впрочем, особо стараться и не пришлось, ибо тут, действительно, все было очевидно. Игорь, молча сопровождавший архиерея и его гостя во время этой экскурсии, размышлял про себя: «Вот уж, в самом деле, мерзость запустения на святом месте… Как это все восстанавливать?.. А может, это и к лучшему, и слава Богу! Можно будет спокойно жить, спасаться, ничто не будет отвлекать, а возрождаться все это будет постепенно, медленно… И слава Богу!»
После того как инспекция-экскурсия была завершена, Евсевий извинился перед Майером, оставив его в трапезной в компании своего келейника Георгия пить чай, а сам отправился в Троицкую церковь исповедовать монастырскую братию.
Игорь, как обычно, исповедовался долго. Архиерей, тоже как обычно, дал ему несколько советов относительно внимательности к своей духовной жизни, затем прочитал разрешительную молитву.
– Не передумал в монастырь идти? – вдруг несколько резко и неожиданно спросил Евсевий.
– Нет, Владыко, – немного смутившись от такого вопроса, но твердо и сразу же ответил Игорь.
– Надеюсь! – тем же тоном сказал Евсевий. – Готовься, после Рождественского поста тебя пострижем.
– Благословите… – ответил Игорь. Как ни странно, новость эта была для него неожиданной. Попросив благословения на жизнь в монастыре, он как-то и не задумывался о том, что в монастыре вообще-то живут только монахи, а все остальные там – гости. Нет, он не был против того, чтобы принять монашеский постриг. Просто монашество, ангельский образ казались ему состоянием столь возвышенным и идеальным, что дорасти до него когда-либо он и не рассчитывал… И тут – постриг через три месяца. С одной стороны, величайшая честь и даже счастье, с другой – страх перед тем, что он, будучи недостоин, не справится…
– Бог благословит, – серьезно ответил Евсевий. – Монастырь нужно возрождать. Средства мы сейчас ищем. Видал пастора, которого я привез? – спросил он Игоря.
Пастора, которого он сам представил и всюду с собой таскал, было трудно не увидеть.
– Да, Владыко, – ответил Игорь.
– Вот! Я его давно знаю. Дружу с ним, в каком-то смысле… Он часто в Россию приезжает и деньги жертвует – на восстановление церквей, на монастыри. Я его специально сюда привез, показать тутошнюю разруху. Так что, Бог даст, подкинет чего-нибудь!
Игорь понимающе, даже радостно, кивал головой. Тайна явления еретика в стенах православной обители для его совести наконец разрешилась, и разрешилась благополучно: еретика привезли для пользы Церкви, а именно для возрождения их монастыря!
– Но одних денег тут мало. Церковь-то не в бревнах, а в ребрах! – наставительно сказал архиерей. – Поэтому монахи нужны. Будет монашеская молитва, будут и монастыри, и в епархии все будет как надо. Строиться все будет, – добавил Евсевий, вновь вспомнив о кафедральном соборе. Да, для того, чтобы его возвести, он был твердо намерен мобилизовывать не только материальные, но и духовные ресурсы. Предстоящие постриги и должны стать первым значимым звеном духовной мобилизации.
Поисповедовав немногочисленную монастырскую братию, Евсевий, отправился в путь. Благословив всех обитателей монастыря, он сел в свою «Волгу», которая, подпрыгивая на кочках и рытвинах, выехала за ворота. Братия еще раз, на прощание, поклонились ей вслед, после чего закрыли ворота.
Евгению, как и Игорю, архиерей объявил о предстоящем постриге. И сейчас, стоя во дворе, на пронизывающем вечернем ветру, они оба размышляли об этом, каждый погруженный сам в себя. Впереди их ждали монашеские клобуки, но не только они: Владыка Евсевий планировал их так же и рукоположить, одного во священники, другого – в диакона. Однако об этом он им пока что не объявлял.
Скоро в монастыре должны появиться первые монахи. Свои, здешние монахи, которые должны будут возродить здешнюю монашескую традицию. А заодно и начать восстановление монастырского комплекса.
И на первое, и на второе Евсевий рассчитывал очень всерьез.
Глава 6 Сепаратист
Визит в Кыгыл-Мэхэ проходил так, как и предчувствовал Евсевий. То есть проходил он скверно.
Отец Виктор Джамшадов выглядел интеллигентно. Черная ряса, «золотой» крестик поверх нее. Аккуратная борода и аккуратно подстриженные волосы, когда-то, наверное, иссиня-черные, но сейчас уже основательно тронутые сединой. Небольшой нос, увенчанный очками в недорогой, но изящной оправе, и крупные, по-азиатски мясистые, губы, на которых – неизменная добродушная усмешечка. Нет, отец Виктор Джамшадов внешне не проявлял никакого непочтения, да и претензий не предъявлял. Наоборот, держался очень вежливо, старался показать архиерею все, что можно, организовывал встречи с представителями местного научного сообщества (что Евсевия не особо интересовало), а равно и не с последними людьми в местном бизнесе и во власти (что архиерея волновало гораздо сильнее). Но чем больше старался Джамшадов, чем более значимыми и важными были встречи, которые он устраивал для Владыки, тем мрачнее становилось настроение последнего.
С каждым визитом, с каждыми новыми переговорами напряжение нарастало, пока не достигло наивысшего градуса – на встрече с президентом республики Юрием Егоршиным.
– Здравствуйте, Владыка! – улыбаясь, протянул он руку архиерею, переступившему порог его кабинета. Уже по одному этому было видно, что к встрече он приготовился – в частности, узнал, что православного епископа называют «Владыкой». Сам Егоршин, хотя и являлся президентом Тафаларской республики, был этническим русским (первым русским на этом посту после 1991 года) и, теоретически, должен был проявлять к православию больший интерес, чем тафалары, считавшие своей традиционной религией тибетско-монгольский буддизм. Однако Егоршин – человек, вполне советский по воспитанию – оставался далек от какой-либо религиозности, тем более сознательной. К тому же корни у него были старообрядческие. И хотя сам он, пожалуй, ни разу в жизни лба не перекрестил – ни двуперстно, ни троеперстно – но о происхождении своем не забывал и к немногочисленным староверам своего региона относился не то чтобы покровительственно, но добродушно. Кроме того, понимая, что многие тафалары недовольны тем, что во главе «их» республики находится русский, он был вынужден занимать подчеркнуто доброжелательную позицию по отношению к тафаларской общественности. Что, среди прочего, выражалось в демонстративном покровительстве буддийским дацанам.
То, что он сразу же согласился принять мангазейского архиерея, да и настроен был благожелательно, уже было достижением. Вот только чьим?
– Вы понимаете, Владыко… – говорил Егоршин, глядя Евсевию в глаза доверительным взглядом, – у нас республика многонациональная, многоконфессиональная… Как и вся наша страна.
«Ох!.. Опять двадцать пять!..» – думал архиерей, но сам в ответ глядел смиренно и медленно кивал головой, показывая ясное понимание важности произносимой речи.
– Поэтому мы, сами понимаете, не можем оказывать кому-то предпочтение… – продолжал вещать президент. – Ну, тем более что титульной нацией у нас являются тафалары, поэтому они должны иметь определенный приоритет, в каком-то смысле. В том числе и в религиозной сфере…
Евсевий продолжал солидно кивать.
– Но, разумеется, взаимодействие с Православной Церковью для нас очень важно. Со своей стороны, должен сказать, что нас радует, что это взаимодействие расширяется. Особенно радует, – тут Егоршин, лучезарно улыбаясь, посмотрел на отца Виктора, – деятельность, которую отец Виктор развернул… Очень у вас, Владыка, достойный священник в нашей республике, очень много делает… Проекты, социально значимые, культурно значимые, их за последние годы стало намного больше, во многом благодаря отцу Виктору. Мы этими проектами очень довольны. Вот, например… – Егоршин запнулся. Примеров вроде было немало, про какой-то из них он читал в докладной записке, поданной ему накануне встречи, но сейчас забыл.
Евсевий продолжал кивать. Неловкую паузу, повисшую в тиши старого, огромного номенклатурного кабинета, весьма непринужденно нарушил отец Виктор:
– Юрий Никитич, со своей стороны могу указать на планируемые археологические исследования по ряду церковных памятников. Очень важно, что ученые будут работать в контакте с благочинием… – тут архиерей начал внутренне закипать. «В контакте с благочинием! Не с епархией! Ишь, каков!» – гневно размышлял он, внешне, однако, сохраняя почти эталонное спокойствие.
– …Большое значение имеют, например, археологические и архивные исследования по Одигитриевскому собору. Он важен и для Церкви, и является также очень важным историко-культурным памятником – значимой достопримечательностью Кыгыл-Мэхэ.
Евсевий ожидал, что Егоршин будет крайне недоволен подобного рода непрошеной ремаркой. Но случилось странное: хотя и было видно, что президент сей подсказкой недоволен, но его это особо не задело, и он вполне спокойно проглотил легкий, чуть ли не покровительственный тон Джамшадова.
– Спасибо, отец Виктор! – только и сказал Егоршин. И, наконец, вспомнил, о чем хотел сказать:
– Да, к вопросу о социально значимых проектах… – тут он уже обращался к Евсевию, при этом явно что-то пытаясь вспомнить. – Вот, отец Виктор очень значимое, большое дело делает: открыл приют для сирот при своей церкви.
– Ну, полноценного приюта еще нет, – скромно ответил Джамшадов. – Мы всего лишь помогаем нескольким детям, которые живут при нашем храме. Но мы собираемся его открыть в ближайшем будущем.
– И мы всемерно готовы вам в этом помогать! – сказал Егоршин. – В том числе оказывать и материальную помощь… В определенных пределах.
– Мы очень благодарны, что вы так хорошо понимаете нужды Церкви и так благожелательно откликаетесь на наши просьбы, – вступил наконец в разговор Евсевий. Собственно, Джамшадов с президентом могли бы прекрасно общаться и без него, но дальнейшее молчание переставало быть просто нелепым, становясь откровенно комичным.
Теперь кивал головой Егоршин – кивал важно, снисходительно улыбаясь.
– Со своей стороны, я обещаю уделять, – архиерей чуть запнулся, набирая воздуха в грудь, – максимум внимания Тафаларскому благочинию нашей епархии. Как вам известно, наша епархия охватывает сразу два субъекта Федерации… И, конечно же, мне очень приятно слышать, что вы так высоко оцениваете дела нашего Тафаларского благочиния.
Евсевий, быть может, не был тонким психологом, но определенной наблюдательностью обладал. Да и не нужно было быть тонким психологом для того, чтобы заметить, что Егоршин несколько скис при упоминании «двух субъектов». Примерно на такую реакцию Евсевий и рассчитывал, но подчеркнуть единство епархии считал необходимым. Теперь же, после обозначения принципиальной позиции, он решил как-нибудь подсластить пилюлю, предложенную президенту.
– Мне было очень приятно узнать о том, какую большую помощь оказывают Тафаларскому благочинию и власти, и ученые, и бизнесмены. Со своей стороны, как правящий архиерей, я хотел бы выразить лично вам, Юрий Никитич, свою глубокую благодарность за все, что вы делаете, – медленно, чинно произнес Евсевий.
Егоршин с Джамшадовым слушали молча, по видимости – почтительно, но явно безо всякого интереса. Егоршин улыбнулся, как бы смущенно (хотя, как и всякий чиновник высокого ранга, давно уже не смущался ни публичных похвал по своему адресу, ни даже откровенной лести).
Посчитав, что разговор дипломатически выровнялся, архиерей решил перейти к тем вопросам, которые его действительно занимали.
– В настоящее время, Юрий Никитич, в нашей епархии, – услышав в очередной раз про «нашу епархию», президент чуть скривился, но Евсевий этого не заметил, – нужно еще очень многое сделать. Например, сейчас вот у вас, в Тафаларской республике, нам передали Спасо-Преображенский монастырь…
Тут произошло нечто, для архиерея неожиданное. Егоршин, до того явно не проявлявший к речам Евсевия никакого интереса, очень оживился.
– Вот! – радостно сказал он, буквально просияв глазами. – Вот, очень хорошо, Владыка, что вы напомнили! Я как раз хотел об этом поговорить! Я позавчера прилетел из Москвы, и вы знаете – я сам очень удивился! – они там про этот монастырь знают! Оказывается, там какое-то посольство когда-то было… Отец Виктор, не напомнишь? – президент настолько увлекся, что незаметно для себя перескочил на «ты», обращаясь к Джамшадову.
– Спасо-Преображенский монастырь был построен на месте гибели первого русского посольства, отправленного царем Алексеем Михайловичем к местным «мунгальским» племенам, предкам нынешних тафаларов, – академическим тоном доложил благочинный. Более всех, однако, был удивлен Евсевий, ибо он еще ничего толком об истории возрождающегося монастыря не знал. И это его раздосадовало еще больше.
– Вот-вот! – продолжил Егоршин. – И знаете, Владыка, я вот был очень удивлен, но на меня вышли преподаватели из МГИМО, они заинтересовались этим монастырем. Даже конференцию у нас хотят проводить. И не только! Даже в МИДе о нем знают, интересуются. Я вот что думаю: такой важный, такой интересный объект, как этот монастырь, может в будущем играть важную роль и в культурно-просветительской работе, и там, например, в туризме… Опять же, вопросы межнационального согласия тоже как-то можно связать… Тем более, если МИД окажет содействие… – было заметно, что президента явно впечатлил интерес работников МГИМО и даже самого Министерства иностранных дел к разоренному и совсем недавно никому не нужному монастырю.
Архиерей также был весьма впечатлен столь неожиданными и столь многообещающими известиями. «Слава Тебе, Господи!» – мысленно повторял Евсевий, слушая внезапно оживившегося Егоршина. Казалось, что вот и нашелся ключ к президентскому сердцу, и теперь с ним можно будет говорить уже более предметно, а там и от слов перейти к делу!..
В действительности, однако, ничего грандиозного за внезапным интересом МИДа к Спасо-Преображенскому монастырю не стояло. Просто несколько крупных событий, намечавшихся на горизонте, повернули административные шестерни так, что они зацепили и давно уже ставшую безвестной монашескую обитель в Тафаларской республике. Дело в том, что через два года в Кыгыл-Мэхэ планировали провести Первый Восточно-Сибирский экономический форум, который был широко разрекламирован и куда уже заранее зазвали гостей не только из соседних Китая и Монголии, но даже и из Европы и США. Подобные мероприятия всегда сопровождаются целым роем сопутствующих событий вроде конференций, выставок и т. п. В частности, пришел запрос и в МИД РФ, не могут ли они выдумать что-нибудь этакое, чтобы и по профилю ведомства, и с привязкой к Тафаларской республике. А буквально за четыре месяца до поступления оного запроса в Кыгыл-Мэхэ вышла книга местного историка-краеведа Домбаева «Православная Церковь в Тафаларии в XVII–XX вв.». Это был справочник, составленный на основе материалов местных архивов, где кратко рассказывалось про приходы и монастыри, которые когда-либо существовали в регионе (а точнее, только про те, про которые Домбаеву удалось найти материал). И один из самых больших разделов книги (целых девять страниц) был посвящен Спасо-Преображенскому монастырю. Запрос, пришедший в МИД, МИД скинул в МГИМО, а МГИМО, не заморачиваясь, запросил информацию у Тафаларского Национального университета в Кыгыл-Мэхэ. Последние, также не мудрствуя лукаво, послали им книжку Домбаева, заботливо положив закладку на разделе, посвященном Спасо-Преображенскому монастырю.
Поскольку никакого иного объекта, исторически связанного с дипломатическим ведомством, в Тафаларской республике не наблюдалось, то внимание сотрудников МГИМО и МИДа сосредоточилось на монашеской обители, которая, к тому же, по официальным данным уже была передана Церкви и восстанавливалась. После недолгого размышления было решено, что объект вполне подходит для того, чтобы стать темой одного или даже нескольких «культурно-значимых мероприятий», вроде конференции и т. п. Особенно с учетом того, что на самом верху как раз начинался поворот в сторону сотрудничества с РПЦ МП. В конце концов, ничего другого все равно найти не успели, да и не очень-то хотели искать – чтобы закрыть отчетность, этой темы было вполне достаточно.
Во время последнего визита Егоршина в Москву у него как раз было запланировано несколько встреч в МИДе. И он был весьма удивлен, когда во время обсуждения подготовки к экономическому форуму с ним вдруг заговорили о Спасо-Преображенском монастыре!..
Надо сказать, что из-за внезапно всплывшей монастырской темы вскоре после МИДовской встречи несколько сопровождающих и даже один министр Тафаларской республики получили от своего президента по шапке (министр получал по телефону, с учетом разницы во времени – в половине третьего ночи). Еще бы! У него на территории есть какой-то монастырь, о котором в Москве, и в МИДе, и в МГИМО уже знают, а он, президент, не знает! На протяжении примерно получаса третий, «президентский» этаж московского представительства Тафаларской республики оглашался матерными руладами, посылаемыми как в телефонную трубку, так и непосредственно в лицо «сопровождающим лицам». Последние, впрочем, к этому давно привыкли.
В результате Егоршин сделал для себя мысленную зарубку, что Спасо-Преображенским монастырем интересуются в Москве, а коли так, то надо к оному монастырю как-то соблаговолить. При этом, однако, он прекрасно понимал разницу между «интересуются» и «покровительствуют» и планировал именно продемонстрировать свое доброе отношение, а не активно помогать обители. И уж тем более епархии в целом.
Однако Евсевий всего этого не знал. Воодушевившись внезапной активизацией беседы, он начал говорить искренне – то есть о том, что его волновало более всего остального:
– Очень, очень отрадно это слышать! – начав не протокольно, но тепло улыбаться, отвечал архиерей. – Нам как раз сейчас нужна будет помощь – в монастыре многое нужно восстановить…
Президент опять перебил его:
– Можете не сомневаться, Владыка, мы окажем вам содействие! Все, что в наших силах! – последняя оговорка имела явно очень большое значение (ибо силы высокопоставленного чиновника оканчиваются там, где угодно высокопоставленному чиновнику), однако Евсевий не заметил и ее. После непрекращающегося триумфа Джамшадова, после вялого, почти провального начала разговора – а разговор ведь был не с кем-нибудь, а с главой целой республики, и не какой-нибудь разговор, а самый первый, такой, который мог стать определяющим для всех их последующих отношений! – после всего этого Евсевий наконец почувствовал себя на коне и несся на нем вперед, уже не замечая опасных поворотов.
– Спасибо, Юрий Никитич! Нам многое надо восстанавливать – Спасо-Преображенский монастырь, и кафедральный собор строить надо, и помощь нам будет очень нужна! – не вытерпев, высказал архиерей то, что теперь постоянно лежало у него на сердце.
Воодушевление и теплота, внезапно наполнившие президентский кабинет, также внезапно испарились. Взгляд Егоршина, только что горящий, стал мутным, как у соленой сельди. Повисла пауза…
– Вы, Владыка, какой собор имеете в виду? – спросил, наконец, президент Тафаларской республики после почти минутного молчания. Евсевий уже понял, что он сказал явно не то, что от него хотели услышать, но отступать теперь было нельзя.
– Кафедральный собор епархии, в Мангазейске, – внятно, стараясь придать своему голосу максимально уверенную интонацию, ответил он.
– Ах, в Мангазейске… – вяло сказал Егоршин. – Но ведь это, вы сами понимаете, другая область, другой субъект Федерации…
Архиерей понимающе, многозначительно кивал головой; тут уже лучше было молчать.
– А вот еще что, Владыко, – продолжал Егоршин, и голос его вновь приобрел заинтересованную и как будто даже ядовитую интонацию. – Разумеется, у нас Церковь отделена от государства, и мы в ее внутренние дела не вмешиваемся… Ни в коем случае, и я в том числе… Но хотелось бы спросить: насколько я знаю, и вот отец Виктор даже об этом говорил, – при упоминании Джамшадова архиерей напрягся, причем настолько явно, что благочинный бросил на него недоуменно-испуганный взгляд, – ведь по правилам на каждый субъект Федерации полагается одна епархия?
– Не совсем, – архиерей старался отвечать размеренно и спокойно, однако в жесте, которым он поправил висевшую на груди панагию, угадывалась нервная напряженность. – То есть обычно, действительно, епархия включает в свой состав один субъект – область, край и так далее. Но ситуации бывают разные. Например, в советское время, когда храмов было мало, Иркутская епархия включала в свой состав все земли, вплоть до Дальнего Востока. Если в области или крае налажена церковная жизнь, много храмов, есть монастыри – тогда можно говорить об отдельной епархии. А если нет, то тогда в состав епархии включается несколько областей или, как у нас, республика и область.
– А сколько нужно храмов для того, чтобы создать отдельную епархию в Тафаларской республике? – напрямую спросил Егоршин.
– Ну, какого-то определенного правила, чтобы там двести храмов было, или пятьсот, чтобы создать епархию – такого правила нет, – ответил Евсевий. – Решение принимает священноначалие Русской Православной Церкви, и если оно считает, что духовная жизнь, церковное устроение на той или иной территории до этого доросли, что там необходим епископ – тогда епархия создается.
Егоршин кивнул и продолжил задавать вопросы:
– Так чего все-таки не хватает Тафаларии, чтобы здесь создать епархию?
– Ну, во-первых, решение буду принимать не я… – начал Евсевий.
– Да, я понял, – сказал Егоршин. – Но к вашему мнению наверняка прислушиваются. Поймите правильно, это ваши внутренние дела, но я лично должен знать. Потому что вот я лично не понимаю, почему нельзя здесь сделать свою епархию. Кстати, Владыка Евграф, когда раньше к нам приезжал, говорил, что он только «за».
Положение становилось приблизительно безвыходным. Нужно было давать определенный ответ, а вот этого Евсевий как раз делать не хотел. Однако деваться было некуда.
– Юрий Никитич, – начал он, и в голосе его и Егоршин, и Джамшадов уловили легкие нотки раздражения. – Я же не говорю, что я против того, чтобы у вас здесь была собственная епархия. Скажу больше, я уверен, что со временем это необходимо будет сделать. Но сейчас это время еще не пришло. Храмов здесь меньше, чем в любом благочинии какой-нибудь Ярославской или Владимирской епархии. Монастырей нет совсем, Спасо-Преображенский монастырь только-только возрождаться начал. Вот построим больше храмов, обустроим – и тогда можно и епархию! А пока у нас силенок не хватает. Ведь епархия – это еще и дополнительные расходы, а мы их сейчас просто не потянем.
Егоршин выслушал его, не перебивая. Было заметно, что тафаларский президент ответом остался явно недоволен:
– Ну, решать не мне! Как говорится, не моя епархия! – он попытался даже пошутить. – Впрочем, что до средств, то на такое дело мы бы что-нибудь… нашли. Это ведь, сами понимаете, имеет немаловажное значение для всех жителей нашей республики… Кстати, Владыка, не откажетесь с нами отобедать? – немного неожиданно закончил он, давая понять, что аудиенция окончена.
Владыка, разумеется, согласился. Все трое поднялись из-за стола. И, когда они уже подходили к выходу из кабинета, Егоршин добавил:
– А насчет собора в Мангазейске – я, конечно, только «за». Но, сами понимаете, он находится в соседней области, это просто не моя компетенция. Не моя епархия! – добавил он, рассмеявшись повторенной своей шутке.
Евсевий вежливо посмеялся вместе с ним. Однако на душе у него было совсем не весело. Было ясно: ни он сам, ни мангазейский собор здесь никому не нужны. В отличие от протоиерея Виктора Джамшадова, который, похоже, был нужен всем, включая и местного президента.
* * *
Пребывание Евсевия в Кыгыл-Мэхэ, после президентской встречи, окончательно свелось к роли статиста на торжестве, где главным действующим лицом выступал протоиерей Виктор Джамшадов. И чем более вежливо и почтительно он себя вел, тем более это раздражало архиерея. Во время пресс-конференции (которую, само собой, организовал благочинный) не менее половины вопросов было задано отцу Виктору. Кроме того, ему приходилось постоянно уточнять ответы Владыки, ибо тот в местных делах ориентировался слабо. Было видно, что и журналисты, и ученые, и, что самое скверное, чиновники и бизнесмены воспринимают Джамшадова как равного Евсевию.
«Да он уже себя как архиерей ведет!» – с горечью и раздражением повторял про себя епископ, глядя, как легко и уверенно благочинный отвечает журналистам, как тепло его приветствуют местные профессора и как запросто и по-свойски он здоровается с местными начальниками – до республиканских министров включительно.
Наконец, на всенощную службу отец Виктор надел самую свою лучшую ризу, с покрытым золотистым бархатом верхом, на который были нашиты изображения херувимов. На фоне простенького, «походного» саккоса и митры (бывшей архимандритской митры, к которой сверху кустарно привинтили крестик), коими Евсевий пользовался во время командировок, облачение благочинного смотрелось вызывающе роскошным.
– Ого! – не вытерпев, сказал Владыка, когда отец Виктор подходил к нему под благословение. – Да ты прям как архиерей!
Однако Джамшадов не только не попросил его простить и благословить, но лишь улыбнулся, посчитав слова Евсевия доброй шуткой.
И в качестве финального, добивающего аккорда, теплыми чувствами к отцу Виктору неожиданно проникся Людвиг Майер. Лютеранский пастор, который обычно был настолько немногословен, что казался немым, был готов беседовать с Джамшадовым часами, если б ему представилась такая возможность. Особенно немецкого гостя-благотворителя восхитили трое мальчиков-сирот, которые жили при кыгыл-мэхинском Свято-Троицком храме, где настоятельствовал отец Виктор. Майер роздал им свои немецкие шоколадки, долго и с обычной европейской доброжелательностью разговаривал с ними, а потом еще дольше беседовал с Джамшадовым о предстоящем открытии детского приюта. Ко всему прочему, выяснилось, что Джамшадов может довольно сносно изъясняться на английском, и теперь Евсевию было еще и непонятно, о чем они говорят. А когда архиерей под вечер расставался с отцом Виктором и ужинал в узком кругу, в который входил и Майер, последний только и говорил, что об отце Викторе, «замечательном пастыре». И было уже приблизительно понятно, куда именно пойдут деньги, которые лютеранский друг Владыки выбьет из каких-то своих фондов…
«А ведь он так и вправду до епископов дойдет!» – с досадой подумал Евсевий, вспоминая все то, что он три дня видел и слышал в Кыгыл-Мэхэ. Шансы были не то чтобы велики – ибо, как известно, молодых, амбициозных и денежных архимандритов, мечтающих об архиерейской шапке, в Москве всегда достаточно, – но они были. Уж слишком любила отца Виктора местная интеллигенция, уж слишком привыкли видеть все, вплоть до местного президента, в нем главу Православной Церкви в Тафаларской республике. А президентское благоволение и президентское слово, кто бы там от чего отделен не был, могли весить очень много… Впрочем, не это было самое страшное. Самое страшное было в том, что кто бы ни стал главой новой Тафаларской епархии, для епархии Мангазейской это был бы сокрушительный удар. Единственный открытый монастырь оставался в Тафаларии. Более половины приходов находилось там же. В самом Кыгыл-Мэхэ храмов (причем старых, дореволюционных храмов) было больше, чем в Мангазейске.
«Если пораскинуть мозгами, так архиерейскую кафедру нужно было в Кыгыл-Мэхэ делать, а не в Мангазейске», – рассуждал, оставшись наедине, в своей келье, Евсевий. Однако решение принимали в Москве, и уже очень давно. И теперь все это – и монастырь (а на очереди вслед за Спасо-Преображенским мужским ожидалось открытие женской обители), и больше половины приходов, и старые церкви Кыгыл-Мэхэ – находились в распоряжении благочинного, протоиерея Виктора Джамшадова. Позиции которого были чрезвычайно прочны и который был явным церковным «сепаратистом».
Правда, выяснилось и кое-что другое: помимо друзей, весьма многочисленных и высокоранговых, были у отца Виктора и враги. Если не брать в расчет вероятных тайных недоброжелателей, то явных можно было отнести к двум довольно занятным группам.
Группа первая – местное реестровое казачество, «Восточно-Сибирское казачье войско». Как и абсолютное большинство «реестровиков», особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, это была структура вполне клоунская. На какое-либо мероприятие в самом Кыгыл-Мэхэ они могли вывести человек двадцать от силы. И что это были за люди! Светлые лица с огромными, мясистыми мешками под глазами и другими признаками систематического многолетнего алкогольного отравления. Офицерские погоны, пришитые поверх поношенных советских солдатских гимнастерок. Кителя, даже вполне приличные, но надетые вместе со спортивными штанами (обладатели кителей наивно рассчитывали, что полоски сойдут за лампасы и что «никто не заметит»). В зимнее время – безконечное разнообразие папах, начиная от кавказских и заканчивая советскими полковничьими, шинелей, армейских и милицейских бушлатов. И, конечно же, кресты, кресты и кресты, гроздьями висящие на всех этих нарядах, начиная от всем известного «За возрождение казачества» и заканчивая всякой экзотикой, неизменно копирующей формы креста георгиевского. А на плечах красовались поистине уникальные погоны казачьих лейтенантов и подполковников…
Вся эта публика не без основания полагала, что казачество исторически связано с православием, и периодически порывалась сотрудничать с Тафаларским благочинием. Однако отец Виктор все эти попытки блокировал и потому довольно быстро стал восприниматься кыгыл-мэхинским казачьим атаманом как лютый враг.
Почему Джамшадов невзлюбил казаков, никто точно не знал. Одна из версий была такова: отец Виктор их терпеть не может, потому что они – националисты и ненавидят его как армянина (перса?), да еще и женатого на тафаларке.
Доблестное казачество, надо сказать, в неофициальной обстановке неоднократно делало заявления, подтверждающие эту версию:
– Да он же, мать его, чурка! Чуркобес! – сколько раз, с горечью и надрывом, звучали эти слова над покрытым газетами столом в «войсковом правлении», где очередной дежурный казак, вкупе со своим казачьим или не казачьим корешем, распивал очередную бутылку дешевой водки.
Но тут возникала проблема. Казаки, конечно, могли быть русскими националистами и потому не любить отца Виктора. (А отец Виктор, соответственно, не должен был любить их.) Однако, хотя «Восточно-Сибирское казачье войско» (ВСКВ) существовало уже больше десяти лет, составляющие его казаки так и не могли определиться, кто же они по национальности. Очень многие считали, что казаки – это особый народ, а вовсе и не русские. Главный аргумент в пользу особой национальной идентичности был такой: если статус казаков как народа будет признан, то тогда можно будет добиться признания их репрессированным народом. А если это произойдет, то из федерального бюджета станут выделять средства, на которые можно будет как следует возродиться.
Такие слова, как «бюджет» и «средства», пробуждали казачью национальную идентичность во многих душах. Особенно в тех, кто стал казаком «по жене» или просто «поверстался» от нечего делать в начале 1990-х.
Некоторая, впрочем, немногочисленная, часть все же склонялась к тому, что казаки – это русские по национальности, а казачество – это сословие. В пользу этой версии засчитывался тот факт, что в ВСКВ состоял определенный процент тафаларов, исповедовавших буддизм (что, кстати, вполне соответствовало дореволюционной традиции, когда тафаларские полки также были приписаны к казачьим войскам).
А платформой, которая объединяла и первых, и вторых, стала ностальгическая любовь к советскому прошлому. Странным образом воспоминания о репрессиях уживались в реестровых головах с непоколебимой верой в то, что советские ценности были хорошими «и даже православными», а СССР – той державой, за которую было не стыдно (в отличие, понятное дело, от РФ). Не все члены «Восточно-Сибирского казачьего войска» помнили про казачий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, но все свято чтили 9-е мая, а многие праздновали и 7-е ноября. И потому в национальном вопросе хотя и отзывались пренебрежительно о кавказцах, евреях и тафаларах, но придерживались принципа, что «главное – чтобы человек был хороший». Во всяком случае, выпивать они не отказывались ни с кавказцами, ни с евреями, ни с тафаларами.
В общем, вычленить в этом вполне советском винегрете национализм или шовинизм было довольно трудно.
Кроме того, с собственно русскими националистами отец Виктор уживался на удивление спокойно. Единственной, весьма небольшой, националистической организацией в Кыгыл-Мэхэ было местное отделение РНЕ (номинально – семнадцать членов, реально – два активиста). Именно с РНЕ, то есть с теми двумя активистами, и полемизировали насмерть в своих газетах местные демократы и тафаларские националисты. Однако отец Виктор РНЕшников просто не замечал. Как и они его. Из чего можно было сделать вывод, что сия сфера благочинному просто неинтересна.
Другая версия, объясняющая, почему Джамшадов не любит казаков, была менее глубока политически, но, быть может, в этой простоте и крылась истина: друзья и знакомые отца Виктора говорили, что он просто считает местное казачество идиотами и алкашами. И именно по этой причине старается, по возможности, не подпускать их к себе на пушечный выстрел.
Для борьбы с казаками, все время пытавшимися с ним сотрудничать, благочинный избрал тактику, которая показалась им верхом изощренного иезуитства. Однажды, в осенний день 1998 года атаман ВСКВ, казачий генерал Владлен Иванович Комаров, решил пойти на безпрецедентный шаг: самолично, в форме, при шашке да еще и в трезвом виде прийти на прием к отцу Виктору, который был только-только назначен благочинным Тафаларского округа.
Отец Виктор его принял в небольшом скромном кабинете, временно оборудованном в полуподвале Свято-Троицкого храма. Господин атаман вошел в дверь и остановился, несколько смутившись: со священниками до того ему толком общаться не доводилось. Заметив его замешательство, Джамшадов приветствовал его первым:
– Здравствуйте, Владлен Иванович, проходите, пожалуйста! – приветливо сказал он, вставая из-за стола.
Комаров, сделав два шага ему навстречу, замешкался – нужно было что-то сказать, но он не знал, что – и после двухсекундной паузы, лихо крякнув, протянул благочинному руку. Отец Виктор посмотрел на него сочувственно, улыбнулся и предложил садиться.
– Рад вас видеть, Владлен Иванович! – стараясь излучать максимальную доброжелательность, сказал отец Виктор. – Слушаю вас внимательно. Только, пожалуйста, снимите фуражку – здесь иконы.
– А! Извините! – Комаров снял свой головной убор, и продолжил: – Отец Виктор! Я, как атаман, пришел обсудить с вами возможное сотрудничество Восточно-Сибирского казачьего войска и Православной Церкви.
И снова повисла пауза.
– Так, слушаю, – сказал благочинный.
– ВСКВ может, например, взять на себя обезпечение порядка при массовых мероприятиях…
– При чем? – уже не без иронии спросил отец Виктор.
– При массовых мероприятиях, ну там, службах… Ходах… – Владлен Иванович споткнулся, судорожно вспоминая нужное слово. – Крестных ходах…
Джамшадов слушал внимательно и одобрительно кивал.
– Кроме того, мы могли бы помогать при проведении культурно-массовых мероприятий. Например, собраний, конференций…
– Очень хорошо, – продолжая улыбаться, сказал благочинный.
– Тогда предлагаю подписать соглашение! – сурово заявил атаман и начал судорожно расстегивать нагрудный карман, где, по всей видимости, и лежало, сложенное в энное количество раз, упомянутое соглашение.
– Я не против в принципе, – сказал отец Виктор. – Но у меня есть одно условие в отношении тех казаков, которые будут участвовать во взаимодействии с Православной Церковью у нас, в Тафаларии.
– Какое еще условие? – недоуменно-недовольно спросил атаман.
– Я бы хотел, чтобы вы неукоснительно следовали казачьим традициям и обычаям.
– А, ну это уж конечно, а то как же! – радостно засопел атаман, еще не почуявший неизбежного провала своей миссии.
– Казаки всегда были православными. Ведь так?
– Так, конечно, так! А то почему я именно к вам пришел, а не к этим, к буддистам!.. – горячо согласился атаман. Джамшадов одобрительно кивнул и продолжил:
– Вот я бы и хотел, чтобы казаки, которые будут с нами работать, были не просто людьми – уж простите за прямоту! – надевшими казачью форму, а людьми православными. То есть регулярно посещали богослужения, каждое воскресенье и во все великие и двунадесятые праздники. Держали посты. Регулярно, раз в месяц (ну хотя бы раз в квартал) причащались. Иначе какие же они православные?
Комаров сидел на стуле, выпрямив спину, и смотрел прямо перед собой остекленевшими глазами. Лишь частое моргание свидетельствовало о том, что его душа не покинула этот мир.
– Согласны? – по-прежнему мягко, но при этом и требовательно спросил благочинный.
– Так ведь мы… православные, – выдавил наконец из себя атаман.
– Ну, тогда никаких проблем! – бодро ответил Джамшадов.
– А соглашение? – недоуменно спросил атаман.
– А вы приходите на воскресную службу. Со всеми своими казаками. Помолимся вместе, поисповедуетесь, причаститесь – а там все и обсудим. Идет?
– Хорошо, – машинально ответил атаман. Он толком не понял, что от него, а равно и его «войска», хотят, но догадался, что с запланированным соглашением что-то не срослось.
А Джамшадов на прощание подарил ему церковный календарь и целый ворох брошюрок, включая и краткий Закон Божий, и наставление к исповеди и причастию.
– Почитайте, посмотрите – и приходите! – все с тем же добродушием, в котором, однако, чувствовалась ирония, напутствовал он казачьего генерала.
Вечером, после ужина, Владлен Иванович решил ознакомиться с теми брошюрами, которые ему вручил благочинный. Даже беглого просмотра было достаточно для того, чтобы понять: в обмен на соглашение о сотрудничестве коварный поп уготовал (по крайней мере, по меркам казачьего генерала) атаману, а равно и его «войску», каторжную жизнь. Посты – четыре длинных поста в году, да еще и каждую среду и пятницу…
– Хм… – Владлен Иванович невольно вспомнил о том, что сегодня как раз среда, а он только что навернул тарелку мясного борща, а в качестве второго блюда с упоением грыз мозговую кость.
Далее было сказано о том, что долг христианина – бывать за воскресной службой. Утром в воскресенье, и вечером в субботу.
– Это что ж, каждые выходные, что ли?.. – недоуменно пробормотал он. В ближайшее воскресенье лично он собирался ехать за грибами, как раз грузди пошли…
А важнейшим христианским долгом, без которого православным быть невозможно, называлось участие в таинствах, особенно – в таинствах Исповеди и Святого Причастия. С Причастием, с точки зрения Владлена Ивановича, все обстояло еще более-менее, хотя дополнительный трехдневный пост («да куда еще-то?!») восторга не вызывал. Главная проблема была с исповедью:
– «Рассказать, ничего не утаивая, обо всех своих грехах, начиная с шести лет…» – вслух прочел он. Атаман попытался припомнить все свои грехи за этот срок, потом представил, что он будет о них кому-то рассказывать. В глазах потемнело.
– Да это ж издевательство какое-то! – вырвалось у него.
– Какое там тебе издевательство? – донесся из соседней комнаты голос жены.
– Какое… Православное!.. – ответил атаман.
Полученная информация выбила Владлена Ивановича из колеи. Было ясно, что следовать всему тому, что было написано в подаренных отцом Виктором брошюрах, ему явно не хочется. Тем не менее он решил обсудить итоги своих переговоров со своими коллегами, членами правления ВСКВ.
Что на следующий день и произошло.
– Оно, может, дело и хорошее, но вот я лично не потяну, – честно сказал атаману его заместитель, полковник (казачий полковник, в миру – сержант запаса) Михальчук.
– Я так скажу, – взял слово член Совета стариков, есаул с майорскими погонами Кузнецов. – Я советский человек. Я всего этого не знаю и не понимаю. И вообще, у нас в ВСКВ разные люди имеются. Вон, буддисты есть. Что нам их теперь, выгонять, что ли? И вообще, что ли, это главное? Хорошие люди среди разных вер есть, я так считаю! А среди православных тоже, вон, всяких сколько! И дурных, между прочим, тоже!
Слова Кузнецова были поддержаны одобрительным гулом, кто-то даже крикнул: «Любо!» Позиция кыгыл-мэхинского казачества была ясна – с Церковью все хотели сотрудничать, но через церковный порог перешагивать не желали.
Через месяц, однако, атаман снова пришел на прием к Джамшадову. Все повторилось, как в первый раз, вплоть до просьбы снять фуражку в помещении.
– Слушаю внимательно, – сказал благочинный.
– Отец Виктор! Я по поводу соглашения! – вновь начал атаман.
– Так мы же месяц назад говорили! Вы разве на службе были с тех пор? Хоть на одной?
– Нет. Но…
– Простите, так не пойдет! – твердо ответил Джамшадов. – С православными казаками, защитниками веры и Церкви, я готов и работать, и соглашения подписывать. А с людьми, пусть даже и одетыми в казачью форму, которые ни на службу не ходят, ни исповедуются, ни причащаются, я ни о чем договариваться не буду!
– Так ведь это ж разве главное?! – изумленный столь резким отказом, спросил Комаров.
– Если для вас соборная молитва и святые таинства неважны, то вы не православный. Может быть, казак. Но точно не православный казак, – отрезал Джамшадов.
Атаман обещал «подумать», но, естественно, ничего не надумал. Потом он еще не раз приходил к благочинному, однако тот ни на йоту не отступал от своих требований. Такая позиция отца Виктора, вызвавшая сначала непонимание, потом стала вызывать раздражение, вскоре перешедшее если не в ненависть, то, так сказать, в сильную нелюбовь. Атаман в интервью, которые у него изредка брало местное телевидение и некоторые кыгыл-мэхинские газеты, стал нелестно поминать благочинного, который, мол, не работает с общественностью, отталкивает от Церкви казачество и даже ведет «деструктивную деятельность».
Но вражда с ВСКВ мало безпокоила отца Виктора. У него сохранялись прекрасные отношения со многими представителями власти и интеллигенции, причем как русской, так и тафаларской. И более того, немало чиновников и местных ученых он с полным правом считал своими друзьями. Имея такие тылы, не стоило опасаться местного «казачьего войска» – клуба маргиналов-ролевиков, ни одну свою ролевую игру не проводивших вполне трезвыми.
Хотя, быть может, и не следовало их совсем списывать со счетов. При всей своей карикатурности и ничтожности это была реальная организация, имевшая отделения во многих городах, поселках и даже деревнях Тафаларской республики. А атаман Владлен Комаров был вхож в республиканскую администрацию. Да, его туда пускали в качестве безплатного клоуна – но все-таки пускали…
Вторая группа противников отца Виктора в чем-то была чрезвычайно похожа на первую, в чем-то – была ее противоположностью.
Как уже было сказано, с тафаларской общественностью, особенно с интеллигенцией, у Джамшадова были прекрасные отношения. Однако, как это очень часто бывает, в среде национальной интеллигенции имелась наиболее национальная ее часть, основным родом занятий которой являлась борьба с «оккупацией», «культурным геноцидом» и «колониализмом». По своей численности оная группа значительно уступала ВСКВ – в активе там имелось от силы с десяток человек. Но вот удельный вес каждого из этих активистов был в Кыгыл-Мэхэ значительно выше, чем у любого из ряженых реестровых казаков.
Тут было два профессора, несколько журналистов и два-три деятеля, которые предпочитали называть себя правозащитниками. Впервые на общественных горизонтах Тафаларии они появились в 1989-м, а окончательно созрели к 1991-му году, когда стали открыто требовать независимости для Тафаларской республики с последующим присоединением к братской Монголии в рамках Тафаларо-Монгольской Конфедерации. Печатным рупором их стала небольшая, но довольно хорошо известная газета «Тафалаар Хоолой», а кроме того, им охотно давали трибуну многие местные СМИ и их часто приглашали на телевидение. Рядом с ветеранами радикального тафаларского национализма где-то в 1996 году появилась молодежная организация «Мориной Гэшуун» («Честь Нации») – структура почти совершенно виртуальная, но, однако же, постоянно бывшая на слуху благодаря поддержке старших товарищей.
Поскольку реальный политический вес этой группы был невелик, то бороться за власть и вообще нападать на серьезных игроков местного политикума им было не с руки. (То есть нападать всерьез и на конкретных лиц – а дежурная критика «власти вообще», само собой, присутствовала постоянно.) Тем не менее борцам за народное счастье нужно было кого-то бороть. Открытие отделения РНЕ в Кыгыл-Мэхэ стало для них сущим подарком, и в течение почти двух лет «Тафалаар Хоолой» и «Мориной Гэшуун» прилагали титанические усилия для того, чтобы остановить наступающий русский нацизм. Было написано около сотни заметок и статей, на радио и телевидении вышло несколько десятков передач. Борьба с русским нацизмом могла продолжаться и дальше, но к концу второго года ехидно ухмыляться начали даже редакторы наиболее лояльных изданий: напомним, что активистов РНЕ в Кыгыл-Мэхэ было всего двое, и для города с населением в триста восемьдесят тысяч человек они могли представлять опасность только в том случае, если им в руки будет передано портативное ядерное оружие. Поскольку такой перспективы явно не просматривалось, затянувшаяся сага о борьбе с нацизмом стала выглядеть уж слишком комично.
На какое-то время активисты антиколониальной борьбы переключились на позитивную повестку – они стали выступать не против чего-то, а «за». Например, за установку памятника Чингисхану. Потом они потребовали признать, что город Кыгыл-Мэхэ основан 35 тысяч лет назад и потому является самым древним городом на планете (в 1998 году в городской черте археологами была найдена неолитическая стоянка соответствующего возраста).
В 1999 году Юрий Егоршин пошел на президентские выборы в Тафаларской республике. Впервые с 1991-го года появилась неиллюзорная вероятность того, что во главе Тафаларии станет русский, а не тафалар. И старые, и юные борцы с оккупантами в этот раз решили рискнуть и атаковать конкретную фигуру, метящую ни больше ни меньше на президентский пост. «Мориной Гэшуун» провела одиночный пикет, а «Тафалаар Хоолой» выпустила номер в желчно-трагических тонах. Через два дня после этого редактору «Тафалаар Хоолой» в течение часа позвонили четыре из пяти его спонсоров. И еще через час зашел побеседовать один оперативный работник ФСБ. И все пятеро убедительно просили больше так не делать. Участники антиколониального сопротивления, собравшись в офисе, который «Тафалаар Хоолой» с 1990 года безплатно предоставлялся в одном из домов культуры, обсудили сложившуюся ситуацию и решили, что пока, по тактическим соображениям, стоит отступить.
Меж тем Егоршин без особого напряга выиграл выборы. А борьбу нужно было продолжать, хотя бы ради того, чтобы было о чем писать в своей газете и говорить во время телеэфиров.
И вот тут-то небольшая, но активная группа борцов обратила внимание на отца Виктора Джамшадова, который к тому времени уже развернул весьма активную деятельность. Первый же номер «Тафалаар Хоолой», вышедший после местных президентских выборов, был посвящен деятельности Православной Церкви, которая, по мнению авторов, являлась «тараном культурного геноцида». «Стратегом и первым исполнителем» геноцидных планов был назван отец Виктор.
В последующем эти обвинения стали звучать регулярно и, надо сказать, они были несколько большей проблемой, чем занудные атаманские рассуждения про «деструктивную деятельность». Но и из этой ситуации Джамшадов выкрутился легко и даже изящно: через пару месяцев после первых публикаций, направленных против него, в газете «Тафаларская Правда» (оставшейся еще от советских времен и по умолчанию считавшейся самой главной в республике) появилась развернутая статья Леонида Домбаева, этнического тафалара, того самого, который впоследствии написал книгу-справочник по истории православия на тафаларской земле. Домбаев к тому времени уже стал кандидатом исторических наук и профессором. Он был вхож в круг местной национальной элиты по той простой причине, что его покойный отец возглавлял один из отделов кыгыл-мэхинского обкома КПСС. Происхождение, вкупе с научным статусом, делали Домбаева видным представителем местного истеблишмента. Поэтому его резкая и язвительная статья в «Тафаларской Правде» обесценила героическую борьбу с Джамшадовым, которую начали «Тафалаар Хоолой» и «Мориной Гэшуун». Вся республика убедилась, что тафаларская элита к отцу Виктору претензий не имеет и даже, более того, готова его защищать. После этого Джамшадов мог не опасаться предъявленных ему обвинений в «культурном геноциде».
Тем не менее самая национальная часть национальной интеллигенции в покое его не оставила и продолжала его регулярно покусывать. А буквально накануне приезда архиерея отец Виктор сам спровоцировал, хотя и случайно, довольно серьезный скандал. Началом стала телепередача, куда был приглашен Джамшадов, главред «Тафалаар Хоолой», Председатель и Знаменосец Великого Хуррала (то бишь глава) «Мориной Гэшуун» и один буддистский лама.
Тема передачи казалась вполне нейтральной, но антиколониальные борцы очень быстро свернули на свою любимую дорожку, начав рассуждать о том, что православие – это инструмент культурного геноцида тафаларского народа и по этой причине миссионерская деятельность отца Виктора их очень безпокоит. Он, со своей стороны, начал на исторических примерах показывать, что именно Греко-Российская синодальная Церковь сделала чрезвычайно много для развития национальной тафаларской культуры. Упомянул, в частности, перевод Священного Писания на тафаларский язык, который был сделан православными миссионерами за несколько лет до появления русского синодального перевода. Рассказал о школах для «туземцев», а потом и богослужениях, которые в XIX веке часто проводились на тафаларском языке. За последнее главред «Тафалаар Хоолой» и уцепился:
– Вот вы говорите, что православные богослужения проводились на тафаларском языке. Вот скажите, а сегодня почему в Кыгыл-Мэхэ православные богослужения на тафаларском языке не проводятся?
– В настоящее время мы работаем в архивах, я лично, в том числе, работаю, – ответил отец Виктор. – Мы эти переводы находим, обрабатываем и в последующем планируем служить в некоторых селах.
– Вот вы в селах планируете служить, а в Кыгыл-Мэхэ не планируете?
– Нет, – простодушно ответил Джамшадов. – Просто не вижу в этом смысла. Тафалары, особенно молодежь, в Кыгыл-Мэхэ все общаются на русском, большинство из них даже не знает родного языка. Да и не только молодежь, то же самое и со старшим поколением. Просто не для кого здесь сегодня служить на тафаларском…
После этого в телестудии глава «Мориной Гэшуун» вместе с главредом «Тафалаар Хоолой» демонстративно возмутились, сорвавшись в крик:
– Это пропаганда русификации! Это культурный геноцид!
Ведущий постарался быстро замять этот инцидент, но через два дня «Тафалаар Хоолой» вышла с передовицей: «Тафаларский язык не нужен! Русский священник Джамшадов считает, что в Кыгыл-Мэхэ не место тафаларской речи». И хотя всем было понятно, что скандал был раздут на пустом месте, отцу Виктору пришлось, во избежание осложнений, написать специальную статью, в которой он заверял всех в своей толерантности и любви к тафаларской культуре и языку. Впрочем, была и радостная новость: его знакомые из республиканской администрации передавали, что Егоршин передачу посмотрел.
– Долго ржал, – доверительным полушепотом добавляли знакомые.
Так что проблему можно было считать исчерпанной, хотя «осадочек» оставался.
В любом случае, в тот момент, когда архиерейская «Волга» под колокольный звон отъезжала обратно в Мангазейск, Евсевий не видел ни одной силы, способной сковырнуть почти всесильного протоиерея, который в самом скором будущем может отрезать у него половину епархии. И больше половины доходов, которые сейчас, во время строительства кафедрального собора, были так необходимы…
* * *
Настенные часы пробили девять вечера. Прошло уже четыре дня, как Евсевий приехал в Мангазейск из Кыгыл-Мэхэ. День оказался суматошный, как и предыдущий, и теперь, вернувшись в свою комнату-келью, он рассчитывал хоть немного передохнуть. Он было уже собрался присесть на свою кровать, как за дверью раздалось гнусавое бормотание: Георгий читал Иисусову молитву.
– Аминь! – устало сказал архиерей.
– Владыко, там отец Василий, – сказал, приоткрыв дверь, келейник.
– А чего ему надо? – Евсевий был человеком довольно сдержанным, и этот вопрос говорил о весьма высокой степени его раздражения.
– Говорит, что-то срочное…
– Ну, если срочное… – устало сказал Евсевий и неспешным шагом вышел из комнаты.
Еще когда он спускался по лестнице, мангазейский благочинный, стоявший на первом этаже, заметив его, начал говорить:
– Простите, Владыко! Срочные новости. Из Кыгыл-Мэхэ.
– Из Кыгы-ы-ыл-Мэхэ? – удивленно, растягивая слова, сказал архиерей. – Что такое?
Вместо ответа отец Василий протянул ему два листа с какими-то распечатками.
– Это откуда? – спросил архиерей.
– Сергеич только что из Интернета вытащил. С сайта их информагентства. Тафалар-Инфо вроде бы.
Так называлось молодое информационное агентство, первым в Тафаларской республике освоившее Интернет. И у него было две особенности. Во-первых, там очень оперативно размещали новости, во-вторых, его редакторы немного дружили с «Тафалаар Хоолой».
– «Священник-педофил», – прочитал вслух Евсевий. И дальше начал уже читать молча: «Благочинный Тафаларского благочиния РПЦ МП Виктор Джамшадов растлевал воспитанников православного приюта». Далее, не скупясь на яркие краски, излагалась суть дела: сегодня в одно из кыгыл-мэхинских отделений милиции поступило заявление от тринадцатилетнего подростка, сироты, который на протяжении последнего года жил при Свято-Троицком храме у отца Виктора. Подросток утверждал, что сначала Джамшадов ему очень нравился: был очень заботливым, добрым, всячески помогал – в общем, скоро он начал относиться к нему, как к своему родному отцу. А потом начались сексуальные домогательства, а затем мальчика изнасиловали…
Дочитав, архиерей велел Георгию принести рясу; набросив ее на плечи, он вместе с благочинным отправился к себе в кабинет.
Шинкаренко был еще на месте: он как раз верстал очередной номер «Православного Мангазейска» (ибо был не только главным редактором, но и дизайнером, и верстальщиком в одном лице). В такие дни он всегда засиживался на рабочем месте до поздней ночи. Именно по этой причине он и обнаружил в сети только что появившуюся на Тафалар-Инфо новость.
– Сергеич! – сказал архиерей, завидев Шинкаренко, встающего со своего кресла. – Зайди-ка ко мне в кабинет!
Шинкаренко и отец Василий вошли следом за архиереем, который не стал садиться сам и не предложил присесть им.
– Что это за… Тафалар-Инфо? – спросил архиерей у Шинкаренко, заглянув в распечатку.
– Информационное агентство, – коротко ответил тот.
– Серьезное? Доверять можно?
– С гнильцой. Но откровенную дезу они не гонят, – честно сказал Шинкаренко.
– Ты что скажешь? – обратился Евсевий к благочинному.
– Сергеич тут прав, – коротко ответил отец Василий.
– В чем прав? Что Джамшадов насильник?
– Нет, Владыка! – не выдержав, вмешался Шинкаренко. – Можно быть уверенным только в том, что какой-то подросток действительно подал заявление в милицию на отца Виктора. Более-менее уверенным. А не в том, что протоиерей Виктор Джамшадов – педофил. Я лично уверен в обратном, – твердо сказал Шинкаренко. С отцом Виктором он был знаком давно, и их отношения были если не дружескими, то приятельскими.
– Дыма без огня не бывает… Не бывает! – сказал Евсевий, небрежным жестом бросив распечатку на стол. И, постояв еще немного, добавил: – Ладно, Сергеич, я тебя отвлек, занимайся, чем ты там занимался…
И когда Шинкаренко вышел, Евсевий наконец сел за свой стол и обратился к благочинному:
– Вот что, отец Василий! Немедленно подготовь указ о запрещении в священнослужении протоиерея Виктора Джамшадова. Понял?
– Благословите! – в обычной своей манере, будто каблуками сапог щелкнув, ответил благочинный.
– И в том же указе обязательно – понимаешь? – обязательно укажи, что он снимается с должности благочинного, – добавил архиерей.
– Благословите!
– И еще. Как только указ напечатаешь, сразу же мне на подпись. Прямо сейчас. А потому сразу съезди на почту и отбей телеграмму в Тафаларское благочиние, где напиши: протоиерей Виктор Джамшадов запрещен в служении и снят с должности благочинного. Понял?
– Да, Владыко! Благословите!
– Все, – сказал Евсевий и чуть махнул рукой, давая понять, что разговор окончен.
За отцом Василием захлопнулась дверь, а епископ Евсевий погрузился в раздумья. Кажется, все складывается чрезвычайно хорошо. Хорошо в том смысле, что маститый протоиерей оказался педофилом? Нет, это, конечно, нехорошо, это просто отвратительно. Радовало другое: теперь появился железобетонный повод для того, чтобы скинуть его с тех высот, куда он забрался. Уж тут-то не прикопаешься! Изнасилование, да еще и мальчика, да к тому же и сироты из собственного приюта!.. Теперь-то никто не сможет сказать, что Джамшадова гонят из-за интриг по причине архиерейской немилости! Ох, и весело же теперь придется всем его высокопоставленным друзьям-покровителям! Включая сюда и Егоршина! Опекали-пригревали, и кого, оказывается, пригрели? Гомосексуалиста! Педофила! Да, после такого позорища им надолго придется заткнуться про свою «Кыгыл-Мэхинскую епархию»… Спекся их несостоявшийся епископ! А Мангазейская епархия как включала, так и будет в себя включать и Мангазейскую область, и Тафаларскую республику.
Огромная проблема, возникшая было на пути строительства кафедрального собора, исчезла сама собой. «Слава Тебе, Господи!» – мысленно произнес Евсевий, и вдруг ужаснулся своим словам: за что он благодарит Бога? За то, что его священник оказался содомитом? Уж не кощунствует ли он, архиерей? На несколько секунд ему стало тошно и очень-очень страшно…
Ведь появилось новостное сообщение, появилось обвинение… Но обвинение нужно еще доказать. А что если это клевета? Что если вообще все дело заказное, а парнишку просто купили или подговорили, может, отец Виктор просто в очень уж недобрый час поругал его или дал подзатыльник? Подросток есть подросток, с него станется… Архиерей начал вспоминать, как вел себя, в том числе и с детьми, отец Виктор. Во время учебы в семинарии, и после нее, и даже наместником в монастыре Евсевию неоднократно доводилось наблюдать гомосексуалистов. Некоторые из них были явными, некоторых, наоборот, обычному человеку было трудно распознать. Но в поведении всех их проявлялись какие-то точки, какие-то узловые моменты, когда их натура перла наружу. Очень часто, кстати, такой точкой и моментом истины оказывалось общение с детьми. Для опытного глаза (а у Евсевия он был опытный) идентифицировать «проблемного» персонажа было не так уж и трудно.
Однако в поведении отца Виктора он не заметил ничего, что указывало бы на его нездоровые пристрастия. Обычное поведение взрослого человека, который, похоже, искренне любит детей… Любит в общепринятом и здоровом смысле этого слова. Никаких симптомов.
«Как бы нам невиновного человека не затоптать!..» – подумал Евсевий.
С другой стороны, слишком доверять своей интуиции тоже не стоило. В конце концов, некоторые ведь очень умело маскируются, не распознаешь. А Джамшадов хитер, даже очень хитер!
«А самое главное, он ведь епархию расколоть хотел! И как нам тогда собор достраивать?» – подумал Евсевий. Именно это и показалось ему ответом на вопрос. «В конце концов, я ведь архиерей, – подумал он. – Мне благодать Святого Духа дана… Надо внимательно смотреть, что мне Господь на сердце положил!» С Джамшадовым случилась неприятность? Но вот почему-то она случилась именно с ним, а не с кем-то еще! Это ведь тоже не случайно, Господь напрасно такие вещи не попускает. «Возгордился отец Виктор, ох, возгордился! – думал архиерей. – Он ведь поперек пути Церкви Божией хотел стать с этим своим расколом епархии… Он же все разрушить мог. Кафедральный собор бы не построили – а не дать построить это, считай, почти то же, что и разорить! Нет, за дело его гоним! За дело! Ни священником, ни благочинным ему у меня в епархии не бывать!» – твердо решил Евсевий.
За дверью отец Василий прочитал Иисусову молитву.
– Аминь! – громко сказал епископ.
– Указ принес на подпись, Владыко, – сказал благочинный.
– О запрете Джамшадова? Давай!
* * *
Уже на следующий день, в три часа дня по местному времени, в Кыгыл-Мэхэ состоялась пресс-конференция, посвященная случившемуся «педофильскому скандалу». И пресс-конференция эта имела некоторые примечательные особенности. Во-первых, она проходила в здании Народного Хуррала (аналог Областной Думы) Тафаларской республики. Во-вторых, ее вместе давали главный редактор «Тафалаар Хоолой» Бадма Цыренов, главный редактор Тафалар-Инфо Артур Будаев и атаман Восточно-Сибирского казачьего войска Владлен Комаров.
То, что все эти люди собрались в здании Народного Хуррала, было тревожным знаком для отца Виктора: в этом месте никто и никогда просто так пресс-конференций не давал. Если это произошло, то произошло только по одной причине: в руководстве местного парламента нашлись люди, которые были заинтересованы в раскрутке данного скандала. Непонятно, кто они и зачем им это надо, но сам факт их участия в деле сомнений не вызывал.
Что же касается участников пресс-конференции, то это стало второй сенсацией последних двух дней. Реестровые казаки были одной из любимейших мишеней «Тафалаар Хоолой» по той простой причине, что они максимально соответствовали тому карикатурно-отталкивающему образу колонизатора, какой эта газета старательно формировала в умах своих читателей. Само собой, и реестровики не любили бойцов антиколониального Сопротивления, в неофициальной обстановке характеризовали их исключительно матерно, а в официальной – говорили о «деструктивной деятельности».
Однако теперь и те, и другие сидели за одним столом.
Первый же вопрос, который им задали журналисты, казался вполне логичным: какое они имеют отношение к случившемуся? Тогда слово взял Владлен Иванович. Несмотря на исходивший от него сивушный дух (а может, и благодаря ему) он весьма многословно и образно описал «страшную трагедию, случившуюся в нашем городе». По его словам, мальчик несколько дней назад прибежал к казакам, умоляя их спасти его от протоиерея-насильника. Казаки подобрали несчастного подростка, покормили его и начали уговаривать пойти в милицию, чтобы подать там заявление по форме.
– Так ведь он боялся! – громогласно вещал Владлен Иванович. – Как его Джамшадов запугал! Он, значит, ему прямо говорил: «У меня вся милиция – вон где!» – тут атаман показал журналистам собственный сжатый кулак. – Тебе, говорил, никто не поверит! Сами, говорил, обратно сюда же и привезут!
Журналисты сочувственно кивали и смотрели на кулак широко раскрытыми, полными ужаса глазами.
– Тогда я, – тут атаманская грудь приобрела колесообразную форму, – принял решение взять мальчика под свою защиту! Он теперь находится, – тут Комаров начал произносить каждое слово нарочито раздельно и четко, – под особой защитой Восточно-Сибирского казачьего войска!..
В этот момент сидевший рядом главред «Тафалаар Хоолой» демонстративно кашлянул, давая понять, что пора переходить к их участию в этом деле.
– Да… – споткнувшись, сказал Комаров. – Вот, значит, мы решили, что надо привлечь к этому делу прессу. И первыми откликнулись представители братского тафаларского народа, значит, «Тафалаар Хуелой»…
– «Хоолой», – поправил редактор оного издания.
– …«Хоолой» и Тафалар-Инфо. Они первыми пришли к нам на помощь, дали информацию. Привлекли, соответственно, внимание широкой общественности. За что им от нас – казачья благодарность!
Далее взял слово Цыренов. Продолжая удивлять публику, и он начал со слов благодарности «тафаларскому казачеству», которое «выполнило свой долг – защищать слабых и нуждающихся». А затем начал излагать свою версию случившегося. Он рассказал, какие дикие нравы царили в приюте у Джамшадова, как его боялись несчастные, насилуемые им дети, чья психика была навеки искалечена, и т. д. и т. п. Ну а завершил он свой рассказ на вполне ожидаемой и типичной для него ноте:
– Вот вы говорите, межнациональное согласие, межконфессиональное согласие. И вот смотрите: вот такую нравственность, вот такую духовность насаждает на тафаларской земле Православная Церковь. Такова великая культура, которую она нам принесла. Такова истинная изнанка деятельности священника Джамшадова, которого у нас тут со всех трибун чуть ли не светочем называли. Со своей стороны, мы – и мы договорились, что будем делать это вместе с нашими друзьями-казаками… – атаман Комаров важно кивнул, – вот, мы будем добиваться расследования этого дела, доведения его до суда. Мы это так не оставим. Мы будем добиваться, чтобы преступник получил заслуженную им суровую кару.
Организаторов пресс-конференции спросили, где мальчик и можно ли с ним поговорить. С мальчиком поговорить оказалось нельзя: с ним работают сотрудники милиции, в том числе и психологи, и вообще сейчас не время.
Ошарашенные случившимся (надо сказать, что в то время «педофильские скандалы» были еще редкостью, а столь резонансные, да еще и в Тафаларии – чрезвычайной редкостью), журналисты, естественно, связались с пресс-службой республиканского УВД. Ответ был коротким: мальчик имеется, и заявление от него имеется, проводятся следственные действия. Гражданин Джамшадов находится на подписке о невыезде.
За час до вышеописанной пресс-конференции архиерей в Мангазейске в очередной раз услышал, как за дверью отец Василий читает Иисусову молитву.
– Аминь! – громко сказал Евсевий.
– Простите, Владыка, – в открытых дверях появился благочинный. – Тут звонок из Кыгыл-Мэхэ. От Джамшадова, – Васильев уже не называл его «отцом Виктором», а только по фамилии, без упоминания сана и должности.
– Чего ему надо? – спросил архиерей, развернувшись в кресле в сторону отца Василия.
– Не знаю. Просит связать. Хочет говорить с вами.
– Со мной… Ну, свяжи, – ответил Евсевий.
Через полминуты на столе у архиерея затарахтел телефон.
– Слушаю, – сказал Евсевий, уже зная, чей голос он там услышит.
– Благословите, Владыка, – как и предполагалось, говорил отец Виктор Джамшадов. Однако вместо обычного, доброжелательного, но в то же время уверенного и деловитого тона, в этот раз в его голосе чувствовались неуверенность и усталость – та усталость, которая от сильного нервного напряжения возникает очень быстро.
– Слушаю, – повторил архиерей, не сказав обычного: «Бог благословит».
– Ваше Преосвященство, я собирался вам позвонить… По поводу… всего этого. Но когда пришел, утром уже была телеграмма… О запрете в служении и снятии с должности благочинного. Простите, Владыко, это так?
– Так, конечно! – ответил архиерей.
– Простите, Ваше Преосвященство, – продолжил Джамшадов. – Я все понимаю, конечно… Скандал, ради защиты Церкви…
Евсевий довольно громко и демонстративно вздохнул, давая понять, что ему этот разговор окончательно перестал нравиться.
– Я все понимаю, скажите только, – отец Виктор говорил уже умоляюще. – Вы действительно думаете, что я это мог сделать?
– Вот что, отец Виктор! – ответил Евсевий, и уже не без некоторого раздражения. – Ты уже не маленький, должен понимать: я здесь не могу поступать, как там мне хочется. Что я там думаю – это одно. А уголовное дело есть? Есть. Пока все не выяснится, я тебя обязан в запрет отправить. Иначе ущерб для Церкви может быть большой. Понимаешь?
– Да, Владыко, – сказал Джамшадов. – Но ведь, но вот я сейчас перед святым Крестом, говорю: я ничего такого не совершал! Никогда!
– Очень хорошо, если не совершал, – сказал Евсевий, и уже бывший тафаларский благочинный почувствовал, что акцент был на слове «если». – А теперь скажи-ка мне: тот парень, который на тебя заявление подал, твой питомец?
– Мой…
– Во-о-о-от, твой! Как бы там ни было, это ты его так воспитал, что он всю эту кашу заварил. А расхлебывать нам ее, между прочим, теперь всей епархией. Понимаешь?
– Да, Владыко… Простите!
– Так что посиди-ка в запрете пока! Все! Больше не о чем говорить!
И архиерей положил трубку.
Отец Виктор, однако, был доволен ответом. Понятно, что после начала такого громкого и грязного скандала архиерей был де-факто обязан отправить его под запрет – для успокоения людей, до того момента, пока ситуация не выяснится. Правда, настораживало, что его сразу же сняли с должности благочинного. Джамшадов был достаточно умен для того, чтобы понимать, что Евсевий в этом был объективно заинтересован. Но, в любом случае, священства он не лишен. А раз так, то со временем все можно будет вернуть…
* * *
– Да нет! – сказал отец Виктор Джамшадов жене, чуть близоруким взглядом всматриваясь в газетную полосу. – Они наверняка напутали! Сама знаешь наших журналистов… В чем они разбираются? Ни в чем!
Прошло три дня с момента его телефонного разговора с архиереем. За это время в его жизни произошло немало всего, и самыми важными событиями, конечно, были связанные с возбужденным против него делом. Допросы (и его самого, и его жены), уже более десятка статей в местной прессе и даже пара телепередач, посвященные «педофильскому скандалу», почти постоянные звонки от корреспондентов разных изданий (среди которых было и два федеральных) – все это изматывало, все это было непривычно, страшно, но все же ожидаемо. Однако та статья, а вернее сказать, интервью, которое он прочитал только что в «Вечернем Кыгыл-Мэхэ» – вот это оказалось неожиданностью.
«Вечерний Кыгыл-Мэхэ» был чем-то вроде местной версии «Литературной газеты», гибридизированной с позднесоветским журналом «Юность». Основан сей печатный орган был еще в 1927 году и изначально занимался публикацией литературных произведений, но в конце 1980-х годов переехал преимущественно на общественно-политическую тематику. Издание считалось солидным, оно подкармливалось республиканскими властями, но при этом имело статус как бы независимого и как бы либерального. С приходом к власти Егоршина оно начало умеренно фрондировать и в результате стало этакой «оппозицией Его Величества»: «Вечерний Кыгыл-Мэхэ» официально находился вне официоза, но при этом был связан с местной элитой.
И вот теперь в этой уважаемой газете на второй полосе появилось интервью с епископом Евсевием. Смысл интервью был вполне понятен из заголовка: «Виктор Джамшадов уже никогда не будет священником». Это можно было бы принять за безграмотное журналистское обобщение, смешавшее запрет в служении (временное наказание) и извержение из священного сана (которое уже раз и навсегда). Однако заголовок был почти точной цитатой из опубликованного текста. На вопрос журналиста об отце Викторе епископ Евсевий ответил: «Священником он уже не будет».
– Ерунда! – повторил Джамшадов, в энный раз перечитывая архиерейское интервью. – Еще три дня назад говорили о временном запрете, а тут такое… И вообще, это компетенция Синода, а не епархиального архиерея!
Он посмотрел на часы. В Мангазейске Епархиальное управление должно было еще работать. Отец Виктор снял трубку и быстро набрал привычный номер.
– Наталья Юрьевна? Здравствуйте! Это протоиерей Виктор Джамшадов, – он специально упомянул свой сан, которого его никто, канонически законно, пока еще лишить не мог. – Вы не могли бы соединить меня с Владыкой?
Повисла пауза. Отец Виктор напряженно слушал; супруга молчаливо стояла рядом.
– Отец Василий? Здравствуй!.. Не может? Отец Василий, я тут прочитал интервью… Оно действительно… Но там сказано… Могу я переговорить… Простите…
– Что там такое? – спросила отца Виктора жена после того, как он повесил трубку.
– Ух-х-х! – Джамшадов выдохнул и присел на стоящий тут же старенький стул. – Владыка не стал со мной говорить. То есть отец Василий сказал, что он не будет. Говорит, все, что нужно, до меня доведут…
– А про интервью?
– Сказал, что не уполномочен…
– Может, попробуем еще дозвониться до Владыки? – жена отца Виктора понимала, что это предложение абсурдно, но сейчас и она, и он готовы были хвататься за соломинку.
Джамшадов устало махнул рукой.
– Если бы хотел, он бы мне ответил… Все ясно. Вот только кого бы спросить про это миленькое интервью… А, ну конечно! – сказал он, вспомнив про Шинкаренко, давнего своего приятеля.
Дождавшись окончания рабочего дня и выждав для верности еще около полутора часов, отец Виктор позвонил домой к Шинкаренко (звонить ему на рабочее место, находившееся в полутора метрах от рабочего места мангазейского благочинного, было бы не слишком умно). После нескольких гудков в трубке раздался голос редактора епархиальной газеты:
– Слушаю.
– Приветствую, Александр Сергеич! Джамшадов безпокоит.
– А, отец Виктор! Рад слышать! – Шинкаренко отвечал по-прежнему приветливо, и это было приятно. Даже очень приятно…
– Сергеич, я надолго не отвлеку, просто хотел выяснить, в связи с этим моим… делом.
– Да, слышал. Сочувствую тебе. Идиотизм и клевета.
– Спасибо, спасибо!.. – Джамшадов почувствовал, что голос его задрожал. В последние дни ему было сказано немало сочувственных слов, но в такой ситуации их не могло быть много. И каждое было весомо, и каждое было дорого.
– Сергеич, скажи, пожалуйста, – собравшись, продолжил он. – Что это за интервью в «Вечернем Кыгыл-Мэхэ»? Это действительно интервью с Владыкой?
– Да, – раздалось из трубки.
– И он действительно все это говорил?
– Да ничего он не говорил. Они прислали вопросы, благочинный написал ответы, а он подписал.
– То есть он одобрил? Вот это… «Священником уже не будет»… Да?
– Да. К сожалению, да, – с горечью сказал Шинкаренко.
– Но ведь… Но ведь я еще не извергнут из сана, в конце концов! Решения еще не было!.. Да и не докажут ничего, потому что доказывать нечего!.. Как же можно было такое говорить, такое писать? – Джамшадов почувствовал, что голос его дрожит.
Шинкаренко на том конце провода молчал.
– Что скажешь, Александр Сергеич? – вновь спросил его Джамшадов.
– Что тут говорить? Тут все ясно, – ответил Шинкаренко.
– Да, действительно… Прости за безпокойство! Спокойной ночи! – и отец Виктор положил трубку.
– Так что с этим интервью? – нетерпеливо спросила супруга, которая, казалось, боялась шелохнуться все то время, пока шел телефонный разговор.
Джамшадов вновь устало махнул рукой:
– Ничего… Похоже, что зря я на журналистов… Все они правильно напечатали!
– Ты сможешь быть священником?
Джамшадов оторвал взгляд от пола и посмотрел в глаза своей супруге:
– С этим архиереем – вряд ли!..
Глава 7 Маленькая страна
Троицкая седмица 2002-го года выдалась жаркой; стояли последние дни июня, и именно в это время мангазейское лето обычно входит в свою полную силу. Остатки тополиного пуха грязно-белыми комьями валялись на пыльном замусоренном асфальте, а на ярко-синем небе – таком, какое бывает лишь в степных краях Азии – не было ни единого облачка. Стрелки термометров безжалостно указывали на двадцать семь градусов – и это в одиннадцать тридцать утра. После обеда, по всей вероятности, будет за тридцать…
Отец Игнатий, с шумом выдыхая воздух, будто бы ему пришлось пробежать дистанцию в несколько километров, выскользнул из Свято-Воскресенского храма, перекрестился и, подумав несколько секунд, сбавил темп и пошел к скамеечке, стоявшей во дворе. Службу сегодня совершали без архиерея, и потому управились быстро… Черная ряса была застегнута лишь на одну пуговичку, под горлом, открывая утреннему ветерку пропотевший серый подрясник.
– О! Отец Игнатий! – раздался жизнерадостный голос. – Благословите!
Настоятель Свято-Воскресенского храма, уже успевший усесться на скамейку, улыбнулся.
– In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti! – широко улыбаясь и, добродушно хихикая, протянул он свою руку обладателю жизнерадостного голоса.
– Аминь! – ответил тот и облобызал иеромонашескую десницу.
– Садитесь, – сказал отец Игнатий, указывая место рядом с собой на скамейке.
– Спаси Господи! – ответил подошедший. Одет он был так же, как и большинство людей, трудящихся при храме, но не носящих подрясника – то есть, несмотря на жару, в брюки (в данном случае – старые джинсы) и рубашку с длинным рукавом. Чуть впалые щеки его только-только начинали зарастать кудрявой светло-рыжей бородой, а объем кудрявых волос, шапкой покрывавших его голову, явно указывал на то, что их обладатель давно не появлялся в парикмахерской. Во всем же остальном его облике чувствовалась аккуратность. И это, вкупе с чуть ироничной улыбкой тонких губ и большими светлыми глазами, как-то невольно располагало ему доверять.
Звали этого человека Святославом Лагутиным. С отцом Игнатием они познакомились несколько дней назад. Незадолго до Троицы Святослав приехал в Мангазейск, едва успев подать заявление о поступлении на Пастырские курсы. Теперь ему предстояли экзамены, но никто особо не сомневался, что с ними у него проблем не будет. Сами курсы были чем-то средним между этаким богословским вариантом курса молодого бойца и элементарным церковным ликбезом. Что же касается Святослава, то он ни в том, ни в другом особо остро не нуждался, ибо в молодости своей имел основательный опыт церковного служения.
* * *
Святослав родился в 1976 году в городе, носившем тогда имя Фрунзе, в семье школьных учителей. Родители его были русскими, но при этом и местными, и даже могли считаться коренными жителями: еще их прадеды переехали в Туркестанский край, и с тех пор Лагутины не покидали пределов Средней Азии, сначала российской, а потом советской. Родители Святослава были тем, что обычно называют «нормальными советскими людьми». Они более-менее искренне верили в то, что СССР – это скорее хорошо, чем плохо, при этом не полностью, но все же доверяли «партии и правительству» и, конечно же, были откровенными и где-то даже воинствующими безбожниками. Правда, была бабушка, которая когда-то ходила в церковь, но перестала задолго до того, как Святослав вырос настолько, чтобы начать задавать вопросы о религии. У нее хранилось несколько старых, дореволюционных еще иконок, несколько переписанных от руки молитв, которые она изредка читала – и на этом условное православное присутствие в семье Лагутиных исчерпывалось. И на маленького Славу никакого явного влияния оно не оказывало.
Вообще трудно сказать, что подтолкнуло Святослава к храму. Сам он впоследствии говорил, что лет в пятнадцать впервые зашел в церковь, побеседовал со священником, и:
– Стало интересно!
С этого-то и начался его сознательный церковный путь.
Но вполне возможно, что к храму, как к некому якорю, Святослава привели его детские переживания – переживания такого рода, которые подчас заставляют детей очень быстро взрослеть.
В конце 1980-х годов Киргизия, как и прочие советские республики, проходила через «национальное возрождение». Начиналось все как обычно: распоряжения правительства об обязательном приеме на работу в разные конторы, включая и частные, киргизов, причем на льготных условиях, закрытие русских школ с последующим переформатированием их в киргизские, другие похожие шаги. Разумеется, никому из русских это не нравилось, но все это казалось неприятностями, пусть и досадными, и серьезными, но все же не смертельными.
Так на вещи смотрела и семья Лагутиных. Прадеды Святослава еще отбивались, с ружьями и вилами в руках, от набегов самых настоящих кочевников. Деды пережили расказачивание и раскулачивание (одному из них это стоило шести лет лагерей, другой как-то вывернулся), прошли войну. Отцу воевать не пришлось, но он родился и вырос во Фрунзе-Пишпеке. Жизнь в чуждом окружении – это несколько особенная жизнь, это он понимал с детства. Хотя, как потом выяснилось, понимал не до конца.
– Батя, времена сейчас не те! – говорил он своему отцу, деду Святослава, когда тот начинал вспоминать о том, «как тут было в тридцать первом», и настоятельно рекомендовал его «старое ружьишко-то поберечь». (Речь шла об обычной охотничьей гладкостволке.)
– А какие? – спрашивал дед.
– Многое поменялось уже. А ты все про восстания свои… Вон, у нас в школе два киргиза работают. Ну так и что? Нормальные советские люди. Даже языка киргизского не знают. Какие из них басмачи?
– Да не о них речь… – устало, обиженный непониманием, отвечал дед. – Они-то при чем!.. Ты вон за двадцать верст от города съезди, погляди, какие там нормальные советские люди…
Отец, как вежливый человек, переставал спорить.
Дед умер в 1983 году. А спустя несколько лет начались события, которые показали, что он был не совсем уж неправ.
На волне «национального подъема» сельская масса киргизов двинулась в города. Для местного населения это был шок: количество жителей Бишкека внезапно и резко выросло, а новые соседи явно были настроены привнести в городскую жизнь непередаваемый колорит местных традиций, включая установку юрт на площадях и забой скота во дворах многоэтажных жилых домов. Власти всему этому давали зеленый свет. И, конечно, сразу же началась борьба с врагами национального возрождения. Причем поначалу врагами назначили не русских – первой жертвой стала городская киргизская интеллигенция, в массе своей русскоязычная и даже уже не говорившая по-киргизски.
Раньше, разговаривая с кем-то из «городских» киргизов, когда речь заходила о его родном языке, можно было слышать:
– Э-э, я не знаю! Мы по-русски говорим. Это вон те, кто в деревне, баранов пасут – они по-киргизски. А мы – мы не-е!
Теперь это обернулось для них трагедией. Схема была стандартной: компания из пятнадцати-двадцати молодых и крепких киргизов – тех, что недавно переехали в город – замечали на улице своего соплеменника, такого же молодого, но, как говорили в СССР, «с лицом интеллигентским». Его мгновенно окружали и задавали вопрос – самый простой: как зовут, который час и т. п. Вопрос задавался на киргизском языке, которого парень, горожанин в третьем поколении, часто не знал.
Если он мог ответить по-киргизски – его отпускали с миром. Если нет – начиналось зверское избиение, очень часто заканчивавшееся смертью. Милицию всегда вызывали, но она всегда умудрялась запоздать так, что убийцы успевали уйти, а ей лишь оставалось доставить труп в морг.
А потом грянули печально знаменитые «события 1989 года», когда начали делить землю, которой слишком много оказалось у турок-месхетинцев, узбеков и, конечно, у русских. Земельный передел очень быстро перешел в погромы, и скоро счет жертв начал измеряться в тысячах. В Бишкек хлынули потоки беженцев, и беженцы эти рассказывали о детях, насаженных на вилы, о зверски изнасилованных женщинах и многом другом… На какое-то время в столице сбросившего «чужеземное иго» Кыргызстана был введен комендантский час. По тем, кто без спроса появлялся на улице после 21-го часа, открывали огонь на поражение. Единичные, но регулярно повторявшиеся нападения на русских стали обычным делом. По этой причине русские жители Бишкека без очень большой нужды на улице в те дни старались не показываться. Те, кому посчастливилось обнаружить у себя хоть каплю еврейской, немецкой или польской крови, уезжали в Израиль, Германию, Польшу, Канаду – куда угодно…
На фоне всех этих событий Святослав Лагутин и взрослел, переходя из подросткового возраста в возраст ранней юности. Ему повезло: ни он сам, ни кто-либо из его родственников не был убит или покалечен. Произошло несколько крайне неприятных эпизодов, но все они закончились, как принято говорить, легким испугом. Кроме того, и Святослав, и его родители были склонны думать, что им повезло и в другом отношении. Развал Советского Союза застал их именно в Киргизии, а не, например, в Таджикистане, где в 1992 году началась гражданская война, более-менее завершившаяся только в 1997-м. И не в Туркмении, где гражданской войны не было, но был карикатурный диктатор с отнюдь не карикатурным политическим сыском и концлагерями. На фоне остальных государств постсоветской Средней Азии Киргизия смотрелась даже выигрышно: войны здесь не было, а вот русские, занимавшие подчас достаточно высокие должности (вплоть до правительственных) – были. В общем, к середине 1990-х годов те, кто остались, считали, что жить тут худо-бедно можно.
Возможно, столь своеобразное детство и заставило Святослава весьма рано задуматься о том, зачем человек живет, а равно и о хрупкости человеческой жизни и бренности бытия как такового. А может, православный (и, само собой, русский) храм в водовороте вновь обострившейся смуты был тем камнем, встав на который, можно было сохранить здравый взгляд и на себя, и на окружающий мир…
Сам Святослав, впрочем, все эти факторы со своим воцерковлением не связывал. С ним просто случилось то, что иногда бывает с людьми, выросшими в атеистической обстановке: бытие Божие вдруг стало для него не вопросом дискуссий и интеллектуального выбора, а реальностью. Ощутив которую, он себя уже вне православия не мыслил – а стало быть, не мыслил себя и без регулярного посещения богослужений.
В Бишкеке было не слишком много молодых людей, которые ведут более-менее сознательную церковную жизнь и постоянно ходят к службе. Поэтому очень скоро Святослава ввели в алтарь.
Как это обычно бывает с людьми из неверующих семей, воцерковление (а особенно прислуживание на богослужении) вызвало резкий протест в его собственной семье. Родители – и мать, и отец – оказались категорически против. До этого момента Слава и представить себе не мог, сколь внезапным и сколь жестоким может быть родительское неприятие.
– Опять в свою церковь! – истошно кричала на него родная мать, когда он, тайком, крадучись, собирался ранним воскресным утром к обедне. – Да будь все твои попы прокляты! Да чтоб там на тебя икона какая-нибудь упала и убила!
Услышать от матери пожелание того, чтобы на тебя сверху икона упала и убила, было несколько необычно… Совсем недавно он еще и поверить не мог, что в их семье, которая, несмотря на все беды, всегда была дружной и веселой, кто-то кому-то сможет сказать такие слова. А тем более – мать своему сыну. И тем не менее, теперь такое стало случаться. И было это очень обидно, с учетом того, что Святослав оставался вполне примерным юношей, непьющим и некурящим, ни в какие дурные истории не влезал, да и учился в своем техникуме неплохо.
– Да вроде нет у нас таких икон, которые бы могли насмерть убить, – с улыбкой ответил он. – Разве что Деисис… Только вот как под него подлезть?
Конфликт в очередной раз удалось перевести в шутку… К сожалению, так бывало не всегда. Хотя Святослав старался быть ровным и выдержанным, но иногда срывался и сам. Его неверующие родители в одночасье превратились из добрых и любящих мамы и папы в пристрастных и чрезвычайно внимательных следователей, подмечающих каждый твой неверный шаг и каждое твое действие истолковывающих как преступление.
– Не осуждай свою мать, – сказал ему на исповеди священник, настоятель его храма. – Ты идешь к Богу, а диавол противодействует. Сейчас он пытается тебя остановить через твою семью. Понимаю, тяжело. Но надо держаться. Смиряться. Вот теперь ты знаешь, что значат слова: «Враги человеку – домашние его». Но помни, что и врагов надо любить! Тем более если речь о твоей семье.
– Они говорят: «Мы тебя теряем»… – сказал Святослав.
Священник улыбнулся:
– Ну, я не знаю ни одного человека, который спокойно воцерковлялся в неверующей семье. Либо родители, либо жена или муж всегда говорят что-то в этом роде. Так всегда бывает. Потом, с Божией помощью, все образуется. А там, глядишь, и сами в храм придут. Ты молись за них. Терпи. И не осуждай ни в коем случае!
Со временем, действительно, все как-то пришло в норму. Между тем Слава Лагутин окончил техникум, устроился на работу в одну из фирм в качестве сисадмина и сотрудника техслужбы, а в 1999 году женился на дочери протодиакона, всю свою жизнь прослужившего в их храме. Своего послушания алтарника он, однако, не оставлял и по воскресеньям по-прежнему разжигал и подавал кадило, читал Часы и Апостол, а иногда, по благословению настоятеля, даже произносил проповеди (в их приходе это практиковалось).
Впоследствии, когда он гораздо лучше познакомился с реалиями Московской Патриархии, он понял, что ему очень повезло и со священником, и с приходом. Здесь, в Средней Азии, все еще сохранялись старые, доставшиеся от советского времени обычаи и нравы. А вернее сказать, сохранилась лучшая их часть. В прошлом остались стукачество и постоянный страх, необходимость бояться тайных агентов КГБ и вполне себе явных уполномоченных Совета по делам религий – истинных хозяев в епархиях. Нет, конечно, независимый Кыргызстан по-прежнему желал тщательно контролировать религиозную жизнь, в том числе и православную. Однако, во-первых, сил у него было мало, а дел и без Церкви было по горло, а во-вторых, установка на сознательное искоренение всякой религиозности ушла.
Но зато сохранялось иное наследие советского времени: приход, как и раньше, был сплоченной общиной людей, людей отнюдь не случайных, по-настоящему верующих и готовых оказать друг другу любую помощь – словом, он действительно был похож на одну большую семью, где настоятель всем был отцом и наставником. Костяк прихода составляли люди старшего поколения – те, кто еще помнил и уполномоченных, и КГБистов, кого снимали с очереди на квартиру и выгоняли с работы за их религиозные убеждения. Ради своей веры им пришлось пройти через серьезные испытания и искушения. И тем не менее они остались здесь. И потому дорожили и своим храмом, и своим священником.
Под стать этим старым прихожанам был и настоятель, которого рукоположили еще в начале 1970-х. Ему не случилось побывать в лагерях и на зонах, однако с КГБ он не сотрудничал и власти всегда рассматривали его как неблагонадежного. (Именно по этой причине вплоть до 1987 года его держали на удаленных и бедных приходах, и лишь когда соввласть в целом начала ослаблять хватку, епархиальный архиерей смог перевести его в Бишкек.) Его учителями и старшими собратьями-сослужителями были священники, прошедшие через сталинские лагеря, многие из которых лично знали (и, в свою очередь, были воспитанниками) тех людей, которых впоследствии прославили как новомучеников и исповедников Российских. «Святость», «мученичество», «исповедничество», «подвиг» – здесь эти слова произносили редко. Но при этом именно исповедничество на протяжении многих лет оставалось тут нормой жизни.
Святослав, не заставший времен гонений (даже в их относительно мягкой, позднесоветской форме), получил возможность хотя бы частично приобщиться к жизни церковной общины, сформировавшейся в эпоху подлинного исповедничества и мученичества. Где слова «брат» и «сестра» действительно не были пустыми словами – так же как и слово «отец» по отношению к священнику.
Быть может, после 1991 года все могло бы измениться очень быстро, но их приход находился в Бишкеке. Местная власть гонения прекратила, но и как-либо сближаться с РПЦ МП тоже не стремилась. Не было сочувствующих бизнесменов-спонсоров – в общем, возможностей было не больше, чем в позднем СССР. Потому приходская жизнь в приходе как будто законсервировалась – на календаре за 1991-м промелькнул 1992-й год, потом 1993-й, 1994-й – а в храме, казалось, все еще оставался 1989-й или 1990-й год.
Ситуация получалась уникальной, хотя Святослав об этом тогда не думал.
После женитьбы и рождения в 2000-м году сына (названного Трифоном) ему пришлось задуматься об увеличении своего заработка: семью, которая начала разрастаться, надо было содержать. Кроме того, Святослав, как и многие русские жители Средней Азии, мечтал при благоприятных обстоятельствах перебраться на «Большую Землю», то есть в Россию. И однажды, в один замечательно жаркий летний день в 2001 году, состоялся следующий разговор:
– Слушай, Слава, – обратился к нему тесть-протодиакон, неожиданно оторвавшийся от вдумчивого поглощения борща. От аналогичного занятия пришлось оторваться и Святославу. С тестем, как, впрочем, и с тещей, у него сложились прекрасные отношения. Поскольку от работы до их дома идти было ближе, чем до своего собственного, то он регулярно забегал к ним в обеденный перерыв.
– Да, отче, внимательнейше слушаю, – сказал Святослав.
– Ты на днях говорил, что ищешь, где б подзаработать…
– Есть такое дело, – подтвердил он.
– Тут у меня старый знакомый обнаружился. Он сейчас пристроился в России, в Мангазейской области. На лесопилке подрабатывает, их там целая бригада. Кормежка за счет фирмы, проживание. Третьим на нарах, но тут уж сам понимаешь…
– Это само собой, – кивнул Святослав.
– Работа, прямо говоря, лошадиная – часов по двенадцать-четырнадцать. Но зато за месяц по шестьдесят тысяч рублей подымают, а если повезет – то, говорит, и до ста тысяч можно.
– Интересно!
– Ну вот… Если готов туда поехать, я могу с ним созвониться, отрекомендовать могу. Чтобы на сто процентов – не обещаю, но скорее всего возьмет. Поедешь?
– Я готов, – сразу же ответил Святослав. Хотя, конечно, из сисадминов переквалифицироваться в лесорубы было не совсем привычно, но он, как разумный человек, понимал, что бишкекские компьютерщики за пределами Бишкека не особенно востребованы. А тут – реальные деньги и реальный шанс зацепиться в России. Второй раз такого шанса могло и не представиться.
– Единственное, отец, вы за… – обратился он к протодиакону.
– Об Ольге позаботимся, не думай даже, – ответил тесть. – Пусть они с Трифоном к нам переезжают, пока ты там на заработках будешь. А после или ты приедешь, или они к тебе.
Протодиаконский знакомый, как и предполагалось, без вопросов согласился принять Святослава в свою бригаду. Так в сентябре 2001 года Святослав Лагутин оказался в Мангазейской области.
Картина, нарисованная ему тестем, в общем и целом соответствовала действительности. Работа действительно была лошадиной, спали действительно на нарах в бараке, который, как и еда, предоставлялся за счет конторы. Ста тысяч в месяц не зарабатывали, но шестьдесят выходило стабильно. В общем, план работал, хотя в зимние месяцы, при тридцати и даже сорока градусах мороза, бывало тоскливо…
Через некоторое время бригадир заметил, что Святослав несколько выделяется среди прочих работяг образованием и сообразительностью. По этой причине ему доверили один из самых сложных механизмов фирмы: круглопильный станок, то бишь циркулярку. Сложного в этом для него ничего не было, наоборот – физического труда стало поменьше. Втянувшись в рабочий ритм, он уже не замечал, как пролетают дни, недели и месяцы. Хотя и отмечал, про себя, с тоской, что вот, прошел Рождественский пост, прошло Рождество, Богоявление… А он не был в храме, да и посты, естественно, не соблюдал. Утешало лишь, что это все временно.
«Поработаю до Пасхи, а там надо будет что-то решать!» – думал он.
Святослав давно уже думал о том, чтобы стать священником. И настоятель их прихода в Бишкеке, и тесть-протодиакон не раз говорили ему, что это – его путь. И что тянуть с этим не следует. Однако Святослав не хотел оставаться в Киргизии, а было ясно: если он рукоположится в Среднеазиатской епархии, то за ее пределы ему выбраться будет очень непросто. Поэтому и настоятель, и особенно тесть, который также хотел, чтобы его дочь и внук жили в России, слишком сильно на него не давили.
Но вот теперь он был в России. Деньги, которые он зарабатывал, были не слишком велики, но все же так много он не получал еще никогда. Он несколько раз бывал в Мангазейске; город ему не то чтобы очень понравился, но показался вполне подходящим: «Жить можно!» Далее Святослав планировал, немного подзаработав, зацепиться если не в самом Мангазейске, то где-то в Мангазейской области, а там уж можно привозить и жену с сыном.
Казалось, план вырисовывался простой и разумный. Заработанная сумма с каждым месяцем становилась все больше, но денег на реализацию этого самого плана не хватало. Нужно было поработать еще… И еще чуть-чуть…
Меж тем прошел Великий пост и наступила Пасха. Выбраться в Мангазейск на службу не получилось. Святослав с грустью смотрел на бараки, освещенные ярким весенним солнцем, и мысленно обещал себе, что такого больше не произойдет. Вот, он поработает еще пару месяцев (ну, может быть, месяца три-четыре) – и вернется к нормальной жизни. В первую очередь, к нормальной церковной жизни.
Так продолжалось вплоть до Вознесения. Четверг, как всегда, был рабочим днем, а работы было много, и уже с восьми утра Святослав работал на циркулярке, перерабатывая свежеспиленные бревна в доски. К своему рабочему инструменту он давно привык – агрегат был не особо хитрый, да и у себя в Бишкеке ему не раз приходилось работать с подобными механизмами. Никаких премудростей здесь не было, и делал он все на автомате. Особенно по утрам, когда, невыспавшийся и усталый (а усталость теперь сопровождала его постоянно, ибо накапливалась она несколько месяцев), он запускал станок и начинал ставшую привычной работу.
Вот и сейчас, на сороковой день после Пасхи, все было точно так же. Побудка, довольно символическое умывание ледяной водой из рукомойника в бараке, каша с тушенкой, чай с сахаром и ломоть хлеба – все еще в полусне, и все второпях. Куртка, верхонки, короткий путь по утреннему холодку, столь типичному для мангазейской весны, до барака с циркуляркой… Еще не вполне проснувшись, запускает мотор… Распиленное бревно привычным движением руки направляется под жужжащий на высоких нотах диск циркулярной пилы, и край многократно разорванной верхонки цепляется за толстый, чуть отслаивающийся слой коры. Святослав, все еще в полусне, дернул рукой назад – автоматическое, естественное движение, сколько раз такое бывало! Однако в этот раз кора не оторвалась, а рваная верхонка проявила удивительную крепость. Святослав почувствовал, что его резко рвануло вперед, а еще через секунду ощутил вспышку огненной, жгучей боли.
Тут же прибежали рабочие, услышавшие его крик. (Несмотря на внешнюю грубость и общение исключительно на матах, со взаимовыручкой здесь было очень хорошо – по-другому посреди мангазейской тайги, да еще и напряженно работая, просто не выжить.)
– Мать твою! Твою мать! – раз двадцать повторил бригадир, осматривая руку Святослава, сидящего на земляном полу и окруженного другими работягами. – Да куда ж ты глядел?!
Святослав постанывал сквозь зубы от боли, ничего не отвечая на этот риторический вопрос.
– Да вроде несильно задело, – раздался из образовавшейся толпы негромкий, почти робкий голос.
– Вроде да…
– Короче, берите уазик и везите его в поселок! – распорядился бригадир. – Ихней скорой все равно хрен дождешься.
Что и было сделано: кое-как перевязав руку, Святослава посадили в УАЗовский микроавтобус, в просторечии именуемый «буханкой», и отправили в ближайшую районную больницу.
Врач в травмпункте оказался весьма опытным: помимо жертв пьяных драк, одними из основных его клиентов были местные мужики – жертвы собственных циркулярок, бензопил и топоров. Осмотрев своего очередного пациента, он сказал не без удивления:
– А ты парень везучий!
– Вы про меня? – не без иронии, которая вернулась к нему после приема обезболивающего, спросил Святослав.
– А то про кого же! – ответил врач. – Заживут твои пальцы, не боись. Так, слегка задело. Не понимаю, как это ты, с вашей-то циркуляркой, так легко выкрутился…
– То есть все пальцы на месте? – радостно спросил Святослав.
– На месте, на месте… Я уж думал, отнимать придется, а вроде нет – все как будто цело!
Два дня Слава Лагутин пролежал в поселковой больнице, скорее не на лечении, а в своеобразном отпуске, который ему решило дать начальство. С рукой все вроде было не так уж плохо. Но травму именно на Вознесение он воспринял как явный знак Божий.
– Господи, я все понял! – мысленно, а иногда негромко вслух, оставшись наедине, повторял он. «Денег захотел подзаработать! Еще месяц, еще два! Ну вот и получил! Нет, Господи, я все понял! Все!»
Однако очень скоро это покаянное настроение начало меняться. «Рука зажила почти, может, еще до осени поработать? – начал задумываться он. – А там уж и покончу со всей этой лесопилкой… Хоть подзаработаю еще, будет с чем жену встретить…»
На четвертый день пребывания в районной больнице, после обеда, Святослав почувствовал неприятный, изматывающий зуд в пораненных пальцах, которые к тому же начали опухать. Врач, осмотрев руку, сказал, что здесь они ничего сделать не могут и наутро отправят его в областную больницу, в Мангазейск.
Что и было сделано. Поскольку перемещаться он мог самостоятельно, отправка свелась лишь к выписыванию направления, после чего ему коротко объяснили, как дойти до платформы и когда будет ближайшая электричка. В итоге до областной больницы он добрался лишь к пяти вечера, с распухшей ладонью, голодный и измученный неутихающим зудом.
Далее был штурм приемного покоя, отфутболивание из кабинета в кабинет, очереди и, наконец, прием у дежурного врача.
– Ну, что там у вас? – не ответив на вежливое приветствие Святослава, сказал он.
Святослав предъявил справку, выданную ему в районной больнице, и свою руку. Врач бегло, буквально за секунду, ознакомился с бумагой и начал снимать бинты. Когда же этот процесс закончился, его несколько сонное и рассеянное состояние сменилось возбуждением на грани агрессии.
– Почему только сейчас пришли? – почти закричал он на Святослава. – Чего ждали?
– Так ведь… Вчера только… – запинаясь от неожиданной перемены регистра разговора, ответил Лагутин.
– У вас уже заражение пошло! Скорее всего, ампутировать придется!
Святослав почувствовал, что пальцы (включая и те, которые придется ампутировать), похолодели, а в горле образовался ком. Ведь это значит, что он станет калекой, инвалидом! Кстати, священником после этого он тоже не сможет быть…
«Господи, помилуй! – думал он. – Все, вот теперь точно понял!.. Правда, я и тогда так же говорил!.. Господи, вот теперь – теперь обещаю! На эту работу я точно не вернусь!»
Несмотря на обычную загруженность, Святослава немедленно направили в отделение гнойной хирургии, где им также занялись немедленно.
– Доктор, простите… – обратился Святослав к врачу, сосредоточенно возившемуся над его пальцами.
– Да?
– Скажите, пальцы… придется отнимать?
– Не знаю.
– Но…
– Я сказал: не знаю. Может, придется, может, нет. Посмотрим.
После операции Святослава разместили в палате – обычной шестиместной палате, с обшарпанными стенами и годами немытыми окнами, типичной для любой областной больницы на всем постсоветском пространстве. Типичной оказалась и публика: в основном немолодые колхозные и пролетарские мужики с темными, иссеченными морщинами лицами, покрытыми вечным деревенским загаром. На столе лежали дешевые пряники, чайные пакетики и синие томики Евангелия от «Гедеоновых братьев». Один из них Святослав, улегшись на койке, и взял почитать, благо времени было достаточно, а Евангелие он не читал уже очень давно (да и никакого иного чтения все равно не было, не считая разве истрепанных номеров «Спид-инфо»).
Сосед, жилистый мужик лет пятидесяти, лежавший на соседней койке, с интересом пронаблюдал за тем, как Святослав взял здоровой рукой синий томик в мягкой обложке, раскрыл его и начал сосредоточено читать.
– Тут ребята заходили, приносили… – откомментировал он, подразумевая, очевидно, тех ребят, которые принесли Евангелия.
Святослав посмотрел на своего соседа и вежливо кивнул. Тот, по всей видимости, воспринял это как приглашение к разговору.
– Оно и хорошо, а то бумаги нету, – с по-детски невинной улыбкой продолжил сосед. Действительно, в туалете, в мусорном ведре, валялись вырванные и использованные по вполне определенному назначению книжные страницы. Даже с относительно большого расстояния, по характерному мелкому шрифту, разбитому на пару столбцов, легко было определить, из какой книги они были вырваны… «Евангелизация, значит…» – с горечью подумал Святослав. От напоминания о том, как именно употребляют обитатели больницы врученные им томики Нового Завета, он вновь испытал знакомое с ранней юности чувство безсильной горечи… Имя Божие, Имя Христово – и вот, этот доброжелательный и, кстати, вполне искренний колхозный троглодит, который для страниц, где эти Имена начертаны, смог найти лишь одно применение… Как объяснить ему, что он сделал не так? Да и не ему одному… Как объяснить тем же «Гедеоновым братьям», что забрасывание постсоветских городов безплатными Библиями не сделало эти города более христианскими?..
– Понятно, – сказал Святослав, кивнув головой.
– А ты это… Интересуешься этим делом? – продолжил свои расспросы сосед.
– Каким делом? – Лагутин даже немного развеселился от забавной двусмысленности, ненароком прозвучавшей в вопросе.
– Ну, этим, божественным!
– Интересуюсь!
Мужик засунул руку в свою тумбочку и, к удивлению Святослава, вытащил оттуда измятый, со следами от чайных стаканов, номер «Православного Мангазейска».
– Тоже тут кто-то притащил, – пояснил сосед. – Ты посмотри, если интересуешься…
– О! Спасибо! – Святослав впервые увидел номер местного епархиального издания, пусть и весьма потрепанный. Поскольку он думал остаться жить в Мангазейске, а в последующем, если возможно, стать священнослужителем, то очень обрадовался неожиданному подарку. Как идут дела в здешней епархии и какие тут царят нравы?
Оказалось, что не так уж плохо. Издание было простое, черно-белое, но при этом без чрезмерных восторгов по поводу гениальности и отеческой теплоты, присущих горячо любимому правящему архиерею. Впрочем, особенно интересных статей, за которые бы сразу цеплялся глаз, не обнаружилось, не считая разве двух скачанных из Интернета текстов национал-патриотической направленности. (Лагутина они скорее развеселили, чем вдохновили.) А на последней странице, внизу, размещалось большое объявление: «Пастырские курсы при мангазейском Епархиальном управлении объявляют набор слушателей на 2002–2003 годы…». Далее шли требования, предъявляемые к претендентам; были они минимальны, и Святослав им полностью соответствовал. Кроме того, отмечалось, что на период вступительных экзаменов, а также и на время обучения, предоставляется общежитие и питание. Решение созрело сразу же.
На Духов день Лагутин был благополучно выписан: операция прошла успешно, ампутация не потребовалась. Из фойе областной больницы он позвонил своему начальнику, сообщив, что вернуться на работу не сможет. После этого он отправился в мангазейское Епархиальное управление, где, будучи традиционно неласково встречен Натальей Юрьевной, написал заявление с просьбой принять его на Пастырские курсы.
– Теперь отдайте отцу благочинному, – сказала она после того, как Святослав по образцу закончил свою бумагу.
– А где, простите, его найти?
– Там, – ответила Наталья Юрьевна, махнув головой назад. Туда Святослав и пошел.
Отец Василий, как обычно, сидел за своим столом недалеко от Шинкаренко, в преддверии архиерейского кабинета.
– Здравствуйте! – сказал Святослав, увидев отца благочинного. Местные обычаи ему были неведомы, а они везде варьировались: где-то всегда просили простить-благословить, где-то, наоборот, доминировали светские формы обращения. Поэтому, для первого раза, он решил выбрать мирской вариант.
Шинкаренко на секунду оторвал глаза от монитора, пристально посмотрел на него и снова уставился в монитор. Отец Василий недовольно буркнул:
– Здравствуйте. Что вы хотели?
– Мне сказали, что заявление с просьбой о принятии на Пастырские курсы я должен отдать вам…
– Ну, сказали-то правильно, – в голосе благочинного зазвучали едва уловимые нотки какого-то сладострастного ехидства. – Но прием уже заканчивается.
Святославу стало не по себе. Со своей работы он уже ушел, другой не было, а новую еще нужно найти. Киргизский паспорт, кстати сказать, этому никак не способствовал. И если его не допустят до экзаменов с последующим принятием на курсы, то положение его станет весьма и весьма непростым…
– Простите, так я могу подать заявление? – вновь спросил он.
Отец Василий, подобно Шинкаренко, увидел в своем мониторе что-то важное и не отвечал. Святослав хотел повторить свой вопрос снова (это было бы, конечно, почти невежливо, но в нынешнем положении можно было обойтись без излишней деликатности), но тут двери в архиерейский кабинет распахнулись, и на пороге появился Евсевий, в белом летнем подряснике, и к тому же широко улыбающийся. Благочинный и Шинкаренко встали.
– Ну, чего тут у вас нового? – благодушно спросил архиерей.
– Пока ничего, Владыка, – смиренно глядя в пол, ответил отец Василий. – Новостей нет. Слава Богу!
– Слава Богу, – повторил Евсевий. – Что, хороших новостей уже не ждешь, отец? – весело спросил он благочинного.
– Дай Бог! Не помешали бы, – тут уже заулыбался отец Василий, уловив настроение епископа.
– А вы по какому вопросу? – тем же доброжелательным тоном спросил Евсевий Святослава.
– Благословите, Ваше Преосвященство! – Лагутин низко поклонился и подошел к архиерею, сложив, по обыкновению, ладони «лодочкой».
– Бог благословит!
– Я, Владыко, пришел заявление подавать, на Пастырские курсы, – сказал Святослав.
– О как! А что ж только сегодня? – недоуменно спросил Евсевий.
– Меня только сегодня из больницы выпустили…
– Из больницы? – переспросил архиерей, заинтересованный столь необычным началом. – Из какой это?
– Из областной клинической больницы, руку там лечил. Повредил на лесопилке.
Васильев и Шинкаренко переглянулись; судя по вспыхнувшей в глазах главреда «Православного Мангазейска» депрессивной иронии, он решил, что к ним заявился очередной псих.
– Ты сам-то откуда? – Евсевий тоже немного насторожился (сумасшедшие на прием приходили регулярно).
– Из Бишкека, Владыко. Был там алтарником, с пятнадцати лет, хотел стать священником, если будет возможно. Сюда прибыл на заработки осенью прошлого года и недавно попал в больницу…
– Ага, – сказал Евсевий. По тону его было видно, что он заинтересован. – Давай свое заявление.
Святослав отдал.
– Пошли-ка со мной, – сказал ему архиерей.
Дальше Владыка отправился осматривать территорию Свято-Воскресенского храма, весьма придирчиво оценивая, как были обустроены клумбы с цветами, сетуя на то, что некоторые из них плохо политы – и одновременно расспрашивая Святослава о его церковных послушаниях, о семье, о дальнейших планах. В завершение разговора Евсевий задал очень практический и очень актуальный вопрос:
– Ты сегодня хоть что-нибудь ел?
– Если честно… – начал Святослав.
– Давай уж честно, – широко улыбнулся Евсевий.
– Не ел, – признался Святослав.
– Сейчас исправим, – кивнув, с улыбкой добродушной иронии, сказал архиерей. Вместе с Лагутиным они подошли к дверям приходской трапезной.
– Есть тут кто? – крикнул Евсевий, распахнув двери. Из кухни выскочил тутошний работник – Федя, немного странный тип лет сорока, тихий, иногда косивший под юродивого и не чуждый некоторого лукавства.
– Благословите, Владыко! – сказал он.
– Вот что, Федя! – обратился к нему архиерей. – Это Святослав, он на Пастырских курсах у нас учиться будет. Ты его покорми, ну и подскажешь там, где у нас общежитие.
– Благословите!
Святослав Лагутин чувствовал, как душу его захлестывает чувство искренней радости, переходящей в восторг. Еще сорок минут назад казалось, что путь к священству для него снова закрыт, что он один, в чужом городе, должен будет искать себе снова и работу (неинтересную и нелюбимую, и наверняка с нищенским окладом), и какую-то крышу над головой. И вдруг все разрешилось – и с заявлением, и с ночлегом, и даже с едой. Причем искреннюю, отеческую заботу о нем проявил не кто-нибудь, а правящий архиерей. Который вот так, запросто, долго расспрашивал его и о родном приходе, и о семье! А потом, буквально, велел накормить и спать уложить! Святослав хоть и привык к простой и, так сказать, семейной манере общения у себя в Бишкеке, но такого он все же не ожидал.
«Прямо как во времена древних христиан!» – подумал Святослав с несвойственным ему умилением.
– Спаси Господи, Владыка святый! – низко поклонился он Евсевию. – Очень вам благодарен за вашу… За вашу великую заботу, за столь добрый прием…
Архиерей по-прежнему улыбался.
– Ты давай, порубай чего-нибудь и иди обустраивайся! – весело сказал он ему. – Давай-давай! Тебе учиться скоро, а голодное брюхо к учению глухо! – и, широким жестом благословив Святослава, повернулся и пошел к своему дому.
* * *
Отец Игнатий Пермяков познакомился со Святославом буквально на следующий день после того, как тот подал заявление на Пастырские курсы и вселился в епархиальное общежитие. (Последнее представляло собой старый деревянный дом в полукилометре от Свято-Воскресенского храма, о четырех комнатах и с «удобствами» во дворе – этот дом арендовали специально для учащихся.) Буквально после первых же минут разговора отец Игнатий понял: Лагутин – «наш человек». И сразу же проникся к нему искренней симпатией.
Почему он посчитал, что Святослав – «наш»? И что это вообще для него значило? Несмотря на свою молодость (с Лагутиным они были фактически сверстниками), отец Игнатий давно уже был священником. Он также вырос за пределами РСФСР – в Казахстане, в Алма-Ате. Если Святослав пришел на свой приход подростком, то будущий иеромонах, а тогда еще Саша Пермяков, уже в детстве был приведен в церковь мамой и бабушкой. Причем он не просто стоял на богослужении, а очень скоро был отправлен на клирос и рано выучил порядок церковной службы. А было это в конце 1970-х годов. И ни о каком потеплении в церковно-государственных отношениях речи еще не было. По этой причине маленького Сашу Пермякова на клиросе ставили обычно за шторой, чтобы уполномоченный Совета по делам религий, который периодически наведывался на службы (и особенно на проповеди), не мог его заметить. Привлечение детей к активному участию в богослужении считалось одним из самых серьезных проступков, и наказать за него могли очень серьезно – и священника, и родителей, и самого Сашу, чьим школьным учителям могло быть указано на необходимость тщательнее работать с этим «темным» мальчиком.
И детство, и юность Александра Пермякова прошли на церковных приходах города Алма-Аты – сначала в обычном храме, а потом и в кафедральном. Церковные обычаи и нравы советского времени были им впитаны буквально с детства. С одной стороны, он прекрасно помнил, сколь много проблем, а то и подлинных личных катастроф случалось из-за антицерковной политики, продолжавшейся буквально до 1990 года (чуть полегче дышать, впрочем, стало с 1986-го, следующий этап послаблений начался в 1988 году, после празднования тысячелетия Крещения Руси). С другой, он также помнил то чувство взаимовыручки и братства, которое было присуще патриархийным приходам тех лет, ту искреннюю, горячую веру, которая сохранялась у многих священников и мирян. И те, и другие ради избранного ими религиозного пути сознательно отказывались от многого и жертвовали многим. Но после 1991-го года все стало стремительно меняться.
После крушения СССР окончательно ушли в прошлое все государственные ограничения и притеснения в отношении верующих. Появилась масса новых прихожан – на первых порах вполне искренних, а затем – самых разных: веровавших в биоэнергетику и НЛО, в абстрактную Истину и экстрасенсорику, и просто изломанных жизнью несчастных советских мутантов, не понимавших, как жить без Советского Союза, и нуждавшихся в интенсивной психотерапии. Стали приходить спонсоры и благотворители. В епархии появились деньги, а вокруг денег очень скоро начал образовываться непробиваемый круг попов нового типа: таких, для которых их церковное служение стало чем-то вроде бизнеса. Именно тогда, наблюдая, как молниеносно, буквально на глазах, меняются его родной приход и епархия, молодой иеромонах Игнатий был вынужден признать справедливость слов одного старого протоиерея, сказанных им еще в 1988 году:
– Когда Церковь перестает быть гонимой, она начинает загнивать.
В то время, когда Московской Патриархии только-только дали некоторую свободу, эти слова звучали дико, казались каким-то абсурдом или даже кощунством. Но в начале 1992 года отец Игнатий был вынужден признаться самому себе: его родная епархия трансформировалась в полном соответствии с этим предсказанием.
Это и стало первой причиной, побудившей его оставить Алма-Ату – хотя никто его оттуда не гнал – и перебраться в Мангазейск, в то время еще бывший частью епархии Иркутской. И здесь он снова обрел если не все, то многое из того, что было ему привычным и родным, то есть те отношения в церковной среде, к которым он привык с детства.
Вторая причина его переезда заключалась в том, что Казахстан, став на путь независимости, оказался страной не слишком-то дружественной к русским. И потому у отца Игнатия, как и у множества других «казахских» русских, возникло твердое желание перебраться на «большую землю» – в Россию.
И второе, и особенно первое неизбежно сближали его со Святославом Лагутиным, который явился этаким гостем из церковного прошлого советского периода. Святослав был человеком, который сразу же, с полуслова понимал отца Игнатия. И наоборот.
Именно по этой причине их знакомство немедленно стало таким крепким и доверительным, и именно по этой причине сейчас они сидели на скамейке перед Свято-Воскресенским храмом, равно наслаждаясь и остатками утренней прохлады, и полнотой взаимопонимания. Все это радовало, а сверх того, была еще одна забавная и приятная новость: Мангазейскую епархию покидал иерей Филимон Тихиков.
* * *
Взаимоотношения отца Филимона и епископа Евсевия начали портиться едва ли не с момента их знакомства. Еще в первый день, когда новый архиерей только прибыл на кафедру, Тихиков произвел на него тревожное впечатление. Вроде бы все как обычно, и как у всех: кланяется, благословляется… Но выглядит странно. Борода не просто короткая, а подстриженная машинкой, этакая модная длинная щетина. При этом и от этой кастрированной бороды, и от рясы пахнет то ли каким-то модным одеколоном, то ли духами.
«Голубой?» – с опаской подумал Евсевий. И в течение какого-то времени, месяца два-три, внимательно наблюдал за отцом Филимоном. И по итогам наблюдений сделал вывод, с точки зрения самого Евсевия, ненамного более утешительный: «Не голубой, но москвич. Великий столичный богослов!»
Наверное, если бы он так назвал отца Филимона вслух, в глаза, тот бы с ним охотно согласился, безо всякой лишней скромности. Ибо он и сам считал себя выдающимся интеллектуалом и ученым богословом. А иронию по отношению к себе он почти не замечал, и именно это свойство было причиной множества его удивительных приключений.
Начались они еще при Владыке Евграфе. Договорившись с ним насчет хиротонии, он прилетел в Мангазейск из Москвы, после чего сразу же встал вопрос о его трудоустройстве и размещении. С первым разобрались немедленно: как раз в это время старый регент собора, дама весьма почтенных лет, заболела, и Филимона назначили на ее место (благо, навыки чтения и пения у него были). С этого момента Тихикова можно было часто видеть вблизи Свято-Воскресенского храма, в джинсах и разноцветной рубашке, с CD-плеером, прикрепленным на поясе. Местное население, как церковное, так нецерковное, взирало на него с крайним удивлением: верное советским и зэковским традициям, оно предпочитало неяркие, темные цвета. А ценные вещи, к числу которых, несомненно, относился и CD-плеер, если и носили, то максимально незаметно, из вечного и не всегда рационального страха быть обворованными или ограбленными. Внешний вид Тихикова явно выдавал в нем человека не местного, что вызывало любопытство, смешанное с недоверием и иногда – глухим, неявным почтением.
Что же касается второго пункта, то Филимона решено было подселить в квартиру к молодому, недавно женившемуся и недавно же рукоположенному священнику, отцу Аркадию Котову. Комнат в квартире было две, и впоследствии, даже спустя годы, отец Аркадий не мог вспоминать то время без внутреннего содрогания.
Из всех священников Мангазейской епархии Котов был самым мирным и кротким от природы. Вечно погруженный в себя, послушный и архиерею, и собственной молодой супруге – девушке, в сущности, тоже очень мягкой, но его фоне выглядящей некой железной леди – Филимона Тихикова он воспринял по-доброму. Конечно, не хотелось делить с кем-то квартиру, куда они недавно въехали вместе с молодой женой. Но выбора все равно не было – жилье находилось в собственности епархии. Кроме того, Котову, уроженцу одного из райцентров Мангазейской области, было интересно пообщаться с москвичом, выпускником Свято-Тихоновского богословского института.
Именно об этом он ему и сказал в первый же день их знакомства, не догадываясь, что сам выбирает себе казнь.
– Здравствуйте! – смущенно сказал он Тихикову, который прибыл к нему на квартиру в сопровождении алтарника. Сумка с вещами была всего одна, однако Евграф специально распорядился относительно сопровождающего, дабы дорогой московский переселенец не надорвался и не заплутал.
– А у вас тут хорошо! – вместо приветствия сказал Филимон, оглядывая нищенски обставленную прихожую с наполовину ободранными обоями. – Честно говоря, я ожидал худшего.
Котов смущенно улыбался.
– Благословите! – вспомнив, наконец, об отце Аркадии, сказал ему Тихиков. Тот поспешно благословил, целовать руку, переволновавшись от смущения, не дал.
– Где я могу расположиться? – спросил Тихиков.
– Вот в этой комнате, пожалуйста… – сказал Котов, вежливо подхватывая сумку с вещами нового постояльца. – Рад знакомству! Очень о вас наслышан…
– Правда? – заинтересовано спросил Филимон.
– Да, давно уже говорили о вас…
– Не знал, не знал! – с удивлением ответил Тихиков, при этом явно польщенный масштабом своей славы.
– У нас ведь, знаете, очень мало образованного духовенства, выпускников Духовных академий почти нет… – продолжал говорить Котов, помогая новообретенному соседу разобраться с сумкой (Филимон забыл, где у нее находится замок-молния, и теперь сосредоточенно ее искал).
– Да, в провинциальных епархиях это очень большая проблема, – с искренним сочувствием сахиба, прибывшего из метрополии на каторжную службу темным сынам земли, сказал Тихиков.
Котов кротко улыбнулся.
– Честно сказать, я еще и потому рад нашему знакомству, что всегда теперь будет у кого спросить… Если вопрос возникнет из пастырской практики или по какой-то богословской дисциплине… Если, конечно, вам не в тягость будет, – поспешно добавил отец Аркадий.
– Нет, не в тягость! – с миссионерским милосердием ответил Филимон. – Мне самому будет очень интересно пообщаться с практикующим священником. Может, и я чему-нибудь научусь.
И очень скоро Тихиков начал свою миссионерскую деятельность. Он регулярно затаривался в иконной лавке и местном книжном всеми свежими изданиями богословской, церковно-исторической и публицистической направленности. Днем он был занят, и потому приобретенную литературу читал по вечерам.
В это время отец Аркадий в своей комнате, после очередного суматошного дня (литургия, требы, поездка в какую-нибудь воинскую часть или встреча со студентами в университете, или работа на Пастырских курсах, и много другое) наконец-то оставался наедине со своей супругой. Жена была молода, да и сам батюшка тоже был молод. И потому супруги были совсем не против уединиться. И все бы хорошо, но где-то в час ночи, без стука и вообще какого-либо предупреждения, дверь в их комнату широко распахивалась и на пороге появлялся Филимон Тихиков.
– Отец Аркадий! – радостно сообщал он ему с порога. – А я и не знал, что на русском языке вышло новое издание Тейяра де Шардена!
– Интересно, – жалобно отвечал Котов.
– Его «Феномен человека» издавали еще в советское время, – тоном лектора продолжал Филимон. – Но тогда многие вещи, сами понимаете, цензурировались. В частности, там не было заключительной главы: «Феномен христианства»!
– Да?
– Я читал фрагменты на английском – я ведь говорил, что я свободно читаю по-английски?
– Да, конечно…
– Вот, смотрите, какая замечательная идея: «Поистине, это высшая форма “пантеизма”, лишенная примешивающейся отравы и уничтожающего искажения; это упование на вхождение в совершенное единство, в котором каждый элемент, как и вся Вселенная, найдет свое завершение».
Отцу Аркадию становилось совсем неловко от того, что он никак не поддерживает разговор – и он для вежливости говорил какую-нибудь фразу, относящуюся к обозначенной теме:
– Любопытно, конечно… Но вот термин «пантеизм»…
– О, тут нет ничего такого, что бы противоречило православию! – с жаром отвечал Тихиков. – Он ведь здесь употреблен в совсем особом смысле. К тому же речь идет об очень интересной богословской логике, которая является продолжением логики эволюционизма…
Котов грустно моргал, глядя на Филимона очами жертвенного агнца.
– Наверное, мне проще понять, потому что у меня – я говорил? – не только богословское, но естественнонаучное образование…
И далее Тихиков продолжал пытаться объяснить отцу Аркадию, а заодно и его супруге, всю глубину мысли иезуита и археолога Тейяра де Шардена. Не позднее чем через сорок минут Филимон, сполна насладившись собственными монологами, уходил в свою комнату. А чета Котовых начинала готовиться ко сну, судорожно дергаясь от каждого шороха в коридоре.
На фоне этих ночных просветительских набегов прочие стороны жизнедеятельности Тихикова выглядели сравнительно невинными. Хотя тот факт, что он спокойно питался из холодильника, который наполнялся за счет отца Аркадия, и никогда не убирался в общем коридоре (не говоря уже про мытье посуды), особой радости семье Котовых не приносил. Поэтому тот день, когда уже рукоположенного во священники отца Филимона назначили настоятелем только что открывшегося Свято-Никольского храма, стал для отца Аркадия и его супруги одним из самых больших семейных праздников: Тихиков съехал на другую квартиру.
Но было бы ошибкой думать, что поведение Тихикова объяснялось его злокозненностью и коварством. Отнюдь нет! Он искренне считал отца Аркадия своим близким другом, и о времени их совместного проживания у него остались самые лучшие воспоминания. В душе отец Филимон, хотя и назывался отцом, навсегда остался избалованным подростком, которого воспитали мама и бабушка, уверенным в своих исключительных талантах и замечательных душевных качествах. И над семейством Котовых, и над прочими своими братьями-сослужителями он никогда (или почти никогда) не издевался целенаправленно. Он был подобен маленькому ребенку, который из любопытства отрывает бабочке крылья или хватает за голову кота – не думая и даже не зная о том, что он причиняет им боль – просто из интереса, встретив на своем пути что-то новое, разноцветное или пушистое и мягкое…
Такое отношение к местному духовенству и епархиальным работникам неизбежно приводило к конфликту – и конфликтные ситуации, действительно, возникали ежедневно, если не ежечасно. Но пока отец Филимон находился под высоким покровительством Владыки Евграфа, он мог позволить себе иной раз не явиться на службу, отказаться от того или иного поручения под предлогом мнимой болезни или других неожиданностей. Ему архиерей позволял то, что не спустил бы никому другому.
Однако нужно сказать, что в Мангазейске иерей Тихиков сумел приобрести и вполне искренних почитателей. Несмотря на все «прекрасные» стороны своей натуры, он действительно был хорошо образован, умел быть вежливым и интересным собеседником. По крайней мере, его обходительности, интеллектуальных мощностей и одеколона вполне хватало для приходских теток, многие из которых привязались к нему всей душой и восторженно повторяли:
– Какой батюшка! Какой замечательный батюшка!
А некоторые добавляли:
– Будущий архиерей!
Отец Филимон принимал все эти дифирамбы благосклонно, никогда не говоря ни слова против.
Но все изменилось сразу же после того, как Владыку Евграфа перевели из Мангазейска в Вену.
Во-первых, с этого времени сдерживать недовольных попов, а особенно благочинного, стало некому. Что же до отца Василия, то он теперь не без удовольствия шпынял Тихикова – и по делу, и без дела.
Во-вторых – и вот это было уже серьезно – выяснилось, что в мировоззренческом отношении отца Филимона и нового мангазейского Преосвященного разделяла пропасть. Владыка Евсевий был человеком, имевшим весьма слабое светское образование, да и в духовных школах он учился хоть и неплохо, но особых высот никогда не достигал. Его семья также была, что называется, простой. Отец – колхозный зоотехник, мать – сельская учительница. Сразу после окончания семинарии (а точнее, уже на последних ее курсах) Евсевий начал жить исключительно в монастырях, и послушания, которые он там выполнял, редко пересекались с какой-то интеллектуальной деятельностью.
Любимым чтением Евсевия стали патриотические и церковно-фольклорные книжицы – о старцах и старицах, чудесах и знамениях нашего времени. Конечно, главными его ориентирами в церковной жизни были патриаршие указы и официальные разъяснения из «Журнала Московской Патриархии». Но ровно настолько, насколько можно было отклониться от предначертанной Чистым переулком линии, он отклонялся в сторону митрополита Иоанна (Снычева), Олега Платонова (с его творчеством, впрочем, он был знаком лишь в пересказе своих духовных чад) и других похожих авторов.
Очередная смена идеологического вектора в епархии произошла почти молниеносно.
– Простите, отче, – обратился к отцу Игнатию в конце мая 2001 года один из «курсантов» (слушателей Пастырских курсов) после очередной лекции по истории Русской Церкви. – Но вот то, что вы про Иоанна Грозного и митрополита Филиппа рассказали – это не так было.
Отец Игнатий, по обыкновению уже летевший черным вихрем к выходу из аудитории, резко остановился. Его преподавательский авторитет впервые поставили под сомнение.
– Ага, – сказал иеромонах. – А как же было?
– Нам Владыка рассказывал… – начал «курсант». Архиерей на первых порах активно общался с учащимися на Пастырских курсах, навещая их один-два раза в неделю. И беседы их иногда длились часами.
– И что же? – нетерпеливо спросил отец Игнатий.
– Что не было никакого убийства митрополита Филиппа. А Иоанн Грозный был благочестивый русский царь, которого оклеветали потом.
– Гм, – сказал отец Игнатий. – Ну а кто тогда убил святителя Филиппа Московского?
– Ну-у, – немного нерешительно начал учащийся. – Он сам… просто умер. К нам Владыка приходил, рассказывал.
– А, ну если Владыка рассказывал!.. – отец Игнатий даже не попытался скрыть иронии, которую его собеседник, впрочем, не заметил. – Тогда конечно!
Иерей Филимон Тихиков сильно по-другому понимал православие. Он был страстным поклонником покойного Александра Меня, Георгия Кочеткова, любил ходить в гости к местным римокатоликам и неопятидесятникам и выступал за перевод богослужения с церковнославянского на современный русский. Воззрений своих отец Филимон не скрывал, и очень скоро архиерей, идентифицировавший его как инородное московское тело, зачислил его в еретики.
Примерно после четвертого выговора Тихиков сообразил, что ситуация развивается как-то не так. И принял единственно правильное для него решение: начал бомбардировать письмами и (если получалось) телефонными звонками епископа Евграфа, к тому времени уже освоившегося в Вене. Бомбардировка увенчалась успехом, и вскоре от Венской епархии пришел официальный запрос в Мангазейск с просьбой отправить к ним иерея Филимона Тихикова, а заодно и его личное дело.
Получив запрос в пятницу вечером, уже через два дня, после обеда на Духов день, епископ Евсевий принял у себя отца Филимона.
– В Европу, значит, собрался? – иронически спросил Евсевий пока еще своего клирика.
– В Венскую епархию, Ваше Преосвященство… – настороженно, желая выглядеть максимально почтительным, сказал отец Филимон. Несмотря на свой инфантилизм, он прекрасно понимал, что Евсевий может просто отказаться его отпускать. И тогда вместо Австрии он может получить пинок чуть пониже поясницы, с отправкой в самый убитый райцентр Мангазейской области.
– Ну поезжай! – коротко ответил Евсевий.
– Куда? – не сообразив, спросил Филимон.
– Хоть куда!
Чуть менее минуты Тихиков молча сидел перед архиереем, ничего не говоря и пытаясь догадаться, что же значили эти слова. Евсевий, наблюдавший за отцом Филимоном, прервал молчание первым:
– Еще чего-то?
– Простите, Владыка… Так я могу ехать?
– Ох ты ж Боженька, – сказал Владыка. – Я же уже сказал, что можешь!..
Тихиков стал совершенно счастлив, низко-низко и очень быстро поклонился, беря на прощание благословение, и, взявши отпускную грамоту, радостно вышел из кабинета Евсевия. Сказать «до свидания» или что-нибудь еще в этом роде он, впрочем, забыл.
Вырвавшись, да еще и с искомым уловом, от Преосвященного, отец Филимон захотел поделиться своей радостью с ближними. Ближними в этот раз оказались благочинный и Шинкаренко.
– Ну, вот я и отбываю! – счастливо сказал Тихиков, обратившись к отцу Василию. Тот мощным волевым усилием подавил ехидно-радостную улыбку.
– Счастливого пути! – но голос все равно был масляным от ехидства.
– Александр Сергеевич! – обратился отец Филимон к Шинкаренко. – Вы знаете, я вот, я буду по вам скучать!
– Неужели? – негромко, голосом, лишенным всякого выражения, ответил тот. Шинкаренко в прошлом был офицером ГРУ, и потому у него существовали некие свои представления о том, каким должен быть настоящий мужчина. Ничего особенного в этих представлениях не было: кто не служил, тот не мужик; мужику присуще умение правильно наливать за столом вино и водку; он первой запускает с мороза женщину в дверь, ну и прочее в этом духе. Для Сергеича (именно так его называла вся епархия) все эти вещи были своего рода священным каноном. Каноном, которому отец Филимон, со своими московскими привычками и маминым воспитанием, не соответствовал приблизительно на сто процентов. И потому неизменно вызывал реакцию наподобие аллергической.
В силу нарциссической зацикленности на самом себе отец Филимон этого не понимал.
– Да, вот только сейчас понял… В сущности, меня теперь так много связывает с Мангазейском! – мечтательно сказал Тихиков.
– Повезло Мангазейску, – тем же эмоционально-безцветным голосом сказал Шинкаренко.
– И мне! И мне повезло! – с чуть увлажнившимися глазами, ответил отец Филимон (иронии в словах Шинкаренко он не заметил). – Ведь я здесь начинал священническое служение! И я, конечно, никогда не забуду и не оставлю Мангазейск!..
– Вот как? – спросил Шинкаренко. Благочинный, судорожно сжимавший губы, чтобы не расплыться в улыбке, стал похож на основательно надутый красный воздушный шарик.
– Да, конечно! Я вам обязательно напишу из Вены. Буду присылать вам оттуда статьи!..
Тут Александр Сергеич еле слышно охнул.
– Ведь «Православному Мангазейску» так не хватает образованных авторов! – с искренней горечью сказал Тихиков.
– Ну, образование – оно не всегда помогает, – заметил Шинкаренко.
– Вот-вот! – радостно подхватил Тихиков. – Вот отец Игнатий учится в семинарии, заочно, уже столько лет – и каков результат?.. Действительно не помогает!
Настоятель кафедрального храма, иеромонах Игнатий Пермяков, был одним из самых нелюбимых отцом Филимоном мангазейских священнослужителей.
– Ну, счастливого пути! – безцеремонно завершил беседу Шинкаренко. Тихиков хотел было что-то добавить, но потом о чем-то вспомнил и, на этот раз сказавши «до свидания», покинул Епархиальное управление. Как только дверь за ним закрылась, главред «Православного Мангазейска» и отец благочинный начали хохотать.
* * *
Отъезду отца Филимона радовались все клирики и епархиальные работники, а среди них и отец Игнатий. Поскольку он был настоятелем Свято-Воскресенского храма, то ему более других приходилось иметь дело с отцом Филимоном, начиная с того времени, когда тот был еще регентом. И именно отец Игнатий более других страдал от его вывертов, оказываясь в роли мальчика для битья (ибо за ошибки своего любимца Евграф неизменно спрашивал с настоятеля). По этой-то причине у него были постоянные конфликты с Тихиковым, и именно поэтому отъезд Филимона в Австрию был для него пусть и мелочью, но чрезвычайно приятной.
– Ну и жара!.. – благодушно сказал отец Игнатий Святославу, пальцем оттягивая плотно прилегающий к шее воротник подрясника.
– Есть такое дело, – кивнул головой Лагутин. – Как будто и не уезжал из Киргизии!
– Ага, – ответил отец Игнатий понимающим тоном и кивнул. – Я, когда перебрался сюда из Казахстана, тоже поначалу удивлялся: климат во многом похожий. Та же сушь, та же жара… Азия, в общем.
Потом обсудили ближайшие дела (в богослужебном календаре на этот год уже истощились все самые изматывающие для клириков праздники – Рождество, Крещение, Вербное воскресенье и Пасхальная седмица), обсудили и предстоящее обучение. Поговорили о ближайшем будущем. Отец Игнатий весьма прозрачно намекнул, что священников не хватает очень сильно: новый архиерей затеял по всей епархии строительство новых храмов, поэтому, если Святослав не выкинет какого-нибудь левого коленца, меньше чем через год его должны рукоположить и отправить на приход.
– Это, разумеется, если вы хотите здесь остаться, – сказал отец Игнатий.
– Простите, здесь – это где именно? – аккуратно уточнил Святослав.
– В Мангазейской епархии.
– Почему же нет? Я и планировал сюда переехать, еще будучи в Бишкеке…
– Ну понятно, – ответил отец Игнатий. – Но мало ли… Может, вы там в Москву хотите или еще куда… К большим огням поближе.
– Отец Игнатий! – с легкой иронией, указывающей на то, что заложенное в вопрос лукавство слишком очевидно, ответил Святослав. – Зачем мне сдалась Москва? И кому я там сдался? Я в России, на Родине. Мне этого вполне достаточно.
Настоятель кивнул, одобрительно и понимающе.
В этот момент из дверей Епархиального управления показался архиерей, в белом подряснике, черной скуфейке и черной же полурясе. На ногах, в соответствии с погодой, были черные резиновые то ли сандалии, то ли просто шлепанцы. Отец Игнатий с Лагутиным тут же встали и по очереди подошли под благословение.
– Бог благословит, – Евсевий был настроен вполне доброжелательно, хотя и сдержанно (последнее, впрочем, было делом обычным). – Как служба, отец? Все в порядке?
– Да, Ваше Преосвященство, все хорошо, – ответил отец Игнатий.
– Да вы садитесь, – указал архиерей на скамейку и сел сам. Иеромонах, а с ним и Лагутин, немного смущенный такой простотой обращения, сели рядом.
– Ничего-ничего, отец Игнатий! – сказал Евсевий. – Скоро новый собор отстроим, будешь там служить – под куполом чтоб разносилось «Благословенно Царство!..»
Преосвященный улыбался, вместе с ним улыбнулся и кафедральный настоятель.
– Говорят, у тебя день рождения скоро? – спросил отца Игнатия Евсевий.
– Да, Ваше Преосвященство, в субботу… – ответил тот.
– О как! Удачно ты родился, аккурат в этот раз перед Петровым постом! Отмечать планируешь? – вдруг спросил архиерей.
Отец Игнатий удивился и смутился этому вопросу. Обычно Евсевий, как и прочие Преосвященные, с днем рождения хоть и поздравлял, но подробностями празднования не интересовался.
– Да, Владыко, собирался, у себя дома… Скромно… В узком кругу…
– В узком, говоришь, кругу? – переспросил архиерей.
– Да, Владыко!..
– Ну ясно-о, – последнюю «о» Евсевий произнес протяжно. – Готовься тогда отмечать. Я к тебе тоже загляну! Ну, если ты не возражаешь, конечно!
– Благословите, Ваше Преосвященство! – отец Игнатий подавил неловкость и вновь приобрел облик опытного, искушенного клирика. – Почту за честь!
Евсевий кивнул. И, вставая, добавил:
– В пятницу ты вечером служишь?
– Нет, Владыко! – ответил отец Игнатий.
– Ну ты все равно приходи, помолись. Я тоже приду, – и, благословив обоих своих собеседников, Евсевий отправился дальше.
Когда архиерей скрылся из поля зрения, отец Игнатий обратился к Лагутину:
– Вот что, Святослав… Раз у нас тут такое дело – помогите, а? Времени в обрез, а я, сами понимаете, не могу архиерея пригласить на китайскую лапшу из банок. Поможете приготовиться? А то попросить все одно некого…
– Разумеется, – ответил Святослав.
– За один стол с архиереем я вас не зову, – продолжил отец Игнатий.
Лагутин кивнул:
– Если честно, я бы и сам от этого воздержался.
Отец Игнатий посмотрел на него понимающим взглядом и также еле заметно кивнул. Значит, понимает человек, что поначалу на глаза Преосвященному лишний раз лезть не надо, вреда может быть больше, чем пользы. А тем более в неофициальной обстановке. И продолжил:
– Зато в воскресенье мы сразу после литургии за город съездим, на шашлыки. С диаконом и хором. И вот тут уже прошу – если желание будет, конечно.
– Желание будет обязательно, – подтвердил Святослав.
На том и сговорились.
* * *
Евсевий пребывал в отличном настроении. И тому были причины: в мае месяце, после всех проволочек, областными властями было принято принципиальное решение: землю под кафедральный собор выделить! Причем не где-нибудь на окраине, а на том самом месте, где пока еще находится ветхий и давно уже почти не использующийся стадион «Ударник». Местечко, надо сказать, было своеобразное: с одной стороны, от центра города, если считать за таковой здание областной администрации, оно находилось в пятнадцати минутах ходьбы. Да еще и у железнодорожного вокзала. В общем, «самый центр». С другой, территория была замечательно помойная. Во-первых, вблизи вокзалов почти всегда скапливаются отнюдь не сливки общества – бомжи, гопники, самые низкокачественные проститутки и даже трудные подростки. И Мангазейск в этом отношении был вполне типичен. Во-вторых, черно-серую громаду «Ударника» кольцом окружали типовые киоски, «комки», рожденные 90-ми годами, где можно было купить жевательную резинку, газету с «программкой телевизора», сигареты, китайские презервативы или водку (тоже китайскую). Кроме того, в ночное время многие из этих киосков занимались весьма специфическим бартером. Например, обменивали сбитые гопотой с голов случайных прохожих шапки на водку и прочие товары повседневного гопнического спроса.
В общем, территория была тем местом, про которое говорят, что «оно еще то».
Риски и проблемы, связанные с освоением этой чудесной земли, виделись Евсевию совершенно отчетливо. Само собой, самой главной проблемой станет поиск денег – для бюджета бедной, едва ли не нищей епархии предстоящая грандиозная стройка становилась грандиозным же испытанием. Кроме того, передача территории «Ударника» явно вызовет волну недовольства. Ведь скопление помойных «комков», жавшихся к ограде полуразрушенного стадиона, было кормовой базой для местного мелкого криминала. А мелкий криминал связан множеством незримых нитей с криминалом и бизнесом покрупнее, от которого, в свою очередь, паутина связей и «схем» расползалась на городскую администрацию и Думу. Да и на областном уровне наверняка есть заинтересованные лица. Еще будучи наместником монастыря, Евсевию приходилось иметь дело и с представителями власти, и с бизнесменами. И он очень хорошо понимал: связи и пересечения интересов могут обнаружиться самые интересные. Такие, что пнешь мелкого барыгу в киоске, а вой поднимет какой-нибудь старый и заслуженный депутат с рафинированно благообразной физиономией и биографией…
Соответствующая пропагандистская кампания построится очень легко. На стадионе еще теплились остатки былой спортивной активности, выражавшиеся, в частности, в паре секций, где занималось человек двадцать школьников. Так что в скором будущем нужно было ждать газет с огромными заголовками: «Попы отбирают у бедных детей стадион!» Ну а следом за газетами, само собой, потянутся возмущенные общественники, неравнодушные депутаты и тому подобная публика.
Подумав об этом, архиерей ухмыльнулся – иронически, но без злобы. Да, дел переделать предстоит немало, а суеты вокруг них поднимется еще больше. Однако предстоящие трудности не только не угнетали его духа, но, напротив, раззадоривали.
«Деньги найдутся! Как-нибудь, по кирпичику, по крошечке – все будет! Главное сейчас – молитва!» – думал Евсевий. Он был твердо убежден: строительство кафедрального собора – это подвиг, который предстоит совершить и ему лично, и всей епархии. А для этого, в свою очередь, требовалось как можно скорее навести везде порядок, приучая всех к строгости, к молитвенному деланию. Что должно получиться в результате? Мангазейской епархии, по мысли ее архипастыря, предстояло стать чем-то вроде то ли армии, то ли, в идеале, монастыря…
* * *
Над неширокой и неглубокой, но быстрой, на вид прямо-таки горной речкой, посреди летевших от нее ледяных брызг и раскаленного воздуха, раздался очередной взрыв хохота: отец Игнатий закончил рассказывать еще один церковный анекдот. И, решив не делать паузы, тут же начал рассказывать следующий.
– Это еще дореволюционный анекдот! – улыбаясь во всю ширь своего луноподобного лица, пояснил отец игумен. (В игуменский сан он был возведен на всенощной в пятницу, накануне дня рождения; как оказалось, архиерей направил соответствующее ходатайство в Патриархию уже давно, после Троицы получил указ, а оглашение его специально приурочил к личному торжеству отца Игнатия.)
– Значит, приходит к архиерею бандерша, – начал он, подбадриваемый сдавленным хихиканьем дам из церковного хора. – Ну, содержательница борделя. И жалуется: вот, мол, Владыка, ваши семинаристы к нам в бордель ходят. Услугами пользуются, а за них не платят. Архиерей спрашивает: и много ли задолжали? Она ему: несколько тысяч уже задолжали. И продолжает на семинаристов жаловаться. Ну, благочинному-то интересно – такая дама, и к архиерею зачем-то пришла! Он бумаги на подпись собрал – и к нему в кабинет. Заходит, а бандерша его как увидела, так и говорит: вот, то ли дело Георгий Иванович! Не то, что семинаристы! Всегда аккуратно платит, все точно, как в аптеке!
Над речным берегом снова раздался смех (к тому же все почему-то при упоминании дореволюционного Георгия Ивановича подумали о нынешнем благочинном, отце Василии).
Святослав смеялся вместе со всеми. В руке у него был пластиковый стаканчик с дешевым кагором. Шашлыки, которые ему доверили, только что дошли до нужной кондиции и сейчас распределялись между всеми участниками пикника. И хотя собственно шашлыков было немного (недостаток мяса восполнили куриными окорочками, сосисками и тушенкой), а вино скорее напоминало чуть разбавленный спиртом растворимый сок, это ничуть не омрачало радости загородного праздника. Здесь нет случайных людей, здесь все друг с другом искренни, и радость от простого, непринужденного общения тоже была чистой и ничем не разбавленной. К тому же, помимо закуски и выпивки, имелись чудесная речка и замечательный солнечный день – и одно это стоило того, чтобы смириться с недостатками выпивки и закуски!
В субботу отец Игнатий принимал у себя на квартире архиерея. И сделал это настолько торжественно, насколько это возможно в двухкомнатной съемной и раздолбанной квартире советского времени. Как только дверь перед Евсевием открылась, он был встречен (и был этим весьма сильно и приятно удивлен) подобающими церковными песнопениями – отец Игнатий пригласил двух самых опытных певчих из хора Свято-Воскресенского храма. Специально к архиерейскому визиту приготовили пельмени с семгой (их подавали только Евсевию, все остальные вкушали обычные, со свининой), а Святослав, активно участвовавший в подготовительной работе, изобразил несколько специфических рыбных блюд, которые его научил готовить в Бишкеке его коллега-кореец. Наконец, кошка отца Игнатия, запрыгнувшая на колени к Преосвященному и начавшая играть с подвеской от панагии, сделала атмосферу окончательно непринужденной.
Да и сам Евсевий держался просто. Даже тарелка с нарезанной колбасой, стоявшая на столе у монаха – отца Игнатия, не вызвала нареканий с его стороны. Беззлобно ухмыльнувшись, архиерей произнес классическое:
– Лучшая рыба – это колбаса! – и продолжил потреблять свои рыбные пельмени.
А теперь, на второй день, празднование продолжилось уже в неофициальном формате, и Лагутин оказался в числе приглашенных. Сейчас он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Впервые после многих месяцев у него случилось несколько часов отдыха. Вокруг сидели люди, которые прекрасно понимали его и которые были столь же понятны ему. Но главное: он чувствовал, что он находится на своем месте. Он снова вернулся в родную ему церковную среду, ту среду, которую он оставил за тысячи километров отсюда, на приходе в Бишкеке. Теперь он твердо знал: он делает, что должно, и находится там, где должен находиться. Он среди своих. Он дома.
И это наполняло его сердце тихой, звонкой радостью, которую не могли испортить ни армейская тушенка, ни дрянной кагор, ни даже необходимость через два часа возвращаться в тесное общежитие Пастырских курсов.
* * *
В это время в Кыгыл-Мэхэ профессор Леонид Домбаев быстрым шагом, едва ли не бегом, направлялся к подъезду одного старого, еще сталинских времен, жилого дома. Воздух дрожал от жары и казался плотным, как желатин, а небо стремительно темнело от набегавших свинцово-темных туч. По счастью, тяжелая, сурикового цвета металлическая дверь, стоявшая на входе в подъезд, была открыта, и он успел запрыгнуть в нее буквально за несколько секунд до того, как по раскаленному асфальту барабанной дробью ударил ливень.
Поднявшись по темным широким лестницам на третий этаж, Домбаев не без деликатности, коротко нажал на кнопку звонка. Вскоре за дверью послышались тяжелые, но твердые шаги.
– А, Лёнчик! – поприветствовал маститого и обласканного местной властью профессора хозяин квартиры. – Заходи!
– Здравствуйте, дядя Леня! – ответил он, переступая порог. – Хорошо я успел! Под самый ливень!
– Это да… – протяжно ответил ему обитатель квартиры. – Проходи на кухню!
Держался он с Домбаевым очень просто, и для этого были все основания. Хотя он уже больше десяти лет находился на пенсии, но в Тафаларии его очень хорошо помнили – как во властных коридорах, так и простые люди, особенно те, кто постарше. С 1968-го по 1989 год Леонид Николаевич Маркедонов возглавлял тафаларскую республиканскую прокуратуру, и даже после ухода на «заслуженный отдых» (ухода, во многом вызванного изменением политического климата в СССР в целом и в Тафаларской АССР в частности) сохранил в местных силовых ведомствах весьма обширные связи. К тому же его сын также был прокурорским работником, причем после прихода на президентский пост Егоршина его карьера резко пошла вверх. А дочь его председательствовала в городском суде.
Кроме того, Леонид Маркедонов был старым, закадычным другом Дандара Домбаева, в 70-е годы возглавлявшего в кыгыл-мэхинском обкоме КПСС отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности и приходившегося Леониду Домбаеву родным отцом. В свое время Маркедонов качал Лёнчика Домбаева на коленях, учил его правильно насаживать червя на крючок и даже давал стрельнуть из своей шикарной охотничьей винтовки. А когда Лёнчик подрос, влился в ряды местной «золотой молодежи» и крепко вляпался в очень неприятную историю, по результатам которой вполне мог получить до пяти лет, то отмазывал его тоже он, дядя Леня, известный всей республике грозный прокурор Маркедонов.
И именно Маркедонова полторы недели назад попросил навести справки по одному очень интересующему его делу Леонид Домбаев. Разумеется, у него самого хватало знакомых среди действующих сотрудников МВД и прокуратуры, да и в правительстве республики связи имелись. Но тут случай был особый, и он не хотел, чтобы о его интересе к делу стало известно даже в узких кругах. Что же касается Маркедонова, старого друга семьи Домбаевых, то тут не было сомнений, что он выяснит все, что можно выяснить, и никто лишний об этом не прознает.
– Выпьешь? – спросил Леонид Николаевич, открывая дверцы старого буфета и вынимая из него початую бутылку недешевого коньяка.
– Нет, дядя Леня! – твердо ответил Домбаев.
– Ну, как знаешь, – Маркедонов достал одну стопку и наполнил ее где-то до половины. – А я приму… Для расширения сосудов… Есть будешь?
– А есть буду!
– А то Вера наготовила… Пропадет… – меланхолично заметил отставной республиканский прокурор, взявшись за поварешку, торчащую из огромной кастрюли, стоявшей на плите.
– Как здоровье Веры Петровны? – спросил Домбаев, перед которым хозяин поставил здоровую фарфоровую тарелку, полную горячего борща. Рядом появились вынутые из холодильника огромные бадьи с салатами и соленьями.
– Да какое там здоровье, в наши-то годы!.. – махнул рукой Маркедонов, усаживаясь по другую сторону стола. – Так, как говорится, без значительных происшествий!
Домбаев кивнул. Леонид Николаевич потянулся к пачке с сигаретами.
– Я покурю, не возражаешь?
– Конечно, нет!
Какое-то время они сидели молча; один сосредоточенно курил, другой так же сосредоточенно ел вчерашний борщ. Затем, когда некая требуемая неписаными канонами вежливости пауза истощилась, Домбаев спросил:
– Дядя Леня, узнали что-нибудь… По тому делу?
Леонид Николаевич решительно затушил о дно старой хрустальной пепельницы недокуренную сигарету.
– По Джамшадову ты ведь спрашивал?
– По нему, по Джамшадову.
– Ерунда это все, – сказал Маркедонов. – Нет на него ничего. Так, потаскают его еще пару месяцев на допросы, и все.
– Почему же сейчас все не прекратят, если нет ничего? – возмущенно спросил Домбаев.
– Ну как… – опять начав растягивать слова, ответил Маркедонов. – Дело громкое было. Газеты, телевидение да и опять же Церковь, то, что поп… А потом, все это ведь не просто так.
– Как не просто так? Заказ был, что ли?.. – удивленно спросил Домбаев.
Маркедонов кивнул.
– Кто же мог его заказать? – недоуменно спросил Домбаев. – Неужели эти – казаки с «Тафалаар Хоолой»?
– Да ну что ты, Лёнчик! – грустно улыбнулся Леонид Николаевич. – Этих придурков так, вперед выставили… Нет, конечно, не они заказывали.
– А кто?
– Точно неизвестно, – ответил Маркедонов. – Но откуда-то сверху. Я так думаю, уровень Хуррала, не ниже зампредов. Ну и в правительстве кыгыл-мэхинском тоже явно кто-то постарался, не без того… Так, думаю, уровень министров-замминистров. Оттуда ветер дует.
– Понятно, – по ставшему особенно серьезным лицу Домбаева было видно, что ему действительно стало понятно. Все руководство Тафаларии он прекрасно знал, и круг лиц, так или иначе заинтересованных в низвержении протоиерея Джамшадова, представлял очень ясно.
Снова повисла пауза. Леонид Николаевич налил и себе борща, а после секундного раздумья решил налить и коньяку.
– Но все, вы говорите, скоро кончится? – переспросил Домбаев.
– Кончится, – уверенно ответил Маркедонов. – Нет на него ничего. Брать не на чем.
– Как я рад, что отец Виктор невиновен! – радостно сказал Домбаев и торопливо добавил: – Я и не сомневался, конечно, но все равно очень приятно это слышать!
– А ты, значит, считаешь, что он невиновен? – впервые за все время разговора вопрос задал Леонид Николаевич.
– Как это… я? – недоуменно сказал Домбаев. – Вы же сами говорили? Что нет ничего? Что невиновен?
– Я, Лёнчик, – тон Маркедонова стал немного назидательным, – сказал, что на него ничего нет. Никаких улик. А про то, что он невиновен, я не говорил.
– То есть? – недоуменно спросил Домбаев.
– А что тут непонятного? – продолжил Леонид Николаевич. – Тут, Лёнчик, такое дело… Прямо говоря, растление малолетних. А я тебе по своему опыту скажу, что по таким делам доказательную базу нарыть – это всегда беда. Медицинская экспертиза – она далеко не все и не всегда показывает. Свидетельские показания? Ну что – свидетельские показания… Трудно тут что-то доказать. Сам с таким сколько раз сталкивался, уверен был на сто процентов – а в суд дело передать не мог. Не было ничего для суда!
– Так вы думаете, отец Виктор действительно?.. – ошарашенно спросил Домбаев.
– Я Лёнчик, ничего не думаю, – ответил Маркедонов. – Ты спросил – я ответил. Ничего на него нет. Дело скоро закроют. Это все так. А вот виновен он или невиновен – вот этого я не знаю.
– Вы считаете, что он такое… мог?..
– Э, Лёнчик! – на устах бывшего прокурора Тафаларской республики снова появилась грустная улыбка. – Я, когда в прокуратуру пришел, тоже, помню, не верил… Только вот сколько раз по этой статье, по растлению малолетних, мы таких людей брали – интеллигентные, образованные, профессора вузов!.. Даже, прямо скажу, работники советско-партийных органов… Такие, что и не подумаешь никогда. А – были…
Домбаев молчал. Посидев молча секунд десять, Маркедонов продолжил:
– Вот и это дело. Улик нет – а какие тут улики могут быть? Медицинская экспертиза ничего не подтвердила? Ну, когда ее уже провели, эту экспертизу! Потом, если и не было полового контакта, то что? Домогательства могли быть. То есть я не говорю, что были, – поправился Маркедонов. – Я о том говорю, что не известно ничего. По крайней мере, до конца не ясно. Так что доказательств нет, а вот было что или не было – этого я, прямо говоря, сказать не могу.
– Понятно, – грустно выдохнув, сказал Домбаев.
– Выпьешь со мной? За компанию? – спросил Леонид Николаевич.
– Наливай! – ответил Домбаев.
Глава 8 Принцесса и два майора
В главном зале кафе «Вернисаж» – самом большом и «приличном» кафе поселка Кумахта – стоял обычный для этого места гул, слагавшийся из негромких разговоров да стука ножей и вилок. Необычными в этот раз были и посетители, а по меркам сотрудников кафе – так и вовсе идеальные. Ибо их было много, но вели они себя очень пристойно. Не буянили и даже не напивались (ну, почти не напивались). Повара и особенно официанты, привыкшие за время своей работы к тому, что едва ли не каждый второй вечер в их почтенном заведении сопровождается попытками устроить массовую драку, взирали на сегодняшних своих гостей как на явление едва ли не чудесное. И ради этого были готовы им простить даже то, что, по взаимной договоренности, большую часть еды они принесли с собой.
Необычные посетители праздновали Успение Пресвятой Богородицы, престольный праздник кумахтинского прихода. Епископ Евсевий утром совершал архиерейское богослужение, закончившееся весьма продолжительным, около пяти километров, крестным ходом, после которого началась «братская трапеза» для духовенства, прихожан и некоторых гостей.
Отец Аркадий Ковалишин, назначенный настоятелем Кумахтинской Успенской церкви год назад, старательно готовился к визиту архиерея. Ранее, при епископе Евграфе, он был вторым человеком в епархии и считался большим специалистом по хозяйственным делам.
Кое-какими успехами на этом поприще он и вправду мог похвастаться. Вершиной же его трудов стало восстановление Свято-Воскресенского храма после пожара, случившегося незадолго до того, как Мангазейск покинул Владыка Пахомий. Отец Аркадий не только сумел быстро провести ремонт (который он самоуверенно именовал «реставрацией»), но даже пристроил на крышу дополнительный декоративный купол, обшитый жестью. (Шаг довольно дерзновенный, если учесть, что церковное здание официально числилось в местном списке памятников истории и культуры – но все как-то обошлось.) За эти труды его наградили паломнической поездкой в Иерусалим (что по меркам Мангазейска 1990-х было делом почти столь же уникальным, как полет на Марс), а епископ Евграф приблизил его к себе, поручив заниматься разного рода хозяйственными делами.
Для Ковалишина это было время расцвета, когда во всей полноте раскрылись его организаторские способности, а с ними и некоторые другие его качества. По характеру он был, в сущности, добрым и милым человеком, но в какие-то моменты начинал, как говорили его собратия-сослужители, «блажить».
Всякий раз «блажь» принимала новые формы. Например, во время очередных ремонтных работ, когда потребовалось подкрасить в некоторых местах стены Свято-Воскресенского храма, отец Аркадий возмутился тем, что вместо светло-синей краски, которую он велел купить, купили лазоревую.
– Так ведь они одинаковые! – глядя выпученными глазами, отвечал церковный сторож, отправленный за краской в магазин.
– Действительно, отче… – попробовал вступиться за него отец Игнатий.
– Да что вы все! Да что вы как эти! – возмущенно, глотая слова и едва не срываясь на крик, перебивал Ковалишин отца Игнатия. Остроконечная пепельно-седая бороденка его тряслась, как у бегущего козла, а стекла очков сверкали, как солнечные батареи. – Я же сказал! А это что? Светло-синюю же было сказано!
И тут уже никакие уговоры и логические аргументы не действовали – отец Аркадий становился невменяемым, как берсерк, и вывести из этого транса его мог только архиерей или, если повезет, благочинный.
Такие приступы самодурства с ним случались регулярно, и никогда было нельзя предугадать заранее, за что он зацепится в очередной раз.
Во всем остальном, впрочем, с ним проблем почти не возникало.
Еще во времена архиерейства Евграфа от финансово-экономических рычагов его начал оттеснять отец Васильев. А после приезда Евсевия Ковалишин окончательно утратил всякое влияние и, что характерно, «блажить» стал тоже гораздо реже и гораздо тише.
Новый Преосвященный, узнав, что отец Аркадий считается выдающимся хозяйственником, решил проверить его в деле, отправив за пятнадцать километров от Мангазейска, в Кумахту, обустраивать тамошний приход – а точнее, создавать его с нуля. Ибо храма в тот момент еще не было (было лишь старое складское помещение, переданное местными властями под церковь), а прихожан насчитывалось меньше десятка.
И вот, в августе исполнялся год, как отец Аркадий заведовал кумахтинским приходом. И, надо сказать, год этот он потратил не совсем зря. В бывшем складе были настелены новые полы, починена крыша (над которой снаружи появился небольшой и простенький, но все-таки купол-луковица с восьмиконечным крестом), появился и скромный иконостас. Значительно больше стало прихожан: некоторые люди стали специально ездить на службы к отцу Аркадию из Мангазейска, да и местных в общине прибавилось. В общем, пастырские, а равно и хозяйственные успехи иерея Ковалишина были очевидны, и теперь их предстояло продемонстрировать архиерею на престольный праздник.
Подготовку к торжественному богослужению отец Аркадий начал загодя. Храм старательно убирали и украшали. Чтобы не ударить в грязь лицом, свой хор в этот раз решили не привлекать, сговорившись, что на Успение прибудет более опытный и профессиональный хор кафедрального мангазейского храма. Наконец, по окончании крестного хода, который планировался от церкви до центральной площади Кумахты, была запланирована трапеза в находившемся там же кафе, что стало весьма удачным завершением и крестного хода, и Успенского поста.
Церковные полы, подоконники и стены надраивались, облачения стирались и наглаживались, салаты для предстоящей трапезы заготавливались ведрами – словом, делалось все для того, чтобы Евсевий после торжественной службы дал пастырским и экономическим талантам отца Аркадия наивысшую оценку.
И вот теперь, когда праздничная литургия и крестный ход под жарким августовским солнцем завершились, а кумахтинское кафе открыло для всех участников торжеств свои прохладные, наполненные съестными ароматами недра, казалось, настала пора эту оценку получить. Так считал и отец Ковалишин, и его паства.
* * *
Посреди гула, повисшего в кафе «Вернисаж», раздался звонкий и резкий звук: архиерей несколько раз стукнул кончиком столового ножа по полупустому стакану, сигнализируя собравшимся, что требуется их внимание.
– Ну, Фотинья, скажи нам что-нибудь назидательное! – с улыбкой обратился Евсевий к сидевшей невдалеке от него женщине. Дама была немолода, одета неброско. Но опытный глаз мог сразу увидеть, что наряд ее, несмотря на простоту, был не из дешевых, да и вообще его обладательница выглядела, что называется, «ухоженной».
Гул стих, и лишь на самом дальнем конце стола продолжали звенеть вилки – пономари истребляли всю доступную им еду «в режиме нон-стоп», не считаясь в этом деле даже с архиерейскими указаниями.
– Ваше Преосвященство! – Фотиния поднялась, крепко сжимая в руках бокал с минералкой и, шумно вздыхая, добавила: – Дорогой вы наш Владыко!
– Не волнуйся, Фотиния! – с добродушной иронией сказал Евсевий. – Поставь рюмку, выдохни – и продолжай!
Сидевший за столом народ заулыбался, кто-то засмеялся. Дама, именуемая Фотинией, тоже широко улыбнулась и, поставив на стол бокал, продолжила уже более свободно:
– Дорогой Владыка! Честные отцы, братья и сестры! Какое же это счастье – здесь, у вас, на мангазейской земле, встречать этот великий праздник – Успение Пресвятой нашей матушки, Владычицы нашей Богородицы, вместе с нашим Владыкой! И на службе с ним помолиться, и крестный ход такой… – Фотиния на пару секунд замешкалась, пытаясь сообразить, какой «такой» был крестный ход. – Молитвенный такой, что ли… Все благодаря нашему Владыке Евсевию!
«Ну, началось!» – подумал отец Игнатий, сидевший за одним столом с архиереем. На лице его застыла сдержанная, восковая улыбка, а взгляд как будто остекленел. Язвительные мысли, начинавшие роиться в его голове, надежно укрывались маской вежливой почтительности.
– Я вот посмотрела, так вот честно скажу: как много Владыка за последний год сделал! Столько всего появилось! Места ведь такие были, необустроенные, дикие, можно сказать…
На лицах прихожан, склонившихся над тарелками и сосредоточенно слушавших тостующую, начали появляться кривые ухмылки. Гостья из Центральной России (а Фотиния была именно оттуда) не могла, конечно, не подчеркнуть «дикий» характер того края, куда она прилетела…
– А столько всего сделано! Сколько уже всего построено! А собор какой замечательный, прекрасный какой собор Владыка строить собирается! – продолжала Фотиния, глядя на архиерея глазами, полными обожания. – Какие вы, мангазейцы, счастливые!
Тут она приостановилась, ощутив в горле спазм восторга. Отец Игнатий смотрел на нее все с той же мягкой улыбкой, но в глазах его появилась какая-то мрачная, засасывающая тоска.
Преодолев набежавшую на нее волну умиленной эйфории, Фотиния наконец оторвала взгляд от архиерея и обвела им всех собравшихся в зале.
– Но я вот что должна вам сказать, – продолжила она, и в голосе ее появились нотки нравоучительного ехидства. – Сказать прямо, по-христиански! По-православному! Вы, мангазейцы, Владыку Евсевия совсем не цените! Он ведь как для вас старается! Столько всего делает! А вы!.. На службе, вот ко кресту хотя бы – мужчины, женщины, все вперемешку пошли! Ручку Владыке не целуете! А на крестном ходу!.. Нет чтобы чинно, друг за другом – все в толпу какую-то сбились… Хор одно поет, а все – другое, кто во что горазд. Да и хор, на службе тоже, прямо сказать, путался. Владыка так старается, так много делает, а у вас… Непорядок у вас какой-то, вы уж простите, прямо говорю…
Прихожане кумахтинского прихода смотрели все больше в пол, придавленные грузом обвинений, высказанных в порядке поздравительного тоста. Отец Игнатий по-прежнему улыбался, мысленно спрашивая себя: «Заткнет уже архиерей эту дуру или нет?»
Однако Евсевий не только не пытался прервать филиппику Фотинии, но, наоборот, очень серьезно и внимательно ее слушал.
– Поэтому сегодня, в великий праздник Успения Пресвятой Владычицы, матушки нашей Пресвятой Богородицы, хочу вам пожелать милости Божией, и чтобы по Божией милости все у вас было хорошо, чтобы вы Владыку нашего не огорчали, чтобы ценили его, чтобы порядок у вас был, все чтобы, как он вас учит! Спаси Господи! – закончила Фотиния.
– Нашей Фотинье многая лета! – весело провозгласил Евсевий. Многолетие тут же подхватил хор, а за ним и все собравшиеся. На глазах у гостьи блестели слезы восторга и радости.
– Ну, отец Василий! – обратился к благочинному архиерей после того, как все выпили за многая лета Фотинье. – Скажи нам что-нибудь от лица мангазейцев!
– Благословите, Владыко! – ответил отец Василий, вставая. – Ваше Преосвященство, честные отцы, братья и сестры! – начал он ответную речь. – Вот, наша уважаемая гостья прямо, по-христиански, указала нам на наши недостатки.
«Очень по-христиански», – мысленно откомментировал отец Игнатий.
– Что по этому поводу нам следует сказать? – уверенно продолжал отец Василий. – Мы, как православные, должны поблагодарить нашу уважаемую сестру во Христе. Действительно, указанные недостатки и упущения имеют место быть. И спаси Господи за то, что нам на них прямо, нелицемерно указали. К сожалению, мы все, действительно, в первую очередь, конечно, священники, я вот в первую очередь, мало ценим нашего Владыку. Мало ценим его труды на благо нашей епархии.
«Вот те раз!..» – подумал отец Игнатий.
– Простите нас, Ваше Преосвященство! – сказал благочинный, повернувшись всем корпусом к архиерею. Евсевий кивнул, и лицо его при этом выглядело очень серьезным.
– Нашему Владыке многая лета! – провозгласил отец Василий. Многолетие тут же подхватил хор. Потом сразу пропели многая лета и «нашему отцу Василию», и ставшее уже традиционным шутливое – «так выпьем же, выпьем, выпьем за это!»
Вместе со всеми, улыбаясь, пел и отец Игнатий. Однако настроение его было весьма мрачным. Он чувствовал: вокруг, в епархиальной атмосфере, что-то изменилось, точнее – что-то оборвалось. Как в горах иногда срывается маленький камешек и никто этого не замечает. Но этот камешек неизбежно, уже через несколько секунд, сорвет лавину – и когда эта лавина пойдет, остановить ее будет невозможно. И очень нехорошо придется тем, кто окажется у нее на пути.
* * *
Трапеза окончилась. Евсевий, благословив по очереди всех, кто этого пожелал, в сопровождении келейниц, Георгия и избранных гостей двинулся к своему джипу, который совсем недавно заменил старенькую, оставшуюся еще от Пахомия, «Волгу». Джип был относительно скромный, то есть подержанный и праворульный. Когда Евсевий известил своего старого знакомого, пастора Майера, о том скандале, что приключился с протоиереем Джамшадовым (а сообщить об этом Евсевий постарался оперативно), тот, естественно, уже не думал оказывать какую-либо финансовую помощь детскому приюту отца Виктора. И после некоторого размышления пришел к выводу, что раз мангазейскому Владыке приходится часто и много ездить по своей епархии, то лучше подкинуть ему денег на скромный внедорожник, каковой и был совсем недавно закуплен во Владивостоке и пригнан в Мангазейск.
Хотя внешне Евсевий был, как обычно, добродушно-сдержан, настроение у него основательно подпортилось. Фотиния (по паспорту и в миру Светлана Кокина), принадлежавшая к числу старых его, еще со времен Павловского монастыря, духовных чад, попала своим антимангазейским тостом едва ли не в самое больное место архиерейской души.
Как ни старался отец Аркадий подготовиться к приезду Владыки, как ни тщательно все намывалось и наглаживалось, Преосвященный Евсевий остался недоволен. От его взгляда не ускользнула ни пыль, скопившаяся на люстре, заменявшей паникадило, ни облупившаяся кое-где на стенах краска. В алтаре к тому же обнаружилась старая большая просфора, успевшая покрыться плесенью. Этого Евсевий уже не стерпел, и когда священнослужители после причастия подходили к нему под благословение, сделал выговор отцу Аркадию. Во время богослужения хор особых ляпсусов не делал, но вот Ковалишин, непривычный к архиерейской службе, допустил несколько досадных промашек.
– Что ж ты, отец, лапти-то плетешь? – не выдержав, спросил Евсевий отца Аркадия после очередного сбоя. – Ведь не первый год служишь. До этого с Евграфом так же, что ль, сослужил?
– Простите, Владыко… – растерянно ответил Ковалишин. Действительно, он много раз служил с предыдущим епископом. Но не будешь же рассказывать новому Преосвященному, что его предшественник архиерейского чина толком не знал и потому не любил, и почти всегда служил как обычный священник, без всех этих рипид, дикириев-трикириев и торжественных облачений посреди храма…
Евсевий уже давно размышлял над тем, что его епархиальное духовенство, не говоря уже про мирян, живет и служит как-то уж очень вольно. И вот теперь об этом же самом заговорили его духовные чада, приехавшие к нему сразу из нескольких городов Центральной России, среди которых была и Москва.
– А сурова ты, Фотиния, к здешним жителям! – полушутливо сказал Евсевий, обращаясь к своей гостье и духовной дочери. Та немного смутилась, но тут в разговор вклинилась архиерейская келейница – монахиня Варвара.
– Ой, Владыко! – привычной тараторящей скороговоркой начала она. – Так ведь если это все правда! Вон, мы на службе стояли – чего там отец Аркадий читает? Какое Евангелие? Непонятно ничего! Девицы вон какие пришли – кто в брюках, кто в чем. Фотиния, я так думаю, еще пожалела их, не все сказала. О-о-ой, у нас в Покровском монастыре такого никогда не было! Никогда!
Фотиния-Светлана смущенно улыбалась, ободренная Варвариной поддержкой. Архиерей молчал. Но тем, кто его знал, было ясно: несмотря на шутливое замечание, сам он и с Варварой, и с Фотинией был согласен.
– Простите, Владыко, – тихо обратился к архиерею еще один его гость и духовное чадо, молодой и весьма успешный предприниматель (и сын Фотинии) Ростислав Кокин. – Герасимов вам просил поклон передать.
– Так, – так же тихо ответил Евсевий. – И ему поклон.
– Он по поводу Аллы спрашивал, – продолжал Ростислав.
– Что там с ней?
– Да все то же…
Архиерей покачал головой:
– Понятно… Значит, все чудит?
– В общем, да, – ответил Ростислав. – Александр Матвеевич просил узнать, можно ли Аллу к вам отправить? Чтобы она хоть немного в себя пришла, да и обстановку сменила. Там ей сейчас неудобно оставаться…
Евсевий замолчал, выдержав паузу секунд в десять. Так же молчали и Ростислав, и келейницы, и гости, из вежливости чуть подотставшие (хоть предмет разговора им всем в общем и целом был известен).
– Пусть приезжает, – негромко ответил Евсевий и начал усаживаться в джип, дверь которого уже открыл Георгий.
Ростислав, чуть улыбнувшись, поклонился и вместе с остальными духовными чадами архиерея пошел к минивэну, который должен был всех их доставить в Мангазейск.
* * *
В тех краях, где располагался Павловский Покровский монастырь, Александр Матвеевич Герасимов был личностью очень известной, хотя и не особо публичной. В советские времена он начал карьеру как рабочий-нефтяник, но быстро выбился в комсомольские, а там и в партийные работники. В этом качестве он и пребывал до 1991 года, когда сумел конвертировать свои старые связи среди партийной номенклатуры, а также и в нефтяной отрасли, в несколько успешных бизнес-проектов. Как-то так получилось (о том, как именно это произошло, Александр Матвеевич предпочитал не распространяться), что ему перепала небольшая, но все же довольно сочная доля сразу в двух нефтехимических заводах. Позже к этому добавились сопутствующие виды бизнеса – разные мелкие магазины, один рынок и еще немного разной мелочи. Герасимов единожды избирался в Законодательное собрание в своей родной области, пытался даже баллотироваться в губернаторы, но проиграл. В конце 1990-х годов, когда новое, молодое и голодное поколение госчиновников и неразрывно с ними связанных коммерсантов начало щипать его провинциальную бизнес-империю, он, по здравом размышлении, решил в войну с ним не ввязываться. Что-то было продано, что-то и вовсе отдано даром. По результатам этой капитуляции Александр Матвеевич существенно потерял в статусе и влиянии, но все же сохранил изрядные запасы финансовых жиров и некоторые позиции в местных органах власти, а с ними и зацепки в Роснефти.
И мог бы почтенный господин Герасимов жить да радоваться, сидя у окошка в собственном загородном особняке и попивая виски Blue Label, если бы не две главных проблемы его жизни. Проблема номер один звалась Алевтиной Львовной. Это была его любимая, законная и венчанная жена – иссушенная постоянными нервными припадками истеричка с претензией на высокую культурность и чрезвычайно глубокую интеллигентность. Александр Матвеевич, большой и круглый, как плюшевый медведь, на протяжении десятилетий вынужден был, как подушка безопасности, поглощать бьющую фонтаном психопатическую энергию своей супруги. Но это оказалось бы не столь страшно, если б во время оно проблема номер один не породила проблему номер два – единственную дочь Александра Матвеевича, Аллу Александровну Герасимову.
Ранняя юность Аллы пришлась на начало 1990-х годов, то есть как раз на то время, когда границы открылись, различные советские запреты и ограничения рассыпались в прах, а финансовое благополучие ее родителей начало стремительно расти. По этой причине она не только окончила школу, считавшуюся лучшей в городе, но и поступила в самый престижный в городе университет, на самый престижный (естественно, юридический) факультет. Ничто не мешало ей учиться и в Москве, но родители не захотели отпускать ее далеко от себя.
Поскольку Алла была девушкой ленивой и сообразительной, то на учебу она времени тратила не слишком много. В университетские годы учебный процесс был вытеснен на периферию ее бытия, центром которого стал непрекращающийся праздник жизни в гуще местной «золотой молодежи». Банкеты, которые ее отец устраивал для своих бизнес-партнеров из Москвы и из-за рубежа, первые туристические поездки в Европу и торжественно обставленные визиты в храмы и монастыри сменялись отвязными вечеринками в кругу сверстников, открывавшими новые горизонты как в сексуальном, так и в химико-фармакологическом отношении. Жизнь неслась этаким карнавалом, в котором официозные обеды были разбавлены буйством в ночных клубах, а на все на это накладывались самые простые и обычные вещи – первая-вторая-энная любовь, подруги и «друзья», предательства, измены и прочие страсти, коими расцвечена юность практически любого человека.
Алла находилась в самом центре этого карнавального мира, и ей это нравилась. Положение родителей обезпечивало ей изначально высокий статус среди местной золотой молодежи, а открытость, общительность и известный авантюризм – симпатии окружавших ее сверстников, помноженные на демонстративную любовь (и тайную ненависть) сверстниц, завидовавших ее звездному статусу. К тому же Алла считалась красавицей – и небезосновательно. Высокая, черноволосая, с не очень изящными, но по-своему приятными чертами лица, внешне она походила на уроженку Кубани или Черноморского побережья Украины. Что касается фигуры, то тут тоже ни в чем не ощущалось недостатка, скорее даже слегка наоборот. В перспективе все это грозило обернуться совсем уж кустодиевскими чертами, но пока до этого было далеко. В общем, как и все в ее тогдашней жизни, выходило «в самый раз».
Разумеется, у нее всегда было множество поклонников и ухажеров, и нельзя сказать, что она была к ним равнодушна. Однако она не воспринимала по-настоящему всерьез никого из своих золотомолодежных друзей, с кем у нее случались более или менее длительные отношения. Жизнь вокруг проносилась нескончаемым фестивалем, и все ее друзья были кем-то вроде актеров и аниматоров на этом празднике – кто-то первого плана, кто-то – второго, а некоторые и вовсе не поднимались в ее глазах выше статистов. Но в конечном счете, это были именно актеры, развлекавшие ее. Это были хорошие и интересные мальчики, на которых она и смотрела как на мальчиков, но не как на мужчин.
Но все изменилось в 1995 году, когда на чьем-то дне рождения ее познакомили с одним очень немногословным, поначалу даже показавшимся ей скромным, тридцатипятилетним человеком мужеского пола. Был он сухощав, даже по-спортивному подтянут, выбрит чрезвычайно гладко, редкие волосы на его голове были аккуратно подстрижены и уложены. В те годы в моде была одежда ярких цветов (желтыми и малиновыми пиджаками не брезговали даже и иные политики), но новый знакомый Аллы предпочитал темные костюмы – настолько же неброские, насколько и дорогие. Лицо его, казалось, почти никогда не озарялось никакими эмоциями. Улыбался он очень редко, да и самая эта улыбка походила скорее на невротическую ехидную усмешку, производившую в сочетании с немигающими рыбьими глазами довольно жуткое впечатление.
Разумеется, Алла, как и большинство ее знакомых (и, конечно же, ее отец) ранее слышала об этом человеке – и была сильно и даже приятно удивлена, ибо представляла его себе совсем по-другому. Новым ее знакомым, а также и поклонником, в которого она очень скоро влюбилась со всей страстностью, был Юрий Мозжухин, в более узких кругах известный как Мозжа. На его визитке было указано, что он занимается автомобильными перевозками и наружной рекламой. Однако все знали его как молодого и весьма влиятельного криминального авторитета, резко поднявшегося в конце 1980-х – начале 1990-х благодаря чрезвычайно изворотливому уму и чрезвычайной же жестокости.
– Очень приятно с вами познакомиться, – тихо сказал Мозжухин, когда его представили Алле.
– Мне тоже! – сказала она, и кокетливо добавила: – Интересно познакомиться с таким страшным человеком!
– Ну что во мне страшного? – Мозжухин чуть улыбнулся, обнажив два ряда маленьких и редких зубов, отчего стал окончательно похож на какую-то рептилию. – Просто небольшой бизнес. Ничего другого.
– Да ну, конечно! – так же кокетливо продолжала Алла. – Весь город о вашем небольшом бизнесе говорит!
– Пустая болтовня, – по-прежнему тихо и безцветно сказал Мозжухин. – Просто кое-какие дела делаем.
И уже со следующего дня начался их роман – начался стремительно и ярко, как кустуричный фильм. Юрий стал присылать Алле огромные охапки цветов – и домой, и в университет, каждый день встречал ее после занятий в вузе или еще где-то (ибо на занятия она ходила далеко не каждый день) – разумеется, встречал не как какой-нибудь нищебродский студент-интеллигент, а сразу на двух машинах, одном мерседесе и одной «девятке» (в последней сидела охрана из числа «братков» Мозжухина). Обеды в лучших ресторанах города, самые дорогие ночные клубы – все это стало ежедневным фоном их отношений.
Впрочем, удивить Аллу фешенебельными кабаками было довольно трудно – она знала их задолго до знакомства с Мозжухиным. В ее новом поклоннике Аллу прельщали и очаровывали не деньги, которых у него было немало, и даже не те многочисленные знаки внимания, кои он ей постоянно оказывал. Самым сильным, обезоруживающим и притягательным было ощущение исходящей от него спокойной и одновременно огромной силы. Алла впервые сумела прочувствовать смысл выражения «как за каменной стеной». А Мозжухин казался даже не стеной, а некой скалой, которую ничто не могло поколебать. Он стал ее героем, и ее не смущал даже тот факт, что ранее он был женат и развелся менее чем за месяц до знакомства с ней.
Они поженились пять месяцев спустя после первой их встречи. Отец Аллы был против этого брака, но всерьез перечить своей дочери, как всегда, не смог. Свадьба прошла с подобающим размахом – венчание в главном городском соборе, масштабное застолье на шестьсот человек в лучшем ресторане города, фейерверк в ночном небе и прочее в этом роде – по местным меркам, это была свадьба если не столетия, то десятилетия-то уж точно.
А потом началась их супружеская жизнь – ровно такая, о какой Алла и мечтала: солнечно-счастливая, беззаботная и веселая. Но такой она была ровно пять месяцев.
Мозжухин, как и было принято среди людей его круга, постарался максимально оградить Аллу от каких-либо соприкосновений с его «бизнесом». Однако сделать это было не так-то просто, а точнее – невозможно. Самыми частыми гостями в их доме были друзья и «бизнес-партнеры» мужа – в большинстве своем персонажи в дорогих пиджаках и с золотыми цепями на шее. На пальцах у них, помимо золотых перстней-печаток, можно было видеть и иные «перстни» – синие зековские татуировки, вроде «дороги через малолетку» и т. п. При ней они о делах не говорили, но очень скоро для нее эти дела перестали быть секретом. И они оказались весьма далеки как от автоперевозок, так и от наружной рекламы.
Поначалу Алла старалась относиться к этому спокойно – на дворе были 1990-е годы, и она довольно ясно отдавала себе отчет, что богатый человек сейчас едва ли может быть честным человеком. Определить, где кончается бизнес и начинается бандитизм, было не так-то просто. Но как ни старалась она быть спокойной и понимающей, когда однажды ей попалась на глаза белоснежная рубашка ее мужа, перемазанная в крови – в чьей-то чужой крови – с ней случилась истерика.
– Что это такое?! – кричала она на Юрия, сжимая в кулаке его окровавленную сорочку.
– Да так… Испачкался немного, – с мягкой улыбкой, глядя на нее стеклянными глазами, отвечал Мозжухин.
– Юра… Но ведь это же… кровь?! – прокричала она. Муж, не говоря ни слова, снова криво улыбнулся. Потом молча вырвал у нее рубашку и бросил в камин (который в их загородном доме – аляповатом особняке с зубчатыми башенками – разумеется, имелся).
– Может, кровь, а может, и нет, – сказал он раздраженно. – А ты девочку-целочку из себя не строй. И не лезь не в свое дело.
Она постаралась не строить и не лезть. Но выходило плохо. Вскоре выяснилось, что она забеременела – и тогда муж, как и полагается любящему супругу, постарался сделать все необходимое, чтобы облегчить ее заботы по дому. В частности, нанял домработницу – молодую грудастую девицу, облаченную в фартук, которая стала пылесосить ковры и вытирать пыль. Вскоре после того, как живот Аллы заметно округлился, по причине чего интимные отношения у нее с Юрием прекратились, Алла стала натыкаться на использованные презервативы, забытые или на полу, или в щели между подушками на диване. Домработница ходила по дому уверенной походкой «от бедра» и на Аллу смотрела уже свысока.
В этой ситуации Алла не смогла изобрести решительно ничего нового и попыталась исправить дело так, как это сделали бы 99 % женщин на ее месте – то есть стала закатывать истерики своему мужу. Мозжухин старался быть ровным и сдержанным, но она видела, что чем дальше, тем хуже у него это получается.
Наконец, в один очень не прекрасный для нее день, Алла вернулась домой после поездки к родителям – вернулась на несколько часов раньше, так как отец задержался на какой-то важной встрече, а общаться с матерью – эгоистичной истеричкой, по-настоящему увлеченно говорившей только о самой себе, сейчас было слишком тягостно. Дверь она отперла сама, своим ключом, ибо никто ее в это время не ждал. Обычно она сразу же, входя в дом, всех оповещала о своем прибытии: кричала мужу, что она уже приехала и очень соскучилась, начиная тут же громко рассказывать о том, как у нее прошел день. Или же громко и с порога начинала давать распоряжения слишком уж хорошо прижившейся в их доме горничной. Но в этот раз она почему-то вошла молча и, не раздеваясь, так же молча пошла дальше. Почему? Она и сама не знала. Как-то так вышло.
Лестница, обычно скрипевшая под тяжестью шагов поднимавшихся по ней людей, в этот раз не издала ни звука (а может, ей так просто показалось). Второй этаж, коридор… Напротив открытой двери в их супружескую спальню – полоска вечернего, но все еще яркого солнечного света. Шаг, еще один шаг – и вот уже слышны звуки, а там уже видны и два тела – в той позе, про которую прозаики XIX века говорили как про «не оставляющую сомнений».
Алла на пару секунд застыла на пороге. Мозжухин с домработницей ее даже не заметили. Наконец, чуть придя в себя, она с шумом втянула воздух, и громко выматерилась.
Юрий приостановился и посмотрел на нее.
– Юра, это чо, б***?! – громко, так, что голос ее эхом отразился от стен, спросила Алла. Она никогда не была робкой и тихой пай-девочкой, и сейчас, преодолев первый шок, стала изъясняться в обычной своей манере.
Мозжухин выпрямился, уверенным движением подтянул трусы. Потом, ни слова не говоря, подошел к Алле, всей пятерней, очень крепко, схватил ее за лицо и резким движением выбросил в коридор. Затем развернулся и так же молча вернулся к прерванному занятию. При этом дверь в спальню даже не закрыл – явно специально.
Естественно, сразу же после этого Алла уехала к родителям. Естественно, ее отец порывался тут же поехать и убить Мозжухина, но, естественно, не поехал…
Через несколько дней Алла получила от своего мужа очередную огромную охапку цветов. Были попытки примирения, она убеждала себя, что это необходимо хотя бы ради ребенка, который вот-вот должен родиться. Но при этом ощущала: отношения их надломились, и это уже не поправить.
Затем родился сын, названный в честь деда Александром. Попытки наладить семейную жизнь странным образом привели к тому, что времени на новорожденного Александра оставалось совсем немного, и потому основной груз забот о нем лег на плечи бабушки с дедушкой. Впрочем, дед этому был даже рад. Довольно скоро Алла пришла к мысли, что для восстановления брака им с мужем будет «полезно пожить отдельно». И она начала жить отдельно – сначала в родном городе. Но получалось плохо: после поисков работы, после попыток найти себя в каком-то бизнесе (благо, отцовских денег на разные безумные стартапы хватало) все как-то незаметно упиралось в одинокий вечер над стаканом виски или французского коньяка, телефонную трубку и звонок мужу… Потом появилась уверенность: пожить отдельно получится, если уехать в Москву. Скоро сценарий повторился в Москве: какая-то как бы деловая суета – стакан – телефон. Затем был следующий дубль, на этот раз уже в Сербии (тогда еще доживавшей последние годы в качестве Югославии), в Белграде. Modus operandi, однако, остался неизменным. При этом стадия стакана незаметно стала основной.
Алла не думала о том, что употребление алкогольных напитков – тех напитков, которые предпочитала она, вроде качественного коньяка или виски – может перерасти в проблему. Слово «алкоголизм» с ними как-то плохо вязалось. С детства в ее сознании был укоренен стереотип, что алкоголик – это бомж в грязной майке или ватнике (смотря по сезону), сосущий паленую водку или стеклоочиститель. А французский коньяк, виски, да еще Johnny Walker Blue Label… Такое пили успешные люди, которые с образом алкаша не вязались никак.
По этой причине даже после того, как во время ее московской гастроли пришлось дважды вызывать бригаду скорой помощи, посредством капельницы изгонявшую остатки виски и коньяка из ее обмякшего организма, Алла все еще не думала о том, что некая грань уже перейдена.
Белград ничего не изменил. И в конце 2000-го года Герасимов-старший, после очередного извещения о том, что дочь его превратилась в алкоголичку, в ультимативной форме потребовал от нее вернуться домой. Противиться воле отца Алла не могла (кроме всего прочего, он был единственным источником средств к существованию, ибо ее бизнес-проекты крайне редко приносили что-то кроме убытков).
Так она снова оказалась в родном городе – не разведенная с мужем, которого она не видела несколько лет, но которого продолжала надрывно любить, рядом с сыном, после возвращения из Белграда назвавшим ее «тетей», без сколько-нибудь ясного представления о том, как и зачем жить дальше…
Отец, разумеется, прилагал все возможные усилия, чтобы вернуть Аллу к нормальной жизни (а заодно и избавить от привязанности к коньячной бутылке). Однако все попытки, связанные с трудоустройством дочери и поиском для нее женихов, прорывных результатов не давали. Между тем Герасимов к тому времени уже воцерковился (как и его жена). Поэтому, когда ему в очередной раз пришла в голову мысль, что Алле надо «сменить обстановку, но не так, чтобы…» – он вспомнил о настоятеле Покровского монастыря, которого недавно назначали епископом на мангазейскую кафедру. Тут будет и новая среда, причем среда очень благотворная (Александр Матвеевич был в этом убежден), и контроль. Правда, Алла – девица непростая… И Владыке Евсевию это добавит хлопот… Ну да с другой стороны, это его долг архипастыря – помогать нуждающимся! А что касается технических расходов, то он, Герасимов, их покроет. И с лихвой.
* * *
– Ну, как учебный процесс? – спросил архиерей Владимира Ревокатова, который среди прочих алтарников подошел к нему под благословение во время всенощного бдения. Ревокатов был одним из учащихся, поступивших на годичные Пастырские курсы и совсем недавно, в первых числах сентября, приступивших к обучению.
– Все хорошо, Владыко! – сбивчивой скороговоркой, но при этом уверенно, отвечал тот. – Все хорошо!
Евсевий одобрительно кивнул головой. И добавил:
– Ты давай, учись, изучай службу. А там посмотрим… Скоро собор построим, а там одних священников по штату двенадцать надо! Так что готовься…
Ревокатов довольно улыбнулся, издал какой-то окончательно невнятный звук и отошел. А отец Игнатий, стоявший рядом, незаметно поправил клобук (который, как и полагалось по Уставу, в этот момент службы был снят с головы и находился на плече) – так, чтобы архиерей не видел его лица. Впрочем, в таких предосторожностях особой нужды не было. Просто сработала выработанная годами привычка становиться как можно более незаметным в тот момент, когда окружающие могли считать с твоей физиономии хотя бы слабые признаки недовольства. Или неуместного удивления.
В данном случае было именно последнее – неожиданное благоволение Евсевия к Ревокатову показалось отцу Игнатию как минимум странным, а как максимум – сулящим в будущем определенные неприятности. Ибо за те несколько недель, что новый «послушник Владимир» находился при Свято-Воскресенском храме, отец-настоятель успел изучить его довольно-таки хорошо. Впрочем, тревожные предчувствия у него возникли еще раньше – ровно в тот момент, когда он узнал о предыдущем жизненном пути Ревокатова.
Среди учащихся мангазейских Пастырских курсов с самого момента их основания всегда были люди разных возрастов. Изначально преобладала молодежь – семнадцати-двадцатилетние алтарники, приезжавшие в Мангазейск с разбросанных по области или Тафаларии приходов, реже – кто-то из мангазейской молодежи. Почти всегда было несколько мужчин постарше, от тридцати до сорока лет. Как правило, это были уверовавшие и воцерковившиеся в сознательном возрасте люди. (Не были редкостью случаи, когда они приходили поступать на курсы спустя несколько месяцев после крещения.) Во времена Евграфа среди них иногда встречались представители местной интеллигенции – например, был один историк, преподаватель местного университета, и даже один физик-ядерщик, ранее работавший в Торее. Но преобладали все же люди «попроще» – со среднетехническим образованием, и особенно часто почему-то встречались выпускники местного спортфака.
В первый год пребывания Евсевия на мангазейской кафедре социальный срез Пастырских курсов выглядел в общем так же, как и при Евграфе. Однако в 2002-м наметились изменения, которым рационального объяснения ни отец Игнатий, ни кто-либо другой подобрать поначалу не могли. Выпускники спортфака по-прежнему имелись, имелись и парни из райцентров, рекомендованные настоятелями тамошних храмов. Но возникла и новая, ранее на Пастырских курсах невиданная категория: отставные офицеры Российской армии. Было их всего двое, но с учетом того, что всего «курсантов» было двенадцать человек, это получался уже довольно существенный процент. Одним из этих двух и был майор запаса и военный пенсионер Владимир Владиславович Ревокатов.
* * *
Родился Владимир Ревокатов под Воронежем в 1954 году. Его отец всю жизнь отдал армии, закончив службу прапорщиком, а мать трудилась в разных местах, успев побывать продавщицей, воспитательницей в детском саду и много кем еще, но особых карьерных высот достигнуть не смогла, да и никогда к ним не стремилась.
С самого раннего детства Володя Ревокатов был уверен, что он станет военным. Изначально он хотел быть летчиком-испытателем, на худой конец – летчиком-истребителем. Немного повзрослев, он, однако, решил, что авиация ему не совсем подходит. Точнее, ему, может быть, авиация и подходила, но вот он ей – как-то не очень: суровые требования по здоровью (а в начале 1970-х, когда ему как раз предстояло делать свой жизненный выбор, они были весьма жесткими) оставляли мало шансов на успех. Поэтому, осознав, что быть летчиком ему не придется, Володя решил стать политруком. Выбор был одобрен его отцом:
– Оно тебе самое то, языком молоть, – коротко сформулировал свою мысль Ревокатов-старший. Ревокатов-младший тоже полагал, что ему это очень подходит. Порассуждать о международном положении, агрессивных намерениях империалистических стран и блока НАТО он к тому времени уже мог, и в комсомоле он (официально) был на хорошем счету. Правда, тут надо внести поправку: сей хороший счет объяснялся отнюдь не ораторскими или организаторскими способностями Володи, а особыми свойствами его характера и специфическими навыками, которые уже во время ранней юности у него были выдрессированы до блеска. Так, Володя твердо усвоил: всякому начальству следует всячески угождать и проявлять по отношению к нему рабью ласку и нежность.
– Начальство – оно начальство, – с детства учил его отец. – Рассоришься с ним – со свету сживет.
Кроме того, Володя твердо знал, что все вокруг «стучат».
– Ты всегда смотри, – наставлял его родитель. – Скажешь чего-нибудь, а товарищ твой возьмет – и донесет. И все!..
Что «все», Ревокатов-старший не уточнял, но Володя с детства привык думать об этом «всем» как о чем-то ужасном, некоем абсолютном и фатальном конце. Которого, насколько можно, следует избегать. Но вот как? На этот счет, однако, у его отца также имелась некая инструкция, не столько практическая, сколько философская:
– Тут уж изворачиваться приходится… Тут уж как извернешься!
«Изворачивание» предполагало самый широкий спектр действий, о которых отец Володе кое-что рассказывал, но не слишком много: сын-то он хоть и родной сын, но сболтнет чего лишнего в школе или еще где – и вдруг потом кто донесет? Ревокатов-старший всегда жил с ощущением всепроникающего и всепронизывающего страха – страха перед властью и перед всеми, кто тебя ей может «сдать». За что? Об этом он даже и не думал, ибо аксиомой, выведенной им из жизненного опыта, было то, что власть – как паровой молот, который дробит все, что под него попадает. Такие понятия, как «виновен» или «невиновен» и прочие моральные категории никакой роли не играют. И единственное, что следует делать – это избегать ударов этого молота.
И он избегал, как умел. То есть на службе, когда это возможно, всегда пристраивался поближе к кухне (в широком смысле слова) и тащил домой все, что попадало под руку. Но лишь тогда, когда был уверен, что за это ничего не будет. «Сомнительных» разговоров не поддерживал, с «сомнительными» людьми не знакомился – и заповедал сыну поступать так же.
Володя и поступал – всячески почитал школьных учителей, а когда пришел срок – то и комсомольское начальство. Начальству это нравилось. И очень скоро Володя выяснил еще одну замечательную вещь: многие проблемы, с которыми он сталкивался на своем жизненном пути, можно решить, если в нужное время подойти к своему начальству, склониться к его ушку и твердым, но при этом очень почтительным голосом сказать туда нужные слова. Иногда, конечно, приходилось и кое-кого закладывать… Но тут уж ничего не поделаешь: такова жизнь, о которой ему рассказывал с детства его суровый отец! Нужно изворачиваться – вот он и изворачивается. А кто не изворачивается?..
Поэтому в комсомоле он был на хорошем счету. И смог, пусть и не с первого захода, но получить рекомендацию для поступления в Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Некоторая проволочка возникла не потому, что Володе Ревокатову кто-то не хотел давать хода. Проблема оказалась в другом: комсомольское руководство довольно ясно оценивало его навыки. В том, что у него есть способность, по выражению его родителя, «молоть языком», сомнений не было. Но поступление в военно-политическое училище предполагало сдачу экзаменов, и старшие товарищи побаивались, как бы их протеже не опозорился, тем самым выставив дураками и их самих. Но бумага в конце концов была подписана.
– Ну, ты уж смотри… Не подведи нас! – напутствовали Володю.
– Ой, спасибо! – отвечал он, с благоговением принимая в руки письменную рекомендацию. – Ой, спасибо! Это уж конечно! Не подведу! Это уж конечно!..
Все складывалось хорошо. Прибыв в Донецк, Ревокатов, как и прочие поступающие, перед экзаменами пожил в казарме, приобщаясь к курсантскому образу жизни. За эти дни он успел понравиться уже новому, училищному начальству. По-собачьи преданный взгляд, вкрадчивый голос, которым он скороговоркой повторял слова благодарности за все на свете, постоянная готовность фонтаном энтузиазма встретить любое командирское желание – все это буквально за несколько дней конвертировалось в неплохой имиджевый капитал. Правда, в глазах других поступающих в училище это имиджевое богатство имело скорее отрицательный знак, но решать его судьбу должны были не они.
Беда приключилась, как и боялись рекомендовавшие его комсомольцы и партийцы, на экзамене. Поначалу все шло идеально. В большой, залитой летним солнцем аудитории за столами, покрытыми зеленым бархатом, сидела солидная приемная комиссия. Выглядела она сурово, но Володя уже знал, что о нем успело сложиться хорошее впечатление. Билет тоже попался замечательный: первым вопросом стояли знаменитые «три источника и три составляющие марксизма», о которых много раз говорили и в школе, и на комсомольских собраниях – где только ни говорили!.. Ошибиться в столь общеизвестной теме было невозможно, такое не нужно даже повторять перед экзаменом.
С первой частью – про исторический материализм – Володя справился очень хорошо.
– Маркс наиболее остро раскрыл философию материализма через научное завоевание – исторический материализм, – тихо, с плавной уверенностью, излагал он. Некоторые члены приемной комиссии чуть скривились от своеобразия речевых конструкций Ревокатова, но засчитали ответ ему в плюс. Парень, как видно, со всех сторон способный. Зачем же его валить?
Но со второй частью начались проблемы. Из головы Ревокатова куда-то выпала классическая марксистская формулировка – «прибавочная стоимость» – и он безнадежно погряз в «трудовой стоимости», каковую Ленин относил к достижениям Адама Смита и Давида Рикардо. Суровые политруки, однако, были настроены милосердно, и председатель приемной комиссии попытался спасти положение:
– Все верно, начало трудовой теории стоимости положили Рикардо и Адам Смит. А Маркс развил их учение о стоимости… – тут председатель комиссии сделал паузу, давая возможность Ревокатову с этой полуподсказки дать правильный ответ.
– Да-да, Рикардо и Адам Смит… – скороговоркой пробубнил Володя.
– Что Рикардо и Адам Смит? – председатель комиссии начал терять терпение.
– Рикардо и Адам Смит… – снова повторил Володя. Сообразив, что экзаменаторы начинают закипать, он, судорожно пытаясь вспомнить, как именно Маркс продолжил дело Рикардо и Смита, решил воспользоваться давно опробованным приемом: уверенно начать произносить как бы умную фразу, а там… Там, глядишь, либо он вспомнит, либо комиссия забудет, о чем речь.
– Карл Маркс наиболее полно развил теорию Давида Рикардо и Адама Смита… – солидно и размеренно начал Ревокатов. Но тут у него в голове, как он впоследствии говорил, что-то «переклинило». И тем же солидным тоном, уверенно, он выдал в лицо экзаменаторам:
– Как пишет в своей классической работе Владимир Иванович Ленин…
Раздалось несколько смешков, которые, однако, тут же были подавлены, и лица членов приемной комиссии приняли подобающе хмурое и возмущенное выражение. Если Адама Смита, под хорошее настроение, еще могли простить, то такого кощунства, как переименование Ленина во Владимира Ивановича, ветераны политической работы спустить с рук не могли. Экзамен был провален с оглушительным треском. А Ревокатов отправился проходить срочную службу в мотострелковые войска Мангазейской области. Завершив ее через два года с почетным званием ефрейтора, он остался на сверхсрочную и через некоторое время дорос до прапорщика. Жизнь начала как-то устраиваться, но тут случилась очередная неприятность – как он впоследствии говаривал своим самым близким знакомым, из-за «сердечных», или «амурных» дел.
По внешним своим данным Владимир Ревокатов едва ли мог считаться обаятельным мужчиной. Невысокого роста, говорящий сбивчивой скороговоркой, да еще и не склонный ежедневно принимать ванну (к чему, впрочем, располагало перманентное отсутствие горячей воды в той части, где он служил), в обычных условиях на оглушительный успех у женщин он рассчитывать мог едва ли. Но, на его мужское счастье, их военный городок стоял посреди мангазейских степей. Даже до ближайшей деревни, не говоря уж про город, нужно было добираться автотранспортом. И если некоторые офицерские жены находили себе развлечение, а равно и кое-какой доход, устроившись на работу в местный клуб или магазин, то другие прозябали на положении домохозяек и в свободное от варки борщей время были готовы выть на луну от тоски. Со своей стороны, тогда еще неженатый молодой прапорщик Ревокатов, терзаемый своим холостяцким статусом, начал присматриваться к местным офицерским женам, ища, кому можно излить накопившуюся в его душе тоску и скорбь.
Очень скоро он таковой объект и обнаружил. Технически выбор был достаточно удачный: тридцатипятилетняя жена сорокалетнего майора, все свободное время проводившего на рыбалке и на охоте (что, в специфической атмосфере воинской части, означало более-менее хронический алкоголизм), находилась как раз в той жизненной стадии, когда интимно-романтических приключений хотелось очень сильно, но при этом уже созрело твердое понимание того, что предаваться им нужно без лишней огласки. Опять же, по советским меркам уже серьезный возраст основательно понижал ее котировки в глазах мужского сообщества, почему особой требовательностью она не отличалась. Собственно, отношения с Ревокатовым именно она и начала.
– Ой, Володя! Здравствуйте! – с кокетливым смущением поприветствовала она молодого прапорщика, зашедшего в подъезд их двухэтажного жилого дома. Зачем туда Ревокатов пошел, он сам потом уже и не мог вспомнить – то ли по служебной надобности, к кому-то из офицеров, то ли по неслужебной, к кому-то из корешей. Оно и неважно было.
– Здравия желаю! – поприветствовал он командирскую супругу, стоявшую в дверях своей квартиры. Прическа супруги была только что освобождена от «бигудей», а продранный в районе подмышек старый засаленный махровый халат был соблазнительно полураспахнут, открывая взору слегка уже отвисшую грудь, туго схваченную серым застиранным лифчиком.
От столь соблазнительного зрелища прапорщик Ревокатов споткнулся о первую ступеньку лестницы. Майорская супруга, довольная произведенным эффектом, продолжила:
– Володя, вы не зайдете посмотреть, что-то свет выключился… Может, проводку нужно поправить?
– Это можно! Проводочку поправить… Это можно! – твердо и весело сказал Ревокатов и проследовал внутрь квартиры.
Некоторое время он регулярно поправлял проводочку. Но по неопытности делал это слишком часто. И потому его визиты скоро были замечены и стали предметом обсуждения среди местного офицерства. Наконец слухи докатились и до обманутого супруга, который, на беду Володи Ревокатова, проявил редкостное для людей его круга хладнокровие и даже изобретательность. Сообразив, что прапорщик гарантированно придет к его жене, когда он на несколько дней поедет на очередную охоту или рыбалку, майор старательно, всерьез, начал соответствующие приготовления. Лесы и удилища были тщательно проверены, охотничья гладкостволка (и пара армейских карабинов) начищены, костюм химзащиты, столь сподручный на рыбалке, проверен на наличие новых дыр. Наконец было закуплено десять бутылок водки, и компания из четырех офицеров во главе с жертвой супружеской измены выехала вечером на УАЗе за ворота части – якобы чтобы поспеть к вечерней зорьке. Однако поехали они отнюдь не к речке, а встали в нескольких километрах от гарнизона, где и пробыли два с небольшим часа, успев за это время истребить свыше половины всех водочных запасов и некоторое количество закуски. После чего, бросив в чахлую степную травку бутылки и окурки, влезли в УАЗ, который с визгом, отчаянно петляя, понесся к недавно оставленному дому.
Как и предполагалось, товарищ майор, внезапно пинком ноги распахнувший дверь, обнаружил товарища прапорщика на своей супруге.
– Убью, сука! – раздалось в ночном небе над одиноко стоящим гарнизоном.
– Я не виноватая, он меня снасильничать хотел! – отчаянно завизжала неверная жена.
Окна в заснувших было домах начали вспыхивать тусклым желтым светом, а их обитатели, стремительно вываливавшиеся из кроватей, прильнули к стеклам. Мужчины, предвкушая долгое зрелище, начали зажигать сигареты.
Зрелище не заставило себя долго ждать. Раздался сухой треск, который обычно издает табурет, ломаемый о человеческую спину, а через несколько секунд после этого из подъезда дома пробкой вылетел прапорщик Ревокатов. Из одежды на нем были только кальсоны цвета хаки. Следом за ним выскочил майор в компании своих друзей по лжерыбалке (дожидавшихся развития сюжета на лестничной площадке).
– Убью, сука! Застрелю! – конкретизировал свою мысль обманутый муж. И, действительно, схватился за табельный ПМ. Однако тут его друзья, сообразив, несмотря на выпитое, что вечеринка принимает какой-то не тот оборот, схватили его за руку с пистолетом, и задрали ее вверх. Вскоре прозвучало несколько выстрелов, но пули улетели в ночное небо.
Но Володя Ревокатов не увидел, что стреляют не по нему, ибо убегал от своего преследователя и потому был обращен к нему спиной. Услышав выстрелы, он судорожно сообразил, что палить могут только в него, и палить на поражение. И тут ноги его как-то сами собой подкосились. Ревокатов упал на потрескавшийся асфальт плаца, вжался в него всем своим тощим телом и отчаянно, слезливо запричитал:
– Не убивайте! Не убивайте!..
Именно эта развязка сделала его дальнейшую службу в части окончательно невозможной, ибо теперь открыто посмеиваться над ним стали даже солдаты-срочники. Дело, впрочем, решили замять. В принципе, Ревокатову можно было пришить изнасилование, но если бы его стали наказывать всерьез, то досталось бы не только ему. Влетело бы и ответственному за воспитательную работу, и командиру части – а им это совсем не требовалось. Поэтому прапорщику Ревокатову, без порочащих его честную совесть отметок в личном деле, по-тихому организовали перевод в стройбат.
Там он довольно скоро приобрел репутацию человека толкового и разумного – главным образом потому, что пил умеренно, а также, что называется, «на общем фоне». Ревокатов заочно отучился в высшем военном училище (на этот раз уже по строительному профилю) и получил офицерские погоны. Вершиной же его карьеры стало назначение на должность заведующего складом сантехники. Получив в свои руки самый настоящий качественный блат – то есть возможность кому-то поставлять унитазы и ванны по блату, взамен на ответные блатные подношения – Ревокатов вступил в свой золотой век. В скором времени у него появились собственные красные «жигули» – а о большем… А о большем он как-то и не мечтал, да и что круче красных «жигулей» могло быть в середине 80-х годов? Тогда же, в период своего цветения, он женился на местной девушке, которая вскоре родила ему дочь.
В отличие от многих своих сослуживцев, 1991-й год и последовавшие за ним перемены Ревокатов встретил относительно спокойно. То есть, конечно, за державу ему было обидно, и крушением ее он возмущался едва ли не за каждой рюмкой и стаканом.
– Это все ЦРУ, да! – со знанием дела говорил он, обхватив непропорционально большой, грубой ладонью граненое тельце стопарика. – Каждый год они выделяли восемьдесят миллиардов долларов на подрывную работу против Советского Союза!
Собутыльники и сотрапезники хмурили брови и горестно кивали головами. На восемьдесят миллиардов долларов можно было купить так много всего, что не оставалось сомнений – против этой суммы устоять невозможно, и борьба была безчестной и подлой.
Но, ругая ЦРУ, Пентагон и прочих «господ с берегов Потомака» (эту чудесную фразу Ревокатов подцепил еще в молодости из телепередач Зорина), умом он понимал, что, кажется, в его жизни все не так уж плохо. Да, денег стало меньше, и выплачивать их стали с задержками, иногда большими. Но зато никакого контроля за вверенным ему складом не было. Унитазы, ванные и душевые головки можно теперь было растаскивать в неограниченных количествах, почти без всякого риска.
По этой-то причине в первой половине 1990-х, когда иные российские офицеры пускали себе пулю в лоб, будучи не в силах прокормить семью, Ревокатов и иже с ним процветали пуще прежнего. Были не только еда и вода, но и появились кое-какие свободные деньги. И дальше Ревокатов – к тому времени майор – оказался перед выбором: либо уйти со службы и податься в бизнес, либо же использовать имеющиеся денежные средства для продвижения по карьерной лестнице, к еще большим залежам унитазов и открывавшимся через них горизонтам.
– Сначала на полковничью должность, а там и про генеральскую можно поговорить! – искрясь лукавым и тщеславным весельем, говорил он своей жене. Та мысленно материлась и беззвучно качала головой.
– А? А чего? Чем черт не шутит? – продолжал Ревокатов.
Выбор, однако, сделали за него: в 1996 году на склад неожиданно налетела комиссия, которую не успели вовремя ублажить охотами-рыбалками и всем остальным, чем их обычно ублажают. В итоге выявилось вопиющее несоответствие между наличием по описи и наличием фактическим, и Ревокатова вышвырнули на пенсию. Он, однако, полагал, что это было сделано несправедливо: просто начальству потребовалось устроить на его должность своего человека, и потому натравили на него комиссию безо всякого предупреждения.
Когда его спрашивали, почему он ушел с воинской службы, ведь мог бы еще служить и служить, Владимир Владиславович всегда отвечал одинаково. А именно замолкал, хмурился и, испустив вдаль слегка подернутый слезой мужественный взгляд, тихо, но твердо, отвечал:
– Пострадал за правду! Пострадал за правду!
От описания подробностей своих страданий он, подобно Монте-Кристо, воздерживался.
В это же время он развелся с женой, а точнее, с ним развелась жена, уехавшая от него вместе с дочерью в родной ПГТ. Все их знакомые и друзья были единодушны во мнении, что рано или поздно это должно было случиться. Однако они едва ли бы могли ответить на вопрос, из-за чего конкретно этот брак распался. Ревокатов хотя и выпивал, но алкоголиком отнюдь не был, семья его жила хоть и небогато, но и не голодала, что, по меркам 1990-х, было уже немалым достижением. Подруги его жены о причинах случившегося развода говорили туманно:
– Нельзя с таким, ни рыба ни мясо…
Мужчины выражались несколько иначе:
– А может, и правильно ушла. Нельзя с таким м*** жить…
Оставшись в полном одиночестве, да еще и с кучей свободного времени, Ревокатов попытался реализовать план «Б», то есть заняться бизнесом. Он последовательно пробовал заниматься торговлей сантехникой («дело привычное»), перегонять подержанные японские машины из Владивостока и перепродавать цветмет с черметом. И то, и другое, и третье в итоге кончилось провалом. В результате Ревокатов остался обладателем однокомнатной квартиры в Мангазейске, старой подержанной «японки» (как называли в Сибири и на Дальнем Востоке японские автомашины) и воинской пенсии, благодаря которой он мог не голодать, не работая.
Дальнейшие перспективы казались Владимиру Владиславовичу не слишком радостными. Для госслужбы – например, в милиции – он был явственно староват. Что касается бизнеса, то он у него горел в руках – в плохом смысле слова. Работать руками – скажем, в качестве плотника или слесаря? Этот вариант он отмел сразу. Во-первых, возраст уже дает о себе знать, а во-вторых он хоть и пенсионер, но офицер, а офицеров бывших не бывает, и потому работать – это ниже его достоинства. В-третьих, чтобы что-нибудь делать, нужно что-нибудь уметь, а Ревокатов умел лишь одно – руководить.
Пару лет он промыкался, то не работая нигде, то сидя вахтером в разных конторах. А потом его осенило: если больше нельзя ни в армию, ни в милицию, ни в бизнес, то надо идти в Церковь! На дворе стоял 2001-й год, Московская Патриархия набирала вес, и Ревокатов носом учуял, что священником быть отныне не постыдно, но солидно и почетно. Как ему казалось, попу особо ничего делать не надо. Опять же, прихожане, уважение… Говоришь проповедь, а ее все слушают эдак внимательно – не хуже, чем в былые времена, когда политрук политинформацию проводит. Опять же пожертвования, иногда едой, а лучше деньгами… Да и «отец Владимир» – это звучит солидно!
Пережил ли Ревокатов некое религиозное обращение? Или же был просто циничнейшим аферистом, который хотел использовать чужую веру? Ни то, ни другое – по крайней мере в чистом виде. Просто в очередной раз сработала уникальная гибкость его сознания, способного принимать ровно те формы, которые требовались обществом, точнее, тем его слоем, в котором Ревокатов видел начальство. Мама Владимира Владиславовича была верующей «в меру». И не чаще пары раз в год на службу в храм все-таки заглядывала. А на Пасху пекла куличи, красила яйца, и Ревокатов-старший, будучи однозначным атеистом, садясь за праздничный стол и беря в руку яичко, громко говорил:
– Христос воскрес!
В детстве Володя не задумывался о том, верует он или нет. То есть, конечно, он, как приличный ученик и хороший комсомолец, если б его спросили на сей счет, ответил бы, что он атеист. Ведь он всегда говорил так, как от него требовали. Какими были его взгляды на самом деле? Никакими. Он просто не думал об этом.
Но, не споря с отцом и всевозможным начальством, он никогда не спорил и со своей матерью. И даже, если она его просила, мог украдкой, судорожно-неуверенным движением, перекрестить лоб.
Теперь же, когда для жизненного успеха потребовалось декларировать не свое неверие, но свою веру, Ревокатов как-то незаметно для себя ощутил, что он всегда был православным. Что так его с детства воспитывала мать. Что это было частью его семейной истории. И что вот теперь-то наконец он возвращается к истинным корням и истокам.
И надо сказать, что он отнюдь не лгал, когда начал говорить немногочисленным знакомым о смене своих ценностных приоритетов. Он сам в это верил. Ибо на жизненном горизонте появилось новое начальство, с которым он связывал свои надежды, и это начальство, как он полагал, требовало от него веры. А раз так, то не поверить он не мог. Во что? Это было еще неясно. Это еще предстояло узнать – у нового начальства, каковому отныне следовало стать стержнем его новой жизни.
* * *
Одним из последних под благословение, во время всенощного бдения, подошел Алексей Сормов – второй «курсант» из числа бывших военных. Как и Ревокатов, он был невысокого роста, но намного тучнее его, и потому простенький стихарь, сшитый из той же материи, из какой в брежневском СССР шили шторы, туго охватывал его солидную фигуру, напоминая большой колокол-благовест.
Сормов ради смирения хотел подойти последним, однако старший иподиакон Григорий (простой и дерганый человек) грубо подтолкнул его, чтобы шел впереди двух мальчиков-пономарей – мол, раз старший по возрасту, то и иди вперед, не нарушай порядка.
– Благословите, Владыко! – сказал Алексей, низко кланяясь перед архиереем. Обычно подходили молча, и было заметно, что Григория такое «своеволие» заметно напрягло. Однако Евсевий благожелательно улыбнулся и широким жестом благословил нового послушника.
– Так ты, значит, и китайский знаешь? – спросил архиерей.
– Знаю. Не в совершенстве, но разговор могу поддерживать, а также имею навыки чтения, – отрапортовал Сормов.
– О как! – с улыбкой ответил Евсевий, однако продолжать разговор не стал. И Сормова, который не успел сообразить, что ему нужно отойти, за рукав стихаря отдернул в сторону старший иподиакон.
Он и вправду владел китайским языком – хотя, как он и сказал, не идеально. Но в достаточной мере для того, чтобы свободно изъясняться на бытовые темы. А сейчас, после поступления на Пастырские курсы, начал старательно изучать лексику, связанную с религиозно-богословской спецификой, в будущем мечтая отправиться в Китай миссионером.
Алексей Алексеевич Сормов, как и Ревокатов, был майором запаса, но его семья и военная карьера сильно отличались от ревокатовских. Деда своего он не знал – отец в раннем детстве попал в детдом, где и жил, и учился, и воспитывался вплоть до совершеннолетия. В результате этого воспитания Алексей Сормов-старший вырос убежденным коммунистом, искренне, с религиозной горячностью верящим в идеалы коммунизма, которые для него были священными (безо всяких кавычек). В отличие от абсолютного большинства своих товарищей по комсомолу, труды «классиков» он читал не из-под палки, а по собственному желанию и буквально запоем. Что же касается выбора профессии, то тут у него не было ни малейших сомнений – только в армию, защищать Отечество трудящихся!
И он пошел в училище, откуда выпустился лейтенантом и поступил на столь милую его сердцу военную службу. А через несколько лет произошло событие, о котором он начал мечтать еще школьником – его приняли в Коммунистическую партию Советского Союза!
Парторг даже умилился, глядя на молодого лейтенанта, отличника боевой и политической подготовки, со слезами на глазах и дрожью в обычно твердом голосе принимавшего из его рук партийный билет. «Достойная смена растет!» – подумал он тогда про себя.
Но не прошло и года, как тот же парторг инициировал исключение из КПСС лейтенанта Сормова. Поводом стало то, что он, по мнению руководства партийной организации, намеренно, последовательно и целенаправленно искажал линию партии как в партийной своей работе, так и на воинской службе. Действительная же причина оказалась несколько необычной. Нет, Сормов-старший не стал за этот год диссидентом или антикоммунистом. Он не проявлял халатности и не совершал аморальных поступков. Проблема была в том, что он как раз таки и был искренним коммунистом, свято верящим в осуществление коммунистического идеала на земле, в частности, в Советской армии, в частности, в той воинской части, где он служил. И потому искренне пытался бороться за соблюдение социалистической законности, а равно и норм «Морального кодекса строителя коммунизма».
В результате очень скоро он начал отравлять жизнь и товарищей по партии, и всех вообще офицеров в своей воинской части.
И его действительно постановили из партии исключить. Но с огромным трудом Сормов-старший сумел добиться своего восстановления в рядах КПСС. Впоследствии эта история, с исключением и восстановлением, повторялась три раза. Помимо партийных взысканий, его единожды понизили в звании (за «халатное отношение к воспитательной работе») и раза два пытались подвести под трибунал – на почве все той же мнимой халатности.
Вся жизнь Сормова превратилась в сплошную, непрерывную трагедию, что он очень ясно осознавал. С одной стороны, он искренне, с религиозным пылом верил во все то, что с детства ему внушали коммунистические пропагандисты. Что человек человеку друг, товарищ и брат. Что коммунизм близок и неизбежен. Что он, Сормов, как и каждый советский человек, не щадя своих сил должен работать на родное государство и решительно выступать против всякого нарушения социалистической законности, перегибов и очковтирательства, ну и прочее в этом роде.
С другой стороны, он, будучи честным и здравомыслящим человеком, ежедневно и даже ежечасно наблюдал вопиющие противоречия между реальной жизнью и всем тем, что лилось из динамиков телевизоров, радиоприемников и разверстых ртов политруков. Пропаганда вещала о скором изобилии «потребительских товаров», загнивании Запада и коммунизме к 1980 году – но никуда не девались ни длиннющие очереди в магазинах, ни очереди на квартиру, а немногие вещи, привезенные с загнивающего Запада, почему-то были самыми хорошими и престижными, превращаясь в предмет какого-то почитания на грани культа. Как он мог объяснить этот разрыв, оставаясь искренним коммунистом? Ответ был один: все дело – в недостаточной сознательности людей, в их ограниченности и эгоизме, неглубоком знакомстве с учением партии или, того хуже, внутреннем неверии в него. И, подобно странствующему проповеднику, внезапно услышавшему мистический призыв, он все силы без остатка бросил на борьбу за то, что сам он почитал абсолютной истиной. Он кидался исправлять всевозможные «упущения и отдельные недостатки», обличать «формальное отношение к делу» и «очковтирательство», устраивал дискуссии на партийных собраниях относительно того, какое именно понимание решений последнего съезда КПСС является наиболее правильным, и т. д., и т. п. Борьба эта была безнадежной и окончилась закономерно быстрым износом нервной системы и всего организма в целом, с финалом в виде инфаркта со смертельным исходом в 1964 году. Его сыну, названному в честь отца Алексеем, было тогда двенадцать лет.
Ранняя смерть отца стала для Сормова-младшего самым большим потрясением детства – и одним из самых больших потрясений в его жизни. Несмотря на то что отец почти все свое время тратил на службу и безответно любимую им партию, его отношения с сыном всегда оставались прекрасными. Они понимали друг друга с полуслова и любую свободную минуту старались проводить вместе. Ссор меж ними не случалось (может быть, потому, что Сормов-старший умер до того, как его чадо успело войти в пору полноценного подросткового бунта). И теперь, когда отца не стало, для сына и он, и его жизненные ценности стали абсолютным идеалом, и он с неюношеской энергией и последовательностью решил посвятить им свою жизнь.
Первым следствием этого стало решение связать свою судьбу с воинской службой. Это вызвало вполне рациональные протесты матери: Алексей подавал очень серьезные надежды в гуманитарной, главным образом – языковой сфере. И похоронить очевидный талант и сравнительно высокий уровень культуры на дне какого-нибудь заброшенного гарнизона казалось безумием. В конце концов был найден пристойный компромисс: Алексей шел на воинскую службу, но в соответствии со своими талантами – поступал в Военный институт иностранных языков (ВИИЯ).
Сделать это было не так-то просто – учебное заведение считалось весьма престижным. Но тут счастливо сработали три фактора. Во-первых, Сормов-младший был действительно способным и трудолюбивым юношей. Во-вторых, после наведения справок, поступать он решил на факультет восточных языков. Заниматься ими ему не то чтобы хотелось, но пролезть туда было проще из-за сложности предмета и меньшей привлекательности для большинства абитуриентов (со знанием китайского или корейского попасть на службу в западную группу войск было несколько сложнее, чем со знанием английского и немецкого). В-третьих, несмотря на карьерное фиаско отца (а может, и благодаря ему?..), среди его знакомых и друзей были люди, искренне его уважавшие и любившие. И сохранившие о нем добрую память даже спустя годы после его смерти. Один из таких людей к тому моменту, когда Алексей окончил школу, был знаком с начальником восточного факультета ВИИЯ. Третий фактор и оказался решающим.
Мать, превозмогая душившие ее принципы, набралась сил и позвонила этому человеку – позвонила по номеру, записанному в старой, истрепанной записной книжке покойного мужа. Номер оказался рабочий, и нужный человек взял трубку.
– Здравствуйте, Петр Иванович… Это вас Вера Сормова безпокоит, вдова Алексея Агафоновича…
– А, да, здравствуйте, Вера… – на том конце провода абонент явственно начал хватать ртом воздух, судорожно пытаясь вспомнить, какое у этой самой Веры отчество.
– Как поживаете, Петр Иванович?
– Да ничего, потихоньку, потихоньку… А как ваш сын? – последовал встречный дежурный вопрос.
– Да вот, школу, заканчивает, поступать собирается, – с нотками лукавой скромности сказала мать Алексея.
– Ага… – ее собеседник, будучи человеком опытным, сразу сообразил, куда клонится разговор.
– Вот, по стопам отца собрался, на воинскую службу…
– Так, так, хорошо!
– Хочет в ВИИЯ поступать, на восточный факультет…
– Так, так, понятно!
– Я хотела… уточнить… – тут уже Вера Сормова стала запинаться, с трудом подбирая выражения и сгорая от своего интеллигентского стеснения.
– Я понял, – избавил ее от дальнейших мучений голос с той стороны провода. – Он же у вас хороший мальчик? Учится хорошо?
– Да, да, отличник!.. – быстро заговорила мать.
– А, ну тем более! Пусть приезжает, а я… Сделаю, что смогу.
Так среди курсантов ВИИЯ в 1969 году появился Алексей Алексеевич Сормов. Он очень быстро увлекся китайским языком, а равно и китайской историей и культурой. Первые полтора года обучения стали для него счастливейшим временем, несмотря на все сложности обучения в военном советском вузе. Алексей с радостью поглощал новые знания, за что его ценили преподаватели, и был добрым и отзывчивым товарищем, за что его очень скоро полюбили другие курсанты. У него появились новые друзья – в том числе и из непростых семей. Одно такое знакомство и определило всю его последующую судьбу.
С Александром Мартыновым Алексей как-то быстро подружился на втором курсе, хотя и по характеру, и по образу жизни они казались едва ли не полной противоположностью. Если Сормов был прилежным и усидчивым, то Мартынов менее всего отличался прилежанием и вообще имел репутацию разгильдяя, хотя и одаренного от природы. Первое было верно безусловно, второе – до известной степени. И, быть может, курсант Мартынов не смог бы доучиться и до конца первого курса, если бы начальник факультета не был в свое время подчиненным генерала Ивана Мартынова – отца означенного курсанта. И не был бы этому генералу многим обязан. По этой причине Александру сходили с рук выверты, одной десятой которых хватило бы для того, чтобы выкинуть из ВИИЯ любого другого.
Неразлучным другом, своего рода пажом и добровольным адъютантом Мартынова был курсант Жданок – такой же балбес, только значительно менее шумный и яркий, не имевший породистой советской родословной. После того как Сормов подружился с Мартыновым, и в коридорах родного института, и на улицах Москвы во время увольнительных они почти всегда появлялись вместе – Сормов с Мартыновым и вьющийся вокруг них мухой Жданок. В октябре 1971 года Александр отмечал свой очередной день рождения, и среди приглашенных, конечно же, оказался и Алексей. Празднование по советским меркам получалось очень торжественным, с такой едой и выпивкой, которую обнаружить в обычном, даже московском, гастрономе было очень затруднительно. И это было приятно. Но не менее значимым и приятным было то, что отец Александра, отставной генерал Мартынов, обратил внимание на нового друга своего сына, удостоил его долгого, вдумчивого разговора и остался им очень доволен.
– Учитесь, молодой человек, учитесь… – сдержанно, но с явным благоволением, произнес он под конец беседы. – Думаю, будущее вас ждет хорошее.
Казалось, все складывается прекрасно. А на следующий день Александр Мартынов, встретив перед занятиями Алексея, схватил его за рукав и, оттаскивая в сторону, на ходу стал говорить:
– Леха, слушай! Пойдем сегодня в кабак, в честь моего юбилея?
Сормов замялся. Поход в ресторан его не особо прельщал, и он как-то сразу, нутром, почуял, что добра из этого не выйдет.
– Я проставлюсь! – продолжал убеждать его Александр.
– Может, чуть позже… – попытался увильнуть Алексей.
– Да ну тебя к черту! – обиделся его друг. – В чем дело-то? Пойдем, познакомлю с моими друзьями, интересно будет! Там с ВГИКа будут парни. Да и не только парни! – многозначительно добавил Мартынов.
Алексей тихо вздохнул.
– Пойдем! – продолжал Александр. – Ну, мне без тебя нельзя!
– Почему?
– Да папаша мой считает, что ты на меня благотворно влияешь. Если я скажу, что с тобой – то ничего. А если нет, и он узнает… Ну, давай, чего ломаешься-то? Я ж тебя не картошку зову копать!..
– Ладно… – нехотя ответил Сормов.
И вечером, втроем (Мартынов без своего неизменного пажа Жданка пойти, конечно, не мог) они отправились в один из самых знаменитых ресторанов тогдашней Москвы. В увольнение их, по-хорошему, отпускать не должны были, но благодаря пиетету начальника факультета к Мартынову-старшему этот вопрос был благополучно разрешен.
Поначалу все шло так, как и расписывал Александр. Денег у него при себе оказалось достаточно (даже более чем достаточно), так что расплачиваться за еду и выпивку нужды не было. Компания тоже подобралась очень интересная, да и веселая. И все было бы хорошо, если б в определенный момент Алексей не заметил: Александр, употребивший грамм четыреста водки и запивший их основательным количеством шампанского, «поплыл». Друзья и знакомые, тоже заметившие это, стали под вежливыми предлогами покидать их столик. Ну а вскоре начались пьяные вопли, и Александр, размахивая полупустой бутылкой, отправился знакомиться с какими-то женщинами, сидевшими неподалеку. Остановить его Сормов не успел. Раздался визг, крики, послышался звон битой посуды. Через несколько минут после этого последовало неизбежное явление милицейского лейтенанта, который посмотрел на Мартынова в высшей степени презрительно и через губу бросил:
– Пройдемте, товарищ.
– К-куда? – с вызовов, сжимая пустую бутылку из-под советского шампанского, спросил Александр.
– В отделение, куда же еще, – так же презрительно ответил милиционер.
– Куда? Т-ты!!! – заорал Мартынов. – Ты знаешь, кто я такой?! Да т-ты знаешь… Чей я сын?!
Лейтенант снова глянул на него пренебрежительно, безо всякого страха и тем паче почтения. Может, на какого иного мента в другом месте это и могло бы подействовать. Но здесь, при дорогих ресторанах, милиция была – какая надо милиция. Всех действительно серьезных людей они знали в лицо, а что до менее серьезных – так у здешних милицейских сотрудников разных коррупционных подвязок было столько, что менее серьезным с ними связываться, как минимум, не стоило.
– Вот в отделении и выясним. Пройдемте, гражданин, – повторил лейтенант, издевательски заменив в обращении «товарища» на «гражданина».
И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Александр Мартынов, дико заорав, наотмашь заехал бутылкой из-под шампанского по милицейскому лицу. Лейтенант, не ожидавший такого поворота, не успел увернуться и, потеряв сознание, рухнул на пол. Вертевшийся рядом Жданок кинулся к нему – то ли помочь, то ли совсем уж непонятно зачем – но было поздно. Через две минуты в ресторанный зал вломился уже усиленный наряд милиции, и все трое курсантов отправились в отделение, где пробыли до утра.
Случай был настолько скверный и неординарный, что поначалу Сормова не только не подвергли никаким наказаниям, но даже и не стали всерьез отчитывать – институтское руководство было слишком озадачено и не могло сообразить, что же в этой ситуации делать. Лишь на вторые сутки его вызвал к себе начальник факультета. Начало беседы было стандартным:
– Разрешите? – твердо, хотя и не без некоторого смущения, сказал Алексей, входя в кабинет.
– А, Сормов! – из кабинетных недр раздался недовольный голос с легкими вкраплениями рыка. – Ну, заходи!
Он и зашел. Вступительная часть (изрядно затянувшаяся) оказалась вполне типичной и ожидаемой:
– Что это вы, Сормов, себе позволяете? По ресторанам, значит, ходим? Да не только ходим, но еще и дебоши устраиваем! Вам что, Сормов, учиться надоело?! Так никто не держит, на ваше место полно желающих!
Алексей, скорбно потупив очи, слушал обращенную против него филиппику. Хотя дебош он не устраивал, но вот от похода в кабак с Сашкой Мартыновым действительно стоило воздержаться. Разумеется, начальник факультета, гневно отчитывавший его за посещение ресторана, не вспоминал о том, что это он лично отпустил туда всю их компанию не далее как два дня назад.
– Вы же будущий офицер! Это-то ты вы хоть понимаете?! Вы же позорите свое звание – и свое звание курсанта нашего института, и те погоны, которые вы должны надеть! Да мало того, что дебош, что скандал… Мордобой устроили! Телесные повреждения!.. Средней тяжести!.. Лейтенант милиции, на хорошем счету… Отец его, между прочим, орденоносец, ветеран, полковник МВД!.. Это же уголовная статья! Срок! Вы это-то хоть понимаете, Сормов?!
Алексей, конечно, понимал и молча продолжал выслушивать монолог начальника факультета. Поток его красноречия, однако, начал иссякать.
– Ну, что скажешь? – обратился он к Алексею.
– Виноват. Этого больше не повторится! – постарался он ответить как можно четче, но вышло как-то не очень молодцевато. Он понимал, что судьба его повисла на волоске и что его запросто могут выкинуть из института. Не раз помянутой уголовной статьи он не боялся: он же никого не трогал. Но вот вылет из ВИИЯ был более чем реалистичен.
– Гнать вас надо, Сормов! – сказал начальник факультета. – Гнать…
И на некоторое время замолчал. Молчал и Алексей, вытянувшийся в струнку. Он понимал, что сейчас может решиться его судьба. То, что с ним проводят воспитательную беседу вместо того, чтобы сразу дать пинка под зад, – это добрый признак. Возможно, и удастся отвертеться. Но ничего еще не решено.
– Ладно, – почти примирительно сказал начальник факультета. – Твое счастье, что так вышло и что нам все известно. Жданок… Идиот! Связался же с ним Сашка… В общем, дашь показания, как все было… Что так и так, курсант Жданок напал на сотрудника милиции… Понимаешь?
– Никак нет, – тихо, но ясно ответил Алексей.
– Что никак нет?
– Курсант Жданок на сотрудника милиции не нападал!
– То есть как?
Алексей замолчал. Его собеседник, в чьих руках находилась его курсантская судьба, начал по новой:
– Я тебе уже сказал: все уже установлено. Насчет Жданка в том числе… А тебя вызовут на днях, допросят… Вот и скажешь: так, мол, и так, Жданок… Бутылкой шампанского ударил сотрудника милиции…
– Товарищ полковник! Курсант Жданок никого и ничем не бил! – выпалил Алексей. Ему уже было ясно, что от него требуется: Мартынов явно нарвался, и нарвался крепко. Силенок его родителя, чтобы его отмазать, явно не хватает (к тому же, судя по некоторым оговоркам начальника факультета, милицейский лейтенант тоже попался какой-то непростой). Стало быть, вместо Мартынова решили сделать козлом отпущения Жданка, благо ни связей, ни какой-либо иной особой ценности у него не было.
– Хочешь сказать, что я вру?
– Никак нет.
– Ну тогда и… Сообщи все что нужно, – полковник говорил заметно тише. Алексею показалось, что ему это тоже дается с трудом.
– Нет! – ответил Сормов.
– Да ты думаешь, что ты говоришь, щенок?! – внезапно сорвался начальник факультета. – Ты понимаешь, что сам под суд пойдешь?! Пошел вон, кретин!
Алексей выскользнул за дверь. Следующие два часа были одними из самых тяжелых в его жизни. Он отказался оговаривать Жданка. А что будет, если Жданок его оговорит? Если ему предложат то же самое, но он – согласится? И не лучше ли было согласиться самому? «Ну, это уж нет!» – много раз мысленно повторял Алексей. И во время беседы с начальником своего факультета, и после нее, оглушенный угрозами и требованием оговорить товарища, он все время вспоминал своего отца. Отца, подражая которому, он и решил идти на воинскую службу. И который с детства повторял ему:
– Нужно бороться со всякой несправедливостью! Со всяким нарушением законности! Именно к этому призван каждый коммунист!
Алексей сам себя считал коммунистом (комсомольцем он, конечно же, был). Но всего важнее было то, что бороться против несправедливости, бороться всегда и везде, от него требовал его отец, столь рано покинувший этот мир, и которого он продолжал любить в равной степени и сильно, и болезненно. Предать товарища? Пусть даже и дурака? «Нет!» – вновь и вновь повторял он.
Через два часа его снова вызвали к начальнику факультета.
– Разрешите? – снова сказал он в открытую дверь. Вместо ответа ему кивнули. Несколько секунд в комнате царило молчание. Потом хозяин кабинета неожиданно тихо сказал:
– Садись.
Алексей осторожно сел на краешек стула.
– Ну что, надумал?
– Да… Нет.
– Что «да-нет»? – с усталой, но беззлобной иронией переспросил начальник факультета.
– Курсант Жданок… Не бил! – выдавил из себя Алексей. Его собеседник махнул рукой.
– Послушай, Сормов, – начал он тем же тихим, спокойным голосом. – Ты же не дурак. Сам видишь, как оно закрутилось… М-да… Ты не думай, что с ним из-за этого что-то такое страшное случится. Ну, вылетит этот Жданок из института, так и давно пора, я таких знаю, все равно не доучится. Вытянут его там на условный срок или еще как-нибудь. А может, и условного не будет. Еще и служить будет, только, слава Богу, не военным переводчиком! Ты там, главное, подтверди, что скажут, и все…
Алексей продолжал молчать.
– Прямо говоря, мне лично ты симпатичен, – продолжал начальник факультета. – Ивану Герасимовичу, кстати сказать, тоже.
Иваном Герасимовичем звали генерала – отца Александра Мартынова.
– В институте ты на хорошем счету. Все преподаватели о тебе хорошо отзываются, – продолжала течь успокоительная, даже льстивая речь. – Будущее у тебя светлое. Ну и сам должен понимать: хорошим людям поможешь – хорошие люди в долгу не останутся. В Москве устроишься, в загранку поедешь…
Сормов не отвечал, внимательно, не шевелясь слушая обращенные к нему слова.
– Петр Иванович, помню, за тебя просил… Хороший человек, неудобно получается. Мать, говорил, у тебя одна осталась, кроме тебя и помочь некому. О ней бы тебе подумать надо, Леша! – с неожиданно фамильярной теплотой завершил полковник.
Снова в кабинете повисла тишина. Было слышно, как за окном завывает осенний ветер, а где-то вдалеке изредка раздаются автомобильные гудки.
– Ты в эту историю сам влез, – резюмировал начальник факультета. – И теперь только от тебя зависит, как ты из нее выйдешь: либо все у тебя будет хорошо… Прямо скажу, даже очень хорошо, либо вылетишь вон из института. Решай.
– Нет, – тихо ответил Алексей.
– Уверен?
– Уверен.
И опять в кабинете воцарилось молчание. Прошла минута, другая. Наконец начальник факультета снова обратился к нему:
– Не передумал?
– Нет.
Немолодой уже полковник тяжело вздохнул.
– Что же, уговаривать не буду. Выбрал сам. Можешь идти.
Алексей уже взялся за ручку двери, когда услышал у себя за спиной тихие слова:
– Правильный ты парень, Леша. Но дурак. Дурак!
Он не стал оборачиваться.
Через несколько дней «за устроенный в ресторане дебош» Алексей Сормов был отчислен из ВИИЯ и весной следующего года призван в ряды Советской армии. Потом остался на сверхсрочную, а спустя несколько лет смог заочно окончить военное училище, что принесло ему офицерские погоны. При этом он старался, сколько мог, не бросать занятия языком и, кочуя по гарнизонным городкам Средней Азии, неизменно таскал с собой самоучитель китайского языка вкупе с объемным словарем и парой справочников по грамматике. Все командиры, под началом которых он служил, ценили его как толкового и исполнительного офицера, к тому же почти непьющего, но при этом считали его немного «не от мира сего». И в общем, они были правы. Сормов не гонялся за дефицитными вещами, у него не было вкуса к деланию карьеры. Зато в свободное время, помимо занятий китайским языком и фарси (которым он увлекся, находясь на службе в Таджикистане), он собирал гербарии и ловил насекомых, составляя из них внушительные коллекции, которые, впрочем, все раздаривал или просто оставлял в тех воинских частях, где служил.
По партийной линии ходу ему не дали: подобно своему отцу, он очень хорошо изучил марксистко-ленинский книжный канон и был искренним, можно сказать, верующим коммунистом. И по этой-то причине его было невозможно подвязать на любое сомнительное дело, заставить на что-то закрыть глаза, что-то «замазать» или «подмазать». Он неизменно отвечал формулировками из Устава партии… И отказывался. Правда, в отличие от своего родителя, не начинал борьбу за правду и не пытался искоренить беззаконие, а просто отходил в сторону, зарубая себе всякую перспективу карьерного роста и еще более укрепляя свою репутацию советского юродивого.
Женился он тоже «не как все» – тогда, когда ему было уже далеко за тридцать, что, по тогдашним советским меркам, было очень поздно. Но, однако, женился удачно – в том смысле, что зажили тихо и мирно, без ссор и скандалов.
Развал Советского Союза стал для Алексея Сормова личной трагедией. В буквальном смысле: он перестал спать ночами. После службы он мог часами листать газеты, пытаясь понять, почему все это происходит. Почему самый лучший, самый прогрессивный социально-экономический строй оказался на грани краха? Что случилось с советским народом – новой общностью, в существование которой он свято верил и которая теперь стала разваливаться на куски? Почему капиталистический мир, который погряз в кризисе и скоро должен рухнуть – ведь это было очевидно из марксистско-ленинской теории, очевидно, как дважды два четыре – стоит крепко и, более того, грозит уничтожить лагерь социализма? Почему… Таких «почему» было много, и они жуткой тяжестью давили на сознание. Мир и раньше представлялся ему не особенно радостным (он прекрасно понимал, что самый лучший путь для него закрылся тогда, когда он отказался оговорить своего товарища-курсанта, и с тех пор жизнь его, по большому счету, сломана). Но раньше все было ясно. Была четкая картина мира. Была четкая система ценностей. И была ясная и великая цель. К которой он шел вместе со всеми – пусть не так, как ему хотелось, но все-таки шел.
Теперь же вместо этой геометрически совершенной ясности возникла огромная черная дыра, состоящая из множества вопросов, на которые он не находил ответов…
А потом случился политический кризис, а за ним и война в Таджикистане. И Сормов, кадровый офицер, впервые оказался на настоящей линии огня (война в Афганистане его, по счастливой случайности, миновала). В 1995 году, сопровождая очередной караван с беженцами, он попал под минометный огонь. Двое его друзей, с которыми он прослужил десять и пятнадцать лет, погибли мгновенно. Он отделался контузией.
Потом были полгода госпиталя, медицинская реабилитация, за которой последовала пенсия. Денег у Сормова не было. Квартиру в родном городе, где жила его мать, благополучно забрало государство в 1987 году, после ее смерти. Поэтому после коротких размышлений было решено ехать на родину жены, в Мангазейск, где еще была жива теща, счастливая обладательница небольшой двушки.
Отчасти из-за того, что воинская пенсия была совсем невелика, отчасти из-за нелюбви к безделью Сормов устроился в школу учителем китайского (китайский тогда как раз начинал входить в моду в Мангазейске, и такие специалисты были очень востребованы). И продолжал читать и размышлять о том, почему коммунистические идеалы, верой в которых с раннего детства заразил его родной отец, так и не были реализованы в СССР.
Когда-то, изучая историю Китая, он читал про восстание тайпинов, но этот сюжет как-то не произвел на него особого впечатления. Ну, еще одна крестьянская война, которая не смогла добиться успеха из-за отсутствия предпосылок и т. д. Но когда в 2000 году в его руках оказалось небольшое китайское издание, посвященное Тайпин Тяньго, он испытал чувство, подобное озарению. Ему показалось, что он наконец обрел абсолютную истину, обрел ответ на вопрос, мучивший его все эти годы. Коммунистический идеал не удалось реализовать, потому что для этого не было необходимой духовной основы! Он много раз слышал расхожую в первые постсоветские годы фразу о том, что коммунизм и христианство-де очень похожи, про то, что «первым коммунистом был Христос», ну и прочие премудрости потерянных в новых реалиях советских людей. Но теперь, вновь читая про тайпинов, он утвердился в мысли: именно так и есть! Коммунистические идеалы не могут быть реализованы, не будучи дополнены христианской верой. Например, православием. Да и чем же еще в России их дополнять, как не православием? Мы же русские люди…
Загоревшись этой идей, он пошел в Свято-Воскресенский храм, где, поймав отца Игнатия, начал его расспрашивать о родстве православия и коммунизма.
– Ведь христианские ценности – они, можно сказать, коммунистические! – с жаром говорил Сормов.
– Ну, в каком-то смысле – наверное… – мягко, желая поскорее отвязаться от очередного странного визитера, отвечал отец Игнатий.
– Ведь «Моральный кодекс строителя коммунизма» – это те же десять заповедей!
– Ну, да… Отчасти.
– Так вот и выходит, что коммунистический идеал и православие прекрасно совмещаются! – восторженно резюмировал Сормов.
– Ну, может быть… – нехотя отвечал отец Игнатий, явственно тяготясь очередным безтолковым разговором.
Но большего Сормову и не требовалось. Он окончательно утвердился в своей новой великой идее и стал регулярно ходить на службы, изучая купленный в иконной лавке томик «Закона Божия» и некоторые книги святых отцов. Противоречий с коммунистической доктриной там было немало, но он был слишком увлечен своим новым идеалом, чтобы их заметить. И в 2002 году поступил на Пастырские курсы, собираясь стать священнослужителем и миссионером в Китае.
* * *
Отцу Игнатию показалось, что Евсевий благоволит к двум новым «курсантам» – отставным военным. И он не ошибся. У архиерея и вправду были на них самые серьезные виды. Он давно уже размышлял о том, что сейчас, когда епархия вплотную подошла к строительству кафедрального собора, в ней следует подтянуть дисциплину и вообще навести порядок. «Покончить со всей этой дерьмократией, которую тут Евграф развел!» – как про себя формулировал задачу Евсевий. Окончательно в намерении быстро и круто завинтить гайки он утвердился после визита своих духовных чад, которые, вкупе с его келейницами, жестоко раскритиковали либеральные мангазейские нравы.
Но вот как это сделать? Организовать из какой-нибудь другой епархии десант благочестивейшего консервативного духовенства представлялось невозможным – никто сюда, в Восточную Сибирь, из Центральной России не поедет. Особенно из крепких, строгих священников. Разве отдельные исключения, да и на тех надежды мало… В любом случае, погоды они не сделают. Искать кандидатов на священнические места на месте? Но среди кого? Интеллигенция? «Боже упаси!» – всякий раз мысленно повторял Евсевий, вспоминая про этот вариант. Спортфак? Эти – как глина. В основном молодые ребята, в какую среду попадут, та их и сформирует. А среда была не та… И внезапно архиерея осенило: идеальный вариант – отставные военные! Уже сформировавшиеся люди, причем сформировавшиеся безо всякой примеси гнилого либерализма, приученные к дисциплине и четкому исполнению приказов. Да, это скорее офицеры, чем попы, но для наведения порядка, по мнению архиерея, они вполне подходили. По крайней мере, на первое время.
«Этим не нужно объяснять ни про рабочий день, когда он там закончится, ни про то, что исполнять нужно, а не обсуждать! – думал Евсевий, радуясь найденному решению кадровой проблемы. – Лучше бы, конечно, чтобы монахи, после монастыря… Но, Бог даст, все еще будет! А пока порядок нужно наводить, строгость нужна! Разболтались совсем, а сейчас, когда собор надо начинать строить – нужен порядок! Порядок! Так что, раз отцов-пустынников пока нет, пусть, значит, отцы-командиры побудут!..»
Собор, пока еще окутанный сумраком воображения, постепенно продвигался из мира архиерейских мечтаний к реальности. Совсем тонкая хронологическая грань отделяла это огромное («второе после храма Христа Спасителя!»), впечатляющее здание от здешнего мира. Совсем немного, и после расчистки территории на месте приговоренного «Ударника» оно войдет в здешнюю реальность. Сначала самым краешком – закладным камнем, который появится на дне котлована. А потом… Потом сваи, первые ряды кирпичной кладки, потом еще, еще, первые перекрытия, цокольный этаж, и выше, выше – на десятки метров в небо, туда, к покрытым нитридом титана куполам, под которыми будут висеть колокола, и благовест, конечно, тоже будет самым большим – самым большим от Урала до Камчатки!
Скоро новорожденный собор должен появиться в этом мире. И, как и младенца, принять его должны заботливые, но твердые руки. Сейчас, по мнению Евсевия, необходимо добавить твердости, дабы удержать драгоценное дитя. И теперь он был уверен: он нашел тех, кто эту твердость сможет обезпечить.
Глава 9 Мигранты и фронда
– Н-да, – с многозначительной грустью сказал Евсевий, небрежно отбрасывая от себя на столешницу лист с несколькими абзацами текста. – Еще поссорит меня с Амфилохием…
Благочинный, притащивший архиерею эту распечатку, молча ожидал владычного вердикта. Но не дождался.
– Что-то еще? – спросил Евсевий.
– Нет, Владыко! – ответил отец Василий.
Архиерей чуть кивнул головой, давая понять благочинному, что он может идти.
Распечатка, по меркам Мангазейской епархии, была необычной, даже скандальной. На дворе стояла осень 2002-го года, и в Епархиальном управлении на «ты» с Интернетом был только Шинкаренко. А уж чтобы в сети проявляли какую-то активность священнослужители – об этом и речи не было, слишком это казалось далеким, сложным и ненужным.
Однако теперь в Мангазейской епархии появился интернет-активный поп. Причем активность его становилась именно что скандальной. Неделю назад в Мангазейск прибыл новый священник, до этого служивший в кафедральном городе той епархии, в которой Евсевий, до своего епископства, был наместником в монастыре. И служил он в одном из тамошних старых соборов, имел определенный круг почитателей и считался даже интеллектуалом. И даже не вполне безосновательно: он окончил семинарию и духовную академию, а до того успел три курса проучиться на местном филфаке. Уже будучи священником, приобрел известность благодаря своей активности на интернет-форумах, где он как бы занимался миссионерством и даже завел свой простенький сайт, тоже как будто миссионерский.
И жил бы отец Евгений Панасюк в свое удовольствие, служа по расписанию и в свободное время упражняясь в проповедях на просторах всемирной паутины, если бы в 2002 году не сменился в епархии правящий архиерей. Старенький архиепископ Михаил, рукоположенный в 1992 году, к тому времени совсем состарился и ушел на покой. В последние несколько лет, по причине постоянных проблем со здоровьем, он толком не занимался епархиальными делами, и его духовенство начало входить во вкус безконтрольного, полуанархического существования. Но наконец Синод решил отправить Владыку Михаила на заслуженный отдых, и на его место из одной из западносибирских епархий прибыл новый епископ, Амфилохий, сорока с небольшим лет. Виды на дельнейшую архиерейскую карьеру у него имелись самые серьезные, а потому и планы были масштабные. К тому же вместе с ним с прежнего места службы приехало около тридцати человек – священников, диаконов и иподиаконов. Все они смотрели на новую свою епархию откровенно голодными глазами. В общем, зачистка поляны стала неизбежной.
Поскольку Панасюк служил настоятелем в одном из старейших соборов в кафедральном городе (он же областной центр), то он сразу же попал в группу риска. Вернее сказать, он был приговорен с момента прибытия нового архиерея. Отца Евгения любил небольшой кружок местной околоцерковной интеллигенции, немного знала и интеллигенция нецерковная, которой изредка попадались его заметки в местной прессе о православных праздниках, важности посещения богослужений и т. п. Что же касается клириков, то среди них он не был особо популярен. Но самое главное, имея некоторый вкус к миссионерской работе, он был вполне равнодушен к хозяйственно-экономическим делам своего прихода. В то время как другие священники искали разного рода «благодетелей», способных отсыпать денежку на реставрацию, ремонт, новый иконостас и церковную утварь, отец Евгений эти вопросы игнорировал. Здание вверенного ему собора он более-менее привел в порядок, однако иконостас был восстановлен лишь частично и где-то наполовину состоял из сколоченных «по временной схеме» фанерных листов. Икон было немного, росписи на стенах тоже не один год дожидались реставрации (и так и не дождались). В общем, храм, снаружи выглядящий еще более-менее пристойно, внутри смотрелся откровенно по-сиротски.
Наверное, если бы отцу Евгению архиерей регулярно напоминал о том, что собор надо приводить в порядок, иначе последуют различные прещения, то какую-нибудь активность он бы развил. Но старый и больной архиепископ Михаил ни его, ни других клириков не стращал, да и в самом соборе побывал за время своего архиерейства раза два или три. А Панасюк, не получая архипастырских пинков, никакой инициативы не проявлял.
Но уже на второй день после прибытия Амфилохия на кафедру панасюковская анархическая нирвана была безжалостно разрушена. Новый архиерей предпринял объезд храмов, и одним из первых навестил отца Евгения.
– Сколько здесь настоятелем служишь? – неприветливо спросил Амфилохий, оглядывая обшарпанные стены собора.
– Шесть лет, Владыко, – ответил Панасюк.
– Хочешь сказать, что это все, что ты за шесть лет сделал? – в лоб спросил его архиерей.
– Владыко… Для реставрации такого собора сложно очень найти средства, – запинаясь, отвечал отец Евгений.
– Ясно. Раз тебе сложно, найдем, кому несложно, – отрезал Амфилохий.
И через два дня последовал указ о назначении отца Евгения настоятелем в глухое село, где совсем недавно епархии было возвращено полуразрушенное здание церкви. Для Панасюка такая карьерная перспектива стало форменной катастрофой: вся его привычная, налаженная жизнь рушилась. Двух сыновей, учившихся в первом и третьем классе, пришлось бы переводить в сельскую школу (уровень преподавания в которой, равно как и культурный уровень одноклассников, сильно отличался от городского, и далеко не в лучшую сторону). И, конечно же, пришлось бы распрощаться и с устроенным бытом, и с кружком своих почитателей, и с относительно высоким доходом.
Поначалу он попробовал договориться с Амфилохием, намекнув, в частности, на возможность относительно солидного денежного подношения, если его оставят в городе – не соборным настоятелем, и вообще не настоятелем, а просто одним из священников, но в областном центре. Однако новый архиерей лишь презрительно скривился, уразумев намек. Денежные подарки от Панасюка его интересовали мало – в том числе и потому, что ему эти подарки сделали бы и без Панасюка. Амфилохий потребовал от него в недельный срок завершить все дела в городе и выехать к новому месту служения.
Сообразив, что в своей родной епархии ловить уже нечего, отец Евгений срочно созвонился с Евсевием, которого он знал еще в ту пору, когда последний был наместником Павловского монастыря.
– Благословите, Ваше Преосвященство, – немного смущенно произнес он в трубку. – Иерей Евгений Панасюк безпокоит.
– О, отец Евгений! Бог благословит! – ответил Евсевий. Судя по тону, настроение у него было благодушное.
– Ваше Преосвященство! – продолжил Панасюк. – Вы, вероятно, слышали, у нас тут архиерей сменился…
– Да, слышал, – голос мангазейского Преосвященного стал чуть более напряженным.
– Хотел попросить вашего совета… И, честно говоря, не только совета…
– Ну, рассказывай, коли так!..
И отец Евгений коротко, но весьма красочно изложил историю своих взаимоотношений с Амфилохием, не забыв сделать акцент на том, что новый епископ безпощадно уничтожает «наследие» архиепископа Михаила (которого Евсевий хорошо знал и уважал).
Мангазейский архиерей молча, хотя и не слишком внимательно, слушал жалобные излияния Панасюка. Обстановка в тамошней епархии ему была хорошо известна. Знал он и о том, что Амфилохий устроил порядочную встряску местному духовенству, и о том, что такая встряска там была, может, и не совсем лишней. И уж конечно, о хозяйственной инертности отца Евгения он тоже был прекрасно осведомлен. Но дело было не в этом. Очевидно, что Панасюк сейчас приперт к стенке и позвонил, потому что хочет перебраться к нему в епархию, рассчитывая устроиться в Мангазейске в качестве этакого светоча богословия и вообще главного интеллектуала. Что ж, а почему бы и нет? Пока что единственный священнослужитель в Мангазейской епархии, окончивший очно и духовную академию, и семинарию – это он, Евсевий. У всех остальных, в лучшем случае, незавершенное обучение на заочном секторе, в худшем – Пастырские курсы. Мягко говоря, уровень духовного образования невысок… А самое главное, попов не хватает катастрофически. Правда, Панасюк – персонаж своеобразный, да и слухи о нем ходили довольно настораживающие… Но с другой стороны, если держать его под присмотром, то все, может, и будет хорошо. В конце концов, почему бы не дать ему шанс?
Это было в духе Евсевия: он старался дать любому человеку возможность попробовать свои силы – на монастырском ли послушании, или в каком-то ином церковном служении. И вот теперь отец Евгений хочет служить у него в епархии. Что ж, пусть попробует.
– Ясно, – сказал Евсевий, когда Панасюк, наконец, закончил живописать чудовищные деяния Амфилохия. – Пиши прошение о переводе, а я завтра дам телеграмму, чтобы выслали твое личное дело.
– Спаси Господи! Спаси Господи, Владыко святый! – сбивчиво ответил отец Евгений.
На следующий день из Мангазейской епархии пришла обещанная телеграмма. Амфилохий не стал чинить препятствий Панасюку и в тот же день подписал ему отпускную грамоту. Похоже, он был даже рад избавиться от лишнего клирика таким способом.
Через две недели отец Евгений, вместе со всей своей семьей, поездом прибыл в Мангазейск. Здесь ему сразу же выделили отдельную квартиру, арендованную епархией, и назначили в клир кафедрального Свято-Воскресенского храма. В общем, приняли со всем возможным комфортом, а с учетом весьма ласковой беседы с Евсевием – даже и с почетом.
И вот, спустя неделю с небольшим, на интернет-форуме того города, откуда отец Евгений благополучно мигрировал в Мангазейск, появилась его заметка. «Новая команда, прибывшая с епископом Амфилохием, проехалась по епархии как каток, – не сдерживаясь в выражениях, расписывал Панасюк. – В нашем городе Амфилохий устроил подлинный погром, изгоняя из храмов старых и заслуженных священников и заменяя их своими юными выдвиженцами».
Запись немедленно обросла комментариями – большинство из которых, надо заметить, были сочувственными. (Хотя некоторые сетевые язвы не преминули спросить, не себя ли, любимого, он подразумевал под «старыми и заслуженными».)
Новый клирик Мангазейской епархии начал публично полоскать своего старого архиерея очень некстати. Но это еще полбеды. Вторая половина заключалась в том, что там же, на форуме, Панасюк нахваливал Евсевия, а про Мангазейскую епархию коротко написал, что ему «здесь нравится».
Выходило уже совсем нехорошо. Получалось явное противопоставление Евсевия Амфилохию. И поди потом докажи, что Панасюк это все сам учудил, а не по наущению своего нового Владыки… А сейчас и других проблем хватало. Во-первых, как и ожидал Евсевий, весть о выделении земли под строительство собора стала сигнальным выстрелом, после которого началось информационное наступление местной антицерковной оппозиции. Во-вторых, Шинкаренко, как назло, стал давать в «Православном Мангазейске» один материал взрывоопаснее другого. И с первым, и со вторым нужно было что-то делать. Причем со вторым – немедленно.
* * *
Недоброжелатели у Евсевия – как во властных коридорах, так и в среде местной творческой интеллигенции – появились буквально через несколько месяцев после его прибытия в Мангазейск. И, парадоксальным образом, случилось это из-за его предшественника, Владыки Евграфа.
Нет, Евграф, более-менее успешно осваивавшийся в Вене, отнюдь не плел интриги против своего преемника, придерживаясь в отношении него строгого и благожелательного нейтралитета. Причина была в другом: с самого первого шага, сделанного на мангазейской земле, Евсевий был обречен на постоянные сравнения с Евграфом. С точки зрения местных властей и местной интеллигенции сравнение это было явно не в его пользу.
Областная администрация процентов так на девяносто с лишним состояла из старой советской гвардии. То есть в большом кирпичеподобном сером здании администрации в центре Мангазейска сидели те же самые люди, которые сидели в нем и тогда, когда оно было обкомом КПСС. Одним из этих людей был и нынешний мангазейский губернатор, Камиль Гимазисламов. Пройденный им карьерный путь для здешней советско-партийной «головки» был стандартным. После школы он поступил на историческое отделение историко-филологического факультета в местном пединституте. Формально он должен был стать учителем истории. Однако по факту сей факультет – в исторической своей части – являлся кузницей партийных кадров, отчего почитался престижным, а его выпускники почти официально именовались идеологами. И привычной присказкой здешних преподавателей было:
– Ну вы, в большинстве своем, в школу работать не пойдете… – мол, все рассядетесь на разных партийно-административных жердочках.
С Камилем Бухаровичем так и получилось. Он прилежно впитывал в себя тот набор марксистско-ленинских пропагандистских клише и штампов, который в СССР издевательски именовался «исторической наукой», но основное свое время посвящал общественной работе. Уже в институтские годы он выдвинулся как один из комсомольских коноводов, а после выпуска благополучно продолжил карьеру в ВЛКСМ, откуда перекочевал в мангазейский горком. В конце 1980-х годов волна перестроечных преобразований вытолкнула его наверх, и в качестве «молодого, современного, демократичного руководителя» он возглавил городской комитет КПСС. Правда, тогда же он вдрызг разругался со своим институтским однокашником и старым приятелем Геннадием Рябушкиным, который тоже был восходящей перестроечной звездой и тоже желал получить в свои руки вожделенные административные рычаги. Камилю пришлось немного подсидеть теперь уже бывшего друга, отчего тот возненавидел его самой лютой ненавистью. Поскольку на дворе стояла уже натуральная свобода прессы, то Рябушкин создал собственную независимую газету «Демократический Мангазейск», на страницах которой безпощадно клеймил туземную партократию. Надо сказать, что его обширные критические статьи попадали в цель – Геннадий со студенческой скамьи был комсомольским активистом, а потом и освобожденным партийным работником, и потому предмет своих страстных обличений знал чрезвычайно хорошо. В мае 1991 года Рябушкин окончательно порвал с КПСС и организовал в Мангазейске местное отделение Демократического союза, а в августе месяце нелегкая занесла его в Москву. В столице Геннадий оказался аккурат в канун путча и засветился там на баррикадах вблизи Белого дома. Получив, таким образом, статус всамделишного борца за демократию, он рассчитывал вернуться триумфатором в родной Мангазейск. Казалось, что настало его время: тамошний первый секретарь обкома успел в самых пылких выражениях поддержать ГКЧП, в связи с чем теперь попросился в отставку. И Рябушкин был уверен: сейчас, когда КПСС получила удар под дых, он, как главный мангазейский демократ, имеет на руках все козыри, чтобы вернуться в родную область и встать там у руля. Некоторые полунамеки, которые были им получены в Москве, окончательно утвердили его в этой мысли.
Возвратившись в Мангазейск, Рябушкин с удвоенной активностью начал бичевать в своей газете «партократию» и «мятежников». А на одном из собранных им митингов (не отличавшимся, впрочем, многолюдством) даже заявил:
– Кончилось время партийного тоталитаризма! Мятеж партократов и кэгэбэшников провалился! И теперь мы их призовем к ответу – всех! – и тут, для большей патетики, он повернулся в сторону здания обкома и обратился к его обитателям. – Слышите, вы! Вам не уйти от заслуженного возмездия! Никому! Ни старым зубрам, ни их молодым пособникам, вроде Гимазисламова!
Вскоре после сих пафосных слов митинг завершился, а его участники разбрелись по домам, но сами эти слова стали достоянием мангазейской истории. На протяжении многих лет местные придворные краеведы и журналисты по многу раз и в самых трагических тонах описывали это выступление Рябушкина, который «не остановился перед тем, чтобы призвать толпу своих погромщиков-демократов к физической расправе над Камилем Бухаровичем и членами его семьи, которым только чудом удалось спастись».
А вскоре после этого Камиля Гимазисламова Ельцин назначил губернатором Мангазейской области. Кандидатуру Рябушкина никто не рассматривал всерьез: местная номенклатура видеть его во главе региона не хотела ни при каких раскладах. А на старого секретаря обкома и его ближний круг, запачкавшихся об ГКЧП, не соглашалась Москва. В итоге сошлись на серой и потому компромиссной фигуре аппаратчика Гимазисламова. Рябушкину, однако, подсластили пилюлю, дав небольшую должностишку в Москве, куда он немедленно и с концами отбыл.
Камиль Бухарович хотя и позиционировал себя как безпартийного технократа, благополучно сохранил (чтобы не сказать – законсервировал) весь старый советский управленческий кадр. И даже молодое пополнение, приходившее в областную администрацию, в большинстве случаев прибывало все с того же исторического факультета мангазейского педагогического вуза. В результате структура местной власти напоминала что-то среднее между клубом ветеранов КПСС и кружком однокашников Гимазисламова, вокруг которых вились юные подмастерья, воспитанные теми же самыми профессорами и доцентами, что и сам губернатор.
Среди этих наставников молодежи самым влиятельным был проректор по науке мангазейского педагогического университета, доктор исторических наук Михаил Васильевич Александров. Он был лично знаком со всем первым эшелоном областной власти, причем многие представители оного эшелона (включая и Гимазисламова) прошли в свое время через его археологическую экспедицию и относились к нему с чуть ли не сыновним почтением. Поэтому к губернатору он мог прийти на прием без дополнительного согласования, а его авторитета хватало даже и для того, чтобы по мелочи интриговать во властных коридорах Мангазейска. Причем последнее с недавних пор стало для Михаила Васильевича весьма важно.
Почему важно? Все дело в том, что в своих научных штудиях он уже давно достиг потолка. Открытое им поселение эпохи позднего палеолита за двадцать пять лет исследований было описано вдоль и поперек, и никаких научных сенсаций тут явно не предвиделось. Конечно, можно было бы на том и успокоиться, довольствуясь имеющимся статусом и важно раздувая бородатые щеки (как и полагается археологу, Александров был бородат) на открытии очередной «межрегиональной» научно-практической конференции. Но Михаилу Васильевичу этого было мало. Его безпокойное сердце и сумеречный разум манили широкие горизонты. А обрести их в Мангазейске он мог только в одной сфере – сфере общественно-политической деятельности.
Этим-то и объяснялся неуемный зуд деятельности, который охватил седовласого профессора в последние годы. Он просыпался в ночи с мыслью, что множество достойнейших людей, живших в Мангазейске, ныне незаслуженно забыто. И утром начиналась кампания за установку памятных досок. Затем на Александрова находило озарение, что для развития Мангазейской области нужно провести межэтническую конференцию, а на конференции – принять резолюцию. И начиналась подготовка к конференции. А после Михаилу Васильевичу приходило на ум, что срочно необходимо подписать какую-нибудь декларацию. И так постоянно, в режиме нон-стоп.
Владыка Евграф, успевший до своей архиерейской хиротонии послужить белым священником в Мангазейске, очень хорошо понимал нравы местной верхушки – что властной, что, с позволения сказать, интеллектуальной. И быстро подобрал ключик и к тем, и к другим. Сделать это было не так уж сложно. Во-первых, на Евграфа работал его статус советского аристократа: тот факт, что он был сыном генерала КГБ и в свое время окончил МГИМО, вызывал почтение у всего мангазейского истеблишмента. Во-вторых, интеллигентская среда была Евграфу близка и понятна, и он сразу же догадался, на какие кнопочки нужно нажать, чтобы снискать расположение профессора Александрова. Тот просто благоговел перед человеком, закончившим в свое время МГИМО. И даже тот факт, что после этого он стал епископом – а это в глазах вскормленного на диамате Александрова было чем-то средним между психическим расстройством и моральной деградацией – не мог этого благоговения вытравить. Со своей стороны, Евграф старался всячески подчеркнуть свое уважение к Александрову: частенько сам заезжал к нему в вуз, подолгу с ним беседовал и почти никогда не спорил. Михаилу Васильевичу это льстило чрезвычайно, и очень скоро он впал в состояние платонической влюбленности в Евграфа. Настолько, что даже написал в его честь белый стих, предварив его словами: «Посвящается епископу Евграфу, мною уважаемому, закончившему когда-то МГИМО». И даже принял участие в установке нескольких поклонных крестов. (Вообще Александрову были свойственны резкие перепады настроения, о чем хорошо знали его студенты, ученики, коллеги и врачи из местной психбольницы, где он инкогнито проводил до полутора месяцев в году.)
И вот в Мангазейск прибыл Евсевий. В глазах и Михаила Васильевича, и Камиля Бухаровича – в общем, лучших людей города по официальной версии – он был изначально куда менее интересным персонажем, чем его предшественник. Родился в деревенской семье, а не в номенклатурной (фи!), учился только в духовных школах, а не в престижных советских вузах (еще раз фи!). Чтобы завоевать то уважение, которым пользовался ранее Евграф, ему нужно было приложить очень серьезные усилия: регулярно встречаться с вышеназванными лучшими людьми, всячески их словесно ублажать и с ними советоваться. Но Евсевий, большую часть своей сознательной жизни проведший в монастырях, своим новым общественным статусом был поначалу почти травмирован. От него постоянно требовалась публичная активность, он же стремился скрыться от всего мирского. И даже на очень важные, обязательные встречи старался лишний раз не приезжать. Что же касается встреч менее важных – с тем же Александровым, – то их он просто игнорировал.
В результате Михаил Васильевич на него не на шутку осерчал. Что этот деревенский мракобес о себе возомнил! Он, известный и уважаемый ученый, готов с ним общаться – а тот не приезжает! Не встречается! Не выражает почтения! «Евграф был другой!» – с презрительной горечью отзывался о новом епископе Александров. Вскоре эта позиция стала общей для всей нецерковной мангазейской интеллигенции. Но это было еще полбеды.
Вторая половина появилась тогда, когда этот самый мракобесный деревенский выскочка заявил, что собирается строить в Мангазейске собор. Причем не на окраине или за городом, с чем Александров и иже с ним еще готовы были бы смириться, а в самом центре города. На худой конец – на месте стадиона «Ударник». Это показалось уже очевидной наглостью и Михаилу Васильевичу, и его сановным воспитанникам.
В свое время Александров состоял в компартии, но рьяным коммунистом не был никогда. И после того как КПСС рухнула, он легко и непринужденно сдал партбилет и о своей былой партийной принадлежности никогда не вспоминал. Однако воззрения на социальные отношения в целом и на место Церкви в социуме у него оставались не просто марксистскими, но кондово советскими. (Хотя сам он так не считал, полагая, что просто является сторонником светского общества.) Александров думал, что советская власть вела правильную политику в отношении Церкви (хотя временами, конечно, и случались эксцессы). Религию он рассматривал как «предрассудок», «пережиток» и «пустоцвет», а церковную среду – как сообщество отсталых людей, которые к тому же заражают своим суеверием окружающих. Исходя из столь незамысловатой картины мира, всякую, даже самую законную и давно назревшую уступку в отношении Церкви, он считал подарком, незаслуженно доставшимся этим суеверным дикарям благодеянием, а такие понятия, как реституция или церковно-государственное сотрудничество, почитал величайшей ересью.
Соответственно Александров рассматривал и решение о передаче «Ударника» под строительство нового кафедрального собора. Он не видел в этом ни восстановления исторической справедливости, ни банального возмещения ущерба (в Мангазейске по-прежнему храмов было в несколько раз меньше, чем до коммунистических гонений). И уж тем более не желал учитывать интересы епархии, постоянно указывавшей на то, что Мангазейск – это едва ли не единственный кафедральный город в России, где нет своего собора. С точки зрения Михаила Васильевича вся эта затея была натуральным подарком, который власть от щедрот своих делает Церкви. И кому! Не полюбившемуся ему Евграфу, «закончившему когда-то МГИМО», а какому-то деревенскому мракобесу! Который, к тому же, такой наглец, что его, выдающегося ученого, ум, честь и совесть мангазейского микрокосма, совсем не уважает! В общем, антиклерикальный джихад был неизбежен.
Успеху оного джихада (и это Александров рассчитал точно) способствовало то, что в Областной администрации, а равно и в Думе, было немало людей, недовольных грядущей соборной стройкой. И это добавляло Михаилу Васильевичу уверенности. А в информационном пространстве у него наметился еще один верный союзник – Марат Яковлевич Козлобесов, директор мангазейского «Дворца искусств».
Марат Яковлевич происходил из интеллигентной советской семьи: его отец был врачом с впечатляющей трудовой биографией. В частности, именно Яков Козлобесов во время взрыва старого кафедрального собора в Мангазейске в 1936 году отвечал за безопасность подрывников. Что же до Марата Яковлевича, то он в юности окончил театральное училище, какое-то время помыкался по провинциальным драмтеатрам от Камчатки до Иркутска, а потом сумел перескочить в мангазейский партаппарат, где и заведовал разного рода культурной работой. В разгар перестройки он начал позиционировать себя как человека широких взглядов, который не боится новаторства и смелых решений в искусстве. Так, в 1990 году он опубликовал в литературном альманахе «Сибирские зори» острокритический рассказ «Космическое дерьмо» в жанре научной фантастики. В 1990-е годы его карьера развивалась вполне успешно, а венцом ее стало окончание строительства «Дворца искусств». Это был удивительно уродливый дом даже по меркам позднего СССР, когда его и начали строить – и один из самых знаменитых мангазейских долгостроев. В 2001-м году этот «дворец», наконец, распахнул свои двери, а его директором стал Козлобесов, получивший возможность реализовывать здесь свои потаенные творческие фантазии. В частности, во «Дворце искусств» нашел приют авангардный театр «Парадокс», не менее десяти раз в году ставивший на своих подмостках «Космическое дерьмо» (козлобесовский рассказ для этого специально переработали в пьесу). Здесь же издавалась газета «Литературка». Редактором ее стал сам Марат Яковлевич, и очень скоро это издание уверенно заняло самую желтую нишу на региональном рынке печатной продукции. Сенсационными расследованиями и светской хроникой «Литературка» своих читателей не баловала (Козлобесов был достаточно сообразителен для того, чтобы не ссориться ни с официальной властью, ни с уголовными авторитетами). Газета выезжала в основном на конкурсах фото в купальниках, подборках анекдотов и статьях про нелегкую личную жизнь подростков. Несмотря на такое содержание – а вернее, благодаря ему, – «Литературка» пользовалась немалой популярностью. И это, конечно, ее главреда радовало. Но Козлобесову хотелось большего. Настоящего скандала! Настоящих разоблачений! Однако ничего такого он себе позволить не мог, так как боялся получить по шапке.
И тут на горизонте возникла история с кафедральным собором. Прекрасная мишень для атаки. С одной стороны, тема более чем острая. Еще бы! Ведь речь о религии и Церкви! С другой стороны, по шапке за это гарантированно не надают. (По крайней мере, не надают так, как могли бы надавать губернатор или иные «серьезные люди».) И, кроме того, Марат Яковлевич всю жизнь был не просто атеистом, но воинствующим атеистом, ненавидевшим все «божественное» до скрежета зубовного. Поэтому атаку на Мангазейскую епархию он рассматривал не только как отличный способ добавить перцу в газетные материалы, но еще и как выполнение некоего общественного долга. В общем, получалось двойное удовольствие.
В результате сложения всех этих факторов Евсевий столкнулся с весьма неприятной ситуацией. Каждый номер «Литературки» выходил с огромной карикатурой на местное православное духовенство, которая помещалась на первой полосе, и с парой-тройкой статей на тему того, что клерикалы отбирают у бедных детишек стадион. Один-два раза в месяц на радио или телевидении появлялся Александров, упрекавший епархию в нежелании вести конструктивный диалог и по многу раз повторявший фразу «светское государство», а иногда даже говоривший: «Доколе?!» Что же до губернатора и его окружения, то официально они поддерживали идею строительства кафедрального собора, а Гимазисламов даже стал председателем попечительского совета новоучрежденного фонда, который должен был собирать деньги на эту стройку. Однако официальная поддержка и поддержка фактическая – это очень разные вещи, и Евсевий это прекрасно понимал. Само собой, когда на федеральном уровне началось сближение Кремля и Патриархии, Гимазисламов не мог просто взять и захлопнуть дверь у самого архиерейского лица. Так или иначе, а сотрудничать с епархией он был обречен. Но также было ясно, что к мнению своего старого учителя – Александрова – он склонен прислушиваться. Такую же склонность имели и многие люди из его окружения. Внутренне они скорее были против наметившегося большого строительства, чем за.
А это уже было чревато серьезными проблемами. Евсевий, конечно, в первую очередь рассчитывал на финансовую помощь благотворителей из других регионов, а также от некоторых структур и организаций федерального уровня (например, от железнодорожников). Но собрать деньги на новый собор без помощи областной власти и местного бизнеса нереально. А значит, нужно как-то налаживать не просто нейтральные, но хотя бы минимально доброжелательные отношения.
Поэтому упрямство Шинкаренко чем дальше, тем больше раздражало архиерея.
* * *
Пятого ноября, в половине первого, Александр Сергеевич Шинкаренко, как и всегда, распахнул дверь в трапезную. Он почти всегда приходил в это время пообедать, и теперь, по обыкновению, направился к отдельно стоящему столу. Стол это был особый: за ним вкушали пищу священники, а также Сергеич – как особо доверенный и привилегированный мирянин.
– Здравствуйте, Александр Сергеич! – поприветствовал главреда «Православного Мангазейска» Федя, копошившийся вокруг какой-то огромной пачки у печи.
– Здравствуйте, – доброжелательно и чуть иронично ответил Шинкаренко. Настроение у него было благодушное. На четвертое ноября, на Казанскую, архиерей запланировал большую службу с последующим крестным ходом по улицам города. По этой причине очередной номер «Православного Мангазейска» с подборкой тематических материалов по истории праздника нужно было сделать именно к этой дате. Как всегда, Шинкаренко оттягивал начало работы до самого последнего момента, заверстывал номер в ночь с третьего на четвертое, долго и занудно договаривался с типографскими работниками о том, чтобы напечатали побыстрее, и в конце концов договорился. Потом, в восемь утра четвертого числа, опухший от безсонницы и выпитого в часы ночной работы пива, доставил свежеотпечатанные пачки «Православного Мангазейска» в епархию и отправился домой – спать. (Право на неофициальный выходной день после сдачи номера также было одной из его привилегий.)
Пятого числа он, как всегда, с утра пришел на работу. Благочинный с Натальей Юрьевной уехали куда-то по делам, архиерея тоже на месте не было. Никакой особой работы не имелось, по причине чего Александр Сергеевич до половины первого читал новости на разных сайтах в инете, а потом отправился обедать.
– Счас-счас! – торопливо ответил Федя, уловив своей сутулой спиной, обернутой в синий рабочий халат, вопросительный взгляд Шинкаренко.
– Стой! – вдруг коротко сказал Сергеич. – Что это там у тебя?
– Это? Это газета, – ответил Федя.
– Какая газета?
– Наша газета… Последний номер. Владыка благословил сжечь…
Шинкаренко поднялся из-за стола и с ничего не выражающим лицом, походкой каменного гостя, подошел к печке. Там действительно лежало несколько неразрезанных типографских пачек «Православного Мангазейска» и одна вскрытая, которую Федя старательно пропихивал в печные недра.
– Владыка-а благословил! – снова, уже с надрывом, повторил Федя. Заметив, что его визави начал входить в образ юродивого, Шинкаренко молча вернулся за стол и, не говоря ни слова, отобедал. Потом вышел на крыльцо и закурил сигарету. Происходящее ему не нравилось совершенно. Дело было даже не в ночных трудах, переговорах с типографией и утренней беготне с газетными пачками. Хотя это, конечно, тоже было неприятно… Но, в конце концов, это его работа. Проблема заключалась в другом. Этот номер был уже вторым за последние три недели, который архиерей распорядился отправить в печь. И причина для этого могла быть только одна: очередной выпуск газеты опять показался Евсевию политически неблагонадежным.
Сергеич вздохнул. Он работал в Епархиальном управлении со времен Пахомия – то есть с тех времен, когда все храмы Мангазейской епархии можно было пересчитать по пальцам одной руки. Нельзя сказать, что у него никогда не возникало проблем с Пахомием или Евграфом – нет, какие-то трения, конечно, случались. Но редактируемую им газету раньше никогда в печку не отправляли. Шинкаренко затушил бычок о кирпичную стенку, снова вздохнул – и вдруг огромная довольная улыбка появилась на его физиономии, а в глазах вспыхнул задорный блеск. Из-за храма, в длинной темной юбке до пят, появилась Алла Герасимова. По-прежнему симпатичная, зажиточно ухоженная молодая женщина, она совсем недавно, как и договаривались, приехала в Мангазейск и теперь обживалась в местных условиях. Которые, надо сказать, чем дальше, тем больше казались ей весьма специфическими. На этом фоне Шинкаренко был этаким посланцем из мира обычных людей, ну а его неизменный стиль галантного кавалера (галантного, впрочем, только по меркам советских военных гарнизонов) делал общение с ним для Аллы еще более приятным.
Что же до Сергеича, то он от этого знакомства ничего не ждал и видов на нее никаких не имел. А радостная реакция его объяснялась тем, что он так в принципе реагировал на любую молодую женщину, которая была хоть чуть-чуть симпатичнее аллигатора.
– Привет! – все с той же улыбкой поприветствовал Аллу Шинкаренко.
– Привет! – так же непринужденно ответила она.
– Как жизнь? – задал Александр Сергеевич свой фирменный вопрос.
– Да так, слава Богу… Привыкаю вот к местным условиям.
– В каком смысле?
– В разном, – уклончиво, чуть потупив глаза, ответила Алла. – К погодным, и… не к погодным.
– Понятно.
– Непривычно немного, привыкнуть надо…
Шинкаренко довольно демонстративно хмыкнул.
– Это точно, – с явно иронией в голосе ответил он. Алла ничего не сказала, но взгляд ее выражал полное понимание.
– Сергеич! – раздался голос архиерея; Евсевий вышел из-за храма, очевидно, направляясь из квартиры в свой рабочий кабинет. – Зайди-ка ко мне!
Шинкаренко, ни слова не говоря, пошел за ним. Так же беззвучно зашел в архиерейский кабинет. Евсевий сел на свое место, но Шинкаренко садиться не предложил.
– Вот что, Сергеич… – начал Преосвященный. Говорил он спокойно, даже подчеркнуто спокойно и успокаивающе мягко. Что было верным признаком того, что раздражен он не на шутку. – Последний номер я велел сжечь, – продолжил Евсевий.
Шинкаренко молча глядел на архиерея исподлобья.
– Сергеич, мы же с тобой об этом говорили, – в том же тоне продолжил Евсевий. – Ну вот что ты там опять напечатал? Вот это: про Кремль, про власти и прочее?
– Это неправда? – спросил Шинкаренко.
Евсевий вздохнул:
– Может, и правда. Но зачем об этом так писать? Можно же мягче сказать… Аккуратнее.
– Ну так это правда или нет? – снова спросил Шинкаренко.
– Что ты все!.. – уже явно раздраженно ответил архиерей. – Я же сказал, что нельзя так, в лоб!
– Если это правда, то в чем тогда проблема?
– Да пойми ты наконец, что мы не можем сейчас так писать! И я с тобой об этом уже говорил! Мы тут такую стройку затеяли, а тут… Что ты думаешь, эти… Эти ребята за нами не следят?
Под «ребятами» Евсевий подразумевал самый широкий круг врагов – начиная от Александрова и Козлобесова и заканчивая разного рода тайными врагами, о которых писали в национал-патриотических книжках и в существование коих он свято верил. Как верил и в то, что они всегда противодействуют Церкви и, конечно же, постараются не допустить строительства кафедрального собора в Мангазейске. В целом взгляды Шинкаренко – поклонника творчества митрополита Иоанна (Снычева) и Константина Душенова – Евсевию были очень близки. Масоны, сионисты, заговор против России, еврейские козни – обо всем этом он сам был не прочь поговорить, а иногда даже и почитать. Но, однако, два идеологических пункта все сильнее разделяли епископа и редактора епархиальной газеты.
Первый пункт упирался в отношение к нынешнему президенту РФ. Евсевий всегда исходил из того, что Патриарх все знает и понимает гораздо лучше, чем он. И потому ему, Евсевию, следует держаться той позиции, которую оглашает Патриарх. А Патриарх выражал всяческую поддержку недавно избранному главе государства, и уже становилось ясно, что это – взаимно. Поэтому Евсевий утвердился в мысли, что во главе России наконец-то, после лихолетья 1990-х, оказался православный президент.
Шинкаренко же держался строго противоположного мнения.
Вторым пунктом стало отношение к политической и догматической позиции Чистого переулка. Для Евсевия все, что выходило за патриаршей подписью, было столь же авторитетно, как и постановления семи Вселенских Соборов. А Шинкаренко очень жестко отзывался об экуменической позиции Московской Патриархии и вообще скептически относился ко многим постоянным членам Священного Синода. Довольно критично он оценивал и деятельность Алексия II.
Поскольку до недавнего времени «Православный Мангазейск» находился в полном распоряжении Александра Сергеевича, он, наряду с материалами официального порядка, новостными сообщениями о церковной жизни и статьями сугубо религиозной тематики, в каждом номере отводил место для заметок национал-патриотического содержания, которые обыкновенно брал на соответствующих сайтах. Нельзя сказать, чтобы их было много, но, однако же, в каждом номере епархиальной газеты доставалось то Кремлю, то экуменистам, а иногда там появлялось какое-нибудь письмо против ИНН или, например, против вакцинации.
Пока не нужно было выстраивать дружественные отношения с региональной властью, Евсевий не слишком волновался из-за самодеятельности главреда. Более того, она ему даже нравилась. Однако теперь он с ней смириться не мог. Противники строительства кафедрального собора уже пару раз прошлись в своих статьях по «Православному Мангазейску», являющемуся «единственным изданием в области, ведущим неприкрытую националистическую пропаганду».
И вот сейчас Евсевий смотрел на Шинкаренко. А Шинкаренко продолжал смотреть на него.
– Ну, что скажешь? – спросил архиерей. – Между прочим, уже второй номер жжем. А это, кстати говоря, денежка, и довольно приличная.
– Если… – Сергеич сделал паузу, выдохнул воздух и продолжил: – Если мы пишем правду, то стесняться нечего. Меня, например, радует, что они все взвыли.
– Радует? – переспросил Евсевий. – Ты хоть понимаешь, какие ты нам всем проблемы создаешь?
– Нет, – ответил Шинкаренко. – Мы все делаем в рамках действующего законодательства. Информацию не искажаем. Какие к нам могут быть претензии?
– Опять двадцать пять, – тихо проговорил Евсевий. – Пойми, наконец, что ты меня со всеми – и с властями, и с этими… – тут он запнулся, пытаясь подобрать слово, которым можно было бы охарактеризовать недоброжелателей из числа интеллигенции, – ты меня со всеми с ними поссоришь. И как мы тогда собор будем строить?
– И что теперь, молчать?
Шинкаренко прекрасно понимал, чего от него хочет Преосвященный. Но от своих позиций он отказываться не собирался, и сейчас с ним случилось то, что его знакомые называли: «Сергеич уперся рогом». Упрямство было одной из характернейших черт Шинкаренко, и он впадал в него, как в транс. И тогда он уже ни на что не обращал внимания и стоял на своем с непоколебимостью сломавшегося в степи бульдозера. Вывести его из этого состояния было крайне трудно.
«Ну, это уже перебор! – мысленно отметил Евсевий. – Не весь же век мне его уговаривать. В конце концов, я же все-таки архиерей!» И вслух добавил:
– Ну хватит! Ты больше не редактор.
Шинкаренко продолжал молчать, все так же глядя исподлобья.
– Что-то еще? – спросил Евсевий, давая понять, что разговор окончен.
– У меня – нет.
– Тогда иди. И скажи отцу Евгению, пусть зайдет. Панасюку.
Через полчаса отец Евгений был в кабинете у архиерея. Евсевий также позвал благочинного и Шинкаренко и, когда все они собрались, объявил:
– Значит, так. Я принял решение, и с сегодняшнего дня редактором «Православного Мангазейска» назначается отец Евгений.
– Благословите, – тихо, почти не раскрывая губ, сказал Панасюк. Евсевий кивнул головой и продолжил:
– Ты, Александр Сергеевич, продолжаешь исполнять все остальные свои обязанности. Ну и там все, что касается технической стороны по газете – это тоже на тебе остается.
Шинкаренко молчал; внешне он казался совершенно безучастным.
– Понял? – спросил его Евсевий.
– Да, – по-прежнему безэмоционально ответил Шинкаренко.
– Значит, я скажу так, – продолжил Преосвященный, обращаясь уже ко всем. – Газета наша должна быть церковной. А сейчас она, у Александра Сергеевича, скорее политическая. Нам это не надо. Православная газета – она должна быть православной. Наставлять людей, научать их, а не страсти разжигать. И уж тем более не идти поперек воли священноначалия. Патриарх у нас не еретик! – тут архиерей чуть повысил тон.
Шинкаренко продолжал сидеть молча, однако в уме у него все время крутилась одна мысль: «Если бы древние христиане считали, что Патриарх не может быть еретиком, то мы бы сейчас, наверное, были арианами…»
– Вот такая перед тобой задача, отец Евгений, – завершил Евсевий. – Вопросы есть?
На несколько секунд в кабинете повисла звонкая тишина.
– Нет, Владыка святый! – за всех ответил благочинный.
– Ну, ступайте тогда! – закончил совещание архиерей.
* * *
– Вот тут будешь жить! Как в келье! – не переставая, тараторила Варвара, показывая Алле Герасимовой ее новое место обитания. Алла вежливо улыбалась и так же вежливо кивала головой.
– Самое хорошее место! – продолжала Варвара. – И никто тебя здесь не побезпокоит лишний раз, и храм рядом, и Владыка рядом! Ну прямо как игуменья!
Тут Варвара позволила себе даже легкий смешок, а неизменно сопровождавшая ее монахиня Павла тихо заулыбалась. Из вежливости чуть-чуть посмеялась и Алла, однако происходящее ее не особо радовало.
Идея с временным переселением в Мангазейск не вызывала у нее особого восторга, но, однако же, не вызывала и отторжения. Дальнейший жизненный путь ей виделся не то что туманным – она не видела его вообще. Отношения с мужем не восстанавливались и судя по тем слухам, что до нее доходили, восстановиться не могли, ибо ее место при нем давным-давно не было вакантным. Да и ее отец был категорически против их воссоединения и даже не допускал мысли о том, чтобы его внук жил под одной крышей с его бывшим зятем-уголовником. И не только с зятем: родной дочери он также открытым текстом заявил, что воспитанием внука намерен заниматься сам и ее к этому процессу подпускать не планирует. В итоге из всех смыслов жизни у нее осталась только бутылка с виски или коньяком… Нужно было найти какой-то выход, и поездка к Владыке Евсевию, в порядке своего рода духовной реабилитации, казалась не самым худшим вариантом.
Сразу после прибытия все развивалось так, как Алла себе это и представляла. Архиерей принял ее очень приветливо, долго и внимательно расспрашивал о ее жизни и предложил, если она того захочет, исповедоваться у него. Она, разумеется, с радостью согласилась. Было, конечно, и небольшое застолье – очень скромное по официальным патриархийным меркам, но зато очень непринужденное, что называется, душевное. В общем, все это было похоже на те многочисленные визиты в монастыри, к которым Алла привыкла еще с детства.
На несколько дней, временно, ее поселили с архиерейскими келейницами – матушками, как их все называли. А вот теперь, как и было обещано Преосвященным, подобрали ей постоянное место проживания.
И место это Аллу никак не восхитило.
То, что Варвара сравнивала с покоями игуменьи, было в действительности небольшим домиком, практически сараем, построенным рядом со Свято-Воскресенским храмом еще в сороковые годы. Единственным капитальным сооружением в этом домике была большая беленая печь. Никаких других удобств тут не было, кроме пружинной кровати в углу да простенького рукомойника, который в порядке наведения уюта велели притащить сюда матушки.
Нельзя сказать, чтобы Алла была очень уж привередливой девушкой. Ей приходилось ночевать раз-другой и в палатках, и на полу, и это ее никогда не смущало. Доводилось ей останавливаться и в монастырях, в самых простеньких номерах в гостиницах для паломников, или в скромных, действительно монашеских, кельях. Однако все эти ситуации были кратковременными, заранее запланированными, и потому они воспринимались просто и легко, как небольшое приключение или маленький духовный подвиг.
Но на этот раз, похоже, в этом сарайчике ей предстояло жить неопределенно долгое время. Она, конечно, не рассчитывала на люксовый номер, но все же предполагала, что у нее будут туалет, душ и центральное отопление. Но все оказалось несколько аскетичнее… А впрочем, она ехала не в санаторий. Как знать, может, действительно, именно это и нужно для ее духовного и душевного выздоровления? Ведь Владыка всю жизнь прожил в монастырях, известный и опытный духовник. Наверное, он знает, что делает… Ну, а ей нужно просто смиряться!
– Хорошо! – весело ответила Алла, когда Варварин словесный поток на пару секунд пресекся.
– Вот поживешь тут, как в монастыре, может, и сама в монастырь захочешь, – добавила Павла. (Что-то в этом роде она говорила практически всем своим собеседникам.)
– Мне еще сына вырастить надо! – ответила Алла все в том же веселом тоне.
– Ну, ты тут обустраивайся и приходи на службу! – сказала Варвара. – Если что, то всегда к нам обращайся, на телефон звони. Или вот Зинаиду спрашивай.
Архиерейских келейниц сопровождала еще одна женщина – Зинаида Юрьевна Шаблыкова. Все время разговора она молчала и сейчас произнесла лишь одно слово:
– Благословите.
Вроде получилось очень благочестиво. Однако Алле она сразу не понравилась. И в этом «благословите», и во всем облике этой самой Зинаиды было что-то изломанно-искусственное, ненастоящее, что-то, что отталкивало резко и сразу – примерно так, как отбрасывает от оголенного провода под высоким напряжением. Внешне все выглядит очень, просто эталонно благообразно. Но за всем этим смирением и скромностью ощущалось что-то другое, гнилостное, даже развратное. У Аллы в голове мгновенно вспыхнула ассоциация: в свое время, еще до замужества, в годы ее безбашенной студенческой молодости был у нее один знакомый – девятнадцатилетний бисексуал, подрабатывавший проституцией и мечтавший о карьере порноактера. Видеть его, так сказать, в деле Алле не приходилось. Но при этом в памяти очень четко отпечаталось то липкое, мерзкое чувство, которое этот персонаж вызывал. И в его словах, и в манере одеваться, и во всех его жестах не было «ничего такого» – но при этом находиться рядом с ним, слышать и видеть его было противно просто физиологически. Рационально это чувство объяснить себе было невозможно, и Алла даже сердилась на себя из-за излишней брезгливости (ибо сей бисексуал считался «классным» и общаться с ним было вроде как «прикольно»). Но ничего не могла поделать – как только этот «классный» персонаж появлялся в зоне видимости, к горлу подкатывал тошнотный комок.
И вот теперь, услышав Зинаидино «благословите», она испытала те же самые ощущения.
«Эта Зинаида не из какой-нибудь свингерской тусовки часом?» – подумала Алла и тут же отогнала эту мысль. Какое, в самом деле… Просто очередная девочка, ищущая утешения в Церкви и прибившаяся к матушкам. Очень может быть, действительно несчастная. Про постриг все время говорит (часами может с Павлой об этом рассуждать), о монастыре мечтает.
И Алла сказала себе, что плохо думать о ней – грех.
* * *
Зинаида Юрьевна появилась в окружении архиерейских келейниц сравнительно недавно, где-то за полтора месяца до встречи с Аллой. То есть тогда, когда это окружение начало формироваться.
Варвара и Павла входили в число самых близких к Евсевию людей. У них в прошлом был общий духовный отец, которого многие почитали как старца, и обе монахини знали архиерея уже очень давно – с тех самых пор, когда они сами были еще совсем юными послушницами, а он – всего лишь иеромонахом, недавно переведенным из московского Данилова монастыря. Естественно, столь долгое знакомство и почти ежедневное общение на протяжении многих лет сделало Варвару и Павлу в эмоциональном плане одними из самых близких ему людей. Однако при этом архиерей всегда выдерживал определенную дистанцию, не допуская излишне «семейного» к себе отношения.
Кроме того, вскоре после прибытия в Мангазейск ему пришлось обозначить дистанцию и в иной сфере. Варвара, успевшая войти в курс всех местных сплетен, стала громко возмущаться действиями отца Игнатия, которого «непонятно вообще как рукоположили». Но Евсевий слушать ее не стал.
– У тебя твои кастрюли, сковородки, щетки, швабры есть? – оборвал он Варвару неожиданным вопросом.
– Есть, – слегка опешив, ответила она.
– Ну вот ими и занимайся. А управление епархией – это моя забота.
После этого Варвара замолчала, всецело посвятив себя стряпне, уборкам и цветам. Но ближе к Успению снова начала невзначай давать архиерею советы – по разным мелким вопросам. А Евсевий, успевший за это время освоиться в новом, епископском, качестве, на подобные поползновения реагировал уже более спокойно и, как казалось Варваре, благодушно. Что утвердило ее в мысли о том, что она на правильном пути. Наконец, решающий перелом был достигнут во время праздничной трапезы на приходе отца Аркадия Ковалишина, когда Преосвященный с молчаливым одобрением выслушал все ее замечания. После этого стало понятно: запрет на влезание в епархиальные дела негласно снят.
Не стоит, впрочем, думать, что мать Варвара составила в своей голове некий заговор с целью постепенного присвоения себе властных рычагов. Ничего подобного не было. И быть не могло, потому что для такого рода заговоров ее голова была слишком просто устроена. Суть же происходящего процесса коренилась как раз в этой простоте: Варвара была неспособна увидеть, где заканчиваются кухонно-бытовые вопросы и начинаются какие-то другие, более сложные. На епархию она смотрела так же, как на монастырь. И если в монастырском хозяйстве, по вполне естественным причинам, ее голос был до известной меры уместен, то столь же уместным ей казалось влезать в различные дела уже в епархиальном масштабе. К тому же она полагала, что у нее было нечто вроде миссии.
– Слишком добрый Владыка, ой, слишком добрый! – не раз делилась она своими опасениями с Павлой. – А они и пользуются! Накрутят еще чего за его спиной!
Кого Варвара подразумевала под местоимением «они»? Поначалу никого конкретного. Вернее, «они» – это были все внешние, а к числу внешних, в ее глазах, относились все обитатели Мангазейска, за вычетом ее самой, Павлы, Георгия и, конечно же, архиерея. Исходя из этой картины мира, Варвара решила, что ее с Павлой миссия – оберегать Евсевия от этого коллективного и коварного «они», которое вечно хочет чего-то «накрутить».
Как-то сам собой вокруг Варвары и Павлы начал формироваться свой кружок, нечто вроде то ли женского клуба, то ли женской половины кафедрального прихода. Причины образования этого кружка были вполне естественными. Когда архиерей вышел из своего первоначального «затвора» и стал активнее общаться с различными чиновными и коммерческими тяжеловесами, количество торжественных застолий заметно увеличилось. Варваре с Павлой понадобились помощницы, потому что вдвоем они уже не успевали чистить рыбу мешками, а потом еще и делать из этой рыбы более-менее оригинальные блюда. К тому же, по обычному женскому стремлению к облагораживанию территории, они разбили множество клумб с цветами во дворе Свято-Воскресенского храма. Получилось симпатично, но времени и сил на уход за ними не оставалось. Поэтому понемногу стали привлекать прихожанок, как возрастных теток, так и сравнительно юных «православных девушек». Те с радостью откликались на просьбы о помощи, видя в этом особое благословение и возможность приобщиться к самой сердцевине церковной жизни, да и, наконец, попросту разнообразить свой круг общения.
Опробовав систему добровольных помощниц на клумбах, Варвара обратилась к Евсевию с просьбой разрешить «сестрам» помогать на кухне. Соответствующее благословение было получено, и вскоре на архиерейской кухне прочно утвердился женский клуб, безсменной председательницей которого стала монахиня Варвара. Сестры скребли рыбу, рубили овощи и говорили, говорили, говорили… Основой их безконечных бесед стали, разумеется, духовные вопросы. Но означенная основа чем дальше, тем больше играла в этих диалогах ту же роль, что и водка во многих коктейлях: она была лишь тем фундаментом и стержнем, на который наверчиваются все прочие ароматы. В данном случае от этих ароматов чем дальше, тем больше несло сплетнями и перемыванием чьих-нибудь костей в режиме нон-стоп.
Очень скоро в этом кружке возникла Зинаида Юрьевна. Как именно она появилась, никто, включая даже и самих матушек, толком не помнил. То ли она пришла на службу, а после ее попросили полить цветы, то ли и не цветы вовсе, а на кухню надо было что-то отнести – и Варвара, и Павла подробности позабыли. Зинаида вошла в импровизированный женский клуб на архиерейской кухне безшумно и незаметно, но утвердилась там немедленно и твердо. Матушки как-то сразу прониклись к ней уважением – до такой степени, что стали через раз именовать ее не Зинаидой, и Зинаидой Юрьевной (а так они обращались разве к очень статусным дамам). Природа этого пиетета оставалась своего рода тайной. То есть, с одной стороны, у него было рациональное объяснение. Шаблыкова была как бы хорошо образованна – по ее словам, она окончила мангазейский юрфак. Он работала в солидном учреждении – опять же, по ее словам, в некой фирме, естественно, юристом. И даже была обладательницей праворульной подержанной японской иномарки, что в Мангазейске считалось чем-то вроде заявки на принадлежность к среднему классу. Наконец, она умела держать себя, то есть солидно сжимала губы и одевалась не без некоторого вкуса, хотя и без особого изящества. (Непременно длинная юбка из чего-то шерстяного, кремовые кофта или свитер, полупрозрачный синтетический белый платочек – не так, чтобы очень утонченно, но по совокупности похоже скорее на женщину, чем на бабу.) Все это вместе почему-то вызывало в душе Варвары некое почтительное трепетание, а следом за Варварой начинала трепетать и Павла. Это было странно, потому что они знали многих дам, занимающих куда более солидное положение, чем Зинаида Шаблыкова, никак не менее образованных и куда более опытных. Среди духовных чад архиерея таких было немало. Да что духовные чада – даже в кухонном женсовете, который сгустился вокруг Варвары с Павлой, встречались женщины не менее примечательные (по крайней мере, по вышеперечисленным показателям), чем Зинаида. Но выделяли они именно ее.
Существовало ли логичное объяснение триумфального проникновения на архиерейскую кухню Зинаиды Юрьевны? Пожалуй, секрет успеха состоял в том, что, придя единожды, она уже пребывала там постоянно. Почти каждый день она появлялась во дворе Свято-Воскресенского храма (при этом, так уж получалось, почти всегда рядом с Евсевием, у которого очень почтительно брала благословение), стояла на службе, а потом, конечно же, шла к матушкам. Она была готова безконечно слушать рассуждения Павлы о монашестве и сама регулярно жаловалась на то, что в миру она своей судьбы уже не видит и все больше мечтает о монастыре… И очень скоро Варвара с Павлой, украдкой умиленно вздыхавшие при виде столь добродетельной и многострадальной девушки, привыкли к ней и стали воспринимать ее как свою. А поскольку обе матушки были, по светским меркам (а по правде сказать, и по церковным), не слишком образованными, то вскоре у них вошло в привычку по разным мирским вопросам консультироваться у Зинаиды Юрьевны. Которая и стала для них в одном лице воспитанницей, секретарем и адъютантом.
* * *
Шинкаренко молча смотрел на частично опустошенный пол-литровый пластиковый стакан с пивом. Пиво, кстати, было неплохое – Мангазейск славился своим пивным заводом, выпускавшим действительно годную продукцию и по вполне доступным ценам. Это неизменно радовало Александра Сергеевича, старого и закоренелого любителя пива. Все остальное, увы, радовать его не могло. На дворе стояло первое декабря. Совсем недавно начался Рождественский пост, и совсем скоро, шестого числа, должен был праздноваться зимний день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Его, Александра Шинкаренко, день Ангела. И именно сегодня в новом номере «Православного Мангазейска» вышла заметка «Почему сменили редактора?» Поскольку версткой по-прежнему занимался сам Шинкаренко, то, ко всему прочему, ему лично пришлось заверстывать этот материал, и не куда-нибудь, а на первую полосу.
– Обязательно на первую полосу, – наставническим тоном указал ему Панасюк, с наслаждением исполнявший свои обязанности главреда. Шинкаренко поднял на него пренебрежительно-вопросительный взгляд.
– Владыка благословил, – добавил отец Евгений. Шинкаренко, не говоря ни слова, с ничего не выражающим (по обыкновению) лицом, продолжил работать. Но, хотя ни один мускул его лица не дрогнул, содержание заметки его буквально ошеломило. Настолько, что после работы (которую он, вопреки обыкновению и не без некоторой демонстративности, закончил ровно по часам, в восемнадцать ноль-ноль) он зашел в одно захудалое дешевенькое кафе, что находилось на полпути от Епархиального управления к его дому, и взял там два пол-литровых стакана с пивом. Для весьма скудного семейного бюджета посещение даже столь непритязательного заведения было серьезным обременением, и Александр Сергеевич, конечно, это знал. Но трату, однако же, счел необходимой. Очень уж хотелось посидеть спокойно над пивной кружкой, в некотором отдалении ото всех – и от епархии, и от семьи, и даже, пожалуй, от друзей… По крайней мере, именно сейчас. Хотя бы совсем недолго…
Последней каплей – или последним ударом, за которым последовал неизбежный психологический нокдаун, стала та самая заметка, которую Панасюк, в соответствии с архиерейским благословением, потребовал поставить на первую полосу. Написана она была не то чтобы со стилистическими погрешностями, а просто косноязычно и безсвязно. Но самым примечательным, конечно, был ее смысл. Начиналась она со слов: «В последнее время многие спрашивают: почему сменили редактора газеты?» Увидев такое вступление, Шинкаренко мысленно хмыкнул. Какие многие? Те, кто знал, что у «Православного Мангазейска» новый главред, знали также и причину, почему это произошло. Но большинство читателей об этом еще не слыхали. Ну а дальше излагалось все то, о чем ранее приватно уже говорил Евсевий: что издание под руководством Александра Сергеевича Шинкаренко стало не церковным, а политическим, что оно вместо того, чтобы сеять в людских душах мир и стремление к христианской жизни, вносило в умы разлад и различные страсти, дух бунтарства и мятежа. А завершался сей обличительный материал довольно странной (по крайней мере для непосвященных в епархиальную кухню) фразой: «Поэтому главного редактора сменить было необходимо, невзирая на чьи-то симпатии или антипатии».
Шинкаренко, глядя на пивной стакан, снова хмыкнул – на этот раз натурально, а не мысленно. Что ж, многое он готов был понять. Не согласиться, не принять, но хотя бы понять. Ну да, Евсевий сейчас, без преувеличения, по всей России изыскивает каждую финансовую крошку, которую можно бросить на строительство кафедрального собора. Он очень хочет дружить с областными властями, которые давным-давно недолюбливают Шинкаренко за его былую политическую активность. Решили сменить главреда – значит, решили. Скверно все это, конечно… Что вот так – не из-за вопросов веры, не из-за каких-то безнравственных дел, не из-за непрофессионализма, наконец, а ради дружбы с безбожными, по сути своей, властями… Ради успешного сбора милостыни. Пусть так. Но зачем уже после увольнения давать ему этот унизительный в своей публичности пинок?..
Шинкаренко заглянул в свой старенький бумажник. Поскольку пара купюр там еще оставалась, он тяжело поднялся и подошел к стойке.
– Еще пива. Ноль пять. И… – тут он окинул ястребиным взором предлагавшиеся закуски. – И кальмаров дайте. Маленький пакет.
Получив все затребованное и окончательно расставшись с наличностью, он вернулся за столик. В голове же его вихрем проносились воспоминания. Вот он еще молодой и считающийся перспективным офицер ГРУ. Конец 1980-х годов. Совсем недавно он переехал в Мангазейск и так же недавно женился на местной девушке. У него – уже своя, пусть и маленькая, но отдельная квартира. Личные дела вроде идут неплохо, а страна… Страна катится непонятно куда. Звучащие рефреном «так жить нельзя!» и «надо что-то делать!». Первый национально-патриотический клуб в местном Доме офицеров. Первые несоветские книги, дореволюционные репринты и даже зарубежные издания. Первые националистические газеты. Изголодавшиеся по альтернативной информации интеллигенты, глотающие эти новые, кажущиеся буквально инопланетными, книги том за томом. Их многочасовые клубные чаепития, во время которых они пытаются объяснить друг другу (и самим себе) устройство мироздания и судьбу России. Казалось, что происходит что-то чудесное: как будто самые людские души начали тереть щеткой, как трут старинную монету или бляху, и вот уж из-под слоя столетней грязи и копоти начинает блестеть что-то другое. Что-то новое, удивительное и в то же время родное…
По крайней мере, им казалось, что было именно так. Что их первые клубные сборы были местом некого духовного преображения, а не посиделками кучки городских фриков.
А вскоре – увольнение из ГРУ, по собственному желанию. Казалось, что разваливается не армия, а вся страна. Дальнейшая служба (служба кому? где?) выглядела безсмыслицей. Было начало 1990-х, вокруг возникали не сотни даже, а тысячи новых возможностей… А главное – он был свято убежден, что над Россией нависла смертельная угроза. Мол, план Даллеса, «Сионские протоколы» и прочее в этом роде уже реализуется. Еще год-два – и Россия погибнет. И он, как многие его друзья тех лет, ринулся ее спасать. Как спасать? Это было не очень ясно. Прежде всего создали свою национально-патриотическую организацию. Потом вошли в состав другой, уже всероссийской. Потом, наконец, начали думать, чем же заняться. Для начала попробовали проводить митинги и пикеты. В частности, стояли в 1992 году у Свято-Воскресенского храма, требуя канонизации императора Николая II. Молодой отец Игнатий, который тогда только-только прибыл в Мангазейск, иногда выходил на паперть и пытался с ними аккуратно спорить. Мол, Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, «не все однозначно»… Шинкаренко снова чуть улыбнулся. Теперь, когда в 2000 году Архиерейский Собор РПЦ МП прославил в лике святых царскую семью, отец Игнатий, конечно, уже не спорит. Наоборот – сам служит им молебны…
Чтобы кормить свои семьи, начали торговать книжками. Благодаря связям в патриотической среде удалось установить контакт с несколькими издательствами. Книги из серии «Белое дело» поначалу шли на ура – до половины всех предприятий и кооперативов Мангазейска были у них подписаны, с нетерпением ожидая нового тома. Больших денег это не приносило, но, однако, удавалось не голодать.
А потом грянула инфляция. Издательства обанкротились, а вся полученная прибыль буквально за пару месяцев превратилась в ничто. Шинкаренко со своими соратниками пытался как-то выкрутиться, даже продал свою квартиру, к тому времени приватизированную – но ничего не вышло. Весь их бизнес рухнул. Половина квартирных денег ушла на покрытие долгов, а второй аккурат хватило для того, чтобы оплатить дорогостоящее лечение для жены, которой оно как раз тогда потребовалось. Потом… Потом постепенное, но быстрое угасание всякой общественной активности, угасание наивных надежд и наивных страхов. Старые друзья и соратники стали тихо покидать Движение (так было принято именовать национал-патриотическую среду среди тех, кто к этой среде принадлежал). Всем надо было кормить свои семьи и вообще «как-то устраиваться». Многие уехали из Мангазейска; остался, за редким исключением, явный человеческий неликвид. К какому-то берегу должен был прибиться и Шинкаренко. С одной стороны, он не хотел порывать с национал-патриотическим сообществом, продолжая формально оставаться членом нескольких организаций. С другой, нужна была работа, которая не входила бы в противоречие с его убеждениями и при этом давала бы хоть какой-то доход.
Самым простым – да и, пожалуй, единственным – вариантом было трудоустройство в местной епархии. Среди духовенства у него появились знакомые еще в самом начале 1990-х, когда он помогал организовывать первую в Мангазейске воскресную школу. Что же до Епархиального управления времен Пахомия, то работников там требовалось немного, но их было еще меньше, чем требовалось. Среди верующих, как и в позднесоветские годы, преобладали возрастные женщины, а всерьез религиозные мужчины прямым ходом шли в священники: государство тогда активно передавало Патриархии храмы и дефицит попов был огромный. Поэтому Шинкаренко, имевший очень недурное (по местным меркам) светское образование, более-менее сведущий в церковных делах, но при этом совсем не желающий быть священнослужителем, оказался очень кстати, чтобы свалить на него все епархиальное делопроизводство. Пахомий, как человек опытный и практичный, сообразил это сразу. Он без разговоров принял Шинкаренко и даже назначил ему относительно приличный оклад. И вскоре Шинкаренко стал тем самым Сергеичем, которого знала вся церковная общественность Мангазейска и без которого местную епархию, казалось, невозможно представить. Обыкновенно немногословный, по-доброму или не по-доброму, но всегда глядящий исподлобья, он стал обязательной частью епархиального ландшафта, а вскоре – даже и своего рода достопримечательностью. Неизменно коротко подстриженный (дань армейскому прошлому), с короткой же бородой (символом религиозных и политических убеждений), в темно-зеленом «камуфляжном» свитере и истрепанных черных джинсах, он как-то сразу прижился в церковной среде, олицетворяя собой ее новорожденную бюрократию.
Поначалу он занимался почти исключительно канцелярскими делами, однако с первых же дней у него возникла мечта: создать свою, мангазейскую, епархиальную газету.
– А, монархист пришел, «Русский Вестник» принес!.. – с оттяжкой, с нотками добродушной, хотя и тяжеловесной иронии говорил Владыка Пахомий, когда Шинкаренко в очередной раз заходил к нему в кабинет.
– Принес, – отвечал Александр Сергеевич, кладя на архиерейский стол свежий номер «Вестника».
– Все против советской власти бунтуете… – все тем же тоном отвечал Пахомий.
– Есть такое дело, – и Шинкаренко вновь переходил к своей главной теме. – Надо бы, Владыко, нашей епархии свою газету выпускать. У всех уже есть.
– Не у всех…
– Почти у всех.
– У всех много что есть, – парировал Пахомий. – Нет, Сергеич, не о чем говорить. Не потянем.
– Так ведь нужно-то совсем немного.
– Сколько – немного? Сколько?! – начиная распаляться, отвечал архиерей. – Не-ет, тут каждая копейка на счету. Пусть уж пока без газет, без радио. Попы не голодают – и уже слава Богу. Не о чем говорить!
При Пахомии сдвинуть дело с мертвой точки так и не удалось. Но и Евграф, несмотря на всю свою открытость и стремление к миссионерской деятельности, поначалу не одобрил замысел Шинкаренко. Однако Сергеич был верен себе и, единожды начав досаждать архиерею своим проектом, продолжал это делать с завидной регулярностью. И через некоторое время Евграф уступил.
– Александр Сергеич, я все это уже слышал, – сказал он, когда в очередной раз Шинкаренко заговорил о своем издании. – Мы сейчас газету делать не готовы. Ну ладно, ты говоришь, печать стоит недорого. Допустим. Но ведь газета – это не только печать. Это еще и постоянные авторы, корреспонденты, труд которых тоже нужно оплачивать…
– Для начала вполне достаточно внештатных авторов, – ответил Шинкаренко.
– Ну, хорошо. Допустим, достаточно… Но ведь и внештатникам тоже нужно что-то платить, стало быть, требуется гонорарный фонд…
– Люди готовы безплатно писать. Авторы у нас есть.
– Уверен?
– Уверен. Есть университетские преподаватели, есть священники. Будут корреспонденции с приходов, из Тафаларии. На четыре, а то и на восемь полос раз в месяц – более чем достаточно.
– Восемь полос – это раза в полтора дороже…
– Газету можно продавать в «Роспечати» и распространять по подписке. Большого дохода это не даст, но печать можно будет полностью отбить. Или почти полностью.
– Ну, хорошо… – уже нерешительно ответил Евграф. – А верстку, макет – ты все это готов делать?
– Да.
– Сергеич, это ведь серьезный труд. А мы тебе зарплату увеличить не можем. Понимаешь? И от остальных твоих обязанностей тебя тоже освободить не можем.
– Так ведь я и не прошу.
Повисла пауза. «Сергеич, похоже, всерьез уперся, – подумал Евграф. – И… Почему нет, собственно? Раз он так хочет делать газету, пусть попробует. Дело хорошее. А его упрямство в данном случае, пожалуй, как раз на пользу и пойдет».
– Ну хорошо! – сказал архиерей. – Давай попробуем.
Так в Мангазейске, впервые за последние лет так семьдесят, появилось официальное православное церковное издание. Название выбрали простое – «Православный Мангазейск», и Шинкаренко стал его главным редактором, дизайнером и верстальщиком. Поначалу, когда он еще только осваивал искусство верстки, приходилось непросто. Работа над макетом оказалась удивительно увлекательной и затягивающей – настолько, что иногда, задержавшись на работе, он лишь в пять утра, завидев в окне первые рассветные лучи, вспоминал, что вчера вечером, кажется, так и не ушел домой… Идти спать уже не имело смысла. Сергеич заваривал дешевенький кофе, иногда сразу два пакетика в одной кружке, снова выходил на крыльцо покурить, окидывал взглядом окрестные улицы, наслаждаясь их пустынной тишиной, говорил сам себе: «Нда!» – и возвращался за рабочий стол. Следующий день он ходил с опухшим и красным от безсонницы лицом, на звонки и просьбы отвечал особенно лаконично, и стороннему наблюдателю могло показаться, что главред «Православного Мангазейска» мучается с похмелья. Однако Владыка Евграф и благочинный, знавшие об истинной причине приключившейся с ним метаморфозы, относились к нему бережно. Иногда случалось и так, что в середине дня Евграф выходил из своего кабинета и говорил:
– Сергеич, иди домой.
– Не могу. Еще один список для Патриархии не закончил.
– Иди, завтра закончишь.
– Не могу.
– Сергеич, иди спать! Это мое благословение, – завершал их диалог Евграф, и Шинкаренко с недовольным видом поднимался из-за стола и шел домой.
Впрочем, все эти сложности казались сущей ерундой, ничего не значащей по сравнению с тем удовлетворением, которое приносила работа над газетой. Вопреки опасениям Владыки Евграфа, коллектив авторов подобрался сразу же, и был он, по меркам провинциального города, весьма неплох. А статей каждый месяц собиралось столько, что выстраивалась очередь публикаций. В те времена в обычных книжных магазинах совершенно не было православной литературы, да и в иконных лавках выбор ее был невелик. К тому же народ в Мангазейске жил небогатый, и далеко не все могли позволить себе регулярную покупку книг. Газета же оказалась куда более доступной, и потому именно она для многих жителей Мангазейской области и Тафаларии стала едва ли не единственным источником информации о православии. Одно время она ценилась столь высоко, что киоскерши «Роспечати» продавали ее не всем подряд, а только своим знакомым, как в былые времена, из-под прилавка; само собой, что тираж даже не расходился, а разлетался полностью. А вокруг редакции, в лице Шинкаренко, сложилось нечто вроде кружка местной православной интеллигенции, в немалой степени разбавленной начинающими воцерковляться студентками (что главреду особенно нравилось).
Сверх того, Александр Сергеевич получил возможность публиковать в «Православном Мангазейске» материалы из разных национал-патриотических изданий. Евграф на это смотрел сквозь пальцы, хотя и без восторга. В тех же случаях, когда Шинкаренко начинал перегибать палку, Преосвященный действовал тонко, предпочитая длительные дружеские уговоры фронтальной атаке (ибо знал, что в этом случае Сергеич включит свое фирменное, всей епархии уже известное упрямство). В итоге все вопросы как-то разрешались, а потенциальные конфликты тушились, не успев вспыхнуть.
На несколько лет «Православный Мангазейск» стал стержнем всей жизни Александра Шинкаренко. Это было, безусловно, его детище, от начала до конца. Он эту газету задумал, он измыслил ее дизайн, он был ее главным редактором и одним из основных авторов. Да, дизайн этот был прост, а тираж невелик – но это издание было востребовано, читатели любили его и с нетерпением ждали новый номер. Создать с нуля востребованную газету – в конце концов, это повод для гордости! Возможность печатать там «правые» материалы также была важна для Шинкаренко – ведь это значило, что он не предал свои былые идеалы, и для него, для примирения с самим собой, этот факт значил очень много. А сверх этого, и редакторская работа, и верстка – это работа творческая. В мире, отравленном ежедневной канцелярской рутиной, маленьким окладом, скандальной тещей и еще кучей разных мелких, но выматывающих неприятностей эта творческая отдушина была очень важна. Да и не только для Шинкаренко. Мангазейская церковная интеллигенция наконец обрела свой голос в медийном мире, и это было ново, волнующе и важно для всех, особенно же – для авторов «Православного Мангазейска», очень быстро перезнакомившихся друг с другом и образовавших нечто вроде клуба православной интеллигенции.
Где-то за полгода до своего отъезда в Вену Владыка Евграф сумел изыскать в тощем епархиальном бюджете деньги на гонорарный фонд. И это обрадовало Александра Сергеевича куда больше, чем могла бы обрадовать прибавка к его собственной зарплате. Наконец-то «Православный Мангазейск» стал во всех отношениях полноценным, профессиональным изданием! Которое может своим корреспондентам не только выдавать журналистские удостоверения (не особо, по правде сказать, нужные), но и платить им за работу. Пусть совсем мало – но все же. Шинкаренко это обрадовало почти так же, как отца радует весть о том, что его сын впервые устроился на работу. Путь от первого шага до первого взрослого шага благополучно пройден. Дело – его дело – состоялось!
А за всем этим – его, Александра Сергеевича Шинкаренко, труды. Безсонные ночи на кофе и сигаретах. Рассвет, первые лучи которого много раз заставали его ссутулившимся перед монитором, над макетом очередного номера. Спешные поездки, либо поутру, либо где-нибудь ближе к вечеру, чтобы успеть в последний момент сдать заказ в типографию (поначалу приходилось возить на дискетах или CD-диске, электронную почту в этом деле стали использовать гораздо позже). Неизменные авралы с материалами, звонки авторам, судорожный набор текстов в последнюю минуту – и чувство радостного расслабления и даже маленькой победы, когда свежие типографские пачки доставлялись в Епархиальное управление. А потом – скучная, но в то же время приятная возня с раскладкой номеров по конвертам. Подписчиков становилось все больше, а среди них было даже два человека из США и один из Австралии. Для Мангазейска в те годы это было в диковинку, а для редактора, конечно, становилось дополнительным и весьма весомым поводом для гордости…
И вот теперь, по воле Евсевия, он больше не главред. С этой мыслью надо было свыкнуться. Как-то это казалось даже не обидным и не неприятным, а именно странным. Вот газета, которую ты придумал. Которую ты сделал от начала до конца – от названия и дизайна и до верстки самого последнего номера. Про которую все в епархии говорили как про «газету Сергеича». А теперь – уже не Сергеича. Странное чувство. Что-то подобное Шинкаренко испытал, когда он вновь надел штатский костюм после нескольких лет учебы, где он все время носил военную форму. Этот костюм тогда показался ему чужим и как будто неудобным. Теперь он чувствовал то же самое, только, пожалуй, это ощущение стало куда более сильным и болезненным.
Но все это был «фрейдизм» (как сказал бы благочинный) или «лирика» (как выражался сам Шинкаренко). В конце концов, Сергеич знал, что издательский проект, как и всякое творческое дело, бывает похож на человека: он вырастает или меняется и уходит от тебя, как уходит повзрослевший ребенок или поумневшая женщина. Обидно, досадно, но… Дело житейское.
Однако уйти можно по-разному. Шинкаренко мог более-менее спокойно вынести и свою отставку, и даже заезжего отца Евгения, который перелопачивал «Православный Мангазейск» с безподобной грацией самовлюбленного дилетанта. Но все-таки казалось, что минимальные приличия будут соблюдены. Ведь нетрудно написать в газете, что «по ряду объективных причин» прежний главный редактор не может исполнять свои обязанности, а епархиальный Преосвященный и все клирики и коллеги по Епархиальному управлению благодарят его за понесенные труды… Написать пару теплых слов про то, что именно он является основателем первого постсоветского церковного издания в Мангазейской епархии. Ну и прочее в этом роде, что там обычно пишется.
Но не захотели. Ну, и это ничего. Но зачем было помещать («обязательно на первую полосу») эту пакостную заметку, в которой мерзко и уродливо все, от синтаксиса до стилистики и смысла? Зачем был нужен этот пинок под зад, не болезненный, но очень унизительный? Неужели же все безсонные ночи, все эти рассветы у монитора, беготня с газетными пачками, все те миллионы знаков, которые его пальцы выбили по клавиатуре – все это безо всяких денег, воистину во славу Божию – неужели же всем этим он заслужил именно такое прощание?..
Пиво в последнем пластиковом стакане закончилось. Денег больше не находилось, да и дополнительные пол-литра вряд ли могли бы что-то улучшить. Шинкаренко поднялся из-за столика и молча вышел на улицу. Привычным движением похлопал себя по карманам, нащупывая пачку сигарет, и вспомнил, что уже все выкурил.
– Нда! – немного грустно произнес Александр Сергеевич и широким шагом направился к своему дому.
Глава 10 Трудный поход продолжается
– Нашему Владыке многая лета!
– Нашему Владыке многая лета! Нашему Владыке многая лета! – хор, а с хором и все, собравшиеся за большим П-образным столом, привычно подхватили многолетие. Которое, столь же привычно, завершило очередной тост. Часы показывали около четырех утра, рождественская трапеза близилась к концу. За время Филиппова поста в церковной жизни Мангазейска произошло несколько важных событий. Например, удалось по большей части закончить строительство новых помещений для Епархиального управления – в одном из них, лишь накануне отмытом от строительной пыли, и совершалась трапеза.
Но, конечно, главное – это закладка нового кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери. «Ударник» был почти снесен, и шестого декабря на освободившейся площадке официально началось строительство. Помимо архиерея, на закладке храма присутствовал губернатор области Камиль Гимазисламов. Журналисты и чиновники заметили, что он и Евсевий общались как будто доброжелательно. Камиль Бухарович, конечно, не отказал прессе в комментарии по поводу свершившегося события:
– Сам я, можно сказать, наполовину православный, а наполовину мусульманин, хотя в плане религиозных убеждений я атеист, – обозначил собственную философскую платформу губернатор. – Но строительство собора, вот эта большая стройка, которую мы здесь сегодня с уважаемым Владыкой Евсевием как бы затеяли, она имеет важное значение для всего нашего города, для всей нашей области в целом. Мы всегда были ориентированы на сотрудничество с ведущими, традиционными религиями, вот, с Мангазейской епархией в том числе.
Дал комментарий и Евсевий:
– Нужно всегда помнить, что храм – это лечебница для искалеченной грехом человеческой души. Это маяк в бурном море житейских страстей. И сегодня, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского мы, вместе с уважаемым Камилем Бухаровичем, с Божией помощью, заложили основание такого маяка, основание кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери. На сегодняшний день Мангазейская епархия – единственная в России, которая не имеет своего кафедрального собора. И вот теперь, слава Богу, эта ситуация исправляется и, Бог даст, скоро на этом месте будет воздвигнут новый соборный храм, вместительный и просторный, достойный нашего города. Особо отмечу, что по величине он будет вторым после храма Христа Спасителя в Москве…
Не обошлось, конечно, и без традиционных манипуляций с кирпичами и мастерками перед объективами фото– и телекамер – именно этим кадрам предстояло в будущем символизировать основание Казанского собора в городе Мангазейске. Среди прочих фотографировал и Шинкаренко.
– В нашей газете тоже напечатаем! – сказал по окончании фотосессии Евсевий.
– Да, знаем вашу газету, знаем, – с легкой иронией ответил Гимазисламов.
– Ну, у нас там кое-что изменилось, – доверительным тоном, чуть понизив голос, сказал архиерей. – Были там некоторые моменты, которые могли быть поняты… превратно. Так что редактора мы там поменяли, чтобы впредь не было разного рода недоразумений…
– Ну, это дело ваше частное… – ответил губернатор. Однако было видно, что ему это частное дело нравится – а равно нравится и то, что Преосвященный посчитал нужным сообщить ему об этом лично.
Все это Евсевий отметил не с радостью, но с удовлетворением. Изъявление лояльности «уважаемому Камилю Бухаровичу» не доставляло ему ни малейшего удовольствия. И тем не менее, оно было необходимо. Наступал самый ответственный момент, когда областные власти могли или серьезно помочь – или столь же серьезно навредить. И тогда строительство кафедрального собора превратилось бы в долгострой, который, ко всему прочему, повис бы мельничным жерновом на архиерейской карьере Евсевия.
Но пока что все шло успешно. Местное телевидение закладку собора осветило вполне доброжелательно, а Козлобесов и Александров посчитали нужным промолчать. По совокупности все это было добрым признаком. К тому же на праздничной рождественской трапезе побывали два депутата из областной Думы и даже один зам Гимазисламова. А значит – лед взаимного отчуждения тронулся! Во взаимоотношениях Мангазейской епархии и областных властей наметилось робкое весеннее потепление.
Это была несомненная дипломатическая победа. И она радовала Евсевия весьма и весьма, добавляя новые, приятные нотки в праздничную атмосферу рождественской трапезы.
– Ну-ка, отец Алексий! – обратился он к рукоположенному накануне в диаконы Сормову. – Скажи нам что-нибудь назидательное!
Тот поднялся из-за стола, явно смущенный архиерейским вниманием. Он еще не привык к подряснику (хиротония состоялась менее двух недель назад), да и за одним столом с епископом он оказался впервые. Но отец Алексий не растерялся:
– Ваше Преосвященство, честные отцы, братья и сестры! – начал он стандартно. – Сегодня, когда Святая Церковь празднует пришествие в мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, мы все, как уже верно указал наш Преосвященнейший Владыка, духовно вновь возвращаемся к колыбели Спасителя. Вновь, вместе с волхвами, «звездою поучахуся», идем к заброшенным яслям, дабы с верою поклониться Богомладенцу…
«Хорошо говорит, – мысленно отметил отец Игнатий, сидевший, как и полагается настоятелю кафедрального собора, рядом с архиереем. – Такое ощущение, будто из учебника Закона Божия страничку вырвали, ножницами порезали, перемешали все и зачитали. Вроде и говорит-то все верно, а все равно каким-то партсобранием несет…»
– Вера двигает горами, как научает нас Спаситель, – продолжал Сормов. – И мы видим перед своими глазами живой пример такой веры. Видим, как трудами нашего Преосвященнейшего Владыки сдвинулось с мертвой точки дело строительства кафедрального собора…
«Опять?» – мысленно спросил отец Игнатий. Сормов произнес еще несколько стереотипных фраз, а затем провозгласил:
– Его Преосвященству, Преосвященнейшему Евсевию… – эти слова отец Алексий постарался произнести басом, на диаконский (как ему казалось) манер. – Многая лета!
От обилия слова «преосвященный» архиерей чуть улыбнулся. Сидящие же за столами привычно подхватили многолетие.
«Замполит – неофит, неофит – замполит… – мысленно рассуждал отец Игнатий. – А впрочем, этот-то ничего. Хорошо, того не рукоположили… Ну да ждать, судя по всему, недолго!..»
Под «тем» отец Игнатий подразумевал Владимира Ревокатова. В отличие от Сормова, его еще не хиротонисали, и он пока оставался в статусе обычного «курсанта» и послушника: подавал кадило за богослужением и регулярно получал выговоры от вечно недовольного и дерганого старшего иподиакона Григория. Но, несмотря на это, Ревокатов в церковной среде освоился прекрасно. По мнению отца Игнатия – даже слишком прекрасно. Совсем недавно (чуть ли не на следующий день после диаконской хиротонии отца Алексия) в алтаре Свято-Воскресенского храма произошла довольно любопытная сцена. В самом конце всенощного бдения, когда Преосвященный уже разоблачался, Ревокатову было доверено свешивать архиерейские облачения на вешалку. И он, то ли уловив доброжелательное, даже шутливое настроение Евсевия, то ли по каким-то иным, совсем уж неведомым причинам, начал остроумничать.
– Мы с отцом Алексием кафедральный собор себе возьмем, – начал он рассуждать. – Отец Алексий настоятелем, а я, ладно уж, вторым священником.
Евсевий иронично улыбался, ничего не говоря. Отец Игнатий, стоявший в игуменской мантии и клобуке перед престолом, посмотрел на Ревокатова исподлобья.
– Требы поделим пополам, – продолжал тот то ли шутливо, то ли (кто уж его знает?) всерьез. Отец Алексий тихонько хихикал. Архиерей – улыбался, причем уже довольно широко.
– Ну ладно, так уж и быть, возьмем тебя, на требы ездить! – это Ревокатов сказал, обратившись к отцу Игнатию. Тот ничего не ответил, но мысленно спросил сам себя: «Это что вообще такое?» Отец Алексий хихикает. Владимир Ревокатов явно хамит. Собор он, видите ли, себе возьмет. «Ну, с этого дурака спрос невелик, – мысленно отметил отец Игнатий. – Но вот архиерей что? Ему что, это все тоже нравится? Типа прикольно?»
Евсевий продолжал ухмыляться ревокатовским шуткам. И даже начал тихонько посмеиваться вместе с ним и Сормовым.
«А ему, видать, этот казарменный стиль по вкусу… Мда! Кажется, все понятно», – с грустью подумал отец Игнатий. И решил промолчать.
Евсевию поведение Ревокатова и вправду нравилось. «Нужны попы. Причем не просто попы, а хозяйственные, с руками и головой, – рассуждал он. – И благочестивые нужны, и чтоб понимали, что – куда… А то тут остались, вот тот же отец Игнатий – не пойми чего. Он вроде и служит исправно, в лужу не садится, но все равно не то…» Что именно не то, Преосвященный сформулировать толком не мог. Сказать, чтобы отец Игнатий не умел хозяйствовать, было нельзя – потихоньку-полегоньку, но что-то он для храма делал. То краску купить какого-нибудь «нового русского» подобьет, стены в порядок привести, то на ремонт полов деньги достанет… Но все равно – не то.
Что же именно не то? «Так, когда все более-менее налажено, служить он может, – рассуждал Евсевий. – Но тут нам всем напрячься надо. И молитвенно, и руками тоже поработать. Чтобы ни одной копеечки мимо не проскочило. Чтобы костьми лечь – а собор выстроить… Да-а… А уж тут на него надежды мало. Ему только одного надо – чтоб его в покое оставили. А вот этого-то и не будет. Не-ет, тут люди пожестче нужны. С хваткой».
По мнению Евсевия, военные, коих он намеревался ввести в клир столько, сколько их окажется под рукой, как раз и обладали необходимой жесткостью. И поведение Ревокатова он счел проявлением сего замечательного качества. «Вот и хорошо! Пусть, пусть разгонят тут всю эту дерьмократию! А заодно и отчисления с приходов приличные дадут», – думал он, пока отец Игнатий молчаливо удивлялся ревокатовскому хамству.
…А праздничная трапеза потихоньку подходила к концу. Была она долгой, но ничего запоминающегося, кроме разве пения колядок на украинском, не произошло. «Нашему Владыке многая лета!» – «Нашему имярек многая лета!», повторенное по многу раз… Типовые тосты – в первую очередь, конечно, за дорогого и замечательного Владыку… Потом – слова о значении праздника, о строительстве собора… Все было очень солидно, официально – и скучно.
* * *
– Благослови, отче! – привычно сказал Шинкаренко, приветствуя своего старого приятеля – благочинного, отца Кассиана, в среду на Святках, в районе обеда, зашедшего в старое здание Епархиального управления. Тот, как всегда, отрывистыми движениями благословил его, после чего дал руку для целования. Отец Кассиан Кассианом стал недавно – до Рождественского поста он был иереем Василием Васильевым, целибатным священником. Теперь же он принял монашество. Официальная версия, которую он нехотя озвучивал тем знакомым, кто мог задавать ему личные вопросы, звучала так:
– Надо было это заканчивать. Что такое целибат? Ни туда ни сюда. Надо было определяться.
А поскольку, как священник, права повторно жениться он не имел, то определиться он мог только в сторону клобука. Со всех сторон это было правильно, и никто с этой версией поспорить не мог, по крайней мере громко и вслух. О том, чтобы принять монашество, отец Василий начал заговаривать с Евсевием буквально через месяц после того, как тот прибыл на мангазейскую кафедру. И встретил горячее сочувствие: епископ, сам большую часть жизни проведший в монастырях, христианскую жизнь в миру считал не вполне духовно полноценной. Как минимум не идеальной. И всякий, изъявлявший стремление к монашеству, мог рассчитывать на его понимание. А уж священник-целибат, тем более благочинный – в первую очередь. К тому же Евсевий почти сразу решил сделать его наместником монастыря.
Некоторое время отец Василий готовился (по крайней мере считалось, что готовился) к постригу, и зимой 2002 года архиерей решил, что – пора. Благочинный из иерея стал иеромонахом, которому дали имя Кассиан – в честь одного из святых, особо почитаемых в той обители, где ранее был архимандритом Евсевий.
Впрочем, помимо версии самого благочинного о его монашестве, существовала еще одна точка зрения, которую в очень узком кругу огласил отец Игнатий:
– В архиереи чудо наше собралось, – отозвался он о благочестивых устремлениях теперь уже иеромонаха Кассиана. – Сомнительно, чтобы у него что-нибудь вышло. В Москве молодых архимандритов, с деньгами и со связями, полно. Это нам тут он страшен. А там… Там такого навалом.
Что же касается истинных намерений благочинного, то там было намешано всего понемножку.
Он действительно был не чужд некоего стремления к упорядочиванию своего жития и придания ему, так сказать, более духовной направленности. И даже питал надежду, что новая, монашеская жизнь позволит ему преодолеть некоторые старые грехи, к которым он привык, но которые все же его тяготили. Но при этом отец Василий, ставший отцом Кассианом, был не чужд и карьерных устремлений. Он прекрасно понимал, что с архиереем, управлению которого присущ монастырский стиль, ему будет проще подниматься вверх, имея на своей голове клобук. А там, глядишь, вместе с клобуком на горизонте появится и панагия. Да, сколько-нибудь серьезных связей в Москве у него нет – и это минус. Но при этом он может очень хорошо укрепиться здесь, в Мангазейске – а это уже будет жирный плюс. Если он станет вторым человеком после местного Владыки, да еще и заручится поддержкой областных властей, глядишь, все это и перевесит московские связи московских архимандритов…
В результате такого смешения мотивов в голове благочинного поведение его приобрело своеобразные черты. Так, он стал воздерживаться не только от употребления мяса (что в русской монашеской традиции считается обязательным), но даже и рыбы, даже и в непостные дни.
– Отец Кассиан, сегодня-то можно, – говорил ему Шинкаренко, когда они оказывались за одним столом в трапезной.
Но благочинный только сдержанно улыбался и продолжал задумчиво жевать овощи.
Претерпели изменения и его отношения с Натальей Юрьевной.
– Все! Теперь ничего не будет. Ясно? – строго сказал он ей.
Та кивнула головой:
– Ясно…
И не стала ни противоречить, ни расстраиваться. В житейских делах она была женщиной опытной и потому не сомневалась, что рано или поздно все вернется на круги своя.
Истощенный первыми признаками нехватки белковых жиров и спермотоксикоза, отец Кассиан попробовал было бороться с ними посредством смирения и молитвы, но борьба как-то не задалась. И тогда он стал психологически разряжаться более тривиальными способами, в результате чего количество замечаний, которые он делал нижестоящим (а кроме архиерея в церковном Мангазейске по отношению к нему все были нижестоящими), возросло многократно.
Вот и сейчас, беззвучно благословив Шинкаренко, он хмурым взором окинул свою бывшую базу (новое Епархиальное управление как раз достраивалось, и он стал одним из первых, кто переехал в новый кабинет).
– Бардак тут у вас, – заметил он.
– Бардак, – ответил Сергеич.
– Ты б навел порядок.
– Какой порядок при переезде? – парировал Шинкаренко. – И вообще, главным тут отец Евгений Панасюк. Вот к отцу Евгению Панасюку и все вопросы.
В связи с переездом Епархиального управления в новое здание старое пока что решили оставить редакции «Православного Мангазейска», главредом которого был Панасюк.
– Эх, Сергеич! – с иронической укоризной сказал благочинный. – Смиренней нужно. Мягче. Мягче!
Впрочем, отца Евгения он тоже недолюбливал. Во-первых, потому, что он в принципе особо никого не любил; во-вторых, потому, что вскоре после прибытия на мангазейскую землю Панасюка стали недолюбливать очень и очень многие. В значительной мере по той же причине, по какой в свое время не любили и отца Филимона: Панасюк, прибывший из Центральной России, из старой и крупной епархии, да еще и из кафедрального города, имевший за плечами очно оконченные семинарию и академию, на мангазейцев смотрел со снисходительностью колониального администратора, вынужденного заниматься просветительской работой среди малограмотных туземцев. Отчасти в этом были виноваты и сами туземцы: сразу же после приезда отца Евгения вся местная околоцерковная интеллигенция постаралась с ним подружиться, а приходские тетки прониклись к нему почтением и пошли к нему на исповедь (они всегда так поступали, когда на горизонте появлялся новый интересный поп – с не совсем обычной биографией или просто хорошо подвешенным языком). В результате Панасюк почувствовал себя местной звездой, белым человеком, которого аборигены приняли за божество и которому оказывают соответствующие почести. Его это вполне устраивало. И он не посчитал нужным скрывать, что его это устраивало и что он считает такой порядок вещей единственно возможным.
А вот это уже было ошибкой, фатальной ошибкой. Мангазейцы, как и всякие провинциалы, обладали известным пиететом по отношению ко всякому человеку из Москвы и вообще «с запада». Но играть на этих чувствах следовало очень умело, внешне демонстрируя свое стремление стать своим и уважение к местным нравам. А Панасюк не просто не скрывал, что мангазейцы ему неинтересны, но и открыто демонстрировал свое пренебрежение здешней публикой. Что особенно бросалось в глаза, потому что для подобных демонстраций у него был рупор – епархиальная газета. С тех пор как отец Евгений стал главредом, со страниц «Православного Мангазейска» почти полностью исчезли статьи местных авторов и материалы о мангазейской церковной жизни и церковной истории края. Вместо них полосы заняли перепечатки из книг и с православных сайтов, которые изредка разбавлялись колонками за авторством самого Панасюка. Это задело за живое кружок мангазейских церковных интеллигентов, уже не один год публиковавшихся в епархиальной газете. Кульминацией же стала история с одной местной преподавательницей, кандидатом наук. Однажды она слегка переработала свой доклад, сделанный на одной научно-практической конференции, и решила опубликовать его в «Православном Мангазейске».
– Извините, но мы не можем это напечатать, – улыбаясь, как бы вежливо, ответил ей Панасюк. – Это не научная статья.
Преподавательнице оставалось только молча повернуться и уйти, размышляя про себя, почему вдруг в епархиальном издании стали печатать только научные статьи и почему доклад, не вызвавший у ее ученых коллег никаких нареканий, показался Панасюку, не имеющему оконченного светского высшего образования, недостаточно академичным… Разумеется, не сказав ни слова новому редактору «Православного Мангазейска», она не преминула поделиться этой историей с коллегами, в результате чего имиджевые котировки Панасюка резко пошли вниз. (Тем более что подобные истории стали случаться с завидной регулярностью.)
Другим раздражающим фактором стало то чрезвычайное внимание, которое в каждом номере уделялось Китаю. Отец Евгений не просто забил газетные полосы перепечатками – он забил их, главным образом, перепечаткам об истории православия в Китае, о современной миссионерской деятельности в Китае, о православных китайцах и прочем в этом роде. Для местного читателя это казалось издевательством. Во-первых, живя в пограничной с Китаем области, мангазейцы всегда с опаской взирали на своего соседа. Еще в советские времена, когда Мао Цзэдун обещал «вернуть китайские земли», а на границах регулярно случались кровавые стычки, в мангазейском массовом сознании укоренилась мысль, что китайцы готовят вторжение и лишь ждут подходящего случая, чтобы двинуть на север свою вооруженную стомиллионную орду. В 1990-е годы страх перед китайским нашествием усилился: СССР рухнул, его наследница РФ сокращала армию и отводила от границы войска, а КНР, напротив, уверенно шла в гору. Появление на улицах Мангазейска китайских гастарбайтеров и торговцев-челноков лишь подстегивало эти опасения.
– Они нас и без войны захватят, расселятся тут и все! – уверенно и скорбно повторяли мангазейцы.
И хотя к началу «нулевых» к китайскому присутствию люди успели попривыкнуть и страх перед мирной колонизацией или вторжением НОАК несколько ослаб, настороженно-негативное отношение к Китаю и китайцам сохранялось. И вот теперь, благодаря Панасюку, «Православный Мангазейск» оказался наполнен статьями о великой и древней культуре Китая, о его замечательных традициях и лучезарном будущем – в общем, пиетет перед великим соседом елейными потоками истекал из епархиального издания.
А во-вторых, невозможно было не заметить, что если Китай Панасюка интересует очень и очень сильно, то Мангазейск и мангазейцы ему не интересны. На взгляд мангезейской общественности, выходило совсем скверно: страну и народ, которые они привыкли считать враждебными, епархиальное издание рассматривало под лупой и при каждом удобном случае норовило облизать, а их самих не считало нужным даже замечать. Для провинциального самолюбия получалась страшная обида, которую Панасюк нанес, сам того не замечая – и тем самым сделал ее особенно тяжелой.
Интерес отца Евгения к Китаю был совсем не случаен. Прибыв в Мангазейск и ощущая себя здесь этаким культуртрегером, он сразу же начал искать способ извлечь максимальную выгоду из своего нового положения, которое сам он, разумеется, рассматривал как временное. Особенно раздумывать ему не пришлось, ибо как раз в это время в Московской Патриархии стали звучать голоса о том, что, мол, надо нести свет православной миссии на Восток, что рядом с нами живет огромный китайский народ, великий во всех отношениях, а некоторые топовые церковные публицисты в своих рассуждениях дошли до того, что Китай-де должен, приняв православие, стать Четвертым Римом. Миссионерство среди китайцев стало одним из мейнстримных направлений, зацепившись за которое, можно было сделать себе имя, обрасти связями в Москве (если повезет, даже и в синодальных кругах), а там, глядишь, на карьерном горизонте замаячили бы и церковные награды, и престижные и хлебные назначения… По крайней мере, так это выглядело в теории. Получив в свое распоряжение епархиальную газету, Панасюк решил если не превратить ее в миссионерское издание, ориентированное на Китай (что было не так-то просто по той причине, что выходила она все-таки на русском языке), то по крайней мере максимально сфокусировать ее на китайской тематике. Синодальные бюрократы все равно ее читать не станут, а для имиджа проповедника – просветителя китайцев – это было достаточно серьезное основание. А там, глядишь, удастся и раздел на китайском языке сделать или сайт запустить – и вот тебе и готовое портфолио выдающегося миссионера!
Перспектива виделась отцу Евгению настолько лучезарной, что на ее фоне глухое недовольство мангазейских аборигенов казалось ничтожной мелочью. В конце концов, как сказали бы мудрые и древние соседи, повозка богдыхана не может останавливаться из-за жука, ползущего через дорогу…
Так, между делом, будучи увлечен своими карьерно-миссионерскими планами, Панасюк ударными темпами сколотил против себя нечто вроде оппозиции, куда входили и священники, которым его академический аристократизм был бельмом на глазу, и обиженные авторы «Православного Мангазейска», и, конечно же, Шинкаренко, волею архиерея низведенный до уровня верстальщика и получивший дополнительный бонус в виде хамской прощальной заметки.
– Благословите! – раздался тихий, не лишенный некоторой мелодичности, женский голос. Обладательницей его была Зинаида Шаблыкова, незаметно зашедшая в помещение редакции. Отец Кассиан привычным жестом преподал ей благословение, а Шинкаренко беззвучно приветствовал ее широкой улыбкой. Зинаида, которую все как-то сразу стали величать Зинаидой Юрьевной, уже две недели работала в Епархиальном управлении и сейчас осваивала высокое искусство газетной верстки. Наставником ее был Шинкаренко.
– Как настроение? – весело и бодро спросил он ее.
– Боевое, – в тон ему, но при этом с приличествующей сдержанностью ответила она.
– А где отец Евгений? – вмешался в разговор благочинный.
– Не знаю, – ответил Шинкаренко.
– Отец Евгений сказал, что у него дела, а план газеты он занесет завтра, – сказала Зинаида Юрьевна.
– Дела у него… – недовольно пробормотал благочинный. – Что у него могут быть за дела?
Зинаида Юрьевна пожала плечами:
– Я так поняла, что он молебен поехал служить к кому-то из своих духовных чад…
– Ну ясно, – резюмировал отец Кассиан, еще раз недовольным взглядом окинул редакционное помещение и направился к выходу.
– Обедать пойдешь? – все в том же воинско-оптимистическом тоне обратился Шинкаренко к Зинаиде Юрьевне.
– Не откажусь, – ответила она.
Вместе они вышли из редакции и отправились в трапезную. За священническим столом никого не было, а за столами для простых смертных сидели Алла Герасимова и старший иподиакон Григорий. Алла, опустив очи долу, сосредоточено ковыряла слипшийся ком рисовой каши – очередное уродливое творение полуюродивого кулинара Феди. Григорий, сидевший напротив нее, пытался вести с ней нечто вроде светской беседы и широко улыбался, отчего его слегка раскосые глаза стали окончательно похожими на две дугообразные щели.
– Привет! – все так же бодро приветствовал Сергеич Аллу.
– Привет! – ответила она.
– Благословите… – тихо сказала ей Зинаида. Она всех вообще в церковной среде неизменно приветствовала словом «благословите». Архиерейские келейницы видели в этом проявление особого благочестия и искреннего стремления к монашеской жизни.
– Здравствуйте, – с легкой иронией ответила ей Алла.
– Иди к нам! – позвал ее Шинкаренко, вместе с Зинаидой Юрьевной прошедший за священнический стол. Алла на секунду оторвалась от каши. С одной стороны, на священническом столе были некоторые интересные вещи, которых на прочих столах не имелось. Например, в этот раз туда попала рыба горячего копчения, пожертвованная кем-то на панихиду. За время пребывания в Мангазейске Алла уже успела несколько отвыкнуть от высоких стандартов потребления и научилась ценить подобные маленькие радости епархиальной жизни. С другой стороны, в нагрузку к копченой рыбе за тем же столом находилась Зинаида Юрьевна, отношения с которой у Аллы как-то сразу не сложились и продолжали не складываться. Она не успела еще решить, что перевешивает – Зинаида или рыба, но в разговор молниеносно встрял Григорий:
– Между прочим, Александр Сергеевич, те столы только для священников, – заявил он Шинкаренко. Старший иподиакон был весьма раздосадован двумя вещами: тем, что у него пытаются сманить столь приятную собеседницу, а также тем, что его авторитет в глазах означенной собеседницы демонстративно роняют.
Шинкаренко молча махнул рукой на Григория и снова обратился к Алле:
– Ты идешь?
– Да нет, я уж тут. С народом, – ответила она к вящей радости старшего иподиакона, лицо которого, казалось, готово было разорваться от широчайшей улыбки.
– Ну смотри, – ответил Шинкаренко и приступил к молчаливому и вдумчивому истреблению пищи.
– Ангела за трапезой! – сказала ей Зинаида Юрьевна.
– Спаси, Господи! – разделяя слова, с явной иронией ответила Алла.
* * *
– Алла! Подойди сюда! – крикнула мать Варвара, заметив Аллу Герасимову, когда та возвращалась вечером в свой домик-сарай рядом со Свято-Воскресенским храмом. Та, естественно, подошла.
– Зайди-ка к нам на кухню! – распорядилась архиерейская келейница. Разумеется, это тоже было сделано. Там уже находились Павла и еще какая-то тетка из числа добровольных помощниц матушек, сосредоточенно чистившая картошку.
– Вот что, Алла! – начала Варвара. – Что там у тебя за дела с Григорием?
– С Григорием? – удивленно ответила та. – Какие у меня с ним могут быть дела?
– Такие же, как и у всех бывают, – укоризненно сказала Варвара. – Что это ты такое затеяла?
Наконец до Аллы дошло, на что намекает архиерейская келейница. Предположение было настолько неожиданным и абсурдным, что она непроизвольно рассмеялась.
– Мать Варвара! – сказала она, давясь смехом. – Вы хотите сказать, что у меня с Григорием ро-оман?..
– Алла, ты это, ты напрасно смеешься! – Варвара явно не была склонна разделить ее веселье. – Мы уже знаем, как вы там щебечете…
Услышав про то, что она со страшим иподиаконом «щебечет», Алла начала уже откровенно хохотать.
– Простите, – сказала она, вытирая ладонью выступившие от смеха слезы.
– Ты зря смеешься, я серьезно тебе говорю! – продолжала Варвара. Павла же качала головой, молча и укоризненно.
– Ну матушка, ведь действительно смешно! – ответила Алла. Ее эта ситуация пока что веселила. В отличие от обеих монахинь, она еще очень хорошо помнила свою прежнюю жизнь, состоявшую из недвижимости класса люкс, дорогого вина и виски, мерседесов S-класса и, конечно же, соответствующего формата мужчин, в чиновной иерархии занимавших место не ниже мэра или замгубернатора, а в бизнесе оперировавших суммами от пяти нулей (разумеется, долларов). Представить себе на месте таких вот солидных господ Гришу – тридцатилетнего колхозного парня (в буквальном смысле колхозного, родом он был из деревни под Мангазейском), окончившего девять классов и ПТУ – это было и вправду смешно. Точнее, как минимум смешно. Как максимум это было оскорбительно.
– Алла, мы же тебе добра желаем! – жалобно подала голос мать Павла.
– Да, добра желаем! – продолжила свою атаку Варвара. – Не надо тут перед нами это самое, видели уже вас, знаем все про вас. Ты имей совесть-то, не пудри мозги парню, в конце-то концов!
От бредовой оскорбительности этого заявления у Аллы перехватило дыхание.
– Да и сама смотри! Чтоб, в общем, заканчивала ты это все! Тебе-то тоже это все ни к чему совершенно! И мы за тебя перед твоим отцом отвечаем, так что будем за тобой смотреть! Глаз да глаз!
– Понятно, – ответила Алла. – Я могу идти?
– Ну иди уже…
Возвращаясь в свой жилой сарай, Алла обдумывала произошедшее. Ситуация ей не нравилась со всех сторон. Конечно, когда она ехала в Мангазейск, она предполагала, что будет вести, так сказать, более воцерковленный, можно даже сказать, наполовину монастырский образ жизни. Собственно, для того все и затевалось. Но она не собиралась становиться послушницей и уж тем более не намеревалась вверять руководство своей жизнью архиерейским келейницам. В конце концов, она по-прежнему оставалась мирянкой и намеревалась оставаться ей впредь. И полагала, что у нее есть естественное право на свою личную жизнь и некое личное пространство. Куда те же монахини, может быть, и имеют право входить, но, что называется, не без стука. А сейчас они не просто вошли, не постучав, но прямо-таки вломились и начали наводить свои порядки. «По какому, собственно говоря, праву?» – мысленно спрашивала себя Алла.
Кроме того, раздражала сама нелепость предъявленных к ней претензий. Заподозрить ее в совращении Григория – это было и глупо, и как-то даже унизительно… Еще бы в совращении Феди из трапезной заподозрили. Откуда вообще им эта мысль могла взбрести в голову?
В принципе, кое-какие – правда, совершенно микроскопические – предпосылки для этого были. Дело в том, что Григорий в последнее время стал чрезвычайно сильно озабочен своим холостым статусом. Владыка, само собой, предлагал ему монашество, но сам старший иподиакон от этой перспективы категорически отказывался и изъявлял желание жениться. Проблема была лишь в том, что желание таковое у Григория было, а вот подходящих кандидатур – не находилось. То есть незамужних девушек и женщин было на приходе немало, но Гриша, будучи старшим иподиаконом и в каком-то смысле архиерейским любимцем, абы на ком жениться не хотел. Идеал его имел довольно смутные и расплывчатые очертания, но было ясно, что супруга ему нужна православная, красивая и обходительная. А такие среди прихожанок Свято-Воскресенского храма попадались только из среды интеллигентной. С высшими образованиями, иногда несколькими, а иногда и кандидатскими диссертациями.
И хотя Григорию они подходили вполне, но вот он им, со своими ПТУшными штудиями и деревенским воспитанием, был как-то не близок. И дело было не только в ПТУ и колхозных манерах. Последние лет семь Гриша практически постоянно находился при храме, буквально изнуряя себя работой на церковное благо. Он действительно был искренним, верующим человеком, готовым пахать во славу Божию, совершенно не жалея себя (благо, крепкое молодое здоровье позволяло). Нередко после воскресного всенощного бдения Гриша работал до пяти утра. Потом ложился поспать на старом продавленном диване в ризнице, завернувшись в свой подрясник, а уже в семь утра вставал и начинал готовиться к литургии.
– Гриша! – не раз говорил ему отец Игнатий. – Ты б с ума не сходил. Побереги здоровье.
Но Григорий либо отмалчивался, либо, смущенно улыбаясь, тихо говорил:
– Ничего! Ерунда!
Отдыхом же у него считалось поехать на полдня домой к родителям – чтобы попахать еще и там.
Понятно, что сверх этого времени у него не оставалось решительно ни на что. А уж тем более – на обычных, светских женщин, которые ему нравились, но с которыми он сталкивался не чаще, чем, например, среднеарифметический житель мегаполиса сталкивается с аистами или журавлями. И так же, как такой житель практически ничего не знает о повадках аистов и журавлей, Григорий ничего не знал о том, как строить общение с обычной женщиной.
Но он отчаянно пытался, полагаясь на скудный ресурс природного такта, инстинкт и набор простых рецептов, почерпнутых из вековой народной мудрости. Последнее часто оказывалось фатальным. Так, он был убежден, что женщины любят силу и решительность. По этой причине он очень решительно посватался к одной девушке с внешностью южной красавицы-вампа и почти дописанной кандидатской. Чем удивил ее до степени ужаса. Заметив, что сватовство не задалось, он решил увеличить градус решительности:
– Вот, я пойду в церковь и не выйду оттуда, пока ты не согласишься за меня замуж пойти!
И засел в Свято-Воскресенском храме. Девушка с недописанной диссертацией бежала от него, а потом еще и нажаловалась своим друзьям, которые нажаловались Евсевию, и все окончательно завершилось выговором Григорию. Который как был, так и остался холостым.
Надо отдать справедливость и Григорию – к подобного рода перформансам он прибегал не слишком часто. Чаще он пытался понравиться своей потенциальной невесте, заводя с ней разговоры (что было не слишком-то просто при его косноязычной и сбивчивой речи) и улыбаясь как можно шире. Именно эту тактику он избрал, когда на епархиальном горизонте появилась Алла. Тот факт, что по своему происхождению она принадлежала, мягко говоря, к существенно более высокой социальной страте, его ничуть не смущал. Да и он видел ситуацию иначе. Высокая социальная страта была где-то за горизонтом, временным и географическим. А здесь и сейчас, на приходе Свято-Воскресенского храма, он был самым видным (из неженатых) мужчин. И то, что Алла находилась в шаговой доступности, делало ухаживание за ней более простым. (Разумеется, только в теории.) Так что Гриша пытался с ней разговаривать, иногда и не без успеха, улыбался широко-широко и грозился в обозримом будущем подарить электрочайник, которого Алле в ее хибаре действительно недоставало.
Что же до Аллы, то она воспринимала все эти карикатурные шевеления архиерейского иподиакона как некий забавный фон, на который она и внимания-то почти не обращала. К тому же и пересекались они с Григорием крайне редко и всегда случайно (по крайней мере, со стороны Аллы речь точно шла лишь о случайных пересечениях). Казалось, что всю эту ерунду и заметить-то со стороны сложно.
Но вот, однако, заметили. «Кто-то настучал…» – решила Алла, готовясь ко сну. Другого объяснения быть не могло. Кто-то обратил внимание на неуклюжие телодвижения Гриши, доложил об этом, да еще и доложил так, что вышел чуть ли не разврат. «Разврат с Гришей… Фу, бля! – мысленно прокомментировала Алла. – И чей-то это пытливый ум до такого додумался?.. А впрочем, я догадываюсь…»
Догадаться действительно было не так уж сложно.
* * *
Вечерняя служба закончилась. Отец Игнатий, придерживая кончиками пухлых пальцев края игуменской мантии, вышел на амвон и произнес стандартное: богослужение закончено, литургия начнется как обычно, в восемь утра. Прихожане, до того сохранявшие молчание, оживились, начали переговариваться друг с другом, и Свято-Воскресенский храм наполнился тихим гулом. Отец Игнатий чинно, но при этом и быстро вошел в алтарь, быстренько повесил на крючок свою игуменскую мантию и, окинув взором нескольких алтарников, начавших обычную вечернюю уборку, перекрестился и вышел на солею.
Прихожане понемногу расходились. На хорах с сухим треском захлопывались книги, хлопали дверцы книжных шкафов и одна за другой тухли лампочки. Обычный будний день и такая же обычная, рядовая, служба. Такие дни и такие богослужения отец Игнатий любил больше всего. Архиерейские службы раздражали своей суетой, особенно обременительной в тесном пространстве Свято-Воскресенского храма. До 1917 года это был римско-католический костел, к тому же построенный на кладбище (а Московской Патриархии его передали уже после войны, в 1946 году). Маленький храм маленькой общины, пространство которого изначально было никак не приспособлено для византийского обрядового размаха. Для иерейского чина он подходил вполне, а вот от архиерейского, кажется, начинали трещать стены, особенно в дни больших праздников. Да дело и не только в кубатуре: если бы все было налажено, чинно и спокойно, то суеты можно было избежать. Но налаженности-то и не было. Пономари, которых набирали из числа учащихся Пастырских курсов, первые полгода вообще толком ничего не соображали, вызывая истерики у старшего иподиакона (ибо за все упущения Преосвященный спрашивал с него и с настоятеля). К концу обучения они начинали более-менее разбираться в происходящем в алтаре – но тут как раз подходил их срок, кого-то рукополагали, кого-то нет, но все они покидали Свято-Воскресенский храм, и все начиналось по новой. Так что суета и нервотрепка стали постоянными спутниками архиерейских богослужений. Сверх того, Евсевий, верный своему принципу, что молитвы много не бывает, в полном соответствии с Типиконом распорядился заменить все полиелейные службы всенощными бдениями. А с недавних пор заимел привычку служить не просто всенощное, но всенощное с акафистом. Такие службы иногда затягивались до десяти часов вечера.
«Благочестия великое таинство!.. – иронически рассуждал отец Игнатий. – Оно, конечно, дело хорошее. Только вот архиерей к службе пришел, помолился, с акафистом или без акафиста, и ушел. У него там уже и стол накрыт к ужину, и все у него там готово. И утром так же – помолился, сказал проповедь про строительство собора и искалеченную грехом душу и поехал. А у меня, например, стол никто не накроет. И даже чайник не вскипятит. И после службы все время надо куда-то бежать. И служить нужно не тогда, когда Бог на душу положит, а семь дней в неделю…»
Тут он даже немного скривился. Попов не хватало, но это лишь полбеды. Недавно Евсевий, как и предвидел отец Игнатий, рукоположил Владимира Ревокатова во священники. Теперь отец Владимир должен был служить обязательный сорокоуст – сорок дней подряд совершать все утренние и вечерние богослужения. Это древний благочестивый (без дураков, благочестивый) обычай, по сути – священническая практика, за время которой новопоставленный иерей должен «обкатать» свои знания, навыки и умения. За первой литургией за отцом Владимиром следил архиерей (как, собственно, и положено). Потом смотрел отец Игнатий. Дальше, по логике вещей, Ревокатов должен был все делать самостоятельно. Но Евсевий, понаблюдав, как именно он это делает, благословил отцу Игнатию пребывать с ним неотлучно на протяжении всего сорокоуста.
«Рукоположил этого дебила, а мне теперь за ним бегать! – мысленно ворчал отец настоятель. – Что ж на меня-то стрелки перевел? Сам бы с ним молился, заодно и посмотрел, кого хиротонисал».
Срок сорокоуста еще не истек, но сегодня отец Владимир куда-то делся. Вообще-то деваться он никуда был не должен, но произошедшее отца Игнатия не удивило: он уже знал, что, во-первых, его новоиспеченный собрат-сослужитель почти постоянно делает то, чего не должен, а во-вторых, несмотря на свою тупость, он обладает удивительным талантом выкручиваться и валить все на других, вследствие чего ему все сходит с рук. Как бы там ни было, он сегодня не пришел, и отец Игнатий мог спокойно, без суеты и спешки, но и не растягивая службу, спокойно помолиться. С детства воспитанный при храме, он любил богослужение так же, как поэт любит стихосложение, а художник – написание картин. В алтаре он чувствовал себя так же спокойно и уютно, как ремесленник – в своей мастерской. Ему нравилось, приходя в храм, в радостной спешке облачаться, совершать проскомидию, торопливо читая имена, записанные в большом помяннике и на принесенных из иконной лавки маленьких записках, привычными движениями вынимая частицы из просфоры. Нравилось, выглянув в диаконские врата и убедившись, что хор готов и ждет отмашки, становиться перед престолом, брать в свои руки тяжелое Евангелие и громко возглашать: «Благословенно Царство…» Нравилось смотреть, прочитав положенные молитвы, пока еще хор не закончил пропевать антифоны, на находящийся позади престола большой алтарный образ воскресшего Христа – обычный, софринский, но ставший ему за годы службы в Мангазейске таким привычным и родным. Он любил этот мир, это была его «поповская планида», та единственная точка бытия, где он ощущал себя на своем месте.
И ему становилось больно от того, что его привычная церковная среда начала разрушаться. Причем подтачивали ее не только внешние, мирские силы. Это как раз не казалось ему страшным. Отец Игнатий очень хорошо помнил, как его, еще мальчика, учившегося в начальных классах, во время службы прятали от уполномоченного. Как над ним смеялись в школе и как регулярно унижали его «просвещенные» советские учителя. А уж про конфликт с собственным отцом, который перестал с ним разговаривать после пострига и рукоположения, лучше было и не вспоминать. Не говорил два года ни слова. А жили-то они все это время вместе, в двухкомнатной квартире…
Нет, внешние угрозы не казались ему страшными. Не они уничтожают Церковь. Гораздо страшнее черви, которые заводятся в самой сердцевине церковного древа. «Гниль в костях», если выражаться библейским языком. Вот она пугала его гораздо сильнее. Собственно, от этой-то гнили уехал он в свое время из Казахстана сюда, в Мангазейскую епархию. И вот теперь у него возникло убеждение, что она завелась и здесь. В лице того же Ревокатова. Да и не только его.
Но сейчас не было Ревокатова, и некому было обо всем этом напомнить. Все было как встарь, как «в старые добрые времена», а к тому же сегодня в храм зашел его старый друг, взявшийся исполнять обязанности чтеца – и выполнивший их прекрасно.
– Вот уж чтение так уж чтение! – басом, пародируя приснопамятного Владыку Пахомия, сказал отец Игнатий, увидев спускающегося с хоров отца Ярослава Андрейко. Тот молча и широко улыбнулся.
Пару недель назад отец Игнатий зашел в небольшой полуподвальный магазин, где работал продавцом Андрейко. Владельцем этого заведения был один из бывших прихожан отца Ярослава, по-прежнему относившийся к нему с уважением. По этой причине он не только устроил его на работу, но даже сделал и кем-то вроде совладельца, помогая запрещенному священнику наладить пусть и очень маленький, но свой бизнес. Работа эта была в чем-то даже хуже грузчицкой: возни и беготни было больше, а стоять за прилавком в полуподвальном помещении, при постоянно включенной электрической лампочке, было не очень-то приятно. Но доход его стал хоть и ненамного, но выше. И общаться приходилось не с простыми пролетариями, а с несколько более широким кругом людей. К тому же, теоретически, в перспективе можно было добиться определенных коммерческих успехов. Правда, перспективы эти были весьма туманны, но самое их наличие как-то грело душу.
Изредка к нему забегал отец Игнатий – поговорить о том о сем, поделиться епархиальными новостями и сплетнями. Если раньше отец Ярослав навещал его чуть не каждый день, то теперь, когда у него появилась любящая и любимая жена, совсем недавно родившая дочь, эти визиты вынужденно прекратились. И теперь они виделись только на ходу, в основном – в магазине, где работал Андрейко.
Как-то отец Игнатий, возвращаясь с очередной требы, решил сделать небольшой круг, чтобы проведать старого друга. Как всегда обменялись новостями. И вдруг отец Ярослав неожиданно сказал:
– Знаешь, отец Игнатий, а я ведь тоскую по службе, по алтарю… Не поверишь, чуть ли не каждую ночь снится, что служу.
Сказал – и затих, как будто ощутил некоторую неловкость этой откровенности. На несколько секунд замолчал и его собеседник.
– Вот что, отец Ярослав, – сказал отец Игнатий. – А приходи к нам в церкву как-нибудь на буднях. Народу все равно почти никого нет, почитаешь на клиросе?
– Я же в запрете… – ответил Андрейко.
– Ну, в запрете-то в запрете, но на чтение на клиросе этот запрет на распространяется.
– А Владыка что скажет?
Канонических препятствий для того, чтобы отец Ярослав исполнял обязанности чтеца, не было. Но архиерею могло не понравиться появление на клиросе, пусть даже иногда и только в будние дни, запрещенного попа. Что, в свою очередь, могло принести проблемы настоятелю. И оба друга это прекрасно понимали. Но отец Игнатий знал также и другое: священник, отстраненный от службы, не совершающий литургию, начинает деградировать. А потому очень важно дать ему какую-то нить, связывающую его с Церковью. Или, иными словами, он считал, что его друг нуждается в помощи, и отказать ему он не мог.
– Вот что… Настоятель там пока что я, и кому читать – тоже я определяю, – ответил отец Игнатий. – Каких-то особых распоряжений нет. Вот будут распоряжения – тогда и будем исполнять. А пока… Пока приходи, как будет время.
Собственно, как раз времени-то у отца Ярослава и не было. Каждую минуту, свободную от работы, он старался посвящать семье. Но его супруга, только лишь он упомянул о предложении, сделанном отцом Игнатием, ответила:
– Да, иди, конечно! – и добавила: – Обязательно иди!
И отец Ярослав стал пару раз в неделю появляться в Свято-Воскресенском храме, за вечерней службой, выполняя разом обязанности канонарха и чтеца. Архиерею и благочинному, а равно и архиерейским келейницам он старался на глаза не попадаться. Благо, по вечерам это было не слишком сложно.
Так получалось и сейчас. Андрейко спустился по узкой лесенке, ведущей на хоры, и собирался уже ответить на шутку своего друга, как вдруг в храм вошел Евсевий.
– Ага! – сказал он, увидев отца Ярослава.
«Настучали!» – подумал отец Игнатий, а вслух сказал:
– Благословите!
– Бог благословит! – ответил Евсевий.
Подошел под благословение и Андрейко. После того как он приложился к архиерейской руке, Евсевий задал ему вопрос, коего он не ожидал:
– А ты почему без подрясника?
– Я? – смутившись, переспросил отец Ярослав.
– Ты-ты! Я-то в подряснике!
– Так ведь… Простите… Но я же в запрете…
– Так и что с того, что в запрете? Ты в запрете служить не можешь, крест носить – тоже. А подрясник у тебя никто не отбирал. Более того, скажу, ты его носить обязан. Тем более что вот, читаешь на клиросе.
– Я… Простите, благословите! – растерявшись, ответил Андрейко.
– Бог благословит! – ответил архиерей. – В следующий раз подрясник надевай. И в воскресенье тоже приходи.
Сказав это, Евсевий повернулся и вышел из храма. Отец Игнатий и отец Ярослав переглянулись. Они оба были рукоположены достаточно давно и слишком хорошо знали церковный быт, чтобы что-либо друг другу пояснять. Преосвященный не только не высказал недовольства, но, по сути, проявил сдержанное благоволение. Что, в свою очередь, давало надежду на возвращение к церковной работе или даже к священническому служению.
Надежду весьма смутную, но, однако, вполне реальную.
* * *
Предыдущий день сложился у Евсевия как-то неудачно, нервно и скомканно. Главная мучавшая его проблема – поиск денег на строительство собора – была одновременно и трудной, и неотложной. Работы на стройке продолжались, рабочие успешно забивали сваи и, если стройка не встанет, к лету должны были завершить цокольный этаж. Но стройка как раз и могла встать. Строительно-монтажное предприятие, которое ее вело, было настроено вполне лояльно (контора была связана с железнодорожниками, которые, в свою очередь, были весьма расположены к Патриархии и соответственно настроили своих подопечных). В частности, оно было готово терпеть перебои с финансированием и работать в долг. Но, понятное дело, не до безконечности – хотя бы потому, что требовалось приобретать строительные материалы. Да и рабочие, хоть и были «с пониманием», сидеть два-три месяца без зарплаты не могли.
Поэтому деньги были нужны, и нужны постоянно, чтобы если не полностью покрыть задолженность, то хотя бы пригасить ее. Иначе стройка остановится, а там и превратится в долгострой. И сколько этот долгострой будет стоять, столько он, Евсевий, будет сидеть на мангазейской кафедре. Это, конечно, «не главное», но сидеть на ней слишком долго ему совсем не улыбалось.
Да ладно бы только собор. Евсевий любил строить и, верный себе, затеял строительство нового Епархиального управления (пристройки к жилому дому, находящемуся через дорогу от Свято-Воскресенского храма). Кроме того, по всей епархии он заложил около десятка новых церквей и еще два десятка планировал заложить. Но не находил нужного числа благодетелей, способных напитать сухие строительные планы живительной влагой финансовых потоков…
Вариантов дальнейших действий оставалось немного. (Во всяком случае, немного с точки зрения Преосвященного.) Во-первых, нужно продолжать искать новых благодетелей, искать всерьез и систематически. И, как с горечью отмечал Евсевий, идти на то, чтобы им угождать – быть может, даже преступая в этом угождении какие-то пределы, которые в обычной ситуации переступать не следовало. Во-вторых, всю епархию нужно было переводить в режим жесткой экономии. Последнее он уже начал воплощать. Начал, как и полагается, с самого себя. По штатному расписанию ему, как правящему архиерею, полагался оклад в размере ста тысяч рублей в месяц. Он сократил его до десяти тысяч. И полагал, что это дает ему право частично срезать денежное содержание своему духовенству. «Опять же, надо бы контроль ввести, сколько они с треб получают… чтобы не в карман батюшке, а в епархиальную кассу!» Но слишком много на этом не выгадать. Нужны попы, способные давать приличные отчисления с приходов, а равно и умеющие находить общий язык с благодетелями. Одному всех спонсоров не окучить: ни здоровья, ни времени не хватит столько водки с ними выпить, чтобы они наконец начали раскошеливаться.
С попами же все шло как-то не очень. Не то чтобы совсем плохо, но не так, как запланировано. Изначальный план – положиться на военных, которые должны привнести в епархию дисциплину и практическую сметку – реализовывался с жутким скрипом. Недавно рукоположенного отца Алексия он пока решил оставить в диаконах. Что же касается Ревокатова, тот производил какое-то совсем мрачное впечатление. С запоминанием службы у него проблемы, и с дисциплиной тоже все как-то странно, а хозяйственные его способности так и не проявились. Размышляя о своем ставленнике, Евсевий признался самому себе, что отпускать отца Владимира на приход, где он станет сам себе хозяином, сейчас просто страшно. Оставалось надеяться, что со временем все изменится в лучшую сторону, но то со временем. А работать нужно сейчас.
От всех этих мыслей голова шла кругом. А тут еще испортили настроение два визитера. Первым был Артем Дмитриев, которого в епархиальной среде, в соответствии со святцами, называли Артемием. Это был молодой студент местного истфака, едва ли не единственный верующий на своем курсе, что само по себе было примечательно. Более того, он проявлял вполне искреннюю и горячую религиозность неофита: регулярно ходил на службы, исповедовался и причащался. Поскольку алтарников часто (в первую очередь, летом) не хватало, он был введен в алтарь. Кроме того, Артемий принимал и активное участие в недавно организованном Православном молодежном движении. Из-за этого-то движения он и приходил.
Православная молодежь находилась в ведении отца Кассиана. (Благочинный старался подмять под себя всякую активность, выходящую на Москву, а создание местного отделения Всероссийского православного молодежного движения как раз и было одной из форм такой активности, хотя и далеко не самой многообещающей.) Отец Кассиан, как бывший военный, договорился, чтобы православная молодежь ходила в местный пограничный госпиталь и проводила беседы с пребывающими там на лечении бойцами. Вернее, договориться ему помогли не столько военные связи, сколько связи ФСБшные (к тому времени погранвойска уже вернули Федеральной службе безопасности, было расставшейся с ними в 1990-е), но об этом он сам предпочитал не распространяться, да и не в том суть. Более или менее воцерковленные студенты и студентки стали раз в неделю приходить в госпиталь и рассказывать там что-нибудь о православии. Студентки предсказуемо пользовались большей популярностью, но связный рассказ чаще удавался Артемию. Который, в свою очередь, пришел к мысли, что хорошо бы, чтобы с подобными рассказами (по сути – проповедями) к солдатам иногда приходили не только студенты и студентки, сами еще знающие совсем немного, но и священнослужители. С этой идеей он и обратился к архиерею. Владыка эту идею одобрил и благословил отправиться в погрангоспиталь Ревокатову.
– Вот что, отец Владимир, – напутствовал его архиерей. – Артемий тут у нас в госпиталь ходит, проводит православные беседы. Но хорошо бы, чтоб не только молодой человек в пиджачке им что-нибудь там рассказывал, но и чтоб священник иногда приходил. Так что в следующий раз ты с ним сходи.
– Понял, – без малейших признаков энтузиазма ответил отец Владимир. – Благословите.
Миссионерский поход состоялся. Еще по пути в госпиталь отец Владимир сообщил Артемию, что нормальные солдаты там ни в коем случае лежать и лечиться не могут. Госпиталь – это место, где косят от службы, где могут находиться только «чмошники». В соответствующем духе была выдержана и последующая проповедь отца Владимира.
– Я скажу так, – начал он, когда в столовой собрались все желающие с ним пообщаться. – Вы здесь находитесь на лечении. Понятно, бывает такое дело, бывает. А скажу также, что кое-кто из вас, прямо скажем, косит от службы. Прямо сказать, чмошники…
Солдаты переглянулись. Дежурный офицер, судя по выражению лица, был несколько удивлен таким началом, но, пожалуй, удивлен даже приятно.
– Мне это, прямо сказать, знакомо. Я сам двадцать пять лет отдал воинской службе, все это понимаю. Так вот, нужно понимать: время сейчас непростое. Тяжелое, прямо сказать, время. Страны блока НАТО продолжают свое продвижение на восток. В настоящее время уже принято принципиальное решение о развертывании системы ПРО, направленной на подавление нашего ядерного оружия. В этих условиях необходимо сохранять и крепить боеготовность наших вооруженных сил. Здесь, в Восточной Сибири, ситуация также остается непростой. На протяжении многих лет Китай готовится к вооруженному вторжению на нашу территорию. Не секрет, что территорию Мангазейской области китайцы на своих картах закрашивают в свои цвета. Напряженной также остается обстановка и в соседних регионах. Со времен вооруженных столкновений на Даманском, а также на Жаланашколе, ничего не изменилось. Принципиально не изменилось, – поправился Ревокатов, вспомнивший о том, что с тех пор прошло уже больше тридцати лет, а Жаланашколь и вовсе остался в теперь уже независимом Казахстане.
Дежурный офицер слушал с явным удовлетворением. Штампованные фразы, стандартные для арсенала всякого замполита старой школы, одна за другой вылетали изо рта отца Владимира, лаская суровую советско-офицерскую душу. На солдат они тоже действовали успокаивающе, причем в буквальном смысле: многие из них, интуитивно распознав привычную словесную жвачку, коей их регулярно угощали на службе, начали потихоньку дремать.
Ревокатов же продолжал вещать еще минут сорок, живописуя коварство НАТО и КНР и окончательно вгоняя в сон все живое. Наконец, решив, что миссия его выполнена, он подвел итог:
– Так что ваш долг, как, прямо сказать, солдат, как православных, – слово «православный» в его речи прозвучало впервые, – защищать священные рубежи нашего… нашего православного Отечества.
Заминка после слова «нашего» была не случайной – Ревокатов чуть было, по старой привычке, не ляпнул «нашего социалистического отечества», но вовремя спохватился, ввернув более уместный термин.
После этого основательно ошарашенный Артемий выступил с кратким сообщением о том, каких святых сегодня вспоминала Православная Церковь и какое сегодня читалось Евангелие…
Все еще пребывая в состоянии ошарашенности, Дмитриев добрел до Свято-Воскресенского храма, где как раз находился отец Игнатий. Ему-то он и поведал историю миссионерского похода отца Владимира в погрангоспиталь.
– А вы расскажите об этом архиерею! – посоветовал отец Игнатий.
– Как-то неудобно… – вяло возразил Артемий, не утративший еще «мирского» представления о том, что стучать нехорошо.
– Расскажите-расскажите! – настойчиво повторил настоятель. – Пусть архиерей знает, какое он чудо рукоположил!
Решив, что отец Игнатий преподал ему на сей счет благословение, Артемий с неофитской последовательностью отправился к Евсевию и все подробно ему описал.
– Вышло немного странно. Отец Владимир рассказывал о блоке НАТО, а я – о дневном евангельском чтении… – закончил свой докладодонос Дмитриев.
Евсевий никак не проявил своих эмоций, скрыв их за обычной для него сдержанной доброжелательностью, однако этот отчет о ревокатовском миссионерстве оставил у него осадок весьма неприятный. К тому же после Артемия заявился другой посетитель – Анатолий Карнухов, он же Иннокентий Океанский-Романов. Если бы Владыка Евсевий был более типичным патриархийным архиереем, он смог бы оградить себя от излишних посетителей. Но в Мангазейске были еще живы старые обычаи, когда почти любой человек – по крайней мере, церковный человек – при известной настойчивости мог преодолеть барьер в виде Натальи Юрьевны и даже благочинного.
Что же до Анатолия Карнухова, то он считался одной из достопримечательностей церковного Мангазейска – хотя и весьма специфической. Внешне это был грузный, с шарообразным пузом, пятидесятилетний человек с острым носиком (сам он называл его орлиным), на котором держались толстые очки в дешевенькой оправе жуткого дизайна. Чуть пониже очков и носа имелись усы и бородка клинышком – несколько неряшливая вследствие того, что за ее формами Карнухов следил самостоятельно, не прибегая к услугам парикмахеров. Клинообразная форма ей также была придана не случайно: «Как у государя императора!» – всегда подчеркивал он, подразумевая Николая II.
В прошлом у Карнухова был весьма продолжительный опыт церковной жизни. Он стал выпускником самого первого набора Пастырских курсов, еще при Евграфе, и от него же получил благословение на ношение подрясника. А до того, по словам Анатолия, он не один год провел на разных церковных послушаниях в Иркутске и Омске, и тамошние архиереи очень хотели его рукоположить. Он мог долго рассказывать о том, какие перед ним открывались перспективы, как омский Владыка уже собрался было купить ему дом, какой бы у него был замечательный приход, и прочее в этом роде. Правда, обо всем этом в Мангазейске знали исключительно и только со слов самого Карнухова. Кроме того, он считал себя человеком творческим, а именно писал рассказы (притчевого типа) о церковной жизни. В главном герое этих рассказов все узнавали самого Карнухова – правда, не вполне реального, а такого, каким он бы хотел стать. Иногда это был умудренный сельский протоиерей, иногда – иеромонах, с которым неизбежно приключалось что-то чудесное и поучительное. С творческими усилиями Карнухова было связано и второе его наименование – Океанский-Романов, каковым он подписывал свои произведения. Причем в последнее время, благодаря отцу Евгению Панасюку, рассказы Океанского-Романова начали публиковаться на страницах «Православного Мангазейска». Оставалось загадкой, почему Панасюк, безжалостно разогнавший старый круг авторов, вдруг проникся интересом к творчеству Карнухова (надо сказать, весьма безхитростному творчеству). Но, однако же, это произошло, и на полосах епархиального издания впервые появились такие рассказы, как «Чудо на сельском приходе» и «Случай в дороге». Героями обоих произведений был, само собой, иеромонах, в манерах которого чрезвычайно прозрачно угадывался автор.
Образ иерея или иеромонаха Карнухов избирал из раза в раз по той причине, что очень хотел рукоположиться во священники. По его словам, Евграф уже собирался это сделать, но тут как раз настало время уезжать. А Евсевий с хиротонией отнюдь не спешил.
– Вообще-то непонятно, – злобно рассуждал Анатолий, поймав какого-нибудь случайного собеседника из числа церковной публики на улице. – В епархии попов не хватает, а меня, видите ли, рукополагать еще рано! А то, что я уже девять лет при Церкви, на разных послушаниях – это ничего! Ра-ано!
После этих слов он обычно вынимал из кармана сигаретную пачку, привычным движением двух длинных желтых ногтей вырывал у сигареты фильтр, затягивался – и продолжал перемывать кости архиерею и говорить о своих заслугах и превосходных личных качествах. О том, что он был женат вторым браком, на разведенной, он, впрочем, не распространялся.
Но в этот раз он пришел на прием к Евсевию не из-за хиротонии и даже не из-за трудоустройства. Анатолий Карнухов считал протоиерея Виктора Джамшадова своим духовным отцом. И хотя общались они в последние годы исключительно по телефону, да и то нерегулярно, Карнухов счел своим долго вступиться за опального протоиерея.
– Благословите, Ваше Преосвященство! – сказал Анатолий, после благочинническо-секретарских мытарств вошедший в архиерейский кабинет.
– Бог благословит! – ответил Евсевий, вставая из-за стола (он почитал неуместным преподавать благословение сидя). Карнухов приложился к епископской руке, после чего был приглашен за стол.
– Что у вас? – спросил Евсевий, чуть кивнув.
– Я по поводу дела отца Виктора Джамшадова… – начал Карнухов.
– Джамшадова? Так!
– Он, Владыка, был моим духовным отцом. Да я и сейчас считаю его моим духовным отцом…
– Даже после того, что он сделал? – спросил Евсевий, пристально вглядываясь в лицо своему собеседнику.
– Вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить! – немного оживившись, продолжил Карнухов. – Я с ним вчера созванивался…
– Где он сейчас? – тихо бросил вопрос архиерей.
– В Симферополе, у родственников. Он сейчас диссертацию докторскую пишет…
– Пишет, значит… Ну и что там у вас за разговор был? – уже несколько раздраженно снова спросил Евсевий.
– Владыка, отец Виктор сказал, что в Кыгыл-Мэхэ его дело закрыли. Его оправдали! Полностью!
Евсевий молчал. О том, что прокуратура закрыла дело Джамшадова, он был осведомлен в тот же день, когда это решение было принято. Действительно, Джамшадов был оправдан вчистую. Как оказалось, сирота, от имени которого выступали кыгыл-мэхинские казаки и «Тафалаар Хоолой», отозвал все свои показания и даже признался, что за оговор протоиерея ему обещали дать денег и новый магнитофон. А еще он был очень обижен на отца Виктора за то, что однажды тот его прилюдно, со свойственной ему южной экспрессией, обругал – за это подросток и вознамерился ему отомстить. Дознаваться, кто именно подговорил воспитанника приюта написать донос, прокуратура и милиция почему-то не стали…
Теперь не оставалось никаких юридических оснований держать Джамшадова в запрете. И Преосвященный это, конечно, прекрасно понимал. Но при этом он не мог не думать о двух других важных нюансах, связанных с этим делом.
Первое – сразу после вынесения оправдательного приговора «Тафалаар Хоолой» выдала материал, очень прозрачно намекающий на то, что на несчастного мальчика, мол, было оказано давление. Кем? «Высокими покровителями» протоиерея Виктора Джамшадова. Которые у него, кстати сказать, действительно были. С другой стороны, у Евсевия – так же как и у большинства внешних наблюдателей – не возникло ощущения, что эти покровители действительно за отца Виктора впрягались. Наоборот, как только возникло это крайне скверное дело, все его сановные друзья явно отскочили от него как можно дальше. Но, в любом случае, слухи о том, что решение было несправедливым, а в действительности Джамшадов виновен, уже ходили по Кыгыл-Мэхэ. Даже если они и были запущены искусственно, то с ними приходилось считаться.
Но все это было сущей мелочью по сравнению с фактором номер два. По большому счету, только он Евсевия и безпокоил, хотя признаться в этом он себе не решался. Ведь если отец Виктор после официальной юридической реабилитации будет возвращен к служению в Тафаларское благочиние, то он снова станет там одним из самых влиятельных священников. Да, репутация у него, конечно, подмочена, и это несколько снизит его влияние. Но именно снизит, а не уничтожит совсем. Даже если он не будет благочинным, все равно его вес окажется очень и очень значительным. А это значит, что тафаларские церковные сепаратисты, домогающиеся собственной епархии, снова укрепят свои ряды. А вот это некстати. Совсем некстати! На ближайшем епархиальном собрании Евсевий собирался объявить о некоторых весьма неприятных новшествах: оклады всему духовенству в епархии будут срезаны на 25 %. Кроме того, благочинных обяжут организовать более строгий учет тарелочного сбора и пожертвований за требы. И, наконец, самым богатым приходам архиерей собирался предложить регулярно жертвовать на строительство кафедрального собора. Разумеется, характер этого предложения будет добровольно-принудительный.
Евсевий не сомневался, что подобные меры заставят возроптать многих. Что же до Джамшадова, то его возвращение в строй – по сути, триумфальное, после снятия всех обвинений – могло превратить этот ропот в организованную оппозицию, которую, к тому же, поддержат власти Тафаларской республики. «Нет, такого я не допущу!» – твердо решил он.
Наконец Евсевий прервал молчание:
– Он это оправдание… – тут архиерей сделал характерный жест пальцами, которые едва ли не на всех континентах означает «деньги». Подразумевалось: Джамшадов подкупил прокуратуру.
– Что-о? – Карнухов удивленно вытаращил глаза, которые, за огромными линзами очков, казались еще больше. – Отец Виктор?!.. Да как?!.. Да откуда?!.. У него и денег-то нет!
– На это у него все есть, – ответил Евсевий.
– Так, значит, Владыка, вы его так и оставите в запрете? – напрямую спросил Карнухов.
– Это уж мы тут решим сами, – с легкой язвительностью сказал Евсевий. – Что-то еще?
– Ничего, – ответил Карнухов, поднялся из-за стола и уже у дверей добавил: – Да только вот, Ваше Преосвященство, суд без милости не сотворшему милости! – и вышел. Архиерей ему ничего не ответил. Посидев с минуту, снял трубку телефона внутренней связи, соединенную с кабинетом благочинного:
– Отец Кассиан? Вот что… На будущее, Карнухова ко мне пускать не надо. Вот так. Все!
Два визита, Дмитриева и Карнухова, заставили Евсевия погрузиться в раздумья. Отставные военные, «отцы-командиры», на которых он первоначально делал ставку, показывали себя с самых пугающих сторон. По крайней мере Ревокатов, который поначалу казался архиерею самым оборотистым и сообразительным. «Бог даст, со временем пооботрется… – размышлял Евсевий. – Да глядишь, из Сормова того же толк будет… Хотя он тоже такой… В облаках витает!» Интерес к китайскому языку и Китаю вообще казался Преосвященному признаком некой житейской неопытности. В каком-то смысле не без оснований, потому что в материально-хозяйственной сфере отец Алексий действительно никогда особых успехов не проявил.
Получалось грустно и тревожно. Позарез требовались кадры, которые могли бы разделить с епископом груз административно-экономической деятельности. И навыки-то требовались на первый взгляд не особо хитрые: умение наводить порядок да способность выколачивать денежку, столь необходимую для строительства кафедрального собора. Но пока что кадры подбирались с трудом.
А теперь еще и Карнухов со своим Джамшадовым. «Ишь ты! – вновь и вновь думал о его словах Евсевий. – Суд без милости не сотворшему милости! Кем это ты, Океанский-Романский, себя возомнил? О суде он мне говорит, а!» Но, мысленно возмущаясь дерзости Карнухова, Евсевий где-то в глубине, на некоем втором уровне сознания, понимал: в этих дерзких словах была известная доля справедливости. И совсем не малая.
«Господи, помилуй… – продолжал размышлять Евсевий. – А не слишком ли жестконько я тут действую?.. Ведь и вправду, надо же снисходить, прощать… Ну, не Джамшадова, конечно! Этот против Святой Церкви пошел, недаром его Господь так окоротил! Но кого тогда? Ведь всегда как будто за дело, а уж по канонам… По канонам так и вовсе их всех гнать надо! А если все-таки прощать, то кого? Дело Джамшадова закрыли? Ну так и что с того… Мало ли таких дел закрывают…»
Евсевий перебирал имена и понимал: если кого из попавших под каток его архиерейских прещений и следовало простить, то в первую очередь, конечно, отца Виктора Джамшадова. Просто потому, что никаких оснований – по крайней мере веских, доказанных оснований – для наказания не было. Но именно его миловать было нельзя. Ибо Джамшадов, вновь вернувшись к служению, неизбежно создаст смуту, которая похоронит новый собор…
«Нет! Невозможно!» – твердо решил Евсевий.
Зная от матери Варвары о том, что запрещенный отец Ярослав «повадился» ходить в Свято-Воскресенский храм, он вечером специально зашел туда, рассчитывая его застать. Что и произошло. «Вот, тебя-то я и помилую!» – пронеслось в сознании Евсевия, после чего он и велел отцу Ярославу прийти на службу в воскресенье.
Жертва милосердия и смирения во имя идущей стройки была принесена. И более в тот вечер Евсевий о Джамшадове не думал.
Глава 11 Молодежь
Снег, тонким слоем покрывавший мартовские мангазейские улицы, проносился перед глазами отца Игнатия, который по обыкновению быстрым шагом, летящей своей походкой, двигался от Епархиального управления к дому. При таком темпе поднять взгляд он мог, только остановившись. Зимы в Мангазейске были почти безснежные, что давало коммунальным службам моральную санкцию не убирать снег вовсе. И потому тоненькое снежное покрытие, обыкновенно появлявшееся еще в октябре месяце, скоро превращалось в идеально отполированный подошвами и шинами гололед, с которым приходилось считаться до самого начала мая. А отец Игнатий был довольно грузен, и потому малейшее его невнимание было чревато падением – причем весьма болезненным. Соответствующий богатый опыт у него уже был, и расширять его он не хотел. Да и, по правде сказать, окружавшие его виды не были столь уж живописны, чтобы любоваться ими много лет подряд. Что же до снега и песка, которые вынужденно созерцал отец игумен, то от мыслей они его не отвлекали – а подумать было о чем!
За последнюю пару месяцев произошло несколько примечательных событий.
В начале февраля архиерей провел епархиальное собрание духовенства – что уже насторожило, так как собрание это было внеплановым. Как оказалось, насторожило не напрасно. В отличие от ранее случавшихся собраний, когда съехавшимся священнослужителям отец Василий (ныне Кассиан) в армейско-бюрократических терминах объяснял всю глубину их духовно-нравственной деградации, после чего Преосвященный произносил что-то наподобие проповеди и на этом действо завершалось, в этот раз случилось натуральное оглашение новой программы. Программа же получалась такой:
– Вы все, конечно, знаете, что мы сейчас строим новый кафедральный собор, – начал Евсевий.
«Попробуй забудь!.. – подумал тогда отец Игнатий. – Захочешь – не забудешь! Новый собор… Второй после храма Христа Спасителя… Лечебница для искалеченной души… Маяк чего-то там…»
– Вот, отец Кассиан уже говорил о том, что с финансовой стороной у нас дела идут неважно. Мы сейчас и собор новый строим, храмы новые закладываем, и перед Патриархией задолжали, – продолжал Евсевий. – Конечно, с Божией помощью, мы стараемся изыскивать средства. Но момент очень тяжелый. Прямо скажу, отцы, нам всем надо поднапрячься…
И вот тут и был выложен полный пакет нововведений: оклады духовенству сокращаются на 25 %. Все пожертвования с треб, тарелочный сбор и спонсорская помощь подлежат строгому учету. Кроме того, в епархию велено сдавать полную отчетность по «черным» кассам. Ибо в Мангазейской епархии, как и во многих других, были приходы, которые вели двойную бухгалтерию: одна официальная, «белая», которая подавалась госорганам, а вторая неофициальная, «черная», которая никакими документами не фиксировалась (хотя о ее существовании все знали, в том числе и власти). Была такая «черная» касса и в самом Епархиальном управлении. В мангазейских реалиях подобная система была нужна не столько для того, чтобы снижать налоговую нагрузку (ибо сколько-нибудь значительных коммерческих предприятий епархия не осуществляла), сколько для упрощения работы – дабы можно было распоряжаться деньгами, не прогоняя их через бухгалтерскую «машинерию», а просто перекладывая из конверта в конверт. Что же касается более-менее зажиточных приходов, то им, в свою очередь, это давало возможность относительно произвольно устанавливать размер отчислений в епархию. По сложившейся практике, настоятель засылал определенную сумму, и, если она считалась «приличной», на этом вопрос закрывался и никто не выяснял, сколько конкретно денег попало в приходскую кружку. Естественно, там, где хоть какие-то деньги водились, настоятели были склонны несколько приуменьшать свои доходы. И далеко не всегда это делалось в корыстных целях. Ибо в каждой общине, даже и состоятельной, были какие-то свои неотложные нужды: кто-то делал ремонт, кто-то строил воскресную школу, а кто-то пытался развивать трезвеннические братства – и все это требовало средств.
Но теперь свобода маневра исчезала. Архиерей не только объявил о том, что в епархии устанавливается тотальный контроль над всяким финансовым ручейком, но и дал понять, что с нарушителями нового порядка церемониться не будут.
– И по канонам спросим. А скажу, что если до того дойдет – то не только по канонам, но и по закону.
Впрочем, большинство приходов Мангазейской епархии открылось совсем недавно и никакими «черными» кассами похвастаться не могло – там и в «белых» была зияющая пустота. Но окормлявшим их священникам приходилось, пожалуй, еще хуже: для них официальная зарплата, устанавливаемая Епархиальным управлением, являлась основным источником средств к существованию. Теперь же ее урезали на четверть. А каждую десятку или максимум сторублевку, которую сунут после молебна или панихиды, отныне необходимо было «учитывать»…
Сверх этого Евсевий предложил:
– Тем приходам, которые уже более-менее встали на ноги, надо что-то жертвовать и сверх обязательных отчислений на строительство кафедрального собора. Скажем, взять на себя такое обязательство, чтобы каждый месяц определенную сумму жертвовать. Ну, это, конечно, уже по силам… Но, повторюсь, такое время сейчас, что надо поднапрячься.
Попы, глядя на своего архипастыря, молчали, чуть приоткрыв рты и стараясь не вздыхать. Мысль о том, что настало время поднапрячься, дошла уже до самых тугих умов. И даже беглого взгляда на хищно заострившуюся физиономию отца Кассиана было достаточно, чтобы понять: поднапрягать будут сильно.
Заканчивая финансово-экономическую часть, Евсевий сказал:
– Я знаю, что все это вам особой радости не доставляет. Но нужно понимать: я не для своего удовольствия всего этого требую. Сами можете вспомнить, я никогда, когда на приход приезжал, никаких «конвертов» не собирал, никаких там себе подарков не заказывал. Ничего такого. Сейчас мы строим кафедральный собор, это наше общее дело. Стыдно, прямо сказать, что наша епархия – последняя в России, у которой своего кафедрального собора нет. И это – не моя какая-то стройка, и не только мангазейская. Это всей нашей епархии нужно, а потому мы все должны потрудиться. С Божией помощью, с молитвой все удастся. Кстати, замечу, что надо активнее привлекать жертвователей, благотворителей. Сейчас это нужно. Ну, а насчет сокращения окладов скажу, что мне полагается зарплата в сто тысяч рублей. Я получаю десять! Так что если кто думает, что я тут это самое, вам одно, себе другое, так это не так!
Духовенство продолжало внимать с полуоткрытыми ртами. Возражать, разумеется, никто не решился. Да и что тут возразить? Разве не нужно строить собор? Нужно, конечно. Что оклады и так мизерные? Так ведь попам только на четверть сократили, а самому себе Владыка – вон, в десять раз. Что новых спонсоров нужно искать? Надо, кто бы спорил… Не с чем спорить. Даже если бы спорить было можно.
Остальные новости отца Игнатия зацепили не так сильно, хотя и они были довольно примечательны. Внезапно, причем публично, архиерей отмежевался от того идеологического курса, который при нем в епархии стал подразумеваться как обязательный. На том же епархиальном собрании, покончив с финансово-экономической частью, Евсевий, как водится, произнес нечто вроде проповеди – архипастырского наставления пастырям, в которой вдруг решил коснуться творчества покойного митрополита Иоанна (Снычева), Душенова и национализма.
– Чтоб вы понимали, митрополит Иоанн сам книг никаких не писал. Говорить об этом везде, понятно, не следует, но иметь в виду надо. Их все за него Душенов писал. Есть там, конечно, и здравые, хорошие вещи. Но много и другого. Все вот эти призывы к борьбе, с теми, с другими – все это проявление различных страстей. И православному человеку все это неполезно. По-хорошему, даже читать неполезно. А тем более – распространять. Я знаю, есть у нас люди, которым все это нравится. Так вот, прямо скажу, что нравится оттого, что душе покою разные страсти не дают. И вообще, нужно помнить, что в Царстве Христовом нет ни эллина, ни иудея!..
Что до отца Игнатия, то его подобная декларация немного позабавила (ибо еще несколько месяцев назад Евсевий открыто транслировал противоположные идеи), а отчасти даже порадовала. (Сам он ни к монархизму, ни тем более к черносотенству никогда симпатий не питал, хотя и ярым противником этих идей не был.) Но это задело Шинкаренко, который по-прежнему занимался версткой газеты и делопроизводством.
– Хотелось бы знать, – рассуждал Сергеич, – откуда архиерею известно, кто писал книги митрополиту Иоанну Снычеву?
– Сергеич, ты же знаешь, что писал Душенов, – отвечал ему отец Кассиан, сохранявший с Шинкаренко более-менее дружеские отношения.
– Не знаю, – упрямо продолжал Шинкаренко. – И архиерей знать не может. И самое главное. Вот какое отношение это имеет к вопросам епархиального собрания?
Благочинный демонстративно громко выдыхал, не желая продолжать спор.
Наконец, третьей новостью, вызвавшей в епархиальных углах и закоулках шушуканье, стал резкий карьерный рост Артемия Дмитриева – студента-пятикурсника, которого Евсевий в последнее время приблизил к себе. Артемий теперь все чаще писал для Преосвященного тексты его выступлений, а в случае необходимости – и статей. Он начал ездить с архиереем в командировки, в том числе и в Москву. А совсем недавно Евсевий отправил за какую-то очередную провинность отца Евгения Панасюка в запрет, и сверх того, убрал его с должности редактора «Православного Мангазейска». Новым главредом, ко всеобщему удивлению, был назначен Артемий. Не то чтобы это решение было абсурдным или глупым – во всяком случае, газета хуже не стала. Скорее, даже наоборот: старые ее авторы вернулись на временно оставленные ими полосы, а разнообразная «китайщина», которую развел Панасюк, полностью исчезла. И отец Игнатий не мог не отметить, что «Православный Мангазейск» после этого стал выглядеть более адекватно. К поведению Артема тоже особых претензий не было. То есть, конечно, случившееся назначение ему весьма и весьма польстило, и парень в своих глазах явно вырос. Но при этом, что называется, берега видел. С Шинкаренко продолжал общаться уважительно, даже подчеркнуто уважительно, с кружком внештатных авторов так же поддерживал ровные отношения. Единственным, кого он обидел, оказался Карнухов. С застенчивой улыбкой (отчего получилось особенно нагло) Дмитриев объявил ему, что «пока он является редактором», карнуховские рассказы в епархиальной газете публиковаться не будут. Карнухов обиделся очень сильно и теперь при упоминании Дмитриева натурально скрежетал зубами. Но, поскольку сам он был фигурой совсем непопулярной, на имидже Артемия этот эпизод почти не сказался.
Отца Игнатия новый, юный главред не особо расстроил: он успел присмотреться к Артемию за то время, что тот алтарничал, и хотя восторгов по поводу сего юноши не испытывал, но и каких-то серьезных претензий предъявить ему не мог. Тут смущало другое – не сам Дмитриев, а скорее наметившаяся в последнее время тенденция к созданию нового, довольно специфического окружения Преосвященного. Конечно, и раньше архиерейские келейницы пользовались определенным влиянием на Евсевия – что по церковным меркам вполне естественно. Однако нельзя было не заметить, что теперь это влияние возросло в разы. Они уже, не стесняясь, давали распоряжения по поводу обустройства территории Свято-Воскресенского храма. Старший иподиакон, Григорий, уловив новый тренд, стал теперь для них расстилать в храме специальный ковер. Сам по себе этот пыльный ковер брежневской эпохи, который с грохотом и треском расстилался поверх линолеума, никакого дополнительного комфорта не добавлял. Но для «матушек», которые стояли на нем во время богослужения, он стал чем-то вроде малой кафедры – символом их возросшего влияния и нового статуса. Теперь мать Варвара иногда позволяла себе вмешиваться в ход службы, посылая соответствующие записки в алтарь. То требовала оставить ей столько-то просвирок, а то распоряжалась, какому диакону или священнику читать Евангелие. Евсевий не возражал, и всем было очевидно: Владыку такой порядок устраивает.
Кухонный кружок, образовавшийся вокруг келейниц, превратился в их свиту, находившуюся при Варваре и Павле почти неотлучно. Интеллектуальным лидером этого сообщества стала Зинаида Шаблыкова, которая одновременно была чем-то вроде архиерейской секретарши. И было заметно, что влияние этого кружка все более увеличивается.
И вот, наконец, появился Дмитриев. На общем фоне он выглядел даже симпатично, а в смысле образования и эрудиции уверенно опережал всех прочих архиерейских пажей. Но, однако, смущало то, что он, появившийся совсем недавно в качестве одного из участников Православного молодежного движения, так быстро стал одной из значимых фигур в Епархиальном управлении. «Кто все эти люди?» – вновь, с чувством горькой иронии, задавал себе вопрос отец Игнатий. Благочинный, которого он сам помнил еще советским офицером, сомневающимся агностиком – теперь он дает не только ему, но и всем попам духовные советы… Зинаида Юрьевна из скромной то ли девушки, то ли старой девы, неловко переминавшейся с ноги на ногу у самого входа в храм, превратилась в грозного стража владычного покоя – напарницу отца Кассиана… Архиерейские келейницы, которые должны командовать на кухне, почему-то стали командовать в алтаре… Артем, полтора года назад впервые в своей жизни пришедший на исповедь, на которой по бумажке, запинаясь от жгучего стыда, зачитывал список своих грехов, теперь возглавляет епархиальное издание. А человек, это издание задумавший и основавший в те годы, когда Артем сидел за школьной партой, оказался у него на положении технического работника… «Неужели эти – и вправду самые достойные?..»
Отец Игнатий поморщился. Позицию архиерея по этому вопросу он только что выяснил – настолько, чтобы более вопросов не задавать.
Вчера было воскресенье – Неделя о мытаре и фарисее, которую настоятель кафедрального собора иронически называл «профессиональным праздником священнослужителей». А сегодня, в понедельник, у него получался последний день, когда можно переговорить с архиереем. Завтра тот уезжал в Кыгыл-Мэхэ, а оттуда (кстати, вместе с Дмитриевым) летел в Москву. Приближался день патриаршего тезоименитства, и Евсевия пригласили на торжественное богослужение – что было и очень кстати, и казалось добрым знаком. К тому же ему хотелось навестить многих своих высокопоставленных духовных чад и потенциальных меценатов в надежде выцедить из них финансовые соки, столь потребные соборной стройке. Так что командировка планировалась затяжная, и не факт, что архиерей вернется даже к началу Великого поста. Потому все вопросы нужно либо решать сейчас, либо отложить на потом.
Зинаида Юрьевна окинула критическим взглядом эллипсоидную фигуру отца Игнатия, но спрашивать, назначено ли ему, все-таки не решилась.
– Благословите, – тихо, излучая смирение, сказала она.
– Бог благословит! – ответил отец Игнатий. – Владыка у себя?
– Да.
– Есть кто-нибудь у него?
– Нет…
Тогда он подошел к двери и прочитал Иисусову молитву. И, услышав «аминь», вошел внутрь.
Первым делом он хотел обсудить с Евсевием действия епархиальной бухгалтерши, которая одновременно заведовала и кассой кафедрального прихода. Отец Игнатий не любил возиться с финансовыми делами и к тому же полагал, что чем меньше их касаешься, тем меньше шансов влезть в разнообразные «последствия». Но поскольку деньги от благотворителей шли в приходскую копилку через него (ибо находил этих благотворителей он), то заниматься финансами ему все-таки приходилось. К тому же по новым правилам нормы внутренней отчетности ужесточились, а потому ковыряться в бухгалтерских бумагах приходилось больше, чем раньше. Это отца Игнатия совсем не радовало. Ибо он и епархиальная бухгалтерша друг друга давно и сильно недолюбливали. А теперь, когда настоятель кафедрального собора стал регулярно спрашивать ведомости по приходу и расходу, конфликт обострился до крайней степени.
– Дурь какая-то! – заявила во время последней их встречи бухгалтерша, когда он снова – вынужденно! – осведомился о бухгалтерской отчетности.
– Что? – спросил отец Игнатий.
– Дурь! Нечего вам этим заниматься! Напутаете тут, а мне потом все это разгребать! Вообще, я вам больше вашу печать не дам!
– Как это? – удивленный столь запредельной наглостью, спросил отец Игнатий. У него, как у настоятеля прихода, была, конечно, официальная печать, которой скреплялись все документы кафедрального храма.
– Так! Теперь вы будете ко мне за благословением ходить!
Единственное, что оставалось в этой ситуации отцу Игнатию – это встать и уйти. Бухгалтерша числилась за Епархиальным управлением и не подчинялась ему даже официально. Но терпеть столь хамское отношение было, мягко говоря, неприятно. Да и невозможно: отчетность-то благочинный требовал с него, как с настоятеля, а он даже не мог посмотреть бухгалтерские книги…
Все это отец Игнатий изложил архиерею.
Евсевий его внимательно выслушал. Немного помолчал, а потом медленно, внушительно сказал:
– Да, искушение… Но что с ней делать? Уволить-то ее нельзя.
– Простите, Владыка, но… Почему? – не вытерпев, спросил отец Игнатий.
– Ну, как… Тут же абы кого ставить нельзя. А она – верующий человек. Где ей замену искать?
Повисла пауза. «Она верующая, ее выгнать нельзя, – подумал отец Игнатий. – А я, что ли, неверующий? Меня шпынять можно?»
– Простите, Ваше Преосвященство, но как же мне тогда работать? – спросил он архиерея.
– Ка-ак!.. – медленно, по обыкновению растягивая слова, сказал Евсевий. – Спокойней надо! Мудрее! Смиренней! Ты же священник, игумен! Без всяких там драм, не дергаясь – вот, спокойно все и решать!..
Сообразив, что по первому вопросу все кончилось полным провалом, отец Игнатий перешел ко второму – более личному. Поскольку теперь все деньги, полученные за требы, полагалось сдавать в епархиальную кассу, а и его без того маленький оклад был урезан на четверть, отец настоятель оказался серьезно стеснен в средствах. И самое скверное заключалось в том, что средства эти были нужны не ему.
Квартиру, в которой он проживал, арендовала епархия. Что же до бытовых удобств, то тут отец Игнатий был скромен до настоящего аскетизма. Он годами жил среди картонных коробок с вещами и полуразвалившейся советской мебели, а свою рясу, подрясник и немногочисленные домашние вещи стирал на руках, обходясь без стиральной машинки. Ел дома он тоже не слишком часто, обедая либо в трапезной, либо у спонсоров или же в ночном клубе, находившемся по соседству. Последнее было связано с тем, что заместительница тамошнего гендиректора была его соседкой по лестничной клетке. Отец Игнатий, будучи человек весьма общительным и, в сущности, добродушным, как-то быстро и незаметно с ней подружился. И она стала с ним подолгу беседовать, рассказывая о своих профессиональных успехах («Сашка-то наш в Иркутске конкурс по стриптизу выиграл, теперь в Москву поедет!») и, конечно, подкармливать. В результате отцу Игнатию была выдана карточка, дававшая право на ежедневный безплатный обед в означенном ночном клубе, поэтому игумен и настоятель кафедрального храма стал постоянным его посетителем. Правда, дольше получаса он там обычно не задерживался. Выходила хорошая экономия – и времени, и денег.
В результате у отца Игнатия копились дензнаки, чем активно пользовались его друзья, знавшие, что у него в случае чего всегда можно взять в долг. Но копил он, конечно, не ради этого. В Казахстане остались его родители, сестра и племянники, которых он хотел перевезти в Мангазейск.
– По крайней мере жить будут в русской среде, – пояснял он цель своего плана особо доверенным знакомым.
И вот на покупку квартиры для своей родни отец Игнатий и откладывал, по мере сил, каждую копейку. Теоретически, копить оставалось совсем недолго, но тут как снег на голову обрушилась общеепархиальная экономия. Понимая, что многого добиться не удастся, отец Игнатий пришел с довольно скромной просьбой: хоть немного поднять ему оклад.
– Понимаешь, если тебе поднимать, то всем надо поднимать, – ответил ему на это Евсевий. – Кстати, и мне тоже. Я должен получать сто тысяч. А я получаю десять! Так что пока – извини, не можем! Да и вообще, тебе, монаху, о деньгах надо поменьше думать! Куда тебе их тратить-то?
Отцу Игнатию оставалось лишь смиренно наклонить голову и удалиться. Ибо о планах по перевозке родни рассказывать сейчас было явно неуместно.
«Куда мне, монаху, их тратить! – думал он, направляясь к дому. – А куда тебе, монаху, сто тысяч рублей, которые ты типа должен получать?! Вот об этом почему-то никто не спрашивает! Самое ведь что смешное: если архиерею нужны новые туфли, ему покупают из епархиальной кассы. И еду ему оттуда же оплачивают. И все поездки. Тут не то что десять – тут ноль рублей можно себе оклад назначить, все равно хватать будет. А вот нам, попам, как жить? Нам-то не то что еду с одеждой епархия не покупает – вон, уже и собственную печать давать отказываются!..»
Отец Игнатий почувствовал, что чем дальше, тем более ничтожной величиной в епархиальном космосе он становится. А его епископ обрастает, как корабельное днище, моллюсками, всевозможными прилипалами. И прилипалы эти сплетаются в монолитную корку, которую прошибить скоро будет невозможно. От желаний и хотений этой уродливой корки уже зависит очень много, а дальше, похоже, будет зависеть еще больше…
* * *
– Ты хоть наелась? – спросил, как обычно, негромко и гнусаво, Георгий, архиерейский келейник, иподиакон и по совместительству водитель. Маша, она же Марья, она же Мария Молотникова, утвердительно кивнула.
– Наелась! – добавила она, окончательно прояснив ситуацию.
Диалог происходил в простенькой закусочной, в одном из спальных районов Кыгыл-Мэхэ, где находилась квартира матери и сестры Маши. Отца не было. Но в отличие от многих аналогичных семейных ситуаций, когда отца не было по результатам развода или он уходил из жизни как-то глупо и похабно – например, умирал от алкоголизма, – история машиной семьи была несколько более драматичной. В конце 1990-х отец был убит, точнее – зарезан, недалеко от того гаража, в котором стояла его старенькая «Нива». Убит, как обмолвился следователь, достаточно профессионально – в два удара ножа; начинающие и случайные убийцы так, как правило, не могут. Кто это сделал, так и осталось невыясненным. Врагов у погибшего почти не было, а те, что были, никогда бы не решились сводить с ним счеты таким образом. Ограбление? Но денег у него с собой не было, да и вообще – почти не было. Сколько-нибудь внятных концов, за которые можно было ухватиться, не нашлось, и менты, тихо матерясь по поводу «еще одного “висяка”», об этом деле забыли. Кто это мог быть? Кто угодно – но никто конкретный. Мало ли… Гопники и дворовая шпана, которой чем-то не понравился «этот мужик»… Некто «серьезный», перепутавший его с кем-то другим, значимым и важным… Гастролирующий серийный убийца… Версий было множество! В 1990-е годы люди как-то привыкли к газетным заметкам о том, что найден еще один труп. И если это не был труп близкого человека, уже и переставали такие сообщения замечать.
Но для Маши, ее сестры и мамы – это как раз и был самый близкий человек. Их мир в один день изменился до неузнаваемости и мог бы и вовсе рухнуть, но тут мать проявила неожиданную силу воли и рациональность мышления. Чтобы обезпечить своим дочерям достойное будущее и пристойное настоящее, она буквально через десять дней после похорон устроилась на вторую работу. Денег было немного, но распределяла она их очень толково, и в результате их семья не бедствовала. При этом мать, несмотря на все свои работы (и вскоре наметившийся карьерный рост), каждую свободную минуту отдавала только своим детям. А опору, как это часто бывает в подобных случаях, и мама, и обе ее дочки нашли в Церкви. И вскоре после гибели главы семьи стали самыми деятельными прихожанками одного из кыгыл-мэхинских храмов.
Тут, впрочем, нужно оговориться: речь шла отнюдь не о некой психотерапевтической помощи, которую многие люди стремятся получить в церковных стенах. (Или, как минимум, не только о ней.) Парадоксальным образом, мать к порогу храма толкнул рациональный склад ума, столь сильно обострившийся после гибели мужа. Она логически решила: на земле ее мужу она ничем помочь не может. Значит, нужно искать то средство, которое даст ему помощь за земными границами. А это, по ее мнению, имелось только в Церкви.
И, удивительно, но несмотря на пережитое горе и сопутствующие ему беды, ни мать, ни ее дочери при всей своей церковной активности как-то не уклонились ни в радикальный фундаментализм, ни в обычное злобное кликушество, которые, подобно проказе, массово поражают церковно-женскую публику.
Внешне они тоже не испортились. Маша хотя ходила регулярно на воскресные и праздничные службы, но при этом не перестала следить за собой. Носила очень скромные (по средствам!) и более чем благопристойные платья – но это были именно женские платья, а не какие-то безполые комья тряпья. Когда шла в храм, косметикой не пользовалась. Но в мирской жизни прибегала к помаде, подводила глаза – тоже очень умеренно, но, однако, достаточно для того, чтобы иной раз мужчины на улице оборачивались. В общем, воцерковление, соответствующая атмосфера в семье и даже некий неофитский пыл отнюдь не подавили в ней женственности.
Эта-то неподавленная женственность и сделала ее этакой первой леди после того, как она поступила на певческое отделение Пастырских курсов в Мангазейске. Скромная, по подростковому еще стеснительная в свои девятнадцать лет, на фоне деревенских «колхозных» девчонок или же «борющихся со страстями» неофитского типа девиц Маша смотрелась чуть ли не светской дамой.
И вскоре в епархиальном микрокосме случилось то, что бывает в любом социуме: на первую девушку вскоре обратил внимание первейший представитель тамошней молодежи – Георгий. Который тоже, пожалуй, в обычной жизни не мог претендовать на звездный статус: тихий, немногословный (к тому же еще и с ярко выраженным дефектом речи), имевший лишь среднее образование и, ко всему прочему, бывший носителем покрытого угрями лица. На плейбоя, мачо или богемного интеллектуала он не тянул. Но здесь, на епархиальной орбите, он был очень значимой величиной. И потому его с Машей «дружба» приобрела дополнительное и весьма лестное для них измерение, став этаким союзом двух успешных людей. Со стороны это могло выглядеть карикатурно, но сами они свои отношения осознавали именно так. Так же смотрели на них и остальные учащиеся Пастырских курсов, алтарники и прочая приходская публика.
Нынешняя их встреча в кыгыл-мэхинской забегаловке тоже вполне укладывалась в этот дискурс «успешности». Сейчас они сидели в дешевеньком кафе, «бузной»: здесь готовили бузы, традиционное тафаларское блюдо (по сути, те же самые пельмени, только существенно большего размера и сваренные на пару). В таких заведениях обычно закусывали дальнобойщики, гопники, спивающиеся граждане и студенты. Но, однако же, это было пусть и эконом-эконом-класса, но все-таки «заведение»! Самая возможность посещения которого указывала на некую экономическую и социальную зрелость. А кроме того, в бузную Георгий с Машей прибыли не как-нибудь, а на джипе – машине достаточно солидной для того, чтобы подъехать на ней даже к полноценному ресторану!
Джип находился в полном распоряжении Георгия. По обыкновению, он выполнял в поездках при архиерее обязанности водителя. Владыку вместе с Дмитриевым он благополучно доставил в Кыгыл-Мэхэ, откуда они четыре часа назад вылетели в Москву. (Архиерей часто так делал, на пути в Москву заодно заезжая проведать свое самое богатое и самое проблемное благочиние.) Назад Евсевий со своим помощником намеревались прилететь уже сразу в Мангазейск, куда Георгий должен был отогнать машину. Однако торопиться у него особых причин не было: Преосвященный вернется из своей командировки не ранее чем через две недели. А в его отсутствие никто в епархии Георгию команды отдавать не станет. Стало быть, джип может задержаться на пару-тройку дней в пути, и все это время он будет в полном его распоряжении. Чем он и решил воспользоваться. Тем более что Маша была в гостях у матери и собиралась возвращаться в Мангазейск, на курсы. По официальной версии, возвращение должно состояться на поезде, через два дня. По факту же у них с Георгием имелся джип и три дня времени для того, чтобы прибыть в Мангазейск.
– Ну, тогда поехали, что ли? – с теплотой в голосе прогнусавил Георгий.
Маша кивнула. Они поднялись из-за покачивающегося пластмассового столика, покрытого пивными пятнами и усыпанного окаменевшими хлебными крошками, и направились к выходу. Впереди было три дня, которые принадлежали только им. И если Георгий чувствовал себя счастливым, то Маша и вовсе пребывала в состоянии эйфории. Ей казалось, что не было в тот момент более счастливого на земле человека, чем она. Бедное, почти нищее настоящее ее это как будто не задевало. Да это и понятно: зажиточной жизни она не знала, а самое главное, молодость давала ей тот неисчерпаемый ресурс физических сил, оптимизма и жизнелюбия, который делал неощутимым все бытовые проблемы, включая почти полное отсутствие денег. Что же касается будущего, то оно и вовсе представлялось ей лучезарным. В Георгии она уже давно видела собственного мужа, не больше и не меньше. Ни ее верующая мать, ни она сама не допускали мысли о том, что у нее с Георгием могут быть какие-то серьезные отношения без брака. Маша действительно была верующей девушкой и действительно боялась блуда, блудного греха. А дальнейшей своей жизни – по крайней мере, счастливой жизни – без Георгия она не представляла. Да и вообще – как без него?.. Казалось, на этот вопрос нет и не может быть никакого ответа. Значит, впереди – свадьба. Конечно же, венчание, в ставшем уже родным Свято-Воскресенском храме в Мангазейске… Может быть, по такому случаю венчать их будет сам Владыка, ведь Георгий – его многолетний келейник, шофер и иподиакон… А потом, наверное, будет застолье – наверняка в новой трапезной, в новом Епархиальном управлении. (Это казалось Маше верхом роскоши и, так сказать, престижа; да и в пределах епархиального мира так оно и было.) Конечно, богатых подарков не будет, не будет и обычного, «мирского», веселья, но ей это и не требовалось. Все будет гораздо лучше – красиво, но при этом спокойно и благопристойно… А потом – счастливая семейная жизнь… Дети (обязательно много)… О том, где они будут жить и чем зарабатывать себе на жизнь, Маша как-то еще не думала. Впрочем, особо размышлять на эту тему не приходилось: они будут при Церкви. Георгий по-прежнему будет помогать Владыке. Возможно, после женитьбы тот рукоположит его в диаконы. А она будет петь в хоре, в котором потом станет регентом. Может, будет учить пению детей в воскресной школе…
Видел ли Георгий их совместное будущее таким же? Пожалуй, оно рисовалось ему не столь елейно-сусальным, но в целом картина была идентичная. Он тоже был настроен – по крайней мере считал, что настроен – очень серьезно. То есть намеревался жениться. И, конечно же, также мечтал о своей семье, немного – о детях. А также о том, что после свадьбы Владыка наконец перестанет предлагать ему и в шутку, и всерьез принять монашество и вообще станет меньше грузить поездками и командировками.
* * *
Артем Дмитриев бережно, кончиками пальцев, держал епископскую митру и внимательно оглядывал алтарь храма Христа Спасителя. В отличие от архиерейских служб в родном Мангазейске, здесь иподиаконствовать было совсем просто – при условии, конечно, что ты присутствуешь на службе в качестве «сопровождающего лица» при одном из епархиальных Преосвященных, а не состоишь при Патриархе. А Артемий как раз и был таким приезжим сопровождающим лицом. Евсевий взял его в Москву уже второй раз. Но впервые Артем присутствовал за патриаршей службой.
Как обычно на торжественном богослужении в храме Христа Спасителя, провинциальных архиереев понаехало великое множество. Вблизи Престола стояли постоянные члены Священного Синода и иные, высокого ранга, Преосвященные. Что же касается прочей епископской массы, то она была отодвинута в третий-четвертый ряд, где и пребывала в полнейшем смирении и молчании, покорно и поспешно расступаясь перед патриаршими протодиаконами и даже алтарниками, буде те изъявляли желание через оную массу пройти. Никакого деятельного участия в службе, ввиду своей многочисленности, эти «простые» епископы принять не могли, и потому им оставалось только внимательно молиться – по обычным священническим служебникам малого формата. Впрочем, и это оставалось делом частным и добровольным, поскольку ни Патриарху, ни синодальным митрополитам, ни даже вечно дерганому и истеричному храмовому благочинному не было никакого дела до молитвенных подвигов «понаехавших» архиереев. Потому и Артему, который на обычных службах должен был раздувать и подавать кадило, зажигать и подносить дикирий или трикирий и прочее в этом роде, тут было делать решительно нечего. Он привычно отслеживал всякое движение своего Владыки, осматривал алтарь патриаршего кафедрального храма («Бог весть, когда еще удастся здесь побывать!»), немного молился и немного размышлял.
Все, что с ним происходило в последнее время, ему очень нравилось. Казалось, жизненный путь его определился твердо и ясно, и определился так, как ему и хотелось. Скоро он должен окончить университет. И если его однокурсники судорожно и надрывно гадали, куда бы им податься, то он уже твердо знал: он будет при Церкви. Точнее, официально станет работником Епархиального управления, а неофициально он и так им давно является – как главред «Православного Мангазейска».
Артемий оставался вполне искренним в своей вере и потому, конечно, пытался быть смиренным и просто скромным. Но, несмотря на все старания, он не мог подавить волну радостного и тщеславного восторга, накрывавшего его при мысли о том, как многого он достиг в свои двадцать с небольшим лет!.. Ну, то есть понятно, что это не по его заслугам, а только лишь милостью Божией… Но до чего же хорошо! Здорово просто! Он – уже и главный редактор епархиальной газеты. И архиерейский алтарник (алтарником он называл себя, опять же, из скромности – все прочие величали его иподиаконом). И, де-факто, секретарь Владыки. То есть официально его, конечно, на эту должность никто не назначал, но он уже писал для Евсевия тексты его выступлений (которые тот регулярно зачитывал то в университетах, то на торжественных собраниях) и даже готовил его доклады для разных церковных конференций. Получались эти доклады в действительности довольно безхитростными, местами – почти детскими. Слушатели, особенно из числа московских профессоров и столичных церковных интеллектуалов, иронически улыбались, когда Евсевий твердым голосом зачитывал лихо, по-неофитски пламенно завернутые фразы. Но самого Евсевия такой стиль вполне устраивал, а Артем просто писал то, что считал нужным. И был этим очень доволен.
И от его внимания, конечно, не ускользнуло, что не только в Мангазейске, но и в иных городах и весях его, Артемия Дмитриева, уже начинают воспринимать как не совсем обычного человека. Он – не просто молодой парень, почти мальчик. Он – приближенный Владыки, его доверенное лицо. И почтение, оказываемое Евсевию как архиерею, так или иначе простиралось и на Артемия. Конечно, когда они с Преосвященным оказались в Чистом переулке, он этого не ощутил (в Чистом переулке любой клерк построит не то что провинциальных иподиаконов, но и провинциальных архиепископов). Но вот во время общения Евсевия с его духовными чадами – среди которых попадались и очень успешные бизнесмены, и сравнительно крупные чиновники – чувствовалось некое особое к нему отношение. Как чувствовалось оно со стороны клириков и работников того московского прихода, где обыкновенно, бывая в столице, останавливался Евсевий. Теперь там вместе с ним остановился и Дмитриев. Тут на него смотрели снизу вверх не только работницы трапезной, но даже священники – за исключением лишь отца настоятеля, однокашника Евсевия по семинарии. Казалось, они готовы расшибиться, чтобы выполнить любую его просьбу.
К чести Артема, надо сказать, что он этим не пользовался. Но само это отношение, само ощущение собственной резко возросшей значимости грело душу чрезвычайно сильно. Радовало внимание. Радовало уважение. Радовало доброе, отеческое отношение Владыки. Наконец, хоть и в последнюю очередь, радовали и некоторые материальные вещи – вроде ухи с осетриной, бывшей дежурным блюдом во время пребывания в Москве (архиерейский однокашник был настоятелем весьма богатого прихода, и своего владычного однокурсника принимал не без известного размаха). Но все же самым главным для Артема оставалось ощущение причастности к большому и важному делу. Делу, которое для него только-только начинается, но в котором он играет уже не последнюю роль. А сколько всего впереди! Если его сверстники, вместе с ним выпускавшиеся из университета, смотрели в будущее с тревогой и весьма смутными надеждами, то перед ним расстилалась совсем другая жизнь: интересная, яркая, солнечная, наполненная трудом – но важным, почетным и любимым трудом! – жизнь, похожая на восход солнца в океане: такая же безбрежная, такая же прекрасная и такая же вечно юная. И он вновь и вновь мысленно повторял слова митрополита Макария (Булгакова), прилагая их, естественно, к себе: «Сильно нравится мне моя теперешняя жизнь, в полном смысле рабочая и деловая».
А сверх этого, появилось в жизни Артема нечто другое, столь же важное для него, как и для абсолютного большинства людей его лет. Вернее даже, не нечто, а некто. Именно о ней – а это, конечно, была она – он в очередной раз задумался сейчас, в алтаре храма Христа Спасителя. Задумался настолько сильно, что забыл протянуть Владыке его митру, и тот, повернувшись, сам молча забрал ее у него из рук.
Артем, как обычно, смутился, равно коря себя за блудный помысл и за всегдашнюю свою нерасторопность. Евсевий же не обратил на эту ситуацию никакого внимания: он знал, что его помощник ловок и точен лишь при составлении текстов и неуклюж во всех прочих делах.
* * *
Артем познакомился с Надей Загоскиной вскоре после того, как вернулся из Москвы, где проходил первый и учредительный съезд Всероссийского православного молодежного движения в 2000 году. Предполагалось, что туда поедут представители уже существующих по епархиям молодежных организаций – всевозможных клубов, объединений, братств и т. п. Но в Мангазейской епархии ничего подобного не было и потому, как часто случается в подобных ситуациях, в Москву снарядили тех, кто хотя бы формально имел отношение и к православию, и к молодежи. Среди таких спешно отысканных кандидатов был и Артемий, незадолго до того ставший алтарником.
Наверное, поездка на съезд так и осталась бы забавным развлечением четырех студентов, задарма скатавшихся в Москву, если бы не характер Артемия, которому казалось постыдным просто так, без всякой отдачи, совершать вояжи за церковный счет. И потому он, вернувшись в Мангазейск, развернул бурную активность, результатом которой стало появление местного Православного молодежного движения. Точнее, изначально оно мыслилось как подразделение всероссийской одноименной структуры. Но, как это часто бывает в Патриархии, после громкого объявления о начале деятельности, с выступлениями и обедами, об этой инициативе быстро забыли. И потому отделение Всероссийского православного молодежного движения стало просто местным Православным молодежным движением, окормлять которое взялся отец Василий (впоследствии Кассиан).
Очень скоро ПМД превратилось в место сбора всей сколько-нибудь активной околоцерковной молодежи. Приходили туда разными путями. Приходили просто интересующиеся, иногда из числа студентов, иногда – учащиеся техникумов, которым поначалу было интересно даже не православие, а вообще некая «идея» или «смысл жизни». Приходили парни, уже что-то делавшие на приходах – большей частью алтарники. Но основным кадровым поставщиком все-таки оставался выше уже упоминавшийся кружок местной православной интеллигенции, ядро которого, в свою очередь, составляли преподаватели мангазейского педуниверситета. Обыкновенно среди их студентов – тех, кто писал у них курсовые и дипломные – находилось несколько верных паладинов, преимущественно женского пола, готовых пойти за ними куда угодно и когда угодно. Иногда – даже и в Церковь. Именно таким путем происходило воцерковление значительного сегмента местного филфака. Размах миссионерской работы отдельных преподавателей оказывался впечатляющим: каждый год на пасхальную службу, благодаря их усилиям, приходил десяток, а то и больше, новообращенных представителей студенчества. (По большей части – представительниц.) Самих преподавателей-миссионеров их проповеднические успехи неизменно окрыляли. А правящие архиереи, что Евграф, что Евсевий, относились к их достижениям со вниманием и уважением. За этим как-то забывалась извечная проблема, сопровождающая всякую миссионерскую работу, в которой религиозная проповедь сопряжена с карьерными и материальными стимулами: после окончания университета и успешной защиты дипломных работ большая часть стремительно воцерковившихся студенток и студентов пусть и не стремительно, но все же довольно быстро расцерковлялась.
Но, как бы там ни было, Православное молодежное движение стало местом сбора для более или менее молодых людей, либо церковных, либо собирающихся такими стать. Их деятельность была обычной для подобных организаций: участники движения устраивали показы православных кинофильмов, ходили с беседами в детские дома и больницы (включая сюда и погрангоспиталь), расклеивали антиабортные листовки, а те, кто умел складывать слова в предложения, изредка писали статьи для «Православного Мангазейска». И, конечно же, участвовали в различных делах, связанных со строительством кафедрального собора.
Кафедральный собор являлся стержнем всей епархиальной жизни и одновременно некой землей обетованной, достижение которой стало смыслом жизни всех православных мангазейцев. Отец Кассиан (и будучи отцом Василием, и уже став Кассианом) периодически устраивал для православной молодежи вечерние чаепития в трапезной своего Свято-Иннокентьевского храма. И во время их регулярно повторял:
– У нас сейчас самое важное дело – это строительство кафедрального собора. Сейчас все силы – на это. Прямо скажем, есть противодействие. Серьезное противодействие. Но надо двигаться вперед, с Божией помощью.
Периодически представители молодежного движения заикались о каких-нибудь новых проектах. Но, если они требовали хотя бы минимальной материальной поддержки, следовал ответ:
– Сейчас все силы – на строительство кафедрального собора! Все туда. Вот когда построим, тогда будем рассматривать. А сейчас, к сожалению, не имеем таких возможностей.
И все понимали: епархиальная жизнь подчинена одной великой цели. Сейчас по всей России перед мирянами открывается много новых возможностей, новых путей церковного делания, новых, говоря языком святоотеческих трудов, поприщ. Но это – вообще. А здесь, у нас, в Мангазейской епархии – здесь все это тоже будет. Но только после того, как будет выполнена самая главная миссия, когда в ярко-голубое мангазейское небо устремятся сверкающие нитридом титана пять куполов нового, второго по величине после московского храма Христа Спасителя, кафедрального собора. Это будет не просто победой, а Победой с большой буквы. Такой, которая, как известно, одна на всех… А пока этого не случилось, епархия живет в режиме военного времени, и Православному молодежному движению надлежит жить в этом режиме вместе с ней.
И молодежь, более или менее православная, так и жила.
Вскоре после закладки первого камня появился обычай еженедельных молебнов, которые совершались прямо на соборной стройплощадке. Там молились и участники движения. А иногда, по благословению отца Василия-Кассиана, они делали это самостоятельно, без священника. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания и не провоцировать очередных – негативных для епархии – слухов, молиться благословлялось втайне. Участники ПМД приезжали к стройплощадке и, встав где-нибудь у стены, не привлекая внимания, про себя три раза читали так называемое «правило батюшки Серафима».
Артему такие тайные, самостоятельные молебны очень нравились. Атмосфера таинственности, молчаливого молитвенного единства наводила его на размышления о древних христианах, скрывавшихся от гонителей в лабиринтах римских катакомб, или о новомучениках и новых исповедниках, совсем еще недавно вынужденных прятаться от своих преследователей и поклоняться Богу втайне от окружающих… Именно во время таких «тайных» молебнов Артем и стал обращать внимание на Надю, которая посещала их регулярно. А нередко бывало и так, что прочитать Серафимово правило приезжали только они вдвоем.
Среди девиц, состоявших в ПМД, Надя Загоскина несколько выделялась. Прежде всего, она давно уже не была студенткой – ей было чуть за тридцать, и в свое время она сама успела поработать в педуниверситете преподавателем. Была замужем, родила дочь, потом развелась. История вышла, что называется, темная. Надя была красивой и, по мангазейским меркам, вполне социально успешной девушкой. Да и дурой ее назвать было нельзя. Но, однако, инициатором развода выступил ее супруг. Что именно послужило тому причиной, никто доподлинно не знал, так как Надежда была не слишком разговорчива и близких подруг, с которыми бы она могла пошептаться на такие темы, у нее не имелось. (Или были, но остались безвестными.) Во всяком случае, она пребывала в разводе и в одиночку воспитывала школьницу-дочь. Поскольку преподавательской зарплаты ей на это не хватало, то из вуза она уволилась и теперь работала в банке.
Красивая, пока еще молодая, образованная и вообще эрудированная, скромная и сдержанная, она не могла не привлекать к себе мужского внимания. Самым первым кавалером, который обыкновенно пристраивался к ней в кильватер, был, конечно, Шинкаренко. Как всегда, он неизменно подавал ей пальто, на улице всегда предлагал свою твердую, как железнодорожный рельс, мужскую руку и источал в пространство протуберанцы искрометного юмора. В общем, использовал весь джентльменский набор, который мог сделать его неотразимым в глазах дамы. Аналогичным образом поступали и другие мужчины, изредка попадавшие в православно-молодежный круг общения.
Однако Надя, хотя и реагировала на подобные кавалерские заходы вполне благосклонно, но держалась отстраненно и в отношении Шинкаренко, и в отношении всех прочих персонажей, пытавшихся поразить ее своими джентльменскими манерами. Улыбалась, отвечала на их шутки, иногда соглашалась пройтись вместе с ними по улице под ручку (зимой это было особенно актуально, в связи с гололедом) – но ничуть не более того. Поначалу такая холодность даже раздражала Шинкаренко, но он довольно быстро смирился с этим, переключившись на более доступные объекты – благо, свежее пополнение стремительно воцерковляющихся студенток находилось в шаговой доступности. А с Надеждой у всех как-то складывались ровные, приятельские отношения. Но не более того.
Артем Дмитриев был последним, кто мог рассчитывать здесь на нечто большее, чем просто приятельство. В свои двадцать с небольшим он по-прежнему оставался нескладным юношей, уже, конечно, не подростком, но еще слишком неопытным и со всех сторон зеленым. Он не мог похвастаться мужским шармом и привлекательностью. К тому же по характеру и манерам он был вполне типичным ботаником. А если к этому прибавить то, что он был еще и ревностным неофитом и девственником, то набор опций у него, особенно на фоне иных-прочих многоопытных мангазейских церковных мачо, получался совсем не проходной.
И однако случилось так, что именно у Артема и Надежды завязались отношения. Как всегда в таких случаях, все получилось как-то само собой. Сначала они начали чаще общаться во время общих встреч, были ли это собрания молодежного движения или дружеские посиделки у кого-нибудь дома. Потом стали иногда созваниваться. И оба долго не могли поверить: он – в свое счастье, она – в свою глупость.
Поначалу Наде хотелось думать, что их отношения – это просто дружба, максимум – забавный курьез. Она пыталась не замечать, что в формат дружеских отношений уже явно не вписываются их длительные беседы на троллейбусной остановке, когда она пропускала свой троллейбус снова и снова, просто потому, что ей хотелось слушать, что он говорит и – как он говорит. Как не вписываются в этот формат и долгие, сначала по полчаса, а потом по часу и дольше, их разговоры по телефону. О, конечно, это всегда были разговоры по делу! О Православном молодежном движении, например. Или о «Православном Мангазейске», куда Артем, став редактором, постоянно призывал Надю писать статьи. «Грамотных авторов не так-то и много!» – постоянно напоминал он ей, заодно давая понять, что ее-то, конечно, он относит к числу очень даже грамотных. И, наконец, Артем вдруг предложил Наде сходить с ним в ресторан.
Поначалу она даже не знала, как на это реагировать. Ей? С ним? Зачем? Это было как-то смешно и даже, пожалуй, оскорбительно. Но вместо того, чтобы отказать ему, Надя сдержанно улыбнулась и ответила:
– Ну хорошо.
И погрузила Артема в пучину тех чувств, кои испытывает всякий влюбленный юноша, приглашающий на первое свидание предмет своих мечтаний и вожделений – пучину, наполовину состоящую из восторга, а наполовину – из страха оказаться «не на высоте».
Собственно, на высоте он и не оказался, если судить, так сказать, по формальным критериям. Надя была все же слишком опытной женщиной для того, чтобы не заметить, как сковало смущение ее кавалера в тот момент, когда он помогал ей скинуть зимний плащ. Как он пытался держаться по-свойски в ресторане и как забавно это выглядело (ведь и был он в ресторане то ли второй, то ли третий раз в жизни). Как он заказал к рыбе красное вино – и тут уж она не стерпела и поставила ему на вид:
– К рыбе, вообще-то, белое берут.
– Ну а мы возьмем красное, оно лучше! – ответил он вроде бы глупость. Но таким твердым, уверенным тоном, что ей это неожиданно понравилось.
И, конечно же, нельзя было не увидеть явного облегчения на лице юного главреда, когда официантка принесла ему счет и он смог, наконец, убедиться, что имеющихся у него денег хватит для того, чтобы расплатиться. И даже щедро положил одну купюру сверх требуемого.
– Сейчас сдачу принесу, – сказала официантка.
– Не надо! – ответил ей Артем.
– Вы что, на чай мне даете, молодой человек? – безжалостно спросила его она.
Артем молча кивнул.
Все это выглядело неуклюже и даже глупо. И у Нади в голове вновь мелькнул вопрос: что она, молодая, красивая и умная женщина, делает здесь, в компании этого юнца? Неужели, если уж охота идти в ресторан, нельзя было бы найти нечто более мужеское? Кого-то более подходящего? И вдруг поймала себя на мысли, что найти-то можно, но ей этого совсем не хочется. Что ей почему-то хорошо именно с ним.
И она прекрасно понимала, почему хорошо и почему с ним. Артем действительно был искренен в своей религиозности – так же как и она. И он, и она равно считали, что православный христианин должен деятельно служить Церкви. Надя ясно видела, что Артем, в отличие от большинства других студентов и студенток из ПМД, переступил церковный порог отнюдь не ради успешной защиты дипломной и вообще не ради каких-либо мирских интересов. Да, он пока что очень нескладно выглядит в ресторане или шумной светской компании. Но зато в епархии, в качестве главного редактора или архиерейского секретаря – тут он просто как рыба в воде. И его талантам отдает должное даже Шинкаренко, который изначально смотрел на Дмитриева свысока и почти презрительно. Пройдет совсем немного времени, и его юношеские недостатки обточит жизненный опыт. А его достоинства засверкают новыми сияющими гранями…
Надя уже видела его либо маститым священником, либо известным ученым, церковным историком или богословом. Или тем и другим одновременно. Вот он произносит проповедь с амвона, ему молчаливо внимает множество людей – и произносить ее он будет, конечно же, в новом кафедральном соборе. Или вот он выступает на научной конференции, и его доклад, как всегда, завершается восторженными аплодисментами… Вот он подписывает авторские экземпляры собственной монографии…
Казалось, что это время наступит совсем скоро. И Надя понимала: именно такого мужа ей бы хотелось. И уже грезилось будущее, их совместное, счастливое будущее, где, конечно же, будет много детей и где она, Надя, занимается с этими детьми или возится на кухне. А Артем работает над очередной статьей, проповедью или книгой.
Мечты Артема были, в общем, аналогичными. И потому очень скоро случилось то, что обычно и случается: признание в любви, потом – первый поцелуй на морозном воздухе при тусклом, желтоватом свете фонарей, и цунами взаимной любви, накрывшее их обоих.
* * *
– Ну чего, Зинаида? – со свойственной ей едкой веселостью обратилась к Зинаиде Шаблыковой мать Варвара. – Скоро тебя постригать-то будем?
Зинаида Юрьевна вздохнула над тушкой омуля, чисткой которого она была занята в этот момент. Вообще-то, рабочий день еще не закончился и ей следовало сидеть в архиерейской приемной. Но она успела сообразить: если «матушки» зовут ее помогать, то свое рабочее место можно бросать смело. Владыка это одобрит, благочинному все равно, а на остальных можно плюнуть. А если Владыка вдруг не одобрит, то его келейницы смогут ему растолковать, что поступить нужно было так, а не иначе. А вот если на призыв «матушек» не откликнуться… Тогда можно попасть в их черный список пропащих людей или личных врагов. И тогда даже благоволение Преосвященного может не помочь.
Усвоив эту методологическую истину, Зинаида Юрьевна теперь смело покидала свое рабочее место по первому же зову монахинь, за что те любили ее еще больше – а Евсевий еще больше уважал.
– Да, мать Варвара, так если дело пойдет, то скоро… – сказала она, опустив очи вниз – к полурасчлененному омулю. – Хотелось бы, конечно, семьи, детей… Мужа православного… – тут Зинаида еще раз, и весьма громко, вздохнула.
Тему семьи, детей и православного мужа в свои разговоры с «матушками» она стала вплетать сравнительно недавно. До этого, утверждаясь на архиерейской кухне, она предпочитала говорить исключительно и только о монастыре. Так проще всего было завоевать расположение владычных келейниц, и она это сообразила сразу. Теперь же наступил второй этап: с монастырского тренда нужно было как-то соскочить, приступив к выполнению следующего этапа своего плана.
Нет, Зинаида Шаблыкова не была тайной атеисткой. Но вера – и, в известном смысле, вполне искренняя вера – ничуть не мешала ей строить на окружающих ее людях очень холодный и циничный расчет. Впервые оказавшись на архиерейской кухне, Зинаида сразу же поняла одну простую вещь: для нее эта кухня – не просто кухня, а настоящий социальный лифт, причем оснащенный ракетным двигателем. Она смекнула: епископ – один на всю область. А в случае с Мангазейской епархией – даже не на одну область, а на целых два субъекта Федерации. Стало быть, в светской иерархии ему ровней является губернатор или, скажем, генерал – начальник УФСБ или командующий военным округом. Можно ли предположить, что ее, Зинаиду Юрьевну, подпустят хотя бы на пушечный выстрел к генералу или губеру? Предположить такое было никак нельзя. А к епископу – уже пустили. И если научиться манипулировать келейницами (что оказалось совсем нетрудно), то дальше можно рулить архиереем.
А это уже открывало термоядерно-прекрасные перспективы. Ибо Владыка, конечно же, надолго в Мангазейске не задержится. И если удастся за него как следует зацепиться, то, во-первых, здесь, в родном городе, ее статус резко вырастет. Будет она кем-то вроде личного секретаря епископа – выходит, аналог личного секретаря губернатора. А во-вторых – и это было самое главное! – после успешного завершения строительства кафедрального собора Евсевия переведут не просто на другую, а на лучшую кафедру. Куда-нибудь в Центральную Россию. Где к Церкви отношение совсем другое и деньги крутятся в епархиальных управлениях совсем другие. И уж там-то, сидя на должности секретаря, будучи доверенным лицом, можно будет развернуться! И воображение рисовало Зинаиде собственную просторную квартиру, а лучше дом… Где-нибудь, скажем, под Владимиром. Или под Воронежем. Там, кстати, и климат помягче, и до Москвы куда ближе. Кстати, о Москве – почему бы, собственно, не замахнуться на квартиру в Москве? Пока, конечно, говорить рановато, но если удастся закрепиться и Владыку действительно переведут к западу от Урала… То почему нет? Уж она сумеет воспользоваться своим положением!
Но все это было сладостным будущим. Для достижения которого, в свою очередь, надо успешно решить актуальные задачи в настоящем. Собственно, актуальная задача была одна: прицепиться к Евсевию так, чтобы он уже потом не смог Зинаиду от себя с мясом оторвать.
Архиерейские келейницы, знамо дело, склоняли ее к скорейшему поступлению в монастырь. Но Зинаиду Юрьевну это не устраивало по двум причинам. Во-первых, на самом деле она ничуть не хотела быть монахиней. А во-вторых, это не давало гарантий того, что она останется при Владыке. Отошлет в какую-нибудь новооткрытую обитель, пусть даже и настоятельницей, и будет таков! Единственным надежным способом было как-то породниться с Евсевием.
А тут уже все просто. Роль семьи при архиерее выполняли две его келейницы и келейник Георгий. Ко всему прочему, Георгий был племянником одной из «матушек», Павлы. То есть он был приколочен к Евсевию прочно, как хвост к собаке. Стало быть, чтобы приколотиться к нему столь же успешно, нужно выйти замуж за Георгия.
Сам по себе архиерейский иподиакон не был, с точки зрения Зинаиды Юрьевны, пределом ее мечтаний как мужчина. Однако в целом он годился: непьющий, тихий и сравнительно скромный, к тому же младше ее на шесть лет. Идеальный материал для подсовывания под каблук. А главное – он был необходимым связующим звеном в ее грандиозном плане. Теперь предстояло это звено оседлать. И потому-то Зинаида в разговорах с «матушками» стала систематически заговаривать про православного мужа и семью с кучей детей, которой ей ну очень сильно не хватает.
– Да, православного мужа сейчас трудно найти, – сочувственно сказала мать Павла. – Сейчас такие нравы пошли…
– Ой да, нравы пошли такие, что просто!.. – вновь вступила в разговор Варвара. – Такие, что просто не знаешь, куда и деваться! Что парни, что девицы!..
Зинаида Юрьевна снова издала сочувственный вздох и принялась чистить следующую омулевую тушку.
– Да, и девицы тоже такие пошли!.. – с тоской, чуть нараспев, сказала Павла. – Мне вот что-то эта Марья не нравится в последнее время. Что-то она все вокруг Георгия вертится…
– Чего-чего! – ответила ей Варвара. – Понятно, чего! И рассуждать тут нечего! Бойкая больно девка! Окрутить она хочет нашего Георгия, вот чего! А он-то, теленок, прямо сказать, он-то и не понимает ничего толком!.. Гнать бы ее надо, по-хорошему! Ой, гнать!
Нежные чувства между Георгием и Машей Молотниковой, после их совместного возвращения из Кыгыл-Мэхэ, стали очевидны решительно для всех. Разумеется, у них хватило ума не подъехать к Свято-Воскресенскому храму вместе, и по официальной версии Маша, конечно же, приехала поездом. Но мать Варвара шестым чувством уловила, что дело нечисто – и оповестила об этом всех своих кухонных наперсниц (что дало примерно такой же эффект, который дало бы, например, объявление, напечатанное в епархиальной газете). Да и сами Георгий с Марьей свои отношения не считали нужным скрывать. Ну, дружат – так что же такого? Молодые, вот и дружат, а в монахи они не собирались и не собираются. Однако «матушки» сразу же вынесли вердикт: коварная развратница Маша нагло посягнула на невинность их наивного и добродушного Георгия, которого нужно срочно спасать от этой гнусной змеи, пригретой в самом лоне мангазейских Пастырских курсов.
Зинаида Юрьевна в очередной раз вздохнула (она любила вздыхать, у нее очень хорошо получалось – выходило натурально, и всем сразу становилось ее жаль) и сказала:
– Да, Георгий очень добрый. Очень хороший. И очень доверчивый. И вообще он такой… Такой… Извините! – тут она бросила ножик и стремительно вышла из кухни. На самом деле она прекрасно могла сформулировать мысль и закончить предложение, но этого-то сейчас как раз и не требовалось! Ей нужно было заронить в нехитро устроенные головы келейниц мысль, что она «сохнет» по Георгию. Поскольку она числилась у них на самом хорошем счету, можно было надеяться на положительный результат. Конечно, оставался риск, что в распутницы-развратницы запишут и ее… Но риск этот был невелик.
Возвращаясь из туалета, где она старательно растерла мокрыми пальцами свои сухие глаза, Зинаида услышала, как за кухонной дверью Варвара спрашивала у Павлы:
– Уж не влюбилась ли Зинаида в нашего Георгия?
Тон был сочувственный. Такой, какой надо.
Глава 12 Золотая миссия
Христос воскресе!
– Воистину, воистину воскресе! – радостно отвечал на пасхальное приветствие отца Святослава отец Игнатий. Он только что, на высокой скорости, то ли вышел, то ли выскочил из Свято-Воскресенского храма. Как обычно, круто развернулся на крыльце, отчего полы его расстегнутой рясы резко взвились в воздухе, обнажив багровый, праздничный подрясник, перекрестился и тут как раз заметил Лагутина, подходившего к церкви. Тот был уже в рясе, поверх которой красовался новенький белый восьмиконечный крестик. В начале Великого поста, сразу после своего возвращения из Москвы, Евсевий рукоположил Святослава во священники. А вскоре, еще до окончания сорокоуста, направил его настоятелем в только что открывшийся храм в селе Хостонор.
Назначение это получалось, по всем поповским меркам, очень удачным. Во-первых, отец Святослав сразу становился настоятелем – что, впрочем, не казалось чем-то из ряда вон выходящим, с учетом острой нехватки духовенства в епархии. А во-вторых, приход ему сразу же достался и богатый и, так сказать, хорошо благоустроенный. Дело в том, что церковь в селе Хостонор, на севере Мангазейской области, выстроил местный золотопромышленник, владелец и генеральный директор ЗАО «Хостонорзолото» Леонид Котлярский. Денег у него было достаточно, и потому к храмоздательству он подошел с определенным размахом. Церковь построил большую, а убранство ее, хотя и не являлось шедевром религиозного искусства, получилось весьма достойным. А сверх того, рядом с храмом Котлярский выстроил большой, в два этажа, дом для священника. Последнее было, по меркам Мангазейской епархии, делом удивительным. Обычно благотворители, жертвовавшие на храм, имели весьма смутное представление о том, что в этом храме впоследствии будет делаться. (Воцерковленных людей среди спонсоров епархии – по крайней мере, в Мангазейской области – не было; а иногда жертвователями становились и откровенные атеисты.) Мысль о том, что священнослужители – такие же люди, как и все прочие и их семьям тоже нужно где-то жить, благотворителям в большинстве случаев просто не приходила в голову. А у епархии не оставалось денег на строительство или покупку приходских домов. Поэтому попу, назначенному в тот или иной храм, жилье приходилось искать где придется и какое придется. А здесь, в Хостоноре, в распоряжении священника оказывался полноценный коттедж, да еще и частично меблированный – резиденция, ненамного уступающая архиерейской квартире!
И все это в одночасье досталось новорукоположенному отцу Святославу. Правда, Хостонор находился далеко от областного центра, да еще и на севере, где и без того не слишком ласковый мангазейский климат приобретал недвусмысленно приполярные черты. В бытовом плане это создавало некоторые неудобства. Но имелись в этом, однако, и свои плюсы. Например, в столь дальний приход архиерей слишком часто наведываться не будет, да и благочинный не поедет. А быть самому себе хозяином – всегда хорошо. Природа суровая, но при этом и удивительно красивая, а если найти к ней правильный подход – то еще и изобильная. И хотя отец Святослав никогда не был ни заядлым грибником, ни рыбаком, ни тем более охотником, он тем не менее учитывал, что и грибы, и ягоды могут стать значимым, а, главное, безплатным дополнением к их семейному столу – благо, и грибов, и ягод в окрестных лесах было полно. Конечно, в будущем, когда сын подрастет, Хостонор станет не лучшим место для получения образования… Но до этого будущего нужно жить еще несколько лет. А пока что Трифону, который еще и в школу не пошел, на селе, пожалуй, будет лучше, чем в городе. Все всех знают, оно и спокойнее так. Опять же, лес, река, воздух свежий – что еще нужно для счастливого детства?
В общем, выходило со всех сторон хорошо. И потому Святослав, когда архиерей объявил ему о назначении на хостонорский приход, воспринял эту новость как дар Божий.
– Прихода там как такового нет, – объяснил ему Евсевий в тот день, когда, подписав указ о его назначении в Хостонор, вызвал его к себе в кабинет. – Храм там Котлярский построил, местный золотодобытчик. Его это идея была, хотел, чтобы я ходатайствовал о награждении его орденом Даниила Московского… Человек он непростой, нецерковный. Пожалуй, что и неверующий… Но, как бы там ни было, храм он построил! И вообще к нам благоволит, обещает и с кафедральным собором помочь.
Отец Святослав понимающе кивнул головой.
– Тебе там с ним предстоит взаимодействовать, – продолжал напутствие архиерей. – Тут от тебя многое будет зависеть. Нужно иметь в виду: он нам нужен! Благотворителей у нас немного, те, что есть, прямо сказать, из последних сил тянут. А до конца строительства собора еще далеко! Это при том, что мы, по плану, в следующем году его уже должны завершать… В общем, с Котлярским надо поддерживать ровные, добрые отношения. Разумеется, в каких-то рамках, которые православному человеку переступать не следует. А так – смиренно, скромно, по-доброму… Понимаешь?
– Благословите, Владыко! – ответил Лагутин. – Пожалуй, понимаю…
– Все! – отрезал архиерей, давая понять, что аудиенция закончена.
Отец Святослав, разумеется, все понимал – ничего особенно неясного тут не было. Ему предназначалась роль этакого постоянного представителя при знатном спонсоре, на которого у Преосвященного были большие планы. Спонсор этот – человек нецерковный, слегка самодур, слегка себе на уме – в общем, обычный патриархийный благодетель. И он, новопоставленный иерей Святослав Лагутин, должен сделать все для того, чтобы мошна у этого благодетеля развязывалась легко, непринужденно и в кратчайшие сроки. «Пожалуй, что для Владыки это сейчас не менее важно, чем формирование полноценной приходской общины в Хостоноре, – подумал тогда отец Святослав. – Интересно, а почему он решил туда послать меня? Да еще так поспешно? Непонятно… Ну, да и ладно! За все – слава Богу!»
Понять причину его назначения Лагутину помешала его скромность – он просто не мог предположить, что из всех имеющихся священников, еще не задействованных в более серьезных делах, он оказался самым подходящим. Евсевий был вынужден молча признать, что его идея «милитаризации» мангазейского духовенства получилась куда менее продуктивной, чем он изначально рассчитывал. Священнослужители из числа бывших военных оказались совсем не так эффективны в хозяйственных делах, как он предполагал, да и понимание дисциплины у них было весьма своеобразное. А уж отправлять того же Ревокатова в Хостонор, в качестве этакого архиерейского полпреда, казалось и вовсе самоубийственным. Когда встал вопрос, кому же все-таки ехать, то выяснилось, что среди недавно поставленных священников нет никого более разумного и толкового, чем отец Святослав.
И вот теперь, первого мая, Лагутин впервые после своего назначения в Хостонор приехал в Мангазейск. Как полагается, «отметился» в Епархиальном управлении, получил от отца Кассиана краткие руководящие указания, состоящие в основном из фырканья и междометий, а потом пошел к Свято-Воскресенскому храму. Там как раз заканчивалась служба, о чем возвещал колокольный трезвон, и там, по его расчетам, должен был находиться отец Игнатий.
Расчет оправдался.
Они троекратно облобызались – причем игумен, юродствуя, испустил в пространство три максимально громких чмокающих звука.
– Какие планы у вас, отче? – прежде всего спросил Лагутин. Он знал, что кафедральный настоятель обыкновенно занят сверх меры и времени на разговор у него могло не оказаться.
– Ох, планов выше крыши! – скорбно ответил отец Игнатий. – Но давайте, может, перекусим?
– Это всенепременно! – ответил отец Святослав. – Тогда в трапезную?
– В трапезную? Нет уж! Знаете что? – лицо отца Игнатия приобрело сосредоточенное выражение. – Давайте-ка лучше к моей соседке! То бишь в клуб! Там сейчас тихо, вот вы все и расскажете спокойно!
– Ну, это просто супер-люкс-версия! – ответил отец Святослав, широко, хотя и не без доброй иронии, улыбнувшись. – Хотя, как по мне, можно и в трапезной…
– Ну, это уж дудки! – с внезапным раздражением ответил отец Игнатий. – Там мы спокойно не поговорим!
– Ну, как благословите… – ответил Лагутин.
И они вдвоем пошли вверх по улице к находившемуся там ночному клубу, где отцу Игнатию полагался ежедневный безплатный обед. Поскольку бывал он там далеко не каждый день и заказывал отнюдь не все, на что имел право, у тамошнего персонала не возникло никаких возражений против того, чтобы единожды накормить не только отца настоятеля, но и его друга.
– Все это, конечно, замечательно, – сказал Лагутин, когда они добрались до клуба и устроились за столиком в углу. – Но почему, отче, вы теперь так решительно настроены против трапезной?
Действительно, ранее у отца Игнатия не наблюдалось предубеждения к епархиальному общепиту – наоборот, он всегда там был желанным гостем, несмотря даже на то, что косящего под юродивого Федю он немного недолюбливал.
– Я не настроен против трапезной, – ответил кафедральный настоятель. – Я настроен по-человечески поговорить!..
И, увидев невысказанный вопрос в глазах своего собеседника, добавил:
– За-ло-жат! Заложат!
– Что, вот даже так?
– Ага! – ответил отец Игнатий, погружаясь в изучение блюд в разделе бизнес-ланча. – Развел наш князь Церкви стукачество, хоть в петлю лезь! Уже в туалет без благословения сходить нельзя. Достали! – добавил он уже откровенно злобно.
– Мда-а… – грустно прокомментировал отец Святослав.
– Ладно бы, сволочи, хоть правду рассказывали! А то ведь врут! А там – там кто первый в кабинет к архиерею зашел, тот и прав!
– Боюсь спросить… Насколько далеко все зашло?
– Да, в общем, уже далеко… – ответил отец Игнатий, отложив меню в сторону. – Хотя… Пожалуй, что и хуже бывает. Надоедает это все, по правде сказать…
Отец Святослав не ответил. Заметив некоторое его недоумение, отец Игнатий пояснил свою мысль:
– Понимаете, я ведь не первый раз все это вижу. То же самое было в Алма-Атинской епархии. Мне просто ясно, что дальше будет. Вот буквально – по шагам.
– Понимаю… – с грустной серьезностью ответил отец Святослав. Настоятель кафедрального храма кивнул и продолжил:
– Меня ведь, собственно говоря, никто оттуда не гнал. Просто я видел, куда все клонится – и в епархии, и в стране, и уехал сам. А теперь – и здесь то же самое…
– И что же, может, теперь лучше в другую епархию? – спросил Лагутин.
Отец Игнатий пожал плечами:
– Не знаю… Были мысли, по правде сказать, насчет Владивостока. Но я не сторонник подобной беготни. Так, если уж совсем припрет… Ладно, вы лучше расскажите, у вас-то как?
– Да у меня все слава Богу! – ответил отец Святослав. – На днях супругу свою жду с сыном, дом к их прибытию почти готов… В общем, большего и желать нельзя!
– Тут про этот дом прямо легенды ходят, как бы вам архиерей завидовать не начал! – улыбаясь, заметил отец Игнатий. – Неужели правда такой классный дом?
– Да грех жаловаться, прямо говоря! – честно ответил отец Святослав.
– Ну и слава Богу! – смиренно резюмировал отец Игнатий.
Меж тем принесли первое блюдо. Оба священника на несколько минут погрузились в поглощение своих порций. Первым от тарелки оторвался отец Святослав:
– Отче, хотел вас спросить… У нас что, опять начался сезон китайского миссионерства? В последнем номере «Православного Мангазейска» все одним Китаем забито.
– Ага, – лаконично ответил отец Игнатий. – Уже третью неделю.
– Удивительно! Вроде, с тех пор, как Панасюка убрали, ничего такого не было. Или Артемий тоже резко Китай полюбил? За ним вроде такого не водилось…
– Вы еще не видели, что там за этим Артемием водится, – неожиданно неприязненно ответил отец Игнатий.
– А что, что-то не то?
– Не то, чтобы совсем не то… Но этот Артемий нам всем еще сюрпризы преподнесет. Я лично ничего хорошего от него не жду.
– Гм… Так это он всю эту китайскую тему выдумал?
– Нет… Он такие вопросы, слава Богу, еще не решает. Это у архиерея внезапно озарение случилось. Теперь и в газете китайцы, и к иконам подписи на китайском делать собирается, и среди китайских рабочих проповедовать – среди тех, что собор строят. Хотя сам же еще полтора месяца назад их привлекать не хотел!
– Чудеса! – удивленно проговорил отец Святослав. – А с чего это вдруг, да еще так резко?
– Не знаю. Может, из Патриархии очередной циркуляр пришел, а может, просто развлекается наш Владыченька как может… А мы вместе с ним.
– Интересно! Совсем чуть-чуть отсутствовал, а столько новостей! – с ироничной улыбкой сказал Лагутин.
– Ну, так жизнь кипит! В столице-то области! – в тон ему ответил отец Игнатий.
– Кроме обращения китайцев в православие есть еще какие-нибудь ЧП?
– А как же! Вот, например, комендант у нас появился.
– В смысле, в Свято-Воскресенском храме?
– Какой в храме! В храме для него мелко! В Епархиальном управлении!
– Очень интересно! И кто же сей достойный муж?
– Папаша нашей Зинаиды Юрьевны, кто же еще… Обрастаем, так сказать, семейными связями…
– Понятно…
– Странно все это, – продолжил отец Игнатий, начав поглощать второе блюдо, которое ему как раз принесли. – Людей в епархии с каждым днем все больше, а работа делается все хуже. Вот и этот – появился, а зачем, спрашивается?
– Комендант вроде должен хозяйственными делами заниматься… Швабры-тряпки-линолеум, – предположил отец Святослав.
– Должен! – согласился с ним отец Игнатий. – Только он почему-то занимается чем угодно, но только не этим. И слава Богу! Потому что когда это чудо начинает хозяйствовать – это как война!
– Даже так?
– Ага! Вы же в епархии были?
– Да, только что…
– Ну, вот… Видели на стене там, у входа в архиерейский кабинет, черное пятно?
– Да, кстати! – чуть оживился отец Святослав. – А откуда оно взялось?
– О, это целая эпопея! Архиерею нашему потребовался кондиционер – ну, потребовался и потребовался. Покупать поручили, конечно же, коменданту. Он и купил, что подешевле. Сэкономить решил. Проявил, так сказать, хозяйственную сметку. Повесил кондиционер на стену, оказалось – шнур короткий. До розетки не достает. Ну, тут этот чудотворец снова свою армейскую смекалку явил, вытаскивает из какого-то чулана старый удлинитель и все это запускает.
– Круто!
– Очень!
– Так а пятно как появилось?
– Как-как… Закоротило всю систему в первый же вечер. Хорошо, Наталья Юрьевна вечером за какими-то бумагами заезжала, заметила, успели потушить. А так спалил бы Епархиальное управление. Вместе с архиереем, кстати. Кондиционер, впрочем, сгорел.
– Да, веселая история… И его после этого не поперли?
– Ну как же! Он же «верующий человек»! Это нас с вами можно пинать в хвост и в гриву. А его ни-ни! Мы, видать, неверующие!
– Понятно…
– Кстати, он тоже бывший военный. В штабе округа при начальстве ошивался, бумажки ему в папочке носил.
– Достойнейший человек.
– Алкоголик и стукач, – отрезал отец Игнатий.
«Что-то сердитый сегодня отец игумен, – подумал отец Святослав. – Как-то уж очень мрачно у него все выходит. Наверное, от переутомления – все-таки нагрузка на него очень большая, прямо запредельная…»
* * *
«Русская Православная Церковь исторически играла огромную роль в деле продвижения российской культуры, традиционных ценностей и развития патриотизма. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви имела исключительно важное значение в деле интеграции различных народов в единое российское социокультурное пространство в самой России и продвижении российской культуры среди народов других стран, формировании у них позитивного образа России и российского многонационального народа…»
Евсевий в очередной раз перечитывал весьма занятный документ – небольшую заметку на двух листах формата А4. Почти месяц назад ее принес один его посетитель – из чиновных посетителей. В соответствии с обычаями того ведомства, которое сей визитер представлял, на обоих листах не было никаких пометок, печатей и даже личных подписей. То есть формально выходило так, что это и не документ вовсе. А так – то ли справка, то ли некая декларация, написанная обычным постсоветским канцеляритом. Сутью которой было высказанное в последнем абзаце пожелание:
«В настоящее время, когда взаимная экономическая интеграция Российской Федерации и Китайской Народной Республики приводят к многократному увеличению как количества контактов, так и их интенсивности между гражданами РФ и КНР, представляется крайне важным усиление российского культурного присутствия среди граждан КНР, как находящихся на территории Мангазейской области, так и в самом Китае. Не секрет, что на протяжении десятилетий властями КНР среди собственных граждан, и в первую очередь жителей северных регионов, велась целенаправленная пропаганда антисоветского и, далее, антироссийского содержания. В настоящее время, хотя градус ее существенно снижен, она не исчезла совершенно, но приобрела иные, более гибкие формы. Кроме того, существует высокая вероятность того, что китайские граждане, находящиеся на территории Мангазейской области, станут объектом пропаганды и манипуляций со стороны представителей иностранных организаций, связанных, в частности, с разведками блока НАТО, которые могут действовать под прикрытием соответствующих религиозных структур – различных сект американского происхождения и т. п. В этой связи наиболее эффективным средством для успешной интеграции китайских граждан, находящихся на территории Мангазейской области, в российское социокультурное пространство, а равно и повышения их лояльности к Российской Федерации является приобщение их к ценностям Русской Православной Церкви. В связи с этим мы считаем необходимым проинформировать Вас о том, что миссионерская работа в китайской среде, если Вы начнете ее осуществлять, с нашей стороны получит необходимую и всестороннюю поддержку…»
Посетитель, неожиданно попросившийся на прием к архиерею около месяца назад, был из ФСБ. Предварительно, разумеется, позвонили. Зинаида Юрьевна тут же перевела звонок на архиерейский телефон.
– Здравствуйте! Удобно вам говорить? – «контора», как всегда, демонстрировала отменную, дистиллированную вежливость.
– Да, да, слушаю! – с готовностью ответил Евсевий.
– Вас из УФСБ безпокоят, Кереметин Игорь Анатольевич. Владыка, вы не могли бы мне уделить завтра время, не более тридцати минут?
– Да, конечно!
– Когда вам удобно?
– Лучше всего после часу, – честно ответил Евсевий.
– Хорошо, большое спасибо!
И, действительно, в тринадцать ноль пять в приемной появился скромный, еще сравнительно молодой человек в неизменном костюме и при галстуке – один из сотрудников местного отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. В ФСБ он пришел работать недавно и имел всего лишь лейтенантский чин. Но сам факт того, что гэбист прибыл лично, выучил слово «Владыка» и именно так именовал архиерея, указывал на то, что Евсевию госбезопасность решила оказать некое уважение. Да и миссия Игоря Анатольевича Кереметина была совсем простой, курьерской – передать бумагу с просьбой о развертывании миссионерской работы среди китайцев, ну и, как обычно, кое-что на словах.
Он очень вежливо поприветствовал архиерея, после чего был приглашен в кабинет.
– Слушаю вас внимательно! – с улыбкой сказал ему Евсевий.
– Владыка, – начал Кереметин, мягко, почти смущенно улыбаясь. – Мне поручено передать вам некоторые предложения относительно вашей деятельности… Разумеется, они носят исключительно рекомендательный характер. Так сказать, наши пожелания!
Преосвященный с понимающим, серьезным выражением лица кивнул. Кереметин подтянул из-под ног повыше, к животу, черный кожаный кейс, вытащил оттуда сцепленные книжной скрепкой два листка с отпечатанным на принтере текстом и передал Евсевию. Тот начал их читать, одновременно слушая Кереметина.
– Мы с большим вниманием и уважением относимся к той деятельности, которую осуществляет Русская Православная Церковь. В первую очередь, конечно, нас интересуют те ее аспекты, которые связаны с патриотическим воспитанием… Поверьте, Владыка, мы очень высоко оцениваем соответствующую работу, которую осуществляет епархия и вы лично…
Архиерей еще раз многозначительно кивнул, стараясь демонстрировать благодарность и понимание.
– Со своей стороны мы бы хотели, – продолжал гэбист, – чтобы вы распространили свою деятельность и на китайцев, которых сейчас в Мангазейской области стало много и, возможно, будет еще больше. Подобная работа, к тому же… Насколько я знаю… Вполне ведь согласуется с учением Русской Православной Церкви?
– Да, само собой, – ответил Евсевий. – Православная Церковь, Русская Православная Церковь всегда вела активную миссионерскую работу. В самых разных странах, и в Китае, и в Японии тоже. И, конечно, среди тех иностранцев, кто находился в России. Прямо говоря, мы собирались в будущем более активно заниматься миссионерской деятельностью. Но ведь нужно понимать, – здесь голос архиерея приобрел немного вкрадчивый, почти интимный оттенок. – Такая работа требует серьезных сил. Серьезной подготовки. Нужны священнослужители, обладающие необходимыми знаниями, имеющие соответствующее образование. Вообще нужны люди. Нужны, конечно, и средства. А мы сейчас, как вы, наверное, знаете, занимаемся строительством кафедрального собора, и все наши силы брошены туда.
– По этому поводу я могу вас заверить, – на лице Кереметина появилась довольная улыбка, столь типичная для чекистов, особенно начинающих: улыбка человека, ощущающего себя представителем огромной и ничем не сдерживаемой силы, – что мы, со своей стороны, окажем вам всю необходимую помощь.
– Ну что ж… – неуверенно произнес Евсевий.
– Владыка, вы понимаете, конечно, что я не от себя лично говорю… – напористо продолжил фээсбист. – Что это позиция нашего руководства. Так вот, позиция эта такова, что мы, со своей стороны, готовы будем оказать вам всестороннее содействие. Связанное, в том числе, со строительством кафедрального собора, организацией работы среди китайцев да и всеми остальными вашими нуждами. Конечно, всех проблем мы решить не можем, но к нашему мнению пока еще прислушиваются. И власти, и бизнес.
– Что ж, миссионерство – дело благое, – очень серьезно произнес Евсевий. – У нас самих сейчас силенок для ведения серьезной миссионерской работы маловато, но если вы готовы помогать… То, Бог даст, что-нибудь и выйдет!
– Замечательно! Спасибо! – сказал Кереметин.
– Да что там, вам спасибо! – ответил Евсевий. – Слава Богу, что сегодня мы с вами о таких делах, действительно важных, а я скажу, не просто важных, но богоугодных, ведем разговор, договариваемся… Слава Богу!
– С нашей стороны, последняя просьба… – начал Кереметин, после чего сделал небольшую паузу. Архиерей посмотрел на него вопросительно.
– Разумеется, это ваше внутреннее дело, и мы не намерены в него вмешиваться… Но нам бы очень хотелось, чтобы работу с китайскими гражданами со стороны епархии курировал отец Кассиан.
Евсевий мысленно усмехнулся, услышав слово «курировал» – слово, в России в XX веке приобретшее особое и двусмысленно-мрачное звучание.
– Мы знаем отца Кассиана как очень ответственного, патриотически настроенного священника, как хорошего организатора. И некоторые, так сказать, технические вопросы, на наш взгляд, нам было бы проще всего решать с ним, – завершил Кереметин.
– Что-о же, – медленно, по обыкновению начав растягивать слова, ответил Евсевий. – Отец Кассиан – наш благочинный, секретарь Епархиального управления. Правильнее всего, конечно, будет, если этим займется он.
– Тогда у меня все! – заявил Кереметин. – Спасибо, Владыка, что уделили время!
Проводив гэбиста, Евсевий еще на несколько раз перечитал принесенные им бумаги. Суть предложения была предельно ясна. ФСБ хочет использовать Православную Церковь в Мангазейской области в качестве пропагандистского инструмента для работы с китайцами. И за это обещает свое покровительство, которое сейчас будет как нельзя кстати. Строительство кафедрального собора шло не останавливаясь, но вся схема держалась, что называется, на живой нитке. Строительно-монтажное предприятие постоянно работало в долг. И хотя руководство оного СМП было настроено вполне лояльно, но на одной лояльности, без копейки поступлений, долго функционировать не могло. А прекращать работы никак нельзя: если сейчас стройка встанет, то встанет она очень надолго. И областные, и городские власти с удовольствием ее законсервируют, и под абсолютно законным предлогом: нет денег. И превратится новый Казанский собор в долгострой, который может простоять без движения и год, и два, и три, и пять лет, и десять… И все это время он, Евсевий, будет сидеть здесь, на мангазейской кафедре. Что ему не особенно улыбалось. Поэтому вся деятельность Евсевия напоминала работу дежурной пожарной бригады в зоне массового бедствия: в режиме нон-стоп приходилось бросаться то на один край, то на другой – только не с целью тушения пожаров, а в поисках хоть каких-нибудь денег. Евсевий был вынужден метаться между госучреждениями – городскими, областными и федеральными – и бизнесом, постоянно встречаться с разным чиновным, военным или железнодорожным начальством, когда ехать, а когда и срочно лететь для переговоров с теми или иными предпринимателями. Чаще всего эти встречи давали не слишком много. Но в последний момент какие-то деньги все-таки появлялись и этого хватало, чтобы пригасить задолженность и продолжить строительство. Но долги тут же начинали расти по новой, и беготня по спонсорам и благотворителям выходила на новый круг.
Конечно, если к делу подключится местная фээсбэшная управа – пусть и краешком, но подключится – вытрясать деньги с бизнеса станет немного легче. Да, пожалуй, и не только с бизнеса. И в этом смысле их предложение казалось весьма интересным. К тому же ничего особенного они и не требовали. Миссионерская работа среди китайцев – дело и вправду хорошее, богоугодное… При мысли об этом, однако, Евсевий чуть поморщился. Китайцев он не любил. И во время проповедей нередко упоминал о «тех планах, которые есть у Китая» – подразумевались, конечно, предполагаемые планы аннексии Китаем Мангазейской области и иных сопредельных территорий. (А в реальности такового китайского коварства Евсевий был абсолютно убежден.) Да и вообще архиерею «узкоглазые» были несимпатичны, так сказать, чисто эмоционально. Он очень долго отказывался привлекать китайских гастарбайтеров к соборной стройке, и лишь совсем недавно, по настоятельной рекомендации губернатора (который указывал, что их услуги стоят существенно дешевле российских) вынужден был примириться с их присутствием на стройплощадке. Но с другой стороны, несмотря на свои политические и, так сказать, этно-эстетические пристрастия, Евсевий понимал, что миссионерская работа среди китайских мигрантов – дело с православно-христианской точки зрения хорошее.
Немного смущало только, что соответствующая инициатива исходила от ФСБ – того ФСБ, которое еще совсем недавно было КГБ. А он, как и всякий человек, учившийся в духовных школах на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов, имел богатый и совсем не приятный опыт соприкосновения с этой структурой. Гэбэшные стукачи и соглядатаи, чекистская агентура, пронизывающая весь аппарат Патриархии сверху донизу (и особенно густо сконцентрированная там, где были возможны контакты с заграницей)… Слежка, доносы… Неизбежные попытки вербовки… Неизбежный выбор между сотрудничеством с КГБ и сопряженной с этим успешной карьерой и отказом, влекущим за собой как минимум значительное понижение карьерной планки… А как максимум – неиллюзорные репрессии. Все это Евсевий очень хорошо знал и очень хорошо помнил. И потому предложение наследников советской госбезопасности совместно заняться евангелизацией китайцев вызвало в нем некоторый внутренний дискомфорт.
Но если взглянуть с другой стороны, в этом можно увидеть повод для торжества. «Ведь это чудо Божие! – мысленно рассуждал Преосвященный. – Совсем недавно мы смотрели друг на друга как на врагов!.. Так сказать, через прицел! А теперь – спокойно, доброжелательно договариваемся. Вчера они нам запрещали служить, проповедовать, а сегодня не мы к ним, а они к нам приходят. Молись! Служи! Миссионерствуй! А мы тебе еще и поможем! Как Господь все преобразил! Нет, это милость Божия, такое ценить надо… Ну а то, что они в этом государственный интерес видят – так что же плохого? Тут есть и государственный, и церковный интерес. Оно и должно так быть, чтобы вместе и то, и другое шло!»
Наконец, не мог Евсевий не обратить внимания на то, как настойчиво его просили поставить на эту работу отца Кассиана. Тут тоже не было однозначного ответа. С одной стороны, благочинного и в администрации области, и вообще во властных коридорах Мангазейска знают лучше, чем любого другого священника. И там уже привыкли воспринимать его как этакого заместителя архиерея. Знают, кто он такой, чего от него ждать – а стало быть, и работать с ним удобнее. Потому вполне естественно, что и УФСБ хочет взаимодействовать именно с ним. Но, с другой стороны, какая им разница? В конце концов, последнее слово все равно будет за Евсевием как за правящим епископом. И не все ли им равно, какой поп будет выполнять его поручения? А им, как выяснилось, не все равно. Даже очень не все равно. Евсевий достаточно в своей жизни пересекался с представителями госбезопасности, чтобы понимать, что в их лексиконе «настоятельная просьба» – это эвфемизм, обозначающий ультиматум или приказ.
«Чего это он им так полюбился?» – мысленно спросил он себя. Увы, точного ответа не было. Внештатный сотрудник, то бишь стукач? Явные доказательства этого отсутствовали. Да и сложно теперь определить, где кончается сотрудничество и «тесное взаимодействие», а где начинается агентурная работа. В советские времена все-таки была какая-то ясность. Между государством и компартией с одной стороны – и Церковью с другой – была проведена четкая граница. И тот, кто работал на чужую сторону, автоматом попадал в разряд, мягко говоря, сомнительных людей. Теперь же такой границы нет. Евсевий, конечно, знал, что сейчас некоторые офицеры ФСБ, ФАПСИ и ФСО одновременно являются священниками – причем все это в открытую, с разрешения и одобрения руководства этих структур и с благословения священноначалия. Чьи они? Их? Или наши? И есть ли сейчас вообще деление на их и нас?
Официально такого деления не было. Поэтому Евсевий в общем и целом склонялся к мысли, что времена, когда были они и мы, свои и чужие, если еще не ушли в прошлое, то уходят. Но тем не менее, у него остался некий «осадочек» от слишком горячего стремления мангазейского УФСБ работать именно с отцом Кассианом.
Но несмотря на это, архиерей предложенное соглашение принял и за миссионерскую работу среди китайцев взялся довольно рьяно. Сразу же после ухода Кереметина он вызвал к себе благочинного и продемонстрировал ему принесенную фээсбистом бумагу.
– Уяснил? – спросил он благочинного.
– Да, Владыко! – в обычном армейском стиле отрапортовал тот.
– Значит, так. Ответственным за это будешь ты. Дело это доброе, богоугодное, ну а то, что они заинтересованы – так это и хорошо. Господь все промыслительно устраивает. Так что к организации этой миссионерской работы надо подойти серьезно. Очень серьезно.
– Благословите, Ваше Преосвященство! – вновь отчеканил отец Кассиан.
– До завтра подумай, как это все лучше сообразить. И вечером собери тут Артемия, отца Алексия – он у нас главный по китайцам… Ну, пожалуй, еще отца Евгения Панасюка. Все понял?
– Да. Благословите!
– Все!
И на следующий вечер, как и было намечено, все перечисленные лица собрались в архиерейском кабинете, где им объявили о намерении Преосвященного начать миссию среди китайцев – сначала в Мангазейской области, а потом, возможно, и в самом Китае. (О том, что миссионерская инициатива исходила от местного ФСБ, им, однако, объявлено не было.) Больше всех радовался отец Алексий Сормов, решивший, что теперь-то, наконец, он сможет применить все свои навыки и знания на пользу Церкви. Новость несколько окрылила и Панасюка, уловившего знакомый ему аромат перспективной халтуры. Что же до Артемия, то он, по обыкновению, обрадовался появлению новой масштабной задачи, вполне соответствовавшей его амбициям. И уже в ближайшем номере «Православного Мангазейска» главной темой стала проповедь Евангелия и российской социокультурной идентичности китайцам. После этого отец Алексий искренне, едва ли не со слезами на глазах, поделился с отцом Игнатием своими планами организовать миссионерские встречи с китайцами. А может быть, и отправиться служить в КНР.
– Ну, рад за вас… – грустно ответил на его излияния отец Игнатий.
Что же касается УФСБ, то они свое обещание сдержали – епархии действительно стало кое-что перепадать, но перепадало, как и было оговорено, только через отца Кассиана. И было заметно, что того это как-то уж очень сильно радует. И что в своих глазах он как-то подозрительно быстро стал расти.
Все это настораживало и раздражало Евсевия. А сегодня и вовсе день не задался – сначала очень нервный, нехороший разговор с отцом Николаем, потом нерадостные новости от отца Святослава Лагутина – нерадостные в том смысле, что новостей как таковых не было… И все это на фоне тревожных мыслей о том, что же за дела вместе с ФСБ крутит его собственный благочинный.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго! – раздался за дверью негромкий, прокуренный и сбивчивый голос.
– Аминь! – устало ответил Евсевий.
Из-за приоткрывшейся двери с почти змеиной грацией, бочком, внутрь кабинета просочилось тело, облаченное в старый, песочного цвета костюм. Верхнюю часть тела увенчивала соломенно-седоватая голова с гладко выбритым лицом, иссеченным множеством глубоких морщин. Чуть пониже мутноватых, как у кильки, глазок-бусинок торчал острый длинный нос, а все, что находилось ниже носа, было вытянуто в трубочку, на конце которой можно было различить ротовое отверстие. К архиерею, в очередной раз за день, зашел «доложиться» недавно трудоустроенный в епархии комендант Юрий Михайлович Шаблыков.
– Владыка, – начала он. – Тут такое дело…
– Какое дело? – по-прежнему устало спросил архиерей.
– Даже не знаю, с чего бы лучше начать.
– Ну, начинай уж с чего-нибудь!
– Я по поводу отца Кассиана…
Евсевий молча, вопросительно взглянул на коменданта.
– Тут такое дело… Информация поступила… Насчет кассы…
– Ну, проходи!..
* * *
Шаблыков подошел чуть ближе к архиерейскому столу. Садиться ему Евсевий не предложил – то ли забыл, то ли не посчитал нужным.
– У нас ведь – ну, насколько мне известно – сейчас черные кассы запрещены. Можно сказать, борьба с ними ведется, – продолжил комендант.
– Так! – коротко ответил архиерей.
– Ну, значит, я вот об этом знал. А вчера пили мы чай с бухгалтершей, и она мне и рассказывает: такие, мол, дела. В Свято-Иннокентьевском храме у отца Кассиана имеется черная касса. На несколько сот тысяч.
До начала истории с китайским миссионерством Евсевий, пожалуй, сразу бы отмахнулся от подобной сплетни. Он, конечно, вполне допускал, что его благочинный мог утаивать какие-то суммы от епархиальной казны. Более того, зная его склонность тянуть все материальные ценности под себя, был в этом уверен. Однако речь шла все же о небольших суммах, которые на епархиальный дебет-кредит серьезно повлиять не могли. Но теперь иное дело. Фээсбэшная управа слово свое сдержала, и буквально в первые же дни после неофициального миссионерского соглашения организовала для епархии довольно тучную финансовую пажить. Схема получалась простая. Отец Кассиан, кроме всего прочего, числился наместником мужского монастыря, который в ближайшее время должен был открыться в окрестностях Мангазейска. Обители как таковой еще не было, но уже была маленькая община, состоявшая из самого отца Кассиана, одного иеродиакона и двух послушников. Эта община официально получила в пользование несколько гектаров сельскохозяйственной земли, которая худо-бедно обрабатывалась соединенными усилиями монашествующих, епархиальных работников нижнего уровня и, конечно же, учащихся Пастырских курсов. И вот теперь местное управление погранвойск решило заняться благотворительностью и стало ежемесячно и безвозмездно передавать отцу Кассиану энное количество бочек с соляркой, бензином и прочим ГСМ – для сельхозтехники, задействованной на монастырской земле.
Разумеется, отец Кассиан об этом сразу же архиерея уведомил.
– Слава Богу! – радостно сказал Евсевий, услышав его отчет.
– Владыка, у нас там всего один трактор, – сказал благочинный. – Да и тот на ремонте. Все руками делается.
– Ну да. Знаю, – ответил Преосвященный, еще не сообразив, куда клонит его секретарь и благочинный.
– Даже если б он работал круглосуточно, нам столько солярки не потребовалось бы. Даже если бы у нас было десять тракторов.
– И что ты предлагаешь? Отказаться?
– Нет, Владыко! – тут голос отца Кассиана стал масляно интимным. – При наших расходах и долгах… Отказываться, конечно, нельзя. Думаю, надо бы эту солярку нам реализовать.
– Так! – уже заинтересованно произнес Евсевий. Он начинал понимать, какую схему хочет провернуть благочинный.
– Если благословите, ее можно продать…
– Что ж, предложение разумное. Только…
В повисшей паузе содержался логичный вопрос, на который отец Кассиан тут же и ответил:
– Разумеется, делать это надо неофициально. Я говорил уже коротко об этом. С нашими пограничниками. Такая возможность есть.
Евсевий помолчал несколько секунд. Схема получалась циничная и, откровенно сказать, не вполне законная. Понятно, что тем милым людям, кто отвечает за «пожертвование» горюче-смазочных материалов еще не существующему монастырю, было бы гораздо интереснее оперировать не бочками соляры, а деньгами. Определенный процент которых, само собой, к их рукам будет прилипать. Какова роль в этой схеме отца Кассиана? Очевидно, что он как минимум удобен тем, что этому процессу не помешает…
С другой стороны, епархии требовалась не солярка и бензин, а деньги. Именно они были нужны для продолжения строительства кафедрального собора. А как их получить иначе? Строго говоря, то, что пограничники безплатно передают епархии солярку, тоже выглядело довольно сомнительно. Ведь они – не частная лавочка и жертвовать свое имущество Церкви по закону не имеют права. Если эта информация попадет в местную прессу, особенно тому же Козлобесову, шуму будет много… Поэтому епархия не может самостоятельно, честно и открыто продавать эту солярку. Да даже если бы могла – у скольких людей вызвал бы смущение тот факт, что православное духовенство занимается такими коммерческими операциями? Очевидно, что у многих. Словом, превращать пожертвованные солярку и бензин в деньги легче всего тем способом, который предложил отец Кассиан. В конце концов, если набьют себе карманы на этом деле генерал и еще пара каких-нибудь полковников – так это их грех. И их ответственность.
– Что ж, делай, – задумчиво сказал Евсевий.
– Благословите!
– Только вот что, – наставительно добавил архиерей. – Все деньги, какие с этого получим – сразу же в епархиальную кассу. Оформите как пожертвования. Ну или еще как – разберетесь!..
– Благословите! – снова отчеканил отец Кассиан.
И вот уже два раза благочинный заносил в бухгалтерию пухлые конверты с наличностью. Которая, надо сказать, очень пригодилась при очередном пожарном погашении долгов. А теперь вот пришел комендант и говорит, что помимо этих пухлых конвертов было кое-что еще, чем благочинный делиться не захотел.
– О как! – сказал Евсевий в ответ на донесение Шаблыкова.
– Я сразу не поверил, – ободренный вниманием архиерея, продолжил комендант. – Ну, то есть не то что не поверил… Но решил, так сказать, объективно. Из разных, значит, источников. Поэтому сегодня вот поспрашивал знакомых в Свято-Иннокентьевском храме, кто с Лидией Марковной общается, и они подтверждают. Так точно, говорят. Имеется черная касса. Отец Кассиан ее у себя в келье хранит. В сейфе.
Надо сказать, что Шаблыков с первых же дней своего водворения в Епархиальном управлении успел обзавестись многочисленным знакомствами, в основном – среди приходских обитательниц женского полу в диапазоне сорок пять – пятьдесят лет, которым импонировал его армейский стиль. А поскольку именно эта категория прихожанок и приходских работниц лучше всех знает все сплетни и слухи, то они превратились в нечто вроде агентурной сети, с которой комендант регулярно снимал информацию.
– Говоришь, в сейфе… – задумчиво произнес Евсевий. Что ж, выходило вполне логично. Если бы черная касса находилась в помещении кассы приходской или где бы то ни было еще, то она могла случайно обнаружиться, причем весьма быстро. А келья – это частное пространство, куда никому, кроме отца Кассиана, хода нет. Разумнее всего держать там.
Архиерей сам не заметил, как его накрыла волна возмущения. «Зарвался отец Кассиан! Совсем зарвался! – проносилось у него в мозгу. – Значит, с остального духовенства последнюю копейку выжимает, священники у нас, чего доброго, скоро голодать начнут, перед Патриархией мы в долгах – все ради собора! А для себя заначку решил сделать! Ну, если это так, я ему не спущу!..»
Этим утром у Преосвященного был отец Николай, немолодой уже, седоватый священник. Рукоположили его еще в самом начале архиерейства Владыки Евграфа. Служил он исправно, но карьера его как-то не складывалась: все время он служил на отдаленных, бедных приходах. Но тем не менее продолжал тянуть священническую лямку, не просясь за штат и тем более самовольно не оставляя своего служения (а такое, увы, бывало не так уж редко). Вместе с ним эту лямку тянула и его жена – матушка Вера, мать его троих детей. Двое старших ходили в школу, а младший появился на свет менее года назад. По натуре своей отец Николай был очень тихим, скромным человеком, он не имел привычки жаловаться или тем паче чего-то требовать. И, видимо, очень серьезные причины были у него для того, чтобы, придя к архиерею, начать выпрашивать прибавку к жалованью.
– Владыка святый, добавьте хоть немножко! Чуть-чуть! – своим тихим, высоким голосом, оттого слегка походившим на какой-то мышиный писк, канючил он.
– Отец Николай! – постарался урезонить его архиерей. – Все понимаю. Всем сейчас тяжело. Такое время! Мы, сам знаешь, сейчас кафедральный собор строим. Не то что каждую копеечку – каждый рубль туда идет! Ты не думай, я тут не для себя какие хоромы или еще там… мерседесы покупаю.
– Ваше Преосвященство! – продолжал отец Николай. – Совсем тяжело! Раньше хоть с треб немного кормились, а теперь ведь, после отчислений в епархию, почти ничего не остается. Только за свет в храме заплатить! Владыка святый, прибавьте окладу ну хоть чуточку!..
– Отец Николай! – пытался по-прежнему, добром, образумить его Евсевий. – Ты же взрослый человек. Не могу я только тебе прибавить! Если поднимать оклады – то всем священникам. Думаешь, ты один, что ли, такой? У нас знаешь, сколько попов еле концы с концами сводит? Полно! Ты потерпи! Господь – Он все видит, все считает. Там – там все воздастся! А как собор построим – там, конечно, всем прибавка будет, это ты не сумлевайся!
Евсевий любил иногда употребить некоторые простонародные, нарочито безграмотные словечки, вроде «откель» или «сумлевайся». И, признаться, они и вправду добавляли в беседу некой теплоты и ироничной непринужденности.
Но на отца Николая теплота с непринужденностью не подействовали.
– Владыка! – продолжал он. – Ну не могу я с тремя детьми на три тысячи рублей в месяц жить! Не могу!
– Вот что! – наконец рассердившись, сказал архиерей. – Не можешь – не надо было столько детей рожать!
Отец Николай замолчал, опустив глаза и сжавшись так, будто бы ему влепили затрещину. Несколько секунд в кабинете стояла звенящая тишина.
– Что-то еще? – строгим тоном спросил Евсевий.
– Нет, Владыка, – почти прошептал отец Николай и как-то спиной, все так же сжавшись, отошел к двери и выскользнул в приемную.
На душе у архиерея стало паскудно. «Будто ребенка ударил или котенка прибил, – мысленно отметил он. Но, вздохнув, подумал: – А по-другому нельзя!.. Может, жестконько я с ним… Да, пожалуй, что жестконько… Да только как иначе? Прибавку я ему дать не могу, а по-хорошему он не понимает…» Но, хотя все выходило вроде и логично, и справедливо, ощущения все равно были мерзкие.
Потом заходил благочинный, сообщил, что с утра у него был отец Святослав Лагутин. Что спрашивал его отец Кассиан, мол, как обстоят дела со спонсором. А обстоят они без изменений – благотворитель прямо не отказывается помогать, но и ничего определенного не говорит. В общем, дело дрянь! А долги набегают каждый день…
И вот теперь выясняется, что отец Кассиан, пока из других приходских попов выжимают последнюю копейку, начал за епархиальный счет сколачивать себе капиталец! Выходит, что архиерей вынужден последний кусок у того же отца Николая вырывать, а в это время у него под боком ближайший помощник церковную денежку прикарманивает!
Тут Евсевий уже не мог не вскипеть. Но внешне это почти не проявлялось.
– Что-то еще? – спросил он коменданта.
– Нет, Владыка… Я вот, собственно, зашел… Довести, так сказать, до вашего сведения…
– Спаси Господь! Это хорошо, что довел. Ну, если все – то ступай с Богом.
Шаблыков так же бочком, как и проник в кабинет, выскользнул из него. Евсевий взял со стола трубку мобильного и набрал номер своего келейника:
– Георгий? Бог благословит. Заводи машину, поедем в Свято-Иннокентьевский храм. Да, прямо сейчас.
* * *
Благочинный сидел у себя в келье, на кровати, в обычном своем домашнем наряде: в синих трико с вытянутыми коленками и в майке, раскрашенной под тельняшку. В том случае, если ему требовалось выйти в коридор, поверх этого он обычно надевал еще и подрясник. Однако сейчас он никуда выходить не планировал. Рядом с ним, на той же кровати, Наталья Юрьевна сосредоточенно возвращала на подобающие места различные предметы своего туалета. Чулки, лифчик и все прочее в этом роде уже заняли свои места, и теперь предстояло разобраться в комке, образованном старой застиранной маечкой и свитером.
Их отношения с отцом Кассианом, как и предполагала Наталья Юрьевна, возобновились вскоре после его монашеского пострига. Менее трех месяцев воздержания вынес благочинный, а потом, как и в первый раз, все как-то случилось само собой. И, как и в первый раз, поначалу отец Кассиан (разумеется, не до, а после) был этим несколько смущен. Но потом все стало повторяться регулярно, и смущение исчезло. Вот и сегодня, когда Наталья Юрьевна завезла очередную партию бумаг к нему в храм, все повторилось.
– Ты не спеши, – почти нежно сказал благочинный. – Еще чай попьем в трапезной.
– Не хочу в трапезной! – с прямо-таки девичьей капризностью ответила Наталья Юрьевна.
– А что? Там все равно сейчас никого нет.
Как всегда во время их встреч, не только келья, но и все подходы к ней (трапезная и коридор) были очищены от возможных свидетелей и заперты на ключ.
– Ну если нет, то тогда ладно… – в той же тональности ответила Наталья Юрьевна.
И тут запиликал мобильник отца Кассиана.
– Благословите! – сказал он в трубку. Он всегда так говорил, почитая это подобающим ему, как монаху, проявлением благочестия. И тут же изменился в лице.
– Как Владыка? К нам едет? Уже?!.. Иду!
Теперь взгляд благочинного сверкал, как булатный клинок, а в голосе появилась обычная, командирская, резкость. И даже грубость:
– Хватай свое шмотье и бегом в трапезную! Быстро! – скомандовал он Наталье Юрьевне. Та мгновенно подхватила остатки своих вещей и уже на ходу торопливо спросила:
– Что случилось-то?
– Владыка приехал! Уже в храме! – рявкнул отец Кассиан.
– Ой, Господи помилуй! – сказала Наталья Юрьевна и безшумной тенью выскочила за дверь.
Система маскировки, однако, не подвела. Все двери были заперты, и пассия благочинного, никем не замеченная, успела наскоро одеться и прошмыгнуть в трапезную, где положила перед собой папку с документами, над которыми с деловым видом и склонилась. К тому времени, когда здесь появится кто-нибудь посторонний, она уже успеет продышаться и будет производить впечатление в высшей степени благопристойное.
А отец Кассиан быстро влез в свой серый подрясник, поверх него надел рясу и позолоченный четырехконечный крест и отправился встречать Преосвященного.
Евсевий, отметившись в иконной лавке, потребовал позвать благочинного и поднялся на второй этаж, где в одиночестве осматривал храм. Тут-то его и застал отец Кассиан.
– Благословите! – обычным, напоминающим щелчок затвора, манером, произнес он, склоняясь перед архиереем. Но, к его удивлению, Евсевий его не благословил. И тут уже отцу Кассиану стало ясно: архиерей чем-то недоволен, причем недоволен крепко.
– Пройдем-ка, отец Кассиан, к тебе в келью! – тихим, твердым голосом, за которым, однако, угадывалась буря недовольства, сказал Евсевий.
– Благословите, – снова сказал благочинный, и повел архиерея к себе. «Что-то случилось? Но что? – думал отец Кассиан, пока они спускались на первый этаж. – Кто-то стукнул? Но из-за чего? Неужели из-за Натальи?»
Однако Евсевий, к радости благочинного, о Наталье Юрьевне его не спрашивал. И вообще не проявил никакого интереса к некоторым вещам, не вполне обычным. Например, не обратил внимания, что кровать в келье не заправлена и смята, хотя время еще раннее и ложиться спать явно рано.
– Где тут у тебя сейф? – спросил Евсевий, остановившись посреди кельи, опираясь обеими руками на свой посох. Отец Кассиан молча указал на старый, покрашенный светло-голубой краской несгораемый шкаф в углу.
– Ну-ка, открой! – сказал архиерей.
Благочинному все стало ясно. Дело не в Наталье Юрьевне! Но этот вариант не лучше… Он начал с несколько деланной озабоченностью искать ключ.
– Ключа нет, – тихо сказал он.
– Так ты поищи! – ответил архиерей. – Я подожду. Не найдешь ключа, зови слесаря. Пока сейф не откроешь, я отсюда не уеду.
Последняя фраза показалась отцу Кассиану и вовсе зловещей. Отбрехаться случайной потерей ключей уже не получится. Поэтому благочинный тут же их обнаружил и покорно открыл дверцу несгораемого шкафа.
– Ну-ка, достань-ка, что там у тебя лежит! – приказал Евсевий.
Отец Кассиан начал доставать. Архиерей не обращал никакого внимания на бумаги и различные предметы, которые он вынимал. Было ясно: ему нужно что-то конкретное. И было ясно, что именно.
– Ну-ка, ну-ка! – сказал Евсевий, когда в руках у благочинного появилось несколько толстых денежных пачек, обернутых в белые листы формата А4. – Что это тут у тебя лежит?
– Деньги, – смущенным тоном ответил благочинный. – Это за дизель. От пограничников. Не успел еще сдать… Завтра собирался.
– И сколько ты не успел сдать?
– Триста тысяч… – выдохнул отец Кассиан.
Евсевий пренебрежительно фыркнул.
– Послушай, отец Кассиан! – обратился он к благочинному. – Ты же знал, что все черные кассы отменяются?
Благочинный молчал.
– Не слышу! – сказал архиерей.
– Знал… – ответил благочинный.
– Знал. Еще б ты не знал, когда ты сам их прикрывал! – продолжил Евсевий. – Ты знал, что все деньги за ГСМ, какие к тебе поступают, надо сдавать в епархиальную кассу?
– Знал. Я и собирался…
– Да что ты будешь делать! – перебил его архиерей. – Опять он за свое! Отец Кассиан, ты же не дурак. И я тоже не совсем уж дурак. Никуда ты это сдавать не собирался. У тебя тут едва ли не больше, чем ты за все это время в епархиальную кассу занес. Куда ты собирался-то?
Повисла пауза. Наконец благочинный попытался робко контратаковать:
– Я думал, раз все равно на монастырские нужды жертвуют… Может, вы благословите какую-то часть на монастырь…
– Жертвуют епархии! – отрезал Евсевий. – И мне решать, на что эти средства пойдут! Да ты и сам прекрасно знаешь, что у нас сейчас каждый рубль, каждая копейка – все на кафедральный собор! Священникам вон семьи кормить нечем, а ты тут…
Евсевий прервал свою филиппику. И, выждав несколько секунд, абсолютно спокойным, ледяным тоном продолжил:
– Значит, так. Деньги завтра к обеду привезешь в епархию. Заодно получишь указ о запрещении в священнослужении. И о снятии тебя с благочинных. Поедешь в Торей, пока псаломщиком. Все!
– Благословите! – уже овладев собой, твердо ответил благочинный.
Архиерей направился к выходу, но в дверях остановился и добавил:
– Не вздумай деньги спрятать или еще чего. Иначе вместо запрета получишь извержение из сана. Уяснил?
– Да.
Как только за архиереем закрылась входная дверь, отец Кассиан быстрым шагом вернулся к себе в келью, закрыл дверь и спешно набрал номер на своем мобильном.
– Юрий Максимович? Это Васильев. Надо срочно встретиться… Да, сейчас… Извините… Да, у поворота удобно… Через двадцать минут буду…
Нажав на кнопку сброса звонка, благочинный сунул мобильный в карман подрясника и широким шагом вышел во двор, где стоял небольшой приходской минивэн, за руль которого он поспешно залез и завел мотор. Чтобы поспеть вовремя, надо торопиться. А опаздывать на эту встречу он никак не хотел.
* * *
Архитектура в Мангазейске никогда не была уникальной или особенно изящной. В начале XX века это был небольшой поселок. Он стремительно вырос буквально за несколько лет благодаря прошедшему через него Великому сибирскому пути (ныне более известному как Транссиб), но в основном так и остался одноэтажным и деревянным. А в советские времена облик Мангазейска окончательно и безповоротно изуродовали дешевые и типовые здания – сначала сталинские бараки, потом – многоквартирные курятники хрущевской и брежневской эпохи. Сами мангазейцы свой город особенно красивым не считали. Единственным, но зато очень обильным их утешением была природа, суровая сибирская красота которой впечатляла даже весьма искушенного путешественника и ценителя. А поскольку город был сравнительно небольшим и многие жилые районы вплотную примыкали к лесу, то и гулять мангазейцы предпочитали именно в лесу или по берегу реки, подальше от серой городской тесноты, суеты и смога.
Юрий Максимович, с которым спешно созвонился отец Кассиан, жил в микрорайоне, стоявшем у самой кромки леса, в двух километрах от ближайшей сопки. А работал он – точнее, служил – в Федеральной службе безопасности, в отделе по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. Был он уже немолод, имел подполковничьи погоны и среди прочих своих служебных функций выполнял обязанности куратора агента, носившего оперативный псевдоним «Киевлянин». По паспорту – Василия Васильевича Васильева, в Мангазейской епархии известного как отец Кассиан. Псевдоним «Киевлянин» ему выдумал в свое время первый куратор, Юрий Иванович (тот самый, который его и завербовал), в память о том, что Васильев некогда окончил военное училище в Киеве. Когда Юрий Иванович уволился из ФСБ, куратором Киевлянина стал другой, но тоже весьма опытный фээсбист.
Юрий Максимович и отец Кассиан взаимодействовали уже более шести лет и за это время успели неплохо друг друга узнать. Было у них и свое излюбленное место встречи – поворот с шоссе, выходившего из Мангазейска в сторону Хабаровска, на грунтовую дорогу, идущую в лес. Эту точку Юрий Максимович облюбовал после того, как у тогда еще отца Василия под рукой появился автомобиль. Выходило очень удобно: поворот этот находился всего в пяти километрах от того дома, где жил Юрий Максимович, но и отец Кассиан мог доехать туда от Свято-Иннокентьевского храма минут за двадцать-тридцать. Мангазейцы, пешком прохаживавшиеся по лесу, так далеко не забредали. А кроме того, в здешнем сосняке, в силу природных особенностей, практически не было подлеска, и потому он легко просматривался в любую сторону. В общем, место для встречи было идеальное – и добираться легко, и спокойное, и тихое, и вдали от посторонних глаз и ушей. А если, паче чаяния, носитель таковых глаз и ушей все-таки появится, то заметить его можно издалека.
Отец Кассиан приехал даже чуть раньше, чем предполагал. Сбавив скорость, он съехал на грунтовую дорогу, прокатился еще метров триста и заглушил мотор. Несколько секунд подождал, оглянувшись по сторонам, и спрыгнул на землю. Как бы ни была сурова весна в Восточной Сибири, но сейчас, в пасхальные дни, ее присутствие ощущалось и в Мангазейске. На улицах исчез снег, окончательно уступив место неизменной степной пыли. Днем, когда солнце высоко стояло в небе, можно уже было пройтись без шапки, не рискуя отморозить себе уши или мозги. Но здесь, в лесу, все еще оставался тонкий слой чуть подтаявшего снега – и не такого, как в городе, а чистого, идеально белого. Отец Кассиан, услышав, как хрустит под его ногами тонкая снежная корочка, вдруг поймал себя на мысли: «Зима прошла, а я и на природе не был. А когда был?..»
От этих мыслей его отвлек шум мотора – Юрий Максимович, как всегда, прибыл по расписанию.
– Ну, здравствуйте, Василий Васильевич! – поприветствовал он Киевлянина. Во время их оперативных встреч чекист всегда называл его только по имени-отчеству – и только по мирскому имени. В какой-то момент отец Кассиан начал угадывать глубокий и, в сущности, зловещий смысл этой манеры. Его священнический сан, его монашество и монашеское имя – все это было для «уважаемого Юрия Максимовича» всего лишь реквизитом, необходимым на сцене. Здесь же, когда режиссер беседовал со своим актером, эта мишура была излишней.
– Здравствуйте, Юрий Максимович! – пожал руку своего куратора отец Кассиан.
– Рассказывайте, что у вас неотложного стряслось…
Благочинный рассказал.
Фээсбист озадаченно покачал головой.
– Да, неприятная ситуация… – сказал он после короткого раздумья. – Извините за вопрос, Василий Васильевич, а вы куда эти деньги собирались потратить? Я, конечно, понимаю все, деньги всегда нужны, но все-таки?
Благочинный недовольно пошевелил крыльям носа, слегка фыркнул и ответил:
– Да они не мне нужны. В основном, не мне, – поправился он. – Черные кассы запретили. А как приход содержать? У меня храм в самом центре стоит, а не где-нибудь в деревне. Нужен ремонт. Регулярный ремонт. Если запущу – ни в епархии, ни в городской администрации по головке не погладят. Объект историко-культурного наследия как-никак. Ну и, положим, не только храм. Я, конечно, монах, но двое моих сыновей никуда не делись. Их мне тоже как-то надо поднимать. Я им отец, в конце концов! Опять же монастырь…
Юрий Максимович дослушал его, не перебивая.
– Да-да, я понимаю… Вы извините, что такие вопросы задаю. Сами знаете, работа у нас такая – вопросы задавать! – тут чекист позволил себе улыбнуться. – Скажите… Ведь ваш епископ – он же вроде не дурак?
Отец Кассиан отрицательно мотнул головой:
– Нет. Не дурак. Неглупый, во всяком случае.
– Не дурак… – задумчиво произнес Юрий Максимович. – Тогда почему же он так отреагировал? Не так уж сложно было догадаться, что вся эта комбинация с дизелем делалась с учетом вас. И что без вас мы бы это не стали проворачивать…
– Думаю, под горячую руку попало, – ответил отец Кассиан. – В другой ситуации, может, и мимо бы пронесло. А тут он уж больно разозлился.
– А с чего разозлился?
– Не знаю… Денег в епархии вечно не хватает. Да мало ли с чего! Мозоль дверью придавил.
– Может быть, может быть… – все также задумчиво произнес Юрий Максимович. Действия архиерея его не устраивали никоим образом. Вся схема с привлечением епархии для проведения операции с китайцами строилась на том расчете, что с церковной стороны ее будет контролировать Киевлянин. Заменять его каким-то другим попом было просто абсурдно. Меж тем Евсевий решил сделать именно это, ибо после запрета в служении и отставки отец Кассиан от руководства миссионерской работой будет неизбежно отстранен. Сам того не понимая, архиерей начал рушить разработанную мангазейскими чекистами схему.
– Со своей стороны мы, конечно, сделаем все, что можем, – сказал Юрий Максимович. – Но я бы хотел обратить ваше внимание на две вещи.
– Слушаю, – мрачно ответил отец Кассиан.
– Первое. Как я уже сказал, мы все, что от нас зависит, сделаем. Но надо иметь в виду, что возможности наши сейчас ограничены. Эх, лет так двадцать назад мы бы этот вопрос быстро порешали!.. – отвлекшись, немного мечтательно заметил фээсбист. – Один звонок уполномоченному, и все… Впрочем, и вопроса бы такого не возникло. Но сейчас другие времена. Имейте в виду: если ваш епископ совсем упрется рогом, то мы с ним ничего сделать не сможем. Конечно, мы все необходимое предпримем, но абсолютной гарантии я вам дать не могу.
Благочинный кивнул.
– Второе. Вы знаете, Василий Васильевич, что мы все, и я лично, очень вас ценим. Вы очень много полезного делаете, поверьте, мы об этом помним. Но все же прошу вас учесть: мы раз можем вас вытащить, еще раз на вашего епископа надавить. Но до безконечности так продолжаться не может! Так что вы там как-то поумереннее, что ли, действуйте… Подипломатичнее… Я все понимаю: и насчет монастыря, и двух сыновей (сам отец!), и в ваши дела, и тем более в ваш карман не лезу. Но все-таки прошу. Настоятельно прошу: поаккуратнее будьте!
– Да. Разумеется, – ответил благочинный.
– Еще какие новости есть? – спросил чекист.
– Да пока нет.
– Ну, тогда до завтра! Завтра вечерком, часов так в семь, давайте здесь же встретимся, обсудим, как день прошел. Устроит?
– Да, конечно!
– Тогда до свидания!
Возвращаясь домой – уже без спешки, не торопясь – отец Кассиан размышлял над всем, что только что услышал. И сердце его наполнялось покоем и даже предвкушением неизбежного торжества. Не было никаких сомнений, что он был далеко не единственным в этой схеме с соляркой, кто клал деньги в свой карман. Поэтому можно было не сомневаться, что все необходимое будет действительно предпринято. А значит, спать можно спокойно. Контора не выдаст.
* * *
Новое утро началось для Евсевия еще хуже, чем закончился предыдущий вечер – а закончился он довольно-таки скверно. Решение о смещении отца Кассиана с должности благочинного и с настоятельства, с отправкой в запрет, он уже принял. Да и нельзя было его не принять после всего, что произошло. Поэтому, зайдя утром в свой кабинет, он преподал Зинаиде Юрьевне благословение, а затем распорядился:
– Скажи Шинкаренко, пусть приготовит указ об отправке отца Кассиана в запрет. Сроком на полгода… И о том, что с настоятельства в Свято-Иннокентьевском храме он убирается, и с благочинных тоже.
– Благословите! – опустив очи долу, смиренно произнесла Зинаида.
Естественно, в течение получаса об этом распоряжении архиерея узнал комендант, который по сему поводу пришел едва ли не в восторг. Нет, никаких личных счетов с благочинным у него не было, и даже более того, можно сказать, что зла он ему не желал. Но доносительство было для Юрия Михайловича Шаблыкова чем-то вроде спорта, которому он предавался с азартом и искренне радовался, как радуется охотник убитой дичи, если его «сигналы» приводили к каким-либо последствиям. В этот же раз последствия получились впечатляющими, и Юрий Михайлович был в восторге от себя, радуясь, что попал в десятку. Этой радостью он немедленно поделился с бухгалтершей, откуда сплетня распространилась с быстротой лесного пожара, и не позднее десяти часов утра об этом знал весь церковный Мангазейск.
Теперь же, сидя за столом в своем кабинете, Евсевий обдумывал, кого он может поставить на место благочинного, да и не только благочинного. Ну, настоятеля для Свято-Иннокентьевского храма подобрать более-менее несложно. Да с этим можно и повременить. В конце концов, там есть второй священник, справятся и без отца Кассиана. А кого кидать на работу с властями? Отца Игнатия? «Не пойдет», – мрачно подумал о нем архиерей. Кому поручить миссионерскую работу с китайцами? Сейчас это направление очень важное. Кстати, буквально на днях ожидался очередной транш за солярку… Теоретически, с этим делом вполне могли совладать отец Евгений с отцом Алексием, ну и с Дмитриевым в придачу. Но тут загвоздка как раз в том и заключалась, что с миссионерством-то они справятся, а вот кто будет заниматься всеми этими схемами с соляркой? Панасюк? «Такому только дай! – подумал архиерей. – Нет, этого к деньгам и близко подпускать нельзя». Отец Алексий? Даже не смешно. Отец Игнатий? «Слабоват…»
Но кого-то, однако, поставить нужно. После долгих размышлений Евсевий примерно определился. Свято-Иннокентьевский храм пока поживет без настоятеля, его функции временно будет выполнять второй священник. Что до монастыря, то им заниматься будет он лично. Отца Игнатия назначить и. о. благочинного, пока чего получше не наметится. Ну а заместителем по хозяйственным вопросам пусть будет отец Аркадий Ковалишин. При Евграфе он вроде как-то справлялся с хозяйственными делами, может, справится и сейчас. А уж он за ним приглядит…
Евсевий уже собирался вызвать к себе Зинаиду Юрьевну, чтобы дать ей распоряжение о подготовке новой порции архиерейских указов, но тут у него на столе зазвонил телефон.
– Слушаю! – сказал он, подняв трубку.
– Здравствуйте! – раздалось на том конце провода. – Вас из УФСБ безпокоят, Юрий Максимович Шабанов, замначальника отдела по борьбе с терроризмом. Удобно вам говорить?
– Да-да, слушаю! – ответил Евсевий.
– К сожалению, вынужден вас известить о том, что у нас возникли непредвиденные сложности по поводу нашего взаимодействия… К сожалению, наши пограничники больше не смогут вам выделять дизтопливо и вообще ГСМ.
– Странно, – ответил Евсевий. – Мне с погранокруга никто не звонил…
Архиерею показалось, что на том конце провода раздался какой-то то ли экающий, то ли гэкающий звук.
– Ну, вы им можете перезвонить, они вам подтвердят.
– Нет, зачем же… – смутился Евсевий. – Но только как нам продолжать тогда работу?
– Увы! Непредвиденные сложности. Пусть с нами отец Кассиан свяжется, мы, возможно, сможем что-нибудь придумать.
– Отец Кассиан сегодня был снят с должности благочинного, и более он этой работой не занимается, – твердо ответил Евсевий. – Если хотите, я сам могу приехать.
– Как не занимается? Мы, можно сказать, всю нашу работу в расчете на него выстроили. Как же нам теперь взаимодействовать? И кто его заменит?
– Вопрос еще до конца не решен. Скорее всего, отец Аркадий Ковалишин.
– Простите, но мы такого не знаем, мы с ним никогда не работали… Разумеется, это ваше внутреннее дело, но сами понимаете, раз речь идет о взаимодействии, то мы не можем, прямо говоря, с кем попало вопросы решать. Тем более что вопросы, как вы знаете, довольно специфические.
– Понимаю! – ответил Евсевий. – Готов в любое время подъехать, чтобы все обговорить!
– В этом нет необходимости, – ответила трубка. – С отцом Кассианом мы могли бы попытаться как-то разрешить ситуацию. Непростую, надо сказать, ситуацию, которая сложилась… Но раз вы уже приняли такое решение, то что ж… Это ваши внутренние кадровые вопросы, мы не вправе в них вмешиваться. Хотя, с другой стороны, раз мы одно дело делаем, то, может быть, стоило об этом предварительно переговорить. Ну, раз вы решили действовать в одностороннем порядке, то мы вам запретить, конечно, не можем. Но вместе работать теперь сможем вряд ли.
– Юрий Максимович! – архиерей не заметил, что уже почти кричал в трубку. – Вы извините, хотел уточнить: это ваша позиция или, скажем так…
– Это позиция нашего руководства, – безстрастно ответил Юрий Максимович.
– Простите. Я вас понял, – ответил Евсевий.
– Тогда не буду вас задерживать. Если что-то изменится, отец Кассиан знает, как с нами связаться. Может, что-то и решится. До свидания!
– До свидания!
Евсевий положил трубку и склонился над столом, размышляя. Поговорили с ним довольно жестко и, по гэбэшным меркам, предельно откровенно. Будет отец Кассиан – будет и сотрудничество, будут и деньги. Не будет Кассиана – не будет ни того, ни другого. «Эвон как они за него бьются! – подумал Евсевий. – Нет, он точно из “ихних”»! Но вот что это меняло? Похоже, что ничего. Теоретически, без очередного «дизельного» транша можно было попытаться выкрутиться, хотя это очень сложно. Но допустим. О миссионерской работе среди китайцев уже успели отрапортовать в Москву. Что с ней делать теперь? Положим, и это дело можно как-то по-тихому притушить, хотя для его архиерейской репутации это не особо хорошо. Ну да это мелочи. А вот как быть с фээсбэшной управой? Они ведь наверняка всю эту китайскую миссию у себя как какую-нибудь операцию оформили. За которую, кстати, им там всякие премии и награды полагаются, или что там у них есть… А он, Евсевий, выходит, им эту операцию срывает. «Это конфликт. Конфликт с ГБ!» – признался он себе. Можно попытаться обойтись без «дизельных» денег. Можно успокоить Синодальный миссионерский отдел. Но вот строить собор, имея в списке врагов региональное руководство ФСБ, будет нереально. Этого допустить нельзя. Ни при каких обстоятельствах.
В двенадцать тридцать в Епархиальное управление приехал отец Кассиан. Как всегда, с невозмутимым видом, прошел по коридору и у дверей архиерейского кабинета прочитал Иисусову молитву.
– Аминь! – откликнулся архиерей.
Отец Кассиан вошел внутрь, поклонился и, как всегда, отчеканил:
– Благословите!
Евсевий откинулся в кресле и окинул его взглядом. И, выдержав паузу в несколько секунд, спросил:
– Ну, что скажешь?
– Простите, Ваше Преосвященство. Согрешил. Бес попутал… – всем своим видом изображая искреннее покаяние, ответил отец Кассиан.
– Бес! Попутал-то он не кого-нибудь, а тебя!
– Простите, Владыка… – тихо, излучая смирение, как обогащенный уран радиацию, промолвил благочинный.
– Других, значит, воспитываешь, строишь, а сам? Сам-то хорош! Хорош, нечего сказать!
Отец Кассиан стоял, опустивши очи.
– Ладно… – сказал, смягчаясь, архиерей. – Раз ты все осознаешь, раскаиваешься, то я свое решение отменяю.
– Спаси Господи, Владыко святый! – отец Кассиан низко-низко поклонился Евсевию.
– Вот так! – сурово, но уже по-отечески, продолжил архиерей. – Возвращайся к своим обязанностям – что там по благочинию, по храму и по остальным делам.
Отец Кассиан поклонился еще раз.
– А деньги немедленно сдай в бухгалтерию! – завершил Евсевий.
Он ожидал, что благочинный скажет ему «благословите». Но тот ничего не сказал, а остался стоять на месте. При этом, к тому же, начав переминаться с ноги на ногу, не без некоторой даже демонстративности. «Ну, он и обнаглел! – подумал Евсевий. – Вот ведь паразит! Еще и денег отдавать не хочет! Вот что вот с ним делать?» И архиерей тут же сам себе признался, что делать с ним ничего нельзя.
– Двести тысяч сдай, – сказал он чуть тише. – Остальное можешь оставить… На монастырь.
– Благословите! – тут же выпалил благочинный.
– И тысячу поклонов положи! Помолись, чтобы Господь тебе ум вправил! – наложил напоследок на отца Кассиана епитимью архиерей. В ответ, разумеется, раздалось неизменное:
– Благословите!
– Все! – завершил беседу Евсевий.
Преосвященный старался говорить так, чтобы выглядеть строгим, но справедливым архипастырем, милосердно прощающим своего недостойного клирика. Со своей стороны, отец Кассиан старательно изображал из себя кающегося грешника, осознавшего всю глубину своего падения и теперь смиренно припадающего к стопам своего аввы. Но, разумеется, оба понимали: в этой схватке полную победу одержал благочинный. А архиерей подписал полную, безоговорочную капитуляцию. Все же прочее – не более чем специфика церковного этикета.
Глава 13 Непростые крестины
Отец Игнатий вновь чуть слышно вздохнул, вытирая пот со лба. Служба на летнюю Казанскую в этот раз выдалась очень уж тяжелой. Во-первых, архиерей опять решил удлинить богослужение – вечером была всенощная с акафистом, которая завершилась лишь к десяти часам. Но не это было самым утомительным. Божественную литургию Преосвященный благословил служить уже в новом соборе. Сейчас, к концу июля, стройка существенно продвинулась. Уже был завершен цокольный этаж, положен пол, а соборные стены быстро поднимались над землей. И Евсевий решил, что настало время совершить в новом, хоть еще и недостроенном кафедральном храме первую литургию. О чем и объявил в воскресной проповеди за неделю до того:
– Сегодня, милостью Божией, наш кафедральный собор, который должен стать вторым по величине после храма Христа Спасителя в Москве, успешно строится. Даже, надо сказать, немного быстрее, чем мы рассчитывали. А с учетом того, какие у нас скудные средства, это воистину подлинное чудо Божие! Но мы, братья и сестры, должны помнить: храм – он не в бревнах, а в ребрах, как говорили наши благочестивые предки. По-другому, как сказано в Священном Писании, храм еще именуется домом молитвы. Именно соборной молитвой, именно богослужением созидается наш новый, прекрасный кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. Поэтому, братья и сестры, на летнюю Казанскую, двадцать первого июля, мы совершим первую Божественную литургию в нашем строящемся соборе.
«Интересно, как это он себе представляет?» – с чувством сосущей тоски подумал тогда отец Игнатий. Перспектива ближайших восьми дней рисовалась перед ним совершенно отчетливо: именно он, как настоятель кафедрального храма, будет вынужден организовывать эту службу – на пару с Григорием, архиерейским иподиаконом. Именно им теперь предстоит напрячь свою фантазию и выдумать, каким образом можно превратить стройплощадку в место, хотя бы относительно пригодное для богослужения.
В конце концов, разумеется, они все выдумали и все сделали. Более или менее. Правда, вчера ради этого, сразу после окончания всенощной с акафистом, Григорию в сопровождении немногочисленных пономарей пришлось загружать епархиальный автобус кучей самых разных вещей и ехать со всем этим к строящемуся собору. Предстояло расставить церковные подсвечники, аналои, постелить ковры, повесить шторку, которая должна заменить иконостас. И, конечно, нужно поставить пусть и неосвященный, но все-таки Престол, на котором утром должна совершиться Евхаристия.
Примерно к двум часам ночи управились. А с чем не управились, разобрались утром, встав не позднее шести. Отец Игнатий спал всего три часа и предыдущий день провел на ногах (как, впрочем, и предыдущий предыдущему, и так далее), поэтому был вымотан вконец.
Но, однако, служба оставалось службой. Отец Игнатий, стоя в полном облачении под палящим летним солнцем, в раскалившемся под его лучами черном клобуке, как всегда внимательно следил за ходом литургии по служебнику, вовремя подавая возгласы и не выпуская из поля зрения архиерея. Также и Григорий был собран и энергичен, хотя он спал еще меньше отца настоятеля: почти всю ночь он таскал самые разные грузы и упражнялся с молотком и перфоратором. В конце концов, каторжный ритм последних двух суток не был чем-то особенно непривычным для отца Игнатия и пономарей. В последние годы, когда в Мангазейской епархии начали активно открываться новые приходы, а богослужения в кафедральном храме стали ежедневными, людей – а еще вернее сказать, рабочих рук – не хватало постоянно. Особенно остро это чувствовалось в дни больших церковных праздников, в первую очередь на Пасху. А совсем тяжело становилось в те дни, когда в храмах что-либо раздавали. То есть на Крещение и на Вербное воскресенье. В Мангазейске, как и в других постсоветских городах, многие совершенно нецерковные и едва ли даже верующие люди считали своим долгом дважды в год прийти в церковь. Первый раз – «за водой», второй раз – «за вербочками». В соответствии с обычаями Московской Патриархии, то и другое раздавалось в любом количестве всем желающим. Вот и превращалось каждое Крещение в изнурительный марафон, когда толпы народу ломились в Свято-Воскресенский храм, толкаясь, переругиваясь, громыхая бидонами и канистрами. Алтарники, к которым неизменно присоединялся и отец Игнатий, наливали и наливали им воду. Освященная вода была ледяной. В храме настежь открывали двери, и за полчаса оттуда выдувалось всякое тепло. А отец настоятель вместе с немногочисленными пономарями, не теряя привычной веселости, за которой лишь опытный глаз мог разглядеть хроническую усталость, окунали и окунали в воду пластмассовые ковшики, наполняя и наполняя пластиковые бутылки, канистры и бидоны… И так продолжалось до вечера.
Аналогичная история случалась и на Вербное воскресенье. Впрочем, тут было полегче уже хотя бы потому, что приходилось оно на весну.
Так что настоятель, старший иподиакон и даже алтарники были привычны к церковным торжествам в режиме нон-стоп. Однако нынешнее богослужение, с учетом нетривиальности технических задач, стояло особняком. К тому же этот марафон получился внеплановым и неожиданным. И теперь у отца Игнатия в голове тревожным сигналом горел вопрос: «Интересно, архиерей часто собирается так делать?» И сам же вновь и вновь отвечал себе на этот вопрос: «Похоже, что да!»
От этой мысли ноги как-то сами собой начинали подкашиваться.
* * *
Евсевий, стоя перед неосвященным еще Престолом, в импровизированном алтаре, отделенном от остального соборного пространства ярко-синей шторой, чувствовал, как его переполняет чувство какого-то безбрежного, триумфального восторга. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» – вновь мысленно повторил он, оглядывая кирпичные стены, из которых кое-где торчали арматурные пруты, бетонный пол, на котором тонким слоем лежала неистребимая строительная пыль, и уже наметившиеся очертания будущих огромных окон. Когда-нибудь – и очень скоро! – все это будет выглядеть совсем иначе. Никакой арматуры и, конечно же, никакой пыли не будет. Пол покроют гранитные плиты, стены засверкают белизной – но это тоже до времени, пока не завершится их роспись, а в окнах появятся огромные, заказные рамы-стеклопакеты. Алтарь станет выше, вместе с солеей поднявшись над пространством храма, где будут молиться миряне, а вместо шторки появится высокий иконостас, сверкающий искусственной позолотой… А может, даже и не искусственной, но это вряд ли… Да и не важно это!
Он бросил взгляд на своих священников, в тесноте временного алтаря стоявших плотными рядами у Престола. Что ж, в будущем, конечно, будет просторнее. Да и не каждый день их тут будет так много, ведь сегодня-то, по его распоряжению, съехалось все духовенство благочиния. «Ничего, пусть потерпят пока! – добродушно подумал он. – Ради Бога можно немного и пострадать! Тем более так, чуть-чуть!» Тут Евсевий даже слегка улыбнулся и снова мысленно произнес: «Слава Тебе, Боже всещедрый!» То, что он видел вокруг себя, представлялось подлинным чудом. Нищая епархия, нищенские доходы… Почти нет серьезных спонсоров… Непростые отношения с губернатором – и это еще мягко сказать, что непростые… А – вот он, новый кафедральный собор, второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве и первый в Сибири! Строится! Растет ввысь, растет даже быстрее, чем он рассчитывал! «Явная милость Божия! Явное чудо!» – вновь про себя повторял он, с родительской нежностью оглядывая соборные стены. Да, главное сделано – удалось оторваться от земли. Стены пошли ввысь, а это значит, что рано или поздно, как выражаются строители, «объект» будет достроен. Кафедральный собор, который совсем недавно виделся ему беззащитным младенцем, теперь уже делал первые шаги, осваивая и поглощая новое пространство, вбирая в себя все новые кубометры голубого мангазейского неба. И чем дальше, тем увереннее будут эти шаги, тем сложнее будет их остановить…
Но до конца еще далеко! Время демобилизации еще не настало – наоборот, успех нужно закреплять. Нужно переходить в наступление по всем фронтам. Что касается финансовой стороны, то тут в последнее время дела пошли чуть лучше. После того как длившееся несколько часов пребывание в запрете отца Кассиана завершилось, конфликтов с ФСБ уже не возникало. Транши за «пожертвованные» ГСМ приходили исправно. К тому же нашлась и пара мангазейских предприятий, которые начали регулярно перечислять небольшие суммы на строительство собора. Евсевий подозревал, что произошло это тоже не без рекомендации фээсбэшной управы, но уверенности в этом не было… Во всяком случае, произошло – и произошло! И слава Богу! С учетом жесткой экономии в епархии удалось основательно уменьшить долги, и стройка продолжалась безперерывно. К тому же и Александр Герасимов подбросил деньжат, и довольно основательно. Правда, эта история архиерея не особенно радовала. Получилось не очень хорошо: Алла как-то незаметно покинула свою хибару, дошла до ближайшего магазина, где приобрела слабоалкогольный коктейль. Потом была бутылка какого-то «коньячного напитка», и в итоге – очень энергичная беседа с милицейским патрулем на ночной улице… Вышел скандал, менты уже собрались закрыть ее по административной статье или как минимум отправить в вытрезвитель, но кто-то сообщил в епархию. Пришлось вмешиваться – кстати, опять руками отца Кассиана – а потом звонить отцу Аллы, отчитываться. Поначалу Евсевий опасался, что Александр Матвеевич может на него осерчать: мол, отправил дочь вам под надзор, а в итоге… Но вышло ровно наоборот: Герасимов посчитал, что создает Владыке проблемы, почувствовал себя виноватым. И в качестве извинений перечислил на счет Мангазейской епархии ощутимую сумму.
Что оказалось очень кстати.
В общем, хотя эпизод с Аллой и получился немного двусмысленным, дела шли неплохо. И Евсевий, помнивший, что материальное строительство невозможно без духовного, решил увеличить усилия на духовном направлении. С этой-то целью он и распорядился служить литургию в еще недостроенном соборе в день его будущего престольного праздника, дабы молитвенные труды, направление на созидание собора, получили свое наивысшее воплощение в принесении Безкровной Жертвы. И сейчас, слушая, как диакон объявляет о завершении литургии оглашенных, он с удовлетворением констатировал: все делается так, как надо. Идет молитва. Идет работа. Собор, кажется, чудом растет из земли к небу… Все идет так, как должно.
Впрочем, проблемы не исчезли полностью. И к решению одной из них предстояло приступить на следующий же день. Евсевий рассчитывал, что Котлярский, уже выстроивший прекрасный храм и (невиданное в Мангазейской епархии дело!) приходской дом в Хостоноре, начнет помогать и со строительством кафедрального собора. Денег у Котлярского достаточно – золото, как известно, всегда в цене, – да и амбиций и тщеславия не поубавилось. Во время освящения церкви в Хостоноре он прямо пообещал подкинуть денег на соборную стройку. Правда, тогда он отказывался обговаривать детали, а еще сказал, что, мол, не в курсе, как именно он сможет помочь: может, будет перечислять деньги регулярно, а может, единовременно или от случая к случаю.
Разумеется, Евсевий хотел, чтобы транши приходили регулярно. Чем чаще и чем больше – тем лучше. Чтобы склонить Котлярского к расставанию с деньгами ради пользы церковной, архиерей направил в Хостонор отца Святослава Лагутина, который показался ему человеком разумным, трезвомыслящим и, что особенно важно, гибким. Такое почти дипломатическое сочетание качеств должно было крайне благотворно повлиять на взаимоотношения епархии и ЗАО «Хостонорзолото».
Но этого не произошло. Более того, между отцом Святославом и Котлярским начались трения, которые могли перерасти в масштабный конфликт. Чтобы затушить этот начинающийся пожар, Евсевий собирался отправиться на следующий день вместе с Лагутиным в Хостонор – отслужить там архиерейским чином литургию, а заодно и вручить Котлярскому орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени, который как раз прислали из Москвы. Личный визит, вкупе с вручением церковного ордена, мог основательно добавить теплоты во взаимоотношения архиерея и золотопромышленника, без чего на денежный выхлоп рассчитывать едва ли приходилось.
Взгляд Евсевия упал на отца Святослава, стоявшего во второму ряду, среди собратьев-священников, и сосредоточенно молившегося по своему служебнику. «Чуть все дело не запорол… Балбес!» – мысленно проворчал Евсевий. После чего, повернув лицо к раскрытому чиновнику архиерейского богослужения, стал вполголоса читать положенные молитвы.
* * *
Отец Святослав ехал в Мангазейск с тревожным чувством на душе. И сейчас, после того, как он подошел на литургии под благословение Преосвященного, это чувство только усилилось:
– Ну, что там у тебя с Котлярским? – тихо и с явным недовольством произнес Евсевий. Отец Святослав прибыл в Мангазейск только вчера вечером, и потому переговорить с архиереем обо всем происшедшем не успел.
– В общем и целом так, Владыко, как я вам по телефону описывал. Пока ничего нового не произошло.
– Описывал… – все так же недовольно сказал архиерей. – Ладно, завтра вместе полетим в Хостонор, посмотрим, что там можно сделать. Хорошо хоть, никаких еще новостей не принес!
Такой диалог Лагутина никак не вдохновлял. Он, конечно, с самого начала понимал, что его отправляют на хостонорский приход, чтобы он смог подружиться с Котлярским. Но их дружба не задалась, что не могло не огорчить архиерея. С другой стороны, самого себя – в том, что касалось, так сказать, его дипломатических функций – он упрекнуть не мог. Ибо по-другому поступить было нельзя. По крайней мере он был в этом уверен.
Первые дни в Хостоноре отец Святослав чувствовал себя счастливейшим человеком. Село это небольшое, но благодаря тому, что Котлярский избрал его своей базой, выглядело оно довольно прилично – как минимум по мангазейским критериям. Ибо тут происходило то, что Маргарет Тэтчер назвала бы «просачиванием богатства» из верхних социальных страт в нижние. Работники ЗАО «Хостонорзолото» зарабатывали, по меркам не только мангазейским, но и общероссийским, весьма большие деньги. Только-только прибыв на место и начав знакомиться с местными жителями, отец Святослав спросил у одного из сотрудников фирмы Котлярского, какие там зарплаты. Тот, помолчав, неохотно ответил:
– Ну, кто там технический персонал, уборщицы всякие и повара – те так, тысяч пять-семь. А рабочие побольше – тысяч десять-пятнадцать.
– В месяц?
– Какой в месяц! В день!
Большинство сотрудников «Хостонорзолота» работали вахтовым методом и заработанные деньги старались до возвращения домой не тратить. Но были среди них и местные, жившие в Хостоноре, а кроме того, пусть и неохотно, но с деньгами расставаться все-таки приходилось. И потому для обслуживания золотодобытчиков в селе появилось два очень приличных магазина (с ценами явно высокими даже по московским масштабам), одно кафе попроще и один ресторан с игровыми автоматами и претензией на солидность. (Надо заметить, с обоснованной претензией.) Все это, в свою очередь, давало хостонорцам рабочие места и неплохой заработок. Потому вид у Хостонора был более-менее приличный: местная школа сверкала на солнце свежевыкрашенным фасадом, а лица аборигенов не были обезображены алкогольной интоксикацией и непроходимой депрессией – по крайней мере в той степени, в какой они были обезображены в абсолютном большинстве других сел и ПГТ Мангазейской области.
Все это отца Святослава, разумеется, радовало. Не в том смысле, что его прельщали местные магазины или тем паче игровые автоматы (да и денег-то все равно не было, даже если бы и прельщали). Но служить и жить среди более-менее самодостаточных, адекватных людей было намного приятнее, чем среди вымирающих алкоголиков и психопатов, которые сегодня просят у тебя сто рублей на водку, а завтра развлекаются тем, что поджигают твой храм… Ну и конечно, был материальный аспект, от которого священнику, тем более женатому, все равно никуда не деться. В богатом селе – богатые прихожане. А это значит, что и за требы будут денег давать побольше, и на панихидном столике еду оставят повкуснее. И это очень хорошо, потому что скоро к отцу Святославу приехали его жена и сын.
Приятно было и служить в новом, только что построенном, буквально «под ключ», храме. Все новое, от краски на стенах и на полу до напрестольного Евангелия и Апостола, которые до его приезда открывали, похоже, всего один раз – во время первой службы, на освящение храма. Все в идеальном состоянии, и все – в его полном распоряжении. А значит, и обустраивать все отец Святослав мог так, как считает нужным. (А какой священник не мечтает о том, чтобы в своем храме все устроить на свой вкус?) Поскольку его только-только рукоположили, получался просто идеальный старт.
И, наконец, отношения с Котлярским, главным благодетелем не только его прихода, но и всех здешних мест, у отца Святослава поначалу складывались совсем неплохо. К моменту их первой встречи он был уже наслышан о привычках и манерах господина благодетеля, и потому они его не удивили. Состоялась эта встреча в первый же день: Котлярский сам заехал за ним в маленький местный аэропорт, куда Ан-24 доставил отца Святослава с его скудным скарбом из Мангазейска.
– Леонид Артурович вас в машине ждет, – не здороваясь, хмуро глядя исподлобья, буркнул один из охранников Котлярского, встречавший Лагутина у выхода из зала выдачи багажа. Охранник был одет в очень дорогую и фантастически уродливую кожаную куртку. На правой руке его красовался огромный золотой перстень-печатка, а на голове – меховая кепка, предположительно, из нерпы. «Не удивлюсь, если у него под этой курткой будет малиновый пиджак и цепь в палец толщиной!» – весело подумал Лагутин и проследовал за ним.
Перед аэропортом, поперек трех парковочных мест, стоял здоровый черный хаммер, крышу которого украшал ряд круглых фонарей. Охранник, ничего не сказав отцу Святославу, подошел к двери со стороны водительского места и что-то пробубнил в открытое окно. Потом выпрямился и махнул Лагутину – очевидно, подзывал его к себе. Он подошел.
– Здорово! – поприветствовали его из открытого окна. На отца Святослава глядел уже немолодой, лет пятидесяти – пятидесяти пяти, полноватый человек, облаченный в дорогой кожаный плащ.
– Здравствуйте! – ответил отец Святослав.
– Тебя как звать-то? – спросил его полноватый человек. Было заметно, что полнота эта пришла к нему сравнительно поздно, очевидно – одновременно с большим финансовым успехом. А когда-то, причем не так давно, он выглядел иначе – поджарый, востроносый, жилистый и, вероятно, очень жесткий и очень нервный. Такой может вспылить в долю секунды и, казалось бы, на ровном месте. И может сохранять спокойствие даже тогда, когда ему к голове приставляют пистолет. Что ж, отцу Святославу, как и множеству других обитателей постсоветского пространства, прошедших девяностые, этот типаж был хорошо знаком. Такие люди тогда появлялись повсюду. Так мог выглядеть главарь новой банды «безпредельщиков». Или вор в законе. Или же успешный начинающий бизнесмен, депутат или даже фермер. Новый герой, творивший свой новый, лично для него счастливый мир из обломков старого – или же аморальный мутант, прогрызавший на своем пути все социальные перегородки и легко ломавший хребты и черепа ближним своим на пути к намеченной цели.
– Иерей Святослав Лагутин, – ответил отец Святослав.
– Будешь Славой! – резюмировал его собеседник.
– Очень приятно, Леонид Артурович, – улыбнувшись, ответил Лагутин.
– О! А ты меня откуда знаешь? – чуть удивившись, спросил Котлярский (а это был именно он).
«Догадался», – мысленно сказал отец Святослав, а вслух произнес:
– Владыка мне о вас рассказывал, разумеется, да и я интересовался…
– О! Знает! – сказал Котлярский, повернув лицо к одному из своих спутников. – Ладно, Слава, давай на заднее сиденье. Будешь там блатные песни слушать!
Отец Святослав улыбнулся и сел туда, куда ему велели. Не успел он закрыть дверь, как хаммер сорвался с места. А из динамиков ударила по ушам песня про то, как по белому снегу уходил от погони человек в телогрейке, или просто зэ-ка…
Заехав за отцом Святославом в аэропорт, Котлярский, однако, не посчитал нужным осведомиться, какие у новоприбывшего священника имеются на сегодняшний день планы и не хочет ли он после дороги поехать в свой новый дом. Вместо этого они весь оставшийся день катались вместе сначала по селу, где у Котлярского были какие-то нерешенные вопросы с местной администрацией и рестораном, а потом и вовсе выехали из села, отправившись на прииск.
– Заодно и хозяйство наше посмотришь! – заметил Котлярский. Отец Святослав опять улыбнулся и добавил:
– Слава Богу!
«Слава Богу, – мысленно повторил он. – Смиряет меня Котлярский, ну и хорошо. Блатные песни слушать? Благословите! Хозяйство смотреть? Благословите! Не проблема абсолютно!»
В Хостонор они вернулись лишь поздно вечером. Но прежде чем проехать наконец до приходского дома, в котором должен был обитать отец Святослав, Котлярский остановился у ресторана.
– Пойдем! – скомандовал он.
Когда они зашли внутрь, последовал вопрос:
– Ты что любишь?
– Простите, в каком смысле? – удивленно спросил отец Святослав.
– В смысле пожрать, – уточнил Котлярский. – Что ешь-то?
– Да все… – немного смущенно ответил отец Святослав. – Единственное, сейчас Великий пост идет…
– Ну и что? Не жрать ничего, что ли? – спросил Котлярский. Лагутин хотел было ответить, но тут же понял, что вопрос был риторическим, ибо его спутник ответа дожидаться не стал.
– Эй, на мостике! – крикнул Котлярский официанту, стоявшему вблизи барной стойки. – Давай по-быстрому, изобрази этот… Бизнес-ланч, или как его… Две штуки в одну тарелку, все с собой! Давай-давай! – прикрикнул он, решив, что официант двигается недостаточно быстро.
Спустя полчаса они прибыли наконец к приходскому дому. Котлярский прошел вперед, зажигая во всех комнатах свет и показывая, что где находится.
– Тут ванная, тут же туалет… Вода в баке, если горячая нужна – там бойлер на газу. Баллоны во дворе. Ну, там разберешься. Мебелишки пока нет, так, немного тебе поставили – стол, кровать, пара стульев. Дальше давай сам. Ну или потом, может, подкину. Посмотрим. Вопросы есть?
– Нет, – ответил отец Святослав. – Спасибо вам большое за все!
– Ага, – ответил Котлярский. – Давай! Потом еще поговорим.
Оставшись наедине, отец Святослав отметил, что и кровать, пусть даже без постельного белья, и двойной-бизнес ланч были весьма кстати. Жалко только было лишь два огромных куска жареной говядины, которые, в связи с Великим постом, утром были переданы местным уличным собакам.
Очень скоро отец Святослав понял, что его первые выводы насчет Котлярского были верны – по крайней мере, в значительной степени. Котлярский действительно оказался одним их первопроходцев девяностых – одним из великого множества тех, кто пытался тогда прийти к успеху. И одним из немногих, кто к успеху пришел. Начиналось его предприятие как весьма скромный семейный подряд. Котлярский мыл золото вместе со своими же рабочими, а его жена готовила на всю бригаду еду, убирала посуду и выполняла обязанности уборщицы. Было это на заре девяностых, когда старые законы уже не работали, новые еще не появились и как регулировать добычу золота, было не вполне ясно. Очень скоро новооснованное ЗАО, не мудрствуя лукаво названное «Хостонорзолото», стало давать первую – и очень неплохую – прибыль. И именно в этот момент для Котлярского начались первые серьезные испытания. Набор был стандартный: многочисленные «наезды», братки, облаченные сначала в спортивные костюмы, а потом – в малиновые пиджаки, угрожающие смертью страшной, смертью лютой в случае отказа от их крыши, разборки и стрелки и прочее в этом роде. На память о тех временах у Котлярского осталось сквозное огнестрельное ранение и перелом носа – свидетельство двух покушений, которые он сумел пережить. А разного рода мелочей, вроде сожженных машин, попыток поджога сначала квартиры, а потом и дома, заказных уголовных дел было так много, что он и сам не мог вспомнить все эпизоды с первого раза. Да и не любил вспоминать.
Впоследствии, ближе к концу 1990-х, он сумел крепко встать на ноги. Бандиты уже не активничали так сильно, а с теми, кто еще оставался, он как-то разобрался – от кого отбился, а с кем-то договорился. Бизнес стабильно расширялся, а вместе с этим росло и его влияние, теперь уже не только в Хостонорском районе, но и во всей Мангазейской области. И в некоторых случаях даже сам губернатор не считал для себя зазорным обратиться по тому или иному вопросу за помощью к Леониду Артуровичу, которую тот, будучи человеком разумным и расчетливым, неизменно оказывал.
Общаясь с хостонорцами, а также с работниками «Хостонорзолота» и просто вникая в местную жизнь, отец Святослав очень скоро понял, какие цели ставил перед собой Котлярский. Для спокойной старости он уже почти закончил строительство особняка в окрестностях Ростова-на-Дону, где и планировал прожить остаток своего века, в то время как управление всеми активами перейдет в руки к его сыну. Активов же было немало и, как вскоре заметил Лагутин, Котлярский предпочитал действовать системно. То есть не ограничивался каким-то одним видом бизнеса, а старался подмять под себя всю экономическую деятельность в районе. Для чего, в свою очередь, требовалось поставить под контроль всю местную власть. Идеалом было превращение Хостонорского района в собственное феодальное владение, где всякая активность будет возможна только лишь с его разрешения. С этой целью он постепенно начинал прибирать к своим рукам местную сферу услуг и очень серьезно нацеливался на транспорт. Причем речь шла не только об автобусах и маршрутках – отец Святослав неоднократно слышал, что Котлярский проявляет повышенный интерес к региональным авиаперевозкам и в перспективе планирует подмять под себя местный аэропорт. Разумеется, все это не вязалось с антимонопольным законодательством. Но обойти его при помощи многоразличных фирм-помоек и ООО, зарегистрированных на разных родственников (а родня у Котлярского была большая и дружная) было совсем несложно. Для этого, разумеется, нужны были деньги, но деньги у Леонида Артуровича были. Кроме того, как очень скоро выяснил отец Святослав, хотя Котлярский и любил жить на широкую ногу, но при случае не брезговал никаким, даже и сравнительно маленьким, заработком. Примером чего было строительство храма и дома для его настоятеля.
Поскольку приход еще только создавался, то ни о каком приходском совете, ни даже о нормальной бухгалтерии речи пока что не шло. И, как это часто бывает в подобных случаях, отец Святослав поручил заниматься теми хозяйственными делами, до которых у него руки не доходили, своей жене – матушке Ольге. Та, перебирая различную документацию, добралась до техпаспорта и проекта храма. Проковырявшись в них с недельку, она сказала мужу:
– Странно… Как будто не на наш храм документы…
– То есть? – слегка опешив, спросил отец Святослав.
– А вот, смотри. Тут в проекте пол у нас должен быть покрыт мраморными плитами…
Отец Святослав засмеялся.
– Какими плитами? – спросил он.
– Мраморными! Да-да, сам посмотри!
Отец Святослав посмотрел. Потом даже глаза протер и посмотрел еще раз. Плиты и вправду были запланированы мраморные.
– А у нас, сам знаешь – кафель.
– Ну мало ли, деньги кончились, хотел, видимо, крутизну показать, а потом посчитал, прослезился – и утух-с!..
– Да тут не только мрамор. Тут и специальная система отопления под полом. И два туалета при храме, смывных (а не выгребная яма, как сейчас)… Чего тут только нет!
Отец Святослав начал разбираться. И вскоре действительно выяснилось, что и половины того, что было запланировано и официально как бы даже построено, в действительности не имелось. А после, уже в разговорах с местными, он узнал, что на строительство храма пошел бэушный кирпич от нескольких снесенных зданий из окрестных деревень, в то время как по смете должен был идти новый керамический. Сопоставив все факты, Лагутин понял: Котлярский не упустил своего и на храмоздательстве. Сколько именно он сумел через это строительство увести денег от уплаты налогов, было не вполне ясно. Но, судя по всему, речь шла о сумме никак не менее нескольких миллионов рублей. В масштабах бизнес-империи Котлярского это было, конечно, немного. Но все же это был приятный бонус.
Поначалу для отца Святослава это была просто занятная история. Таких историй в России вообще и в Московской Патриархии в частности случалось и случается множество. Да и есть ли вообще в стране сегодня абсолютно честный бизнес? Котлярский, по крайней мере, построил храм. А он, иерей Святослав Лагутин, должен заниматься священнической деятельностью, а не расследованиями. Вот если бы Котлярский пришел к нему на исповедь – тогда да, тогда мог бы спросить. Но на исповедь он к нему не придет. Наверное, так и забыл бы молодой иерей Лагутин обо всем этом, если бы вскоре не выяснилось: в той маленькой империи, которую строил Котлярский, ему уже уготована определенная роль.
Где-то через неделю после того, как отец Святослав с семьей обосновался в Хостоноре, к нему в гости – когда в храм, а когда и прямо домой – стала заезжать Людмила Валентиновна Котлярская – супруга Леонида Артуровича. Упакована она была в полном соответствии со своим высоким статусом местной некоронованной королевы: норковая шуба, маникюр, загар, когда из солярия, а когда и из Таиланда или Гоа, покрытое дорогими кремами (из самого Парижа) лицо с выглаженными в московском салоне красоты морщинами – все это давало понять всем и каждому, что говорят они с человеком не простым, а очень важным. Но несмотря на свою дорогостоящую упаковку, Людмила Валентиновна оставалось простецкой и напористой теткой с колхозными манерами, той же бой-бабой, которая в начале 1990-х мыла посуду за работягами на прииске и посылала их матом так, что они почтительно замолкали. При этом, однако, знавшие ее люди понимали, что за деревенским обликом скрывается если и не очень развитый, то весьма изворотливый ум, в некоторых вопросах ничуть не уступающий уму ее мужа. И если она что-то делает, то почти наверняка имеет какую-то конкретную и рациональную цель.
Опекать семейство Лагутиных мадам Котлярская взялась очень настойчиво. С отцом Святославом держалась подчеркнуто, даже рафинированно вежливо. Заходя в храм, неизменно напоминала ему:
– Мы, знаете, все очень верующие. И Леня, и я. Для нас, знаете, это очень важно было – храм этот в Хостоноре построить.
Отец Святослав вежливо кивал и благодарил, не напоминая «очень верующей» о том, что в построенном ими храме она так ни разу на службе и не была. С Ольгой же Людмила Валентиновна все время пыталась завести какие-то свои, женские разговоры, чуть ли не набиваясь к ней в наперсницы. А с Трифоном сюсюкала так старательно, что отца Святослава, вынужденного слушать сие слюнявое шипение, начинало тошнить в прямом смысле этого слова. Ему было уже кристально ясно: вся эта возня неспроста. А потом его позвал к себе в гости Котлярский.
Случилось это вскоре после начала Петрова поста. Сначала отца Святослава отвели в столовую, которая, разумеется, имелась в большом доме Котлярского, где усадили за один стол с хозяевами.
– Ну, как тебе в Хостоноре? – спросил Лагутина Котлярский, запивая борщ стопкой коньяка.
– Замечательно! – просто ответил отец Святослав. – О таком я даже и мечтать не смел!
– А не скучно, вдали от города-то? – спросила Людмила Валентиновна.
– Нет, ничуть, – ответил отец Святослав. – Сын еще маленький, ему, наоборот, хорошо здесь расти. Есть где жить, где служить, где молиться – чего же еще желать? Большего и не надо.
– Вот это правильно! Это ты хорошо сказал! – поддержал его Котлярский. – Нечего за этот город цепляться! Тут – все! Я вот когда сюда пришел, вот мы с Людкой – почитай, нищие были. А сейчас как поднялись! Все здесь, все в Хостоноре. Да! У вас там, конечно, свои порядки, я в них не разбираюсь, но если ты тоже с умом, клювом не щелкая, здесь сориентируешься – то и ты далеко пойдешь. Да!
– Как Бог даст, – скромно ответил отец Святослав.
Когда обед закончился, Котлярский сказал:
– Пройдем-ка ко мне в кабинет! Разговор есть.
«Ух ты, аристократ какой! У него еще и кабинет!» – подумал Лагутин и пошел следом за хозяином. Переступив порог, он еле сдержал улыбку, грозившую растянуть рот от уха до уха, до того забавной показалась ему окружающая обстановка. Но полу лежала шкура медведя (скорее всего, искусственная, из Китая), на стене – кабанья голова, напротив которой висела какая-то аляповатая пошловатенько-эротическая мазня. В двух углах, по сторонам от хозяйского стола, находились глобус с баром внутри и небольшой фонтанчик, также имевший явные признаки китайского производства. Завершала оформление расположенная под кабаньей головой огромная бутылка виски Johnny Walker Red Label, наполовину уже опустошенная. Вполне возможно, что Леонид Артурович пил бы и Blue Label, но о его существовании он, скорее всего, просто не знал.
«Снова в дальний путь собирается цирк-шапито…» – мысленно откомментировал отец Святослав, оглядывая окружавший его интерьер.
– Что, нравится? – самодовольно произнес Котлярский. Некоторое замешательство своего гостя он воспринял как восторг.
– Да, очень хорошо, – ответил Лагутин.
– Выпьешь со мной?
– Спасибо, но лучше бы обойтись. Мне вечером еще служить.
– Да ладно! – Котлярский наполнил почти до краев стакан виски. – Чуть-чуть-то можно!
Зная, что отказываться безполезно, отец Святослав взял стакан. После чего они оба уселись в кожаных креслах, стоявших под эротическим полотном, и Котлярский спросил:
– Ну, как тебе тут, у меня?
– Все очень хорошо, спасибо за приглашение.
– Да, хорошо! Ты всегда заходи, если чего надо. Понял?
– Да, спасибо вам большое, – ответил Святослав, внутренне напрягаясь. «Сейчас начнется», – почему-то подумалось ему.
– Надо, Слава, вместе держаться, тогда все хорошо будет. Я тебе помогу, а ты – мне. Не откажешь ведь, а?
– Конечно, я бы с радостью. Но только как?
– А-а-а! – издал звук Котлярский, покачав головой. – Тут видишь ли, какое дело… Ты сам знаешь, у меня тут бизнес. Дел много. А дела – их надо прикрывать правильно. Сам ведь понимаешь, в какой стране живем.
Лагутин кивнул – мол, понимаю.
– В августе у нас тут выборы намечаются. Муниципальные. А это, знаешь, в нашем-то деле самое важное, – продолжил Котлярский. – Мы тут, на месте работаем. А значит, и местная власть должна быть наша. Что, неправильно, что ли?
– Да нет, я не спорю, – ответил Лагутин.
– У меня, само собой, везде свои команды пойдут. В первую очередь, конечно, тут, в Хостоноре, ну и там по району еще. Народ нас поддерживает, но все равно, за депутатские места побороться придется. Вот тут-то ты нам и поможешь!
– Но как?
– Ну, это-то просто! – самодовольно пояснил Котлярский. – Ты, значит, у себя в церкви проповеди говоришь? Говоришь. Ну вот, ты в ближайшие полтора месяца и говори людям, что, мол, правильно голосовать за такого-то и такого-то! Они, мол, православные, наши, ну вот это все.
Отец Святослав хотел было ответить, но поперхнулся. Котлярский же, не заметив этого, продолжал:
– Ну и еще по деревням поездишь. С молебнами или как это называется. Я, само собой, все это тебе организую и проплачу, за это не волнуйся! Ну и там тоже, значит, попроповедуешь – за кого, мол, надо голосовать на выборах. Понял?
– Понял, – ответил отец Святослав. – Но только я не могу на выборах агитировать.
– Почему это?
– Это политическая деятельность. А Устав Русской Православной Церкви запрещает священнослужителям заниматься политической деятельностью. Тем более, без благословения Владыки я точно не могу.
Котлярский недовольно крякнул. На некоторое время в комнате повисла тишина.
– Значит, мы тебе храм построили, а ты вон как… – недовольно начал он.
– Я думал, вы храм Богу, Церкви построили, – парировал отец Святослав.
– Да ладно тебе! – сказал Котлярский. – Богу или Церкви, а хозяйничаешь в нем ты! Я тебя, значит, как человека, прошу, а ты…
– Леонид Артурович! – ответил Лагутин. – У нас ведь как в армии: дисциплина. Только в армии приказ, а у нас – благословение. Без благословения сделать ничего не могу. А если сделаю, то меня же из сана могут извергнуть. А это штука такая – один раз снимут, второй раз не наденут. Благословит архиерей – буду агитировать. Не благословит – не буду.
– Значит, вот так… Значит, тебе его распоряжение нужно?
– Да, совершенно верно, – подтвердил отец Святослав и, памятуя о том, что сюда он поставлен для укрепления дружбы с Котлярским, решил предложить компромисс. – Я с ним как можно скорее, может, даже сегодня, свяжусь, и спрошу. Если благословит – то буду.
– Ну, свяжись… – ворчливо ответил Котлярский.
В тот же вечер отец Святослав позвонил архиерею и рассказал ему о произошедшем разговоре. Разумеется, Евсевий ему благословить заниматься предвыборной агитацией не мог: если журналисты вытащат это на свет, мог быть скандал, который легко докатится до Патриархии. Кроме того, непонятно, какие интересы в Хостонорском районе у губернатора. Котлярский, конечно, нужен, а вернее сказать, нужны его деньги. Но конфликта с областными властями эти деньги точно не стоили.
– Никакой агитации! – сказал Евсевий, выслушав по телефону рассказ отца Святослава. – Но ты там смотри, подипломатичнее как-нибудь… Помягче, а не так, чтобы с плеча, в лоб! Понимаешь, да? С Котлярским нам еще работать, имей в виду!
Лагутин, разумеется, понимал, что нужно помягче. Но сильно мягко не получилось: Котлярский четко знал, чего он хотел, а в этом он получил отказ. И компенсировать этот отказ льстивыми речами и демонстративным почтением было невозможно, ибо он был слишком умен, чтобы не заметить столь неравноценной для него замены.
После этого отношения отца Святослава Лагутина и Леонида Котлярского резко охладели. ЗАО «Хостонорзолото» более не проявляло ни малейшей склонности к пожертвованиям на церковные нужды, Людмила Валентиновна перестала навещать Лагутина и в храме, и дома. Стало очевидно, что как переговорщик отец Святослав потерпел полное фиаско.
И теперь, когда он молился за праздничной литургией в недостроенном соборе, в голову невольно лезли мысли: как-то архиерей будет улаживать отношения с Котлярским? И чем это закончится для него, иерея Святослава Лагутина, лично?
* * *
Чтобы быстрее добраться до Хостонора, Евсевий решил воспользоваться услугами местной авиации. Поездка на машине имела свои преимущества – можно было бы, например, захватить еще одного иподиакона, что архиерейской службе совсем не лишне, да и всю необходимую утварь так перевозить проще. Но на автомобиле от Мангазейска до Хостонора пришлось бы ехать никак не менее суток. А главное, если в Кыгыл-Мэхэ или в сторону Владивостока шла федеральная трасса, которая была худо-бедно обустроена, то на север пришлось бы пробираться дорогами классом сильно пониже, где асфальт встречался далеко не всегда. А если прибавить к этому проблемы, которые могли возникнуть на паромных переправах, и прочий экстрим, то вполне реальной становилась возможность застрять где-нибудь в пути, и застрять весьма обстоятельно. А времени не было. Через неделю в Хостонорском районе должны были состояться выборы. И потому именно сейчас официальное вручение церковного ордена Котлярскому было очень и очень кстати – для Котлярского. С одной стороны, получалась внушительная демонстрация поддержки Церковью глубокоуважаемого Леонида Артуровича. И хотя население в Хостонорском районе религиозностью совсем не отличалось, но некое почтение к Православной Церкви испытывало. А значит, это добавит голоса кандидатам, которых двигал Котлярский. С другой стороны, награждали его за постройку нового храма и оказание помощи Мангазейской епархии, так что никакой политики в этом не было – и зацепиться журналистам и прочим злопыхателям не за что. (По крайней мере формально.)
Таким способом Евсевий рассчитывал приглушить тот негатив, который образовался во взаимоотношениях «Хостонорзолото» и епархии после отказа отца Святослава поучаствовать в предвыборной агитации. Поскольку самолеты на север летали не ежедневно, то отправляться архиерей решил на следующий же день после летней Казанской. В противном случае пришлось бы ждать три дня, а сейчас этих лишних трех дней не было. В самый день выборов или сразу после них церковный орден для Котлярского превратится из дополнительного агитационного инструмента в значок, от которого никакого проку не будет. Поэтому надо было торопиться.
Чтобы в Хостоноре все прошло солидно, Евсевий решил захватить с собой и диакона, отца Алексия Сормова. Смотрелся он внушительно, голос имел хороший, хотя и не идеально поставленный, и с ним архиерейское богослужение будет выглядеть куда лучше. Наверняка придет народу больше, чем обычно, да и сам Котлярский наконец-то на службу заглянет (не сможет не заглянуть, ибо по окончании службы ему и будет вручаться орденский знак). Будут там и журналисты, и даже телевидение. Так что все должно выглядеть максимально благопристойно и красиво.
Отца Алексия эта поездка, однако, не обрадовала.
– Владыка, простите! – сказал он архиерею, узнав о командировке. – У меня у сына через пять дней день рождения! Шестнадцать лет исполняется, сами понимаете, я такой день пропустить не могу…
Воцерковление Алексея Алексеевича Сормова – нынешнего отца Алексия, завершившееся диаконской хиротонией, происходило очень стремительно и его собственной семьи почти не коснулось. Его жена оставалась, как и множество других постсоветских россиян, «верующей в душе», а сын и вовсе был агностиком, не проявляющим никакого интереса к религии. Меж тем образ жизни отца Алексия очень сильно изменился, и это, как и почти всегда в подобных случаях, скверно сказалось на психологической атмосфере в семье. Когда он, еще будучи мирянином, стал регулярно молиться утром и вечером, его жена восприняла это с тревогой («не с ума ли сходит?»), а сын-подросток – с презрительным скепсисом («начались на старости лет пляски с бубнами»). Еще более болезненным пунктом стало соблюдение главой семьи постов, которые ни его супруга, ни единственное чадо блюсти никак не желали. В итоге еда готовилась в двух разных кастрюлях, что жену, этими кастрюлями оперировавшую, никак не радовало. Попытки отца Алексия приобщить своих домашних к вере встречались ими в штыки, что, в общем-то, было и неудивительно. Слишком уж быстро изменился сам Алексей Алексеевич, слишком уж быстрым стал его переход от едва ли не фанатичного коммунизма (неизбежно сопряженного с атеизмом) к православию. Если бы Сормов остался мирянином, переход этот удалось бы как-то сгладить и смягчить. Но он стал священнослужителем, и послабления, допустимые для мирян, для него оказались невозможны. Молитвенное правило стало еще длиннее, а кроме того, почти все свое время он теперь посвящал Церкви. Священнослужителей по-прежнему не хватало, а архиерей меж тем все больше удлинял службы и все чаще проводил торжественные богослужения. Потому немудрено, что невоцерковленные жена и сын, видевшие своего мужа и отца гораздо реже, чем раньше, и притом видевшие его все больше склонившимся над собственным служебником, все чаще и все жестче высказывали свое недовольство.
Пропустить шестнадцатый день рождения собственного сына – это и при идеальных-то отношениях могло разогреть атмосферу в семье. Что же до тех условий, в которых оказался отец Алексий, это грозило обернуться настоящей катастрофой.
– Через пять дней, говоришь? – спросил Евсевий.
– Да, Владыко, – ответил отец Алексий.
– Ну так мы как раз через пять дней и вернемся. Прилетишь с утра – и сразу можешь начинать праздновать! – добродушно ответил Евсевий.
– Значит, мы всего на два дня? – уточнил Сормов.
– Да даже не на два. К вечеру прилетим, отслужим всенощную, с утра литургию… Там потом награждение будет, ну и все прочее. А утром назад.
– Все ясно, Владыко, простите…
В шестнадцать часов двадцать второго числа, в полном соответствии с расписанием, колеса Ан-24, на борту которого находились архиерей, его келейник Георгий, а также Лагутин с Сормовым, ударились о разбитую ВПП хостонорского аэропорта. И сразу же по выходу из самолета стало ясно: надежды Евсевия на реанимацию дружественных отношений с Котлярским имеют твердую основу. Прямо на полосе Преосвященного встречали глава сельской администрации, замглавы района, а вместе с ними – сам Леонид Артурович, улыбавшийся широкой, хотя и как всегда кривой улыбкой.
Как и полагается по неписаному, но строго соблюдаемому табелю о рангах, Евсевий сначала поприветствовал официальное руководство района, а потом, с демонстративной дружественностью, троекратно облобызался с Котлярским.
– Доброго здоровьичка, Леонид Артурович! – так же широко улыбаясь, едва ли не подобострастно (так, по крайней мере, показалось отцу Святославу), приветствовал главного местного благодетеля архиерей.
– Здравствуйте, Владыка! Очень рады, что вы приехали! Вы у нас тут самый главный гость! – так же весело и подчеркнуто добродушно ответил Котлярский.
– Ну, самый главный тут вы! – в том же шутливом тоне ответил Евсевий и добавил: – После Геннадия Кимовича, конечно!
Геннадием Кимовичем звали главу района. Котлярский ничего на это замечание не ответил, но, улыбнувшись, пару раз махнул головой. Отец Святослав считал этот жест однозначно: мол, все-то вы, Владыка, понимаете, и понимаете правильно, и потому дело с вами иметь приятно, а раз приятно – так и договоримся. «Братская любовь и благорастворение воздухов, – подумал Лагутин. – Да, у меня ничего подобного не выходило. Хотя, собственно, как у меня и могло выйти? У меня полномочий на раздачу церковных орденов нет…»
Отца Святослава и отца Алексия Котлярский удостоил лишь еле заметным кивком головы, после чего снова обратился к Евсевию:
– Владыка, вам, чтобы с дороги отдохнуть, мы уже все оборудовали! У нас тут на предприятии (это минут двадцать всего ехать) гостевые комнаты есть. Я уже команду дал, там все подготовлено. В лучшем виде!
– Леонид Артурович, спасибо вам большое за заботу, но… – начал Евсевий.
– Владыка, вы не сомневайтесь! – перебил его Котлярский. – Все на уровне, евроремонт, люкс, все дела!
– Спаси Господи вас! – сказал Евсевий. – Я, Леонид Артурович, в вашем гостеприимстве не сомневаюсь ничуть! Просто нам сейчас еще всенощную служить. А потом, вечерком – со всем нашим удовольствием!
– Так когда служба-то? – недоуменно-раздраженно спросил Котлярский. – Я думал, все завтра. Ну, с орденом. Журналисты на завтра заряжены!
– Литургия, после которой состоится вручение вам ордена, будет завтра, как мы и договаривались, – поспешил успокоить его архиерей. – А сегодня будет другая служба, всенощное бдение. Вечером, накануне литургии, всегда бывает вечернее богослужение.
– А-а! – успокоенно протянул Котлярский. – Ну тогда я за вами машину прикреплю, как закончите – доедем до места, там сразу разберемся с устройством!
Так все и вышло. Сразу же из аэропорта отправились в храм, где и отслужили всенощное бдение. Народу пришло сравнительно немного – был будний день, и собрались только постоянные и самые дисциплинированные прихожане, которых в Хостоноре насчитывалось совсем немного. Впрочем, отца Святослава это даже порадовало: не было неизбежной парадной суеты и в церкви стояли только те, кто пришел сюда молиться. А вот Евсевий, наоборот, остался недоволен:
– Невелика у тебя паства, – мрачновато заметил он отцу Святославу, когда тот подходил под благословение.
– Да, увы, – ответил тот.
– Это, конечно, понятно, – уже мягче добавил Евсевий. – Храм открылся недавно, тут до тебя больше пятидесяти лет никто постоянно не служил. Но надо работать. Молиться и трудиться! Ты имей в виду, от тебя, как от пастыря, в этом деле очень много зависит! Не кто-нибудь – ты людей к Богу вести должен!
– Простите, Владыка. Благословите! – тихо ответил отец Святослав. Замечание еще более усилило его тревожные предчувствия. Вроде и высказано все мягко, и правильно, и даже упрека как такового не было. Но все равно в словах архиерея ощущалось какое-то подспудное недовольство, которое в любой момент могло прорваться. И это уже ничего хорошего не сулило.
Сразу после всенощной Преосвященный уехал в те самые гостевые комнаты, которые для него приготовил Котлярский. Они были оборудованы при одном из предприятий «Хостонорзолото»; отцу Святославу довелось их посмотреть в самый же первый день, когда он только прибыл в село и когда Котлярский протаскал его с собой до самого вечера. Обустроены они и вправду были очень неплохо. То есть по меркам московским, пожалуй, ничего особенного, но вот севернее Мангазейска едва ли можно было найти в области гостевое помещение получше. Само собой, там наверняка уже была, по обычаю, «накрыта поляна». И сейчас там будут вестись разговоры и о пожертвованиях, и об орденах и, возможно, о нем, иерее Лагутине, настоятеле хостонорского храма…
Георгий уехал вместе с архиереем. А отца Алексия забрал к себе отец Святослав. Он был радушным хозяином и всегда был рад гостям. Что же до Сормова, то к нему он испытывал особый пиетет. Он знал, что тот в свое время был офицером и служил в Таджикистане. В глазах Лагутина, русского, родившегося и выросшего в Средней Азии, это автоматически делало Сормова героем. Слишком уж хорошо отец Святослав помнил, как в 1990-м и он, и вся их семья надеялись только на военных – на российских десантников да на «народного генерала» Кулова с его «расстрельными бригадами». Слишком реальны еще были воспоминания о том, как каждый день и (что куда хуже) каждую ночь ждали погромов и поджогов, нападений и грабежей – всего того, что к тому времени уже происходило во многих районах Киргизии. Тогда Кыргызстан кое-как удержался на краю. А вот Таджикистан – нет. И Лагутин, русский человек, чьи предки на протяжении нескольких поколений жили в Средней Азии, очень ясно представлял, что значит война в этих краях. Тем более – гражданская война…
– Ну, мать, встречай нашего отца диакона! Можно сказать, наш земляк – и жил, и служил в Таджикистане! – отрекомендовал своей супруге гостя отец Святослав. Услышав слово «служил», матушка сразу же сообразила, о чем речь, и почтительно засуетилась: как и ее муж, она родилась и выросла в Бишкеке, и к российским офицерам, прошедшим через «горячие точки» в Средней Азии, относилась с исключительным уважением.
– Да я не только в Таджикистане… – смущенный явным пиететом, тихо ответил Сормов. – До этого по полгода в Казахстане и Узбекистане был.
– А у нас, в Киргизии, не доводилось? – спросил Лагутин.
– Нет, не доводилось. Так-то в основном в Таджикистане, по разным гарнизонам…
– Простите за нескромный вопрос… – вежливо начал отец Святослав. – В девяностые, как я понял, вам тоже там пришлось быть?
– Так точно, – так же тихо ответил отец Алексий. – Оттуда уже в Мангазейск поехали. На родину жены.
– Понятно, – закончил вопросы Лагутин. Он, разумеется, знал, что люди, принимавшие участие в боевых действиях, не любят об этом вспоминать и говорить. Особенно если речь идет о боевых действиях в составе разного рода советских ограниченных контингентов, военных миссий и позднейших миротворческих сил. Говоря о которых, сами ветераны далеко не всегда могли дать самим же себе отчет: за что же все-таки они там сражались?..
Буквально в несколько минут на столе стараниями Ольги выросли груды всякой снеди, довольно простой, но при этом вкусной и сытной. Отец Алексий, окинув взором все это великолепие, радостно крякнул:
– Ну, отче, из-за такого стола вылезать не захочется! И когда это ваша матушка все успела?
– Матушка у нас все успевает, – весело ответил отец Святослав. – Она у нас просто суперматушка!
– Ну, тогда ясно! – в том же тоне ответил диакон. Потом, как обычно, прочитали молитву, после чего Лагутин залез в шкаф и извлек оттуда коньячную бутылку. На заре их отношений с Котлярским, когда тот еще рассчитывал включить новоприбывшего священника в свою команду, эту бутыль, содержащую, согласно этикетке, французский коньяк, преподнесла отцу Святославу мадам Котлярская. И хотя во французском происхождении находившейся там темно-коричневой жидкости имелись большие сомнения, все-таки отец Святослав счел нужным беречь эту бутылку для особо торжественных случаев. А сейчас, по его мнению, такой случай как раз наступил.
– Ну, отче, давайте тогда по рюмке, в честь вашего визита на благословенную хостонорскую землю? – обратился он к Сормову.
– Давайте! – сказал тот, махнув рукой.
Рюмки были налиты. Отец Алексий, однако, отпил совсем чуть-чуть. Через несколько минут, как водится, отец Святослав начал наливать по новой.
– Мне не надо! – замахал рукой Сормов.
– А что так, отче? – удивленно спросил его хозяин.
– У меня контузия, – внезапно признался отец диакон. – Переклинит голову, выйдет чего-нибудь не то. Не надо!..
«Ого! – про себя отметил отец Святослав. – Да наш диакон не просто в Таджикистане воевал, у него еще и ранение! Выходит, настоящий герой! Натурально за нас за всех задницу под пули подставлял!»
– Понял… – тихо и несколько смущенно ответил отец Святослав.
– А вот это вряд ли! – вдруг зло ответил Сормов, взявши свою рюмку коньяка и осушив ее в один глоток.
– Простите?
– Вряд ли понял. Такое понять… Сложно такое понять, не увидев… – сказал Сормов, и вдруг, внезапно, начал рассказывать. Рассказывать о своей службе в Таджикистане, когда тот еще был Таджикской ССР. Как хотел поехать добровольцем в Афганистан («выполнять интернациональный долг») и как его отговорили друзья и жена. Как начал рушиться Советский Союз и как постепенно, сначала будто по капле, а потом уже лавинообразно, стал скатываться независимый Таджикистан в гражданскую войну. Ну и все прочее – расстрелянные конвои, изувеченные трупы своих и чужих и последнее его задание, во время которого с ним приключилась контузия, а двое его старых друзей, которых он, после долгих лет службы, воспринимал как членов семьи, погибли…
Говорил он долго, с какими-то странными и жутковатыми деталями – так, будто и не рассказывал, а зачитывал материалы следственного дела. Подробно, точно, безэмоционально и как-то хирургически безжалостно. Отец Святослав с супругой его не перебивали. Они прекрасно знали: делать этого никак нельзя. Если такие воспоминания, накопившиеся в подсознании, как гной в костях, все же вырываются наружу, им надо дать вылиться полностью, как бы они ни выглядели и как бы ни хотелось этот поток прервать. Все должно вытечь до конца, иначе будет только хуже.
– Ох, заболтался я! – внезапно, будто очнувшись, сказал Сормов. – Вы не сердитесь на меня, пожалуйста… Просто тема для меня лично очень значимая… А вы с матушкой ведь тоже в Средней Азии жили, можете меня понять… Вы извините!.. Расскажите лучше, как вы тут живете?
– Да что вы, отец Алексий, все хорошо! То есть… Ну, в общем, все так, как надо. А мы… – тут отец Святослав замешкался. Говорить о своих бытовых делах и нуждах сейчас казалось неуместным. Но тут на помощь пришла матушка Ольга, сообразившая, что надо как-то разрядить атмосферу, и начала подробно рассказывать отцу Алексию об их жизни: что сколько стоит, как зимой отапливаться, как тут себя чувствует Трифон и прочее в этом роде. Сормова это как-то сразу успокоило, он стал задавать ей вопросы, и скоро за столом снова зазвучал смех, а потом в ход пошли церковные анекдоты, которых у отца Святослава был изрядный запас. Наконец, ближе к двенадцати часам, попили еще раз чай, после чего все стали расходиться по своим комнатам.
«Вот какой у нас, оказывается, диакон! – продолжал размышлять, уже засыпая, отец Святослав. – Натурально героический. Собственно говоря, мы ему за то, что он делал, в ножки все должны кланяться – начиная от попа и заканчивая архиереем! Эх, жаль, мало только кто об этом знает! А тех, кто не только знает, а хоть что-нибудь понимает, и того меньше… В странные времена живем!.. А впрочем, кто знает, были ли они вообще насчет этого всего какие-то другие, эти времена…»
* * *
– Для всех нас это очень важное, очень значимое событие, – размеренно и солидно, громким, «командирским» голосом произносил свою речь глава администрации Хостонорского района. Только что закончилась литургия, и теперь он, незадолго до того приехавший в храм, стоял на амвоне рядом с архиереем и Котлярским. Произнеся короткую проповедь, чтобы не стеснять чиновных гостей, Евсевий сразу же попросил пройти их на солею, после чего слово было дано главе района.
– Оно важно не только для верующих, но и для всех жителей Хостонора, для всех жителей Хостонорского района. Новый православный храм является не только местом служения культа, он вообще является центром укрепления и распространения духовности. А в этом, как мы сегодня уверенно можем говорить, наш район, как и вся наша область, как и вся наша страна, очень нуждается! И потому мы, конечно, очень рады приветствовать уважаемого Владыку, нанесшего нам визит. Приезжайте, Владыка, к нам почаще! – эти слова Геннадий Кимович сказал, обернувшись к Евсевию (тот в ответ степенно и почтительно кивнул), и продолжил:
– Очень приятно также, что людей, которые трудятся здесь, в Мангазейской области, так сказать, на местах, заметили и в Москве. Что церковное руководство… – тут глава района немного замешкался. Государственный канцелярит был ему известен хорошо, а вот с церковным он был незнаком и боялся попасть впросак. Но, однако, быстро преодолел свое замешательство и продолжил:
– Что высшее церковное руководство удостоило высокой награды, своим орденом, одного из тех людей, кто много трудится на нашей земле и много делает для развития и процветания нашего родного Хостонора, для всего нашего района!
Журналисты – один из местной газеты, несколько – из Мангазейска, специально выписанные Котлярским, и съемочная группа МГТРК – старательно вели фото– и видеосъемку. Прихожане и просто любопытствующие, а также многочисленная группа поддержки Леонида Артуровича вкупе с приближенными Геннадия Кимовича почтительно внимали речам, звучащим с амвона. И лишь тихий шелест шторок фотоаппаратов прерывал эту солидную тишину.
После главы района к собравшимся в храме снова обратился Преосвященный:
– Во все времена Святая Церковь с огромным уважением и почтением относилась к тем людям, кто отдавал свои средства, имение свое, на устроение и благоукрашение храмов. Во время каждой службы мы, братья и сестры, неизменно молимся о благотворителях и благоустроителях святаго храма сего, – тут Евсевий осенил себя крестным знамением, и все остальные, кроме главы района и Котлярского, последовали его примеру. – Значение храма в нашей жизни очень велико. Ведь, братья и сестры, храм – это маяк в бурном море житейских страстей. Это лечебница для нашей искалеченной грехом души. И вот сегодня, за Божественной литургией, мы с вами молились в этом прекрасном храме. На протяжении многих лет безбожия ни в Хостоноре, ни на территории всего Хостонорского района не было ни одного храма. Не было этой столь всем нам необходимой лечебницы для наших душ. И сегодня нам следует благодарить Бога, – тут Евсевий снова перекрестился, – за то, что в Хостоноре такая лечебница появилась. И, конечно же, следует поблагодарить и того человека, благодаря трудам и заботам которого этот прекрасный храм был построен.
Тут все посмотрели на Котлярского. Он же, понимая торжественность момента, мужественно сжал губы, выпрямил спину и устремил взор вдаль.
– Глубокоуважаемый Леонид Артурович! – обратился к нему архиерей. – Всем известны ваши многочисленные труды, понесенные вами на благо Хостонора и Хостонорского района, на благо всех его жителей, а теперь – и на благо Святой Церкви. И сегодня здесь, после Божественной литургии, в ознаменование ваших заслуг, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси позвольте мне вручить вам орден святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени.
Затем Евсевий зачитал текст патриаршего указа и приколол Котлярскому на белую рубашку орденский знак. После чего слово было предоставлено награжденному:
– Прежде всего, уважаемый Владыка, я хотел бы поблагодарить всех. Поблагодарить вас, поблагодарить патриарха за эту высокую награду. Я, со своей стороны, скажу так. Сегодня здесь наградили орденом не меня – сегодня здесь наградили орденом всю нашу сплоченную команду. Команду «Хостонорзолота», наших мужиков, всех вообще наших людей, кто этот храм построил. И кто, я прямо скажу, работает на благо нашего района, для тех людей, кто на этой земле живет. И сегодня, думаю, уже всем понятно, кто действительно работает на то, чтобы жизнь в Хостоноре и дальше налаживалась, а кто так – сбоку стоял. Ну а по поводу храма, скажу: еще одно дело нами было сделано!
На этом завершился и спич Котлярского, и торжественная часть, после чего все ее участники переместились в самый роскошный местный ресторан – на «братскую трапезу». Следом за ними отправились и отец Святослав с отцом Алексием. Поскольку оба они были священнослужителями, при распределении мест их посадили за один стол с Евсевием, за которым, помимо них, находились и Котлярский с супругой, и глава района. Беседа Котлярского и Евсевия протекала плавно и высшей мере доброжелательно – чувствовалось, что обе стороны друг другом довольны и теперь проявляют максимум взаимной предупредительности, чтобы сей сладостный статус закрепить.
– Что-то я хотел вас спросить, Владыка… – снова повторил Котлярский, уже основательно накачавшийся своим любимым Johnny Walker’ом. – Ну так, значит, все как договорились! На неделе я вам загоню транш тысяч так на восемьсот, ну а там ежеквартально, штук так по триста…
Евсевий кивнул:
– Да, будем очень благодарны!
– Ну и отлично! – ответил Котлярский, по новой разливая виски по стаканам.
– У нас, Леонид Артурович, – чуть тише, с доверительным оттенком, продолжил Евсевий, – строится кафедральный собор в Мангазейске. Ну, вы, наверное, знаете.
Котлярский кивнул.
– Так что нам ваши пожертвования очень пригодятся. И хорошо, что вы благоволите их регулярно делать. Сами понимаете, нам работу планировать будет намного легче…
– Ну, еще бы не понимал! – ответил Котлярский. – У самого вон, видели какое хозяйство! Тут без планирования нельзя!
После этой фразы был произнесен очередной тост. А затем уже Котлярский, склонившись к архиерею, спросил:
– Скажите, Владыка, а нет ли там у вас еще какого ордена, ну или еще чего-нибудь в этом роде… Ну, или чтобы таким же, если надо будет, наградить еще кого?
– Ну, другие ордена, конечно, есть… – немного смущенно ответил Евсевий. – Но награждают ими за определенные заслуги. Вот вы, например, храм построили. Кто-то помогает сейчас в строительстве кафедрального собора…
– Так это вообще не вопрос! – с готовностью и горячностью прошипел Котлярский. – Владыка, мы же люди взрослые, деловые! Вы скажите: сколько?
– Ну, ордена не продаются, а вручаются…
– Да это все понятно! Пожертвования там… Благотворительность?
– Ну, миллионов шесть где-то…
– А чего? Нормально! – весело сказал Котлярский. – По-божески! – и тут он даже засмеялся. – А то ведь, Владыка, дело такое, – снова обратился он к Евсевию, – район – районом, а у меня ведь не только здесь интересы есть. Так что мы, как говорится, заинтересованы. Ну а с нашей стороны все будет четко, без всяких там. Сами уже знаете!
Евсевий вновь одобрительно кивнул.
– С нашей стороны, Леонид Артурович, все, что в наших силах…
Трапеза подходила к концу. Котлярский основательно выпил, некоторое количество виски с ним вместе употребил и Евсевий. Во-первых, потому, что нельзя было не употребить, сидя рядом с главой и хозяином «Хостонорзолота». А во-вторых, сказалось и эмоциональное расслабление: все проблемы с благотворителем благополучно разрешились, более того, денег он обещал даже больше, чем Евсевий изначально рассчитывал получить. Стоя уже у выхода из ресторана, Котлярский внезапно закричал:
– Вспомнил!
Архиерей и сопровождавшие его отцы Святослав и Алексий обернулись в сторону Котлярского.
– Владыка! – обратился тот к архиерею. – У меня же сын три дня назад прилетел! С внуком! Внука, Леньку – в честь меня назвали! – покрестить хотим! Владыка, покрестите, а?
– Да, Владыка! – вклинилась в разговор супруга Котлярского. – Мы все так мечтали, так мечтали, чтобы вы сами покрестили! Такая бы память ребенку была! И нам всем! Такая радость!
– Ну что же! – благодушно ответил Евсевий. – Покрестим, конечно! А где сейчас ваш сын с семьей?
– Владыка, они в соседнем ПГТ. В Октябрьском. Это километров пятьдесят отсюда, – пояснил Леонид Артурович. – Завтра с утра дотуда добежим. Вы не волнуйтесь, там все обустроено, примут по высшему разряду! Отдохнете заодно, а через три дня мы вас проводим! Если там билеты перебить – так не берите в голову, все организуем!
– Ну что же, тогда завтра поедем вашего внука крестить! – все так же благодушно ответил Евсевий. – Я в такой просьбе отказать не могу!
– Очень хорошо! – ответил Котлярский.
– Владыка… – тихо, стесняясь, но все же вполне решительно обратился к Преосвященному отец Алексий. – Помните, мы говорили… У меня у сына завтра день рождения, шестнадцать лет… Мне в Мангазейске надо быть обязательно!..
Евсевий на несколько секунд погрузился в замешательство. Он совсем забыл о том, что Сормов-младший должен завтра отметить свое шестнадцатилетие. Но обещание Котлярскому уже было дано, а отпускать диакона было не с руки.
– Ну, что же… – начал Евсевий. – Сам подумай: мне что ж, с одним Георгием туда ехать? Без диакона не обойтись, тут даже вопрос не стоит! Вот съездим, покрестим, вернемся – все и отпразднуете!
– Владыка, но…
Архиерей махнул кистью руки, давая понять, что разговор окончен. И, чтобы сменить тему, спросил Котлярского:
– Ну, как вам наш отец Святослав? Жалоб нет?
На лице Котлярского появилась кривая улыбка. Он пожал плечами, но не успел ничего сказать, как в разговор встряла его жена:
– Да нет, особых нареканий-то нет. Все ничего! Только вот он, Владыка, не захотел по селам поездить, хотя мы предлагали. Не знаю, может, мы не понимаем чего. Но я так думаю, что с людьми-то надо работать! – выдала Людмила Валентиновна.
Евсевий всем корпусом развернулся к отцу Святославу, стоявшему позади него на полшага.
– Ты что же это, засранец?! – повышенным тоном начал архиерей. – Тебя только рукоположили, и сразу такой приход дали! Новый храм! Персональные апартаменты! Да в нашей епархии о таких все священники только мечтать могут! Да что священники, я – и то в большей тесноте живу! Только служи! А ты, значит, ничего не делаешь?!
Отец Святослав молчал, совершенно растерявшись. Все это показалось ему не то, что несправедливым (это само собой), но настолько нелепым, что было непонятно, как на это можно реагировать. Евсевий же меж тем продолжал, как будто даже распаляясь:
– Тебе, значит, Леонид Артурович с Людмилой Валентиновной все условия создают, машину дают, а ты на заднице сидишь?! Ничего не делаешь?! Для того, что ли, тебя рукополагали?! Нечего сказать, хорош пастырь!
Лагутин посмотрел на чету Котлярских, стоящих за плечами Владыки. Мадам Котлярская еле-еле сдерживала торжествующую улыбку, грозившую разорвать ее рот, а глаза были масляными от злорадного ехидства. Что же до главы семейства, то на его лице застыла обыкновенная кривая ухмылка, а вот глаза… Глаза были обычными, спокойными и ледяными. И вот тут-то отец Святослав осознал, как ему показалось, самое страшное: «Им все ясно! Они ведь, сволочи, все понимают!» Архиерей продолжал его отчитывать, но Лагутин уже не вслушивался в его гневную речь. Ситуация была чрезвычайно, остро оскорбительной. И эта жалящая острота заключалась отнюдь не в абсурдных и несправедливых претензиях. Не в том, что изо рта Евсевия, вместе с гневными словами, в лицо отцу Святославу летел запах только что прожеванной еды и алкогольные пары. И даже не то, что эта сцена разворачивалась на глазах у его недоброжелателей, бывших, к тому же, людьми нецерковными. Самым скверным было другое: и сам Евсевий, и Котлярский, и даже его жена прекрасно понимали: все это – игра. Всем было ясно, что отец Святослав ничего предосудительного не совершил – скорее наоборот. Но Котлярскому было приятно его унизить. И за те деньги, которые Котлярский дает архиерею, он может потребовать от него вот так вот, публично, ткнуть мордой в грязь своего священника. И тот ничуть этим не смущается, не ограничивается даже формальным замечанием (какового, вообще-то, было бы достаточно), а устраивает настоящее шоу. Шоу для увеселения господина и госпожи Котлярских.
«Что это такое?.. – оторопело спросил сам себя Лагутин. – Ты же епископ! Князь Церкви! Наследник апостолов! И ты сейчас, ради этих своих траншей, как медведь на цепи, камаринскую пляшешь?! Восемьсот тысяч так отрабатываешь?!..» От этой мысли Лагутину стало не по себе.
– Еще раз что-то подобное услышу – вышибу тебя с этого прихода! Ишь, расселился в новом доме, и сразу обленился! Что нужно отвечать?! – резко спросил его Евсевий, заметив, что отец Святослав не реагирует на его речь.
– Простите, благословите, – ответил тот.
– Вот! Ну все, иди к себе!
Лагутин повернулся и пошел. «Что же это? – снова и снова спрашивал он себя. – Неужели это тот же самый Владыка, который тогда меня, после больницы, так встретил? Как такое вообще возможно? Почему он не меня – себя так унижает? А равно и свое достоинство епископа? Зачем?..»
Ответы на эти вопросы были. Но пока что отец Святослав еще не решался их произнести – даже мысленно.
* * *
– Ваше Преосвященство! – отец Алексий решил еще раз обратиться к архиерею. Тот только что отчитал отца Святослава и сейчас, в сопровождении Котлярского, шел к хаммеру, который должен был довезти его до люксовых гостевых комнат.
– Слушаю, – явно недовольно произнес Евсевий.
– Ваше Преосвященство! Простите, но мне завтра необходимо в Мангазейск лететь! Это очень важно! Поймите, это не ради развлечения. Я вам рассказывал, у меня сейчас дома обстановка сложная, и с женой, и с сыном отношения непросто складываются. И если меня завтра, в такой день, с ними не будет, то это… Это очень плохо. Это огромные проблемы для всей нашей семьи. Нельзя мне так! – закончил он умоляюще.
Архиерей выслушал его, не перебивая. Когда же отец Алексий закончил, он негромко и спокойно, в обычной своей манере, произнес:
– Вот что, отец Алексий! Ты диакон. Священнослужитель. Ты присягу ставленническую давал?
– Давал… – тихо произнес Сормов.
– Давал, – повторил Евсевий. – Обязался быть в послушании? Обязался. Ты же бывший военный! Должен понимать, что такое дисциплина. Вот и тут так же: сказано – выполняй, а не обсуждай!
– Но, Владыка…
– Опять двадцать пять! Все! Я завтра еду, как было сказано, и без диакона тут никуда. Так что завтра утром чтоб был готов, часов в семь уже выезжать будем.
– Владыка! – твердо и отчетливо произнес отец Алексий. – Я завтра возвращаюсь в Мангазейск. По-другому мне никак нельзя.
– Ты опять за свое! – все тем же спокойным тоном сказал архиерей. – Если завтра не будет тебя на месте – отправлю в запрет. Причем надолго. Понял?
– Понял…
Через двадцать минут отец Алексий зашел в дом к семейству Лагутиных.
– Ну, как у вас обстановка, отче? – спросил у него отец Святослав.
– Обстановка тяжелая, – сказал отец Алексий. И коротко изложил ему суть проблемы, рассказав о ситуации в семье, о шестнадцатилетии сына и о решении Преосвященного.
– Самое главное, не могу понять, – в завершение сказал Сормов, – зачем я ему там понадобился? Облачаться ему Георгий поможет, в крайнем случае, мог бы вас попросить… А я зачем?
– Для понта, – сказал отец Святослав. – Чтобы нашему дорогому и любимому благодетелю Хостонора и окрестностей все сделать по люксовому разряду. Собственно говоря, если бы он просто хотел ребенка покрестить, то и я бы с этой задачей прекрасно справился. Но ему, видите ли, нужно шоу.
– Ну, я ради шоу день рождения – тем более, шестнадцатый день рождения! – своего сына пропускать не собираюсь!
– Полетите?
– Полечу…
– А если… В запрет?
– Ох-х-х! – выдохнул Сормов. – Мне уже наплевать.
«Ну, это уже ни в какие ворота!.. – думал отец Святослав после того, как его гость ушел спать. – Ну ладно – я. Ладно на меня плевать. Молодой, ничего не знаю, ничего не умею. Но Сормов! Пожилой же уже мужик! Воевал! Ранение у него! Да он за нас всех там, в Таджикистане, свою задницу под пули подставлял!.. Мы ж все ему в ножки кланяться должны! И с ним – вот так?! Ради этих денежных упырей, чтобы им приятное сделать?! И это – архипастырь?!»
Решение созрело сразу. Отец Святослав сел за стол, включил лампу и достал белый лист бумаги. В правом верхнем углу написал привычное: «Его Преосвященству, Преосвященнейшему Евсевию…» Ненадолго остановился. «Нет, нечего тут медлить! – мысленно сказал он сам себе. – Как поет Рома Зверь: я ухожу, ухожу красиво! Уходить надо красиво!» И написал чуть пониже: «Ваше Преосвященство! Прошу Вас, в связи с личными обстоятельствами, почислить меня за штат, с правом перехода в другую епархию…»
На следующее утро Сормов улетел в Мангазейск. Еще через два дня отец Святослав, провожая архиерея на самолет, вручил ему свое прошение.
Глава 14 Звездопад
– А как же Маша?
– Похоже, что никак, – честно и даже цинично ответил Артем на вопрос Нади Загоскиной. Как всякие влюбленные, они могли говорить часами, а то и сутками напролет, причем предмет беседы никакого значения не имел. А поскольку Дмитриев работал в Епархиальном управлении и знал все тамошние сплетни, то темы для разговора находились легко. Тем более что за два месяца, прошедших после летней Казанской, сенсационных новостей накопилось немало. И Наде, тоже крутившийся где-то вблизи Церкви, они все были очень интересны – особенно в той части, которая касалась матримониальной сферы.
– Жалко ее! – в голосе Нади прозвучала сочувственная обида, столь естественная для всякой жалостливой девушки.
– Да, жалко, – легко согласился Артем. – Но решение уже принято. Георгий женится на Зинаиде. Архиерей благословил, матушки счастливы, ну а Георгий… Он, понимаешь, такой человек, что он может и своими, и не своими чувствами пренебречь. Ищет, где поспокойнее, поудобнее… А любит или нет – это для него не главное. Он так Маше и сказал: ты мне нравишься, но для жизни мне Зинаида будет удобнее.
– Как-то жестоко!.. – заметила Надя.
– Пожалуй… Ну, у них вот так, – сказал Артем. И Надя, разумеется, тут же уловила еще один смысл этой фразы: у них-то вот так, но у нас, само собой, все иначе. Чище, выше, возвышенней. Артемий, конечно же, никогда не скажет ей такого: ты мне нравишься, но для жизни не подходишь. Он никогда не предаст – ни их любовь, ни ее саму. Это казалось самоочевидной аксиомой, вновь и вновь наполняющей душу теплотой, настоянной на смеси разных эмоций – искреннего желания дарить себя своему возлюбленному, гордости за него и за его неизменные успехи и гордости за то, что он выбрал именно ее. И, конечно же, невозможно было не ощущать в себе нарастающего стремления к телесной близости, которая, в обрамлении вышеперечисленных возвышенных чувств, казалось столь прекрасной и чистой, что просто невозможно было думать о ее греховности.
Сейчас Наде казалось, что наступило самое счастливое время в ее жизни. Почему именно сейчас? Все было просто. Наконец-то осуществилась их старая задумка: она взяла отпуск как раз на то время, когда у Артема в его вузе были каникулы (а они у него вышли длиннее, чем у иных-прочих студентов, ибо учился он, конечно, хорошо, и сдавал все, конечно же, досрочно). И теперь они вместе, тайком ото всех, отправились в один из домов отдыха на Байкале. Впереди у них оставалось примерно десять дней, которые принадлежали только им. Десять дней вместе – и, конечно же, один номер на двоих. Да, две раздельные кровати, но стоявшие, однако, в одной комнате… И Надя, и Артем к требованиям своей веры относились очень серьезно и потому даже самим себе не решались признаться, что подобная – в буквальном смысле слова – близость почти неизбежно будет иметь логичное интимное продолжение. Которого они, с одной стороны, боялись (ибо грех), но о котором при этом мечтали. И мечты эти были столь яркими и радостными, что они не могли, да и не хотели их друг от друга скрывать… Но при этом и самим себе, и друг другу они повторяли, что «просто» побудут какое-то время вместе – «книжки будут друг другу читать». Впрочем, Наде для того, чтобы чувствовать себя счастливой, хватило бы и книжек. А Артем был всем доволен и особенно – самим собой, и безо всяких книг.
– В следующем году собор уже должен достроиться, – Артемий решил закрыть тему непростой личной жизни архиерейского келейника, переключившись на то, что было интересно ему самому – то есть на самого себя.
– Так быстро? Успеют? – с некоторым недоверием спросила Надя.
– Владыка уверен, что успеет. Что успеем, – не без гордости, добавил Дмитриев, вновь вспомнивший о том, что он является полноправным работником Епархиального управления.
Надя вновь улыбнулась – очарованно и счастливо. А Артем продолжал:
– Бог даст, цокольный этаж уже к Рождеству будет готов. А значит, как Владыка и благословил, можно будет оборудовать церковно-археологический кабинет…
Этот церковно-археологический кабинет в последние месяцы стал для Дмитриева чем-то вроде навязчивой идеи. Он был способным студентом – из тех, про кого говорят «подает надежды». Не будь он искренним православным неофитом, ничто не смогло бы его оторвать от научной работы – и от родной университетской кафедры. Но Артем хотел «служить Церкви». Единственный же выход, который позволял соединить два этих стремления, предполагал совмещение научной работы и церковной. Именно это он и пытался делать, и не совсем безуспешно: в его активе уже числилось несколько небезынтересных статей по местной церковной истории, написанных на основе архивных материалов. Но все это, конечно, получалось довольно мелко, а Дмитриев был человеком амбициозным. И вот теперь, казалось, нашелся оптимальный выход, который позволял слить воедино и церковную пользу, и научную деятельность, и дать этому слиянию подобающий дмитриевским амбициям масштаб. Артему пришла в голову мысль, что неплохо бы завести в Мангазейской епархии собственный церковный музей или, на худой конец, церковно-археологический кабинет. С этой мыслью он и пошел к архиерею, и получил полное одобрение.
– Дело хорошее, я скажу также, что и своевременное, – сказал Евсевий, выслушав Артемия. – Сейчас, сам видишь, места не хватает, размещаться негде… Но в новом соборе будет много помещений – в цокольном этаже, где актовый зал и трапезная, с обеих сторон. Вот там мы тебе место и подберем!
С этого момента Артемом овладела мечта о церковно-археологическом кабинете, который он должен получить в свое заведование. По его расчетам, в самом скором времени сей кабинет должен был превратиться в полноценный музей мангазейской церковной истории. (Уж он, конечно, постарается!..) А в перспективе, возможно, и даже в нечто вроде научной лаборатории. Соответственно, и он, Дмитриев, станет не кем-нибудь, а директором этого нового музея, который создаст солидную базу для его научной работы. С перспективой написания диссертаций и получения степеней – как в светских вузах, так и духовных академиях… Более заманчивой перспективы он себе не мог и представить. Церковно-археологический кабинет в соборных подвалах виделся Артему как главное дело его жизни, без которого он не сможет стать ни успешным, ни счастливым.
Надежду церковная история интересовала в несколько меньшей степени. Но, поскольку будущий музей был важен для Артема, он неизбежно становился важен и для нее.
– И ты будешь там работать! – радостно улыбаясь, сказала Надя.
– Ну, это само собой… Но не это, конечно, главное… – ответил Артем. И начал подробно живописать, каким он видит этот церковно-археологический кабинет и во что тот, по его мнению, должен вскоре превратиться. Дмитриев уже не раз просматривал соответствующие проектные документы и прекрасно представлял себе планировку цокольного этажа. Разумеется, он уже наметил пару больших комнат, которые, на его взгляд, идеально подходили для размещения там означенного кабинета («хорошая освещенность, опять же, и места много»). В уме он не раз и не два расставлял там музейные стенды и витрины с экспонатами («сначала, конечно, придется довольствоваться в основном фотографиями, но это только на первое время…»). Очень скоро там начнут проводиться экскурсии, а затем – и научные конференции («актовый зал кафедрального собора находится рядом, будет очень удобно все совместить – и церковно-археологический кабинет, и зал, и трапезная…»). Надя слушала его долго и как будто зачарованно – так, как слушают оперную музыку, шум водопада или соловьиные трели. Наконец, когда Артем на некоторое время замолчал, она, так же тихо улыбаясь, молча поцеловала его в губы. Потом еще и еще раз. Еще через секунду она ощутила, что его руки легли на ее талию – легли крепко, по-хозяйски. Это было в их отношениях новым – но у нее не было ни сил, ни желания сопротивляться. И вскоре произошло то, о чем они так долго мечтали и чего Артем – религиозный девственник – так сильно боялся…
– Так как же все-таки Маша? – уже после спросила Надя о судьбе Маши Молотниковой. Сейчас, когда все уже произошло, сожалеть было поздно. Оставалось лишь радоваться – и пытаться забыть о том, что они считали грехом. Именно поэтому Артем с удовольствием воспользовался вновь всплывшей темой и начал подробно и живописно излагать все происшедшее, как он это видел. Надя, положив голову ему на плечо, слушала не перебивая.
* * *
Простые трюки Зинаиды Юрьевны, оказались, однако, действенными. После сцены, разыгранной ею на архиерейской кухне, Варвара и Павла укоренились в мысли, что она сильно влюблена в Георгия. И как-то сразу отнеслись к столь внезапно обнаружившемуся чувству с теплотой и всемерным пониманием – хотя прежде не проявляли никаких симпатий к молодежи, ищущей мирской и семейной жизни. Вернее сказать, воспринимали таких людей как не вполне полноценных, эдаких недохристиан, которых в Церкви и вблизи себя приходится терпеть лишь ради какой-то нужды. Правда, на отпрысков вельможных и просто доверенных духовных чад такое отношение обычно не распространялось – но, как известно, во всяком правиле должно быть исключение. Теперь же еще одним исключением стала Зинаида. Еще совсем недавно она дрожащим голосом говорила во время кухонных посиделок, что хочет уйти в монастырь.
– А что в миру? В миру мне и делать нечего… – тихо, потупив взор, произносила она. И архиерейские келейницы таяли от жалости и сочувствия.
Теперь тренд изменился, но отношение осталось прежним. Прояви Зинаида свою матримониальную инициативу раньше или позже, реакция, почти наверняка, была бы негативная. Но именно сейчас в глухой монашеской обороне образовалась брешь, устремившись в которую, можно было одержать полную и безоговорочную победу. И Зинаида Юрьевна не столько просчитала, сколько нутром почуяла: настал ее час.
Наступление ее часа было обусловлено тремя вещами. Во-первых, к этому моменту она сумела завоевать у архиерейских келейниц самые искренние симпатии, а равно и авторитет. Во-вторых, Георгий в последнее время откровенно и многократно давал понять, что монахом быть не желает. А в-третьих, на горизонте появилось самое страшное – Маша. Маша, которая в глазах Варвары и Павлы выглядела роковой женщиной, коварной, многоопытной и безжалостной распутницей, намеревающейся этаким драконом проглотить наивного «теленка» – Георгия. Которого, разумеется, нужно спасать. А самым лучшим средством в этой ситуации оказывался законный и честный брак с благочестивой православной христианкой.
И вот тут как раз и нарисовался подходящий спасательный круг – в лице Зинаиды.
Однако на пути у нее оставался последний барьер, который предстояло взять – сам архиерей. Хотя после сцены на кухне Варвара и Павла начали регулярно рассказывать Евсевию о том, какая это была бы блестящая партия и как бы это было кстати, учитывая опасность, исходившую от «блудницы» Маши, Преосвященный ничего не отвечал. Причем в буквальном смысле: Варвара и Павла (главным образом, конечно, Варвара) жалобно рассказывали ему, как это будет хорошо.
– Зинаида-то наша вся исстрадалась! – повествовала Варвара. – И то сказать, где ей в наше-то время православного мужа найти!.. Ой, а уж Георгию-то нашему была б какая супруга!..
Но Евсевий выслушивал все это мрачно и молча, иногда кивал головой – и не произносил в ответ ни слова. Однако келейницы не сдавались. Они знали, что такое поведение – признак того, что решение им не принято. А значит, владычная воля может повернуться в любую сторону, и потому нужно продолжать гнуть свою линию.
Догнуть ее помог случай, приключившийся с отцом Евгением Панасюком.
Хотя среди мангазейского духовенства и околоцерковной интеллигенции отец Евгений не то что не пользовался популярностью, а вызывал реакцию наподобие аллергической, были у него и свои почитатели. Сей круг поклонников Панасюка состоял в основном из людей двух типов. В первую категорию, которую он очень ценил, входили мелкие и не очень предприниматели, слегка разбавленные бандитами. (Хотя к тому времени в России времена крутых бандитских разборок, со стрельбой и взрывами, уже почти завершились, Мангазейск, по провинциальному обыкновению, слегка отставал, и потому криминальные авторитеты здесь еще пользовались определенным влиянием и даже почтением.) Отец Панасюк общался с этой публикой очень охотно, крестил их детей, венчал их самих (буде у них появлялось такое желание) и, конечно же, регулярно бывал у всех в гостях. Околобандитским бизнесменам было приятно видеть вблизи себя попа, причем не просто попа, а с хорошо подвешенным языком и довольно много знающего – и, конечно же, всегда способного объяснить, что все, что они ни делают, хотя и неоднозначно, но может быть понято и прощено по-христиански. Со своей стороны, отец Евгений собирал с них обильный урожай «пожертвований за требы», а кроме того, по знакомству и сам промышлял кое-какими мелкими бизнес-схемами.
Что же до второй категории почитателей, то от нее радости были в основном нематериального характера. Собственно, это были не почитатели, а почитательницы. Приходские тетки, благоговевшие перед каждым священником, приехавшим «из центра», многие из которых чувствовали себя осиротевшими после отъезда в Австрию отца Филимона Тихикова. Панасюк очаровывал возрастных прихожанок своей интеллигентной манерой общения, аккуратно подстриженной бородой и цитатами из Евангелия на греческом языке (цитировал он часто и много, благо во всей епархии не было никого, кто мог бы его поймать на ошибках). В этой среде он ощущал себя подлинным гуру, к лотосным стопам которого регулярно припадают многочисленные ученики. Что ему весьма и весьма нравилось. Но с некоторых пор среди его почитательниц появилось новое лицо, чтобы не сказать личико, ибо обладательницей его была совсем еще юная, шестнадцатилетняя девушка по имени Юля. В церковь она ходила вместе со своей мамой, сорокапятилетней и слегка экзальтированной женщиной, воспитывавшей ее без мужа. От матери Юля научилась безоговорочному доверию ко всякому священнику («что батюшка говорит – это как сам Бог говорит!») и горячей вере в то, что спасение ее души определяется режимом питания в период постов.
Панасюк сразу же обратил внимание на новое, круглое и веснушчатое, лицо, обрамленное огненно-рыжими волосами (впрочем, почти всегда скрытыми платком-косынкой). И начал оказывать молодой прихожанке различные знаки пастырского благоволения. Когда она подходила ко кресту в воскресный или праздничный день, отец Евгений неизменно говорил:
– С праздником, Юлия! – а нередко и преподносил лично ей просвирку.
Юля смотрела на него восхищенно-остекленевшими глазами, смущенно шептала «спаси, Господи» и отходила. Но в душе ее бушевало торнадо острого, пронизывающего все ее юное тело восторга. Батюшка ее заметил! Батюшка ей благословил просфорочку! А ведь она знала, что то, что батюшка говорит и делает – это не просто так. Ведь всякий священник получает в таинстве рукоположения благодать Духа Святого и его действиями руководит сам Господь! Значит, это даже не отец Евгений, а Сам Бог выделил ее среди прочих! Это Он, руками отца Евгения, благословил ее просфорой, обратил на нее внимание, назвал по имени…
И теперь, приходя на службу, она торопливо смотрела: служит ли сегодня отец Евгений? Нет? Похоже, что нет… Опять этот отец Игнатий, который не умеет так хорошо говорить, читает короткие проповеди и не обращает на нее никакого внимания… И такая служба казалась долгой и скучной, и даже безсмысленной (хотя, как и полагается благочестивой прихожанке, Юля от себя такие мысли гнала).
Совсем иное дело, когда в алтаре был отец Евгений! Казалось, два часа литургии проносятся как один миг, следом за которым наступает долгожданная кульминация:
– С праздником, Иулия! – с доброй улыбкой, по-особому, по-церковнославянски произнося ее имя, говорит отец Евгений. И так радостно становится на душе, и кажется, будто некая горячая волна проносится по ее тонкому, юному телу.
– Спаси, Господи, – привычно шептала Юля и отходила в сторонку, стараясь как можно дольше удержать в себе сладостное ощущение только что прокатившегося через нее жгучего восторга… «Благодать! – мысленно повторяла она и начинала горячо обращаться к Богу: – Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Господи! Как хорошо! Как хорошо-то! Как радостно!» И, вновь глядя на отца Евгения, говорила себе: «Какой чудесный батюшка! Какой благодатный!» И любовалась им все оставшееся время. Вот он снова уходит в алтарь… Закрываются царские врата… Чтец дочитывает что-то непонятное, народ стремительно расходится… А вот и снова появляется отец Евгений – собранный, подтянутый, по деловому торопливый…
Очень скоро она стала дожидаться его после службы – разумеется, исключительно для того, чтобы задать вопрос о духовной жизни и услышать в ответ мудрое слово высокообразованного пастыря. Такие встречи стали происходить регулярно, а вскоре отец Евгений, явно благоволивший к Юле, стал давать ей разную православную литературу.
– Вот, пожалуй, это можно почитать, – произносил слегка в нос Панасюк, вручая рабе Божией Иулии очередную книжку. – Есть, конечно, спорные моменты, но почитать стоит.
– Благословите… – смиренно выдыхала Юля, получив небольшой томик.
Панасюк тоже любил эти встречи и разговоры. Поначалу ему казалось, что это общение не выходит за обычные рамки. Ему нравилось говорить и особенно поучать (да это и являлось его прямой обязанностью, как священника), и тут уж не играло роли, сколько лет стукнуло объекту поучения. Но очень скоро отец Евгений начал ловить себя на мысли, что в Юле есть кое-что еще, что заставляет обращать на нее внимание. Конечно, было приятно видеть, с каким вниманием и уважением она к нему относится, но взгляд как-то сам собой выделял ее стройную, почти детскую фигуру из толпы, невольно фиксируя и юную, детскую еще свежесть ее лица, и едва заметные, скрытые многочисленными слоями безобразной и безполой одежды, маленькие бугорки девичьих грудей, и тоненькие лодыжки, изредка показывавшиеся из-под длинной темной юбки… И, замечая все это, Панасюк вынужден был признаться сам себе: ему все это нравится. Нравится столь сильно, что не думать об этом он уже почти не может.
Поначалу отец Евгений честно пытался побороть в себе это влечение. Однако борьба шла не слишком успешно, да и он не усердствовал. «Ну, нравится, и что с того? – мысленно спросил он сам себя. – Помысел и дело – не одно и то же, да я и не монах. А дела никакого не было, да и не будет никогда».
И, действительно, для «дела» не было необходимого случая. График отца Евгения был весьма плотным, дома его ждала жена с детьми, так что пространства для маневра не оставалось. Потому Панасюк довольствовался лишь созерцательно-эстетическими радостями. Что же до Юли, то она старательно убеждала себя, что ее влюбленность в «такого хорошего батюшку» есть не что иное, как проявление благодати, присутствием которой она и объясняла себе и свои ночные волнения, и радостный трепет, охватывавший ее всякий раз при приближении отца Евгения…
Наверное, сии позывы и не получили бы никакого продолжения, если б внезапно не заболела теща Панасюка. Поскольку жила она в их родном городе, в Центральной России, супруга отца Евгения, весьма привязанная к своей матери, сразу же засобиралась в дорогу. Путь предстоял неблизкий и недешевый, а потому поездка планировалась на большой срок. Сразу же встал вопрос:
– Ехать, конечно же, нужно, – сказал отец Евгений. – Только вот с детьми мне тут непросто управляться будет. И с тобой их не отправить, им в школу ходить надо…
– Ну, вы уж тут держитесь! – ответила матушка. – А по домашним делам я попрошу, чтобы прихожанки наши помогли – когда обедом покормить, когда что…
Это был выход – причем вполне обычный, почти традиционный. Так в доме отца Евгения временно не стало жены, зато периодически стали приходить помогать приходские тетки, и среди них – мать Юлии. А вскоре и сама Юля стала появляться на квартире Панасюка, счастливая тем, что может быть ему полезной, да еще и находиться рядом с ним…
«А хорошо смотрится!» – мысленно отметил отец Евгений, глядя, как Юля управляется с кастрюлями и сковородками на его кухне, помогая приготовить обед для детей, которые через пару часов должны были прийти из школы. Впрочем, с точки зрения хозяйственной смотрелась она так себе: видно было, что готовить она хоть и умеет, но без твердого навыка, когда все делается быстро, четко и без единого лишнего движения. Но радовало другое: если в храме Юля всегда была в очень скромной – а вернее сказать, просто в некрасивой и не женственной одежде, то здесь, в домашней обстановке, она смотрелась гораздо аппетитней. Даже обычное кухонное одеяние, включающее неизменный фартук, делало ее куда более симпатичной и открывало взору несколько больше, чем обычно…
– Юля… – негромко сказал Панасюк.
– Да, батюшка? – ответила та.
Он подошел ближе.
– Юля… Я хотел тебе сказать… – и тут не выдержал, резко обнял ее и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась. Наоборот, подалась к нему всем телом.
– Батюшка… – сказала она. – Я вас очень-очень люблю!
Слова эти прозвучали неловко и как-то глупо. Но слова были уже не важны, и дальше все происходило без них. С Юлей это было в первый раз…
Потом, конечно, Панасюк перед ней долго и униженно извинялся, говорил о том, что на него «что-то нашло» и просил не рассказывать маме. Юля, конечно же, обещала – и в тот же вечер все рассказала матери. Которая после непродолжительного бросания предметов в свою дочь решила идти к архиерею, что и сделала на следующий день. Правда, со своей стороны она решила внести в рассказ дочери дополнительный и немаловажный штрих, обвинив отца Евгения в том, что он не просто вступил в связь с Юлией, но изнасиловал ее.
Евсевий выслушал мать весьма внимательно и сочувственно:
– Хорошо, что сообщили… – мрачно произнес он. – В милицию заявлять будете?
– Да какая тут милиция? – всплеснула руками мать. – Священник же все-таки! Да и как тут что докажешь?..
– Ну, то, что священник – это роли не играет! – сказал архиерей. – А вот доказать, пожалуй, да, трудновато… Служить он не будет, будьте уверены! – резюмировал Евсевий.
Проводив мать Юлии, Евсевий сразу же вызвал к себе отца Евгения, и тот уже через полчаса был у него в кабинете.
– Знаешь, кто тут полчаса назад был? – спросил его Евсевий. И, не дожидаясь ответа, назвал имя и фамилию своей посетительницы. Панасюку все сразу стало ясно.
– Владыка, простите, Христа ради! Бес попутал! – начал он упрашивать архиерея.
– Да, попутал! И не кого-нибудь, а тебя! И прямо скажу, не в первый раз! – жестко, даже чуть повысив тон, отрезал Евсевий. Действительно, за отцом Евгением еще в предыдущей его епархии тянулся довольно длинный и мутный след из каких-то странных историй, связанных с молоденькими девушками. Правда, ранее такие истории как-то благополучно заминались – злые языки поговаривали, что не обходилось без толстых конвертов, заносившихся в те или иные кабинеты Епархиального управления и издававших тихое денежное похрустывание…
– Владыка, я все понимаю! Любую епитимью! Только от служения не отстраняйте! – продолжал отец Евгений.
– Ну, это уже ни в какие ворота, – ответил Евсевий. – По канонам тебя вообще из сана извергнуть надо, а не то что в запрет. А ты: не отстраняйте! Прямо сказать, совсем ты обнаглел…
– Владыка, я все понимаю… Я отблагодарю…
– Что? – недоуменно спросил архиерей.
– Я отблагодарю! Владыка, я как раз микроавтобус, фургон, покупать собирался. Давайте я его вам передам? На епархию?
– Ну хватит! – сказал Евсевий. – Фургоном своим откупиться захотел! Каков! Значит, так. С сегодняшнего дня ты запрещен в служении. На пять лет. Указ получишь завтра.
– Владыка, простите… Но как же? На целых пять?!
– А как ты хотел? Я тебе уже сказал: за такое из сана извергать надо.
– Владыка, если не фургон, так, может… Что-то другое?
– Да ты совсем с ума сошел! – разозлился Евсевий. – Ты что, торговаться со мной вздумал? Все, иди!
Отец Евгений молча вышел. А архиерей остался наедине со своими думами. С одной стороны, он был в каком-то смысле даже рад такому исходу. Отец Евгений давно уже напрашивался на основательную взбучку, превратившись в раздражитель для всего духовенства. Да и Евсевия он порядком достал – и своим высокомерием, и неумением работать с людьми, и известной леностью. А теперь представился идеальный повод настучать ему по голове. С другой стороны, Преосвященный не мог не понимать, что вся эта история – это не только грех, совершенный священником. Это еще и его провал, как епископа. Ведь епископ, в дословном переводе, значит «надзиратель». И надзирать он поставлен над священством. Именно он, Евсевий, принял в свое время в Мангазейскую епархию Панасюка – принял, хотя и знал, что на прежнем месте служения из-за излишней привязанности к юным девицам этого самого Панасюка кое-кто считал едва ли не маньяком… И, приняв к себе, под свой омофор, он, Евсевий, за ним не уследил. Не предупредил начавшийся духовный недуг. А стало быть, и он тоже – виноват. И эта мысль, само собой, его никак не радовала.
Кроме того, в последнее время собственные келейницы все чаще говорили ему о том, что положение Георгия, оставаясь неопределенным, становится потенциально опасным.
– В монахи-то он не хочет… – тихо сокрушалась Павла.
– Вот то-то, что не хочет! – громко развивала ее мысль Варвара. – Как бы не влез во что! С этой-то Машкой запросто! С нее станется!..
«Ох ты ж, Божечка! – размышлял Евсевий. – Как-то совсем дела вразнос пошли! Отец Евгений в дерьмо вляпался, не хватало бы еще, чтоб Георгий во что-нибудь влез… Может, и в самом деле, нечего ему в монастыре делать?.. Монахом он быть не желает, а силком тянуть – не вышло б, как с отцом Евгением… Да уж!»
Именно в момент этих размышлений, через пару часов после визита Панасюка, Евсевия и застала Зинаида Юрьевна, пришедшая к нему «по личному вопросу».
– Владыка святый… – начала она, как будто стесняясь. – У меня просьба… Особая… Личная…
– Ну, говори давай! – устало сказал архиерей.
– Владыка, дело в том, что мне… Ну, Георгий очень нравится…
– Так, – безэмоционально произнес архиерей.
– Владыка… Благословите мне с ним… Подружить…
– Подружить? – переспросил Евсевий. Перед его мысленным взором пронесся визит Панасюка, вспомнились, конечно, и многочисленные призывы келейниц сочетать законным браком Георгия и Зинаиду. «Ну, хоть не как Панасюк», – подумал Евсевий, и вслух сказал:
– Ну, подружите…
* * *
В тот же день, получив соответствующее благословение, Зинаида Юрьевна отыскала Георгия и с немного смущенным видом, но твердо рассказала о вспыхнувших в ее душе чувствах. И, конечно же, о том, что чувства сии получили одобрение как самого архиерея, так и архиерейской кухни. В принципе, в церковной среде всегда было обычным делом, когда духовник знакомил потенциальных молодоженов, и в этом смысле ситуация была нормативной. Однако обычно все-таки инициатива в таких делах исходит от мужской стороны, либо от самого духовного отца, полагающего, что такому-то юноше такая-то девица будет хорошей женой.
Здесь же инициатором являлась сторона женская.
Наверное, будь Георгий несколько более жестким человеком, его самолюбие могла бы и задеть такая ситуация, где он выступал в роли колеблющейся и невинной невесты, а Зинаида – в качестве настойчивого жениха. Но этого не произошло. Ибо Георгий прошел довольно основательную школу смирения-послушания и более или менее был согласен с тем, что архиерейскому благословению надо следовать. Кроме того, хотя по епархиальным меркам он и считался завидным женихом и вообще солидным человеком, в обычной реальности Георгий-Егор оставался неопытным и неискушенным юношей. Особенно же неискушенным в том, что казалось отношений с женщинами. А если к этому прибавить то, что годы воздержания сделали его не слишком разборчивым, то в напористой манере Зинаиды Шаблыковой обнаруживалось даже нечто притягательное. Смелая женщина, которая твердо знает, чего она хочет – это само по себе является мощной приманкой для многих мужчин. А если речь идет об измученном многолетним спермотоксикозом пономаре, то эту притягательность смело можно умножать на десять.
Зинаида Юрьевна, разбиравшаяся в амурно-мирских делах значительно лучше Георгия, это понимала очень хорошо. И потому сразу же решила: пока архиерейский иподиакон не впал в затяжные раздумья, надо действовать быстро, четко и наверняка.
И потому буквально через два дня после того, как их благословили «подружить», она повела Георгия знакомиться со своими родителями. Архиерейские келейницы умилялись.
– Как хорошо! Так и надо, по-православному! – одобрительно отозвалась об этой затее Павла.
– Да, не то что эти, сейчас что, пошли девки! – бойко поддержала ее Варвара. – Так все и надо делать! С владычного да с родительского благословения!
И Зинаида с Георгием отправились с визитом к Зинаидиной семье, причем для такого случая Георгию было разрешено взять архиерейский джип.
Семейство Шаблыковых также подготовилось к встрече. Уже с порога в нос ударял характерный запах салата оливье, жареной курицы и картофельного пюре – неизменный ароматический атрибут праздника на постсоветском пространстве. Юрий Михайлович Шаблыков, на правах главы семейства, самолично вышел к порогу, протянул руку Георгию и сказал:
– Здорово!
Георгий прогундосил в ответ что-то невнятное, смущенный торжественностью момента. А следом за Юрием Михайловичем появилась и его супруга – мать Зинаиды, тут же ставшая зазывать всех за стол. Куда все и отправились.
– Ну так, значит, за сегодняшнего гостя! – поднял первый тост Юрий Шаблыков. До того немного вялый и скованный, он, услышав волшебный звук водочной струи, ударяющейся о донце стопарика, преобразился: в глазах появился энергичный блеск, а движения приобрели быстроту и точность. После второй рюмки из его открытого рта, в который он активно забрасывал обильно выставленную на стол закуску, полились армейские байки и воспоминания о собственной давно ушедшей молодости – воспоминания, в которых он неизбежно представал смекалистым и бравым парнем. Вероятно, так могло бы продолжаться очень долго, но через полчаса после начала застолья Юрия Михайловича начала толкать локтем в бок супруга.
– А?.. – рассеянно обратил он на нее свой взор.
– Зина… – начала мать Зинаиды Юрьевны. – Я тут это, вспомнила… Нам с отцом в магазин надо…
– А, да-да! – закивал головой Юрий Михайлович, тоже вспомнивший про магазин. – Сейчас по одной – и пойдем! – добавил он, потянувшись к водочной бутылке. Но супруга толкнула его локтем так, что бедный Юрий Михайлович подавился недожеванным куском куриного крыла и спешно встал из-за стола. И уже через пять минут, быстренько попрощавшись, они хлопнули дверью, оставив Зинаиду с Георгием наедине. Все произошло настолько быстро, что последний даже не успел задуматься над тем, не было ли это внезапное исчезновение частью заранее продуманного плана.
– Может быть, чаю? – вежливо осведомилась Зинаида. Георгий издал несколько неопределенных звуков, и в конце концов выдавил:
– Ну, можно…
Зинаида Юрьевна легко поднялась со своего стула, поставила перед Георгием фарфоровую чашечку из простенького домашнего сервиза (употреблявшегося только по праздникам) и, наклонившись над ней, начала наполнять ее сначала заваркой, а потом и кипятком. По ходу процесса гостю была предоставлена возможность вдумчиво обозреть две ее объемные, острые груди, нависшие над чашкой вместе с заварником (Зинаида, разумеется, знала свои сильные стороны и умела продемонстрировать их даже и не без некоторого изящества, в стиле раннего пин-апа.) Затем при помощи подобных же ухищрений Георгию была показаны объемные бедра – и все это так, чтобы взгляд его не зацепился за слегка отвисший живот. Наконец, когда объект дошел уже до некоторой кондиции, трапеза была закончена, и Зинаида Юрьевна повела его в комнату, именуемую, по мангазейскому обыкновению, залом.
– Ну, вот так мы живем… – произнесла она, махнув рукой вокруг.
– Понятно, – тихо и гнусаво ответил Георгий.
– Квартира у нас большая, трехкомнатная… – Зинаида Юрьевна перешла к более практической стороне вопроса.
Георгий кивнул.
– Это хорошо… – глубокомысленно заметил он после непродолжительного раздумья.
Становилось ясно, что разговор особо не клеится. Зинаида мысленно вздохнула. И опять какая-то ерунда, а меж тем дело делать надо! Как обычно, все самой… «Надо – значит, надо!» – подумала она, вспомнив одну из любимых армейских максим своего отца. После чего, к некоторому удивлению Георгия, шагнула к нему, приблизившись уже вплотную. А в следующую секунду он ощутил, что ее рука скользнула чуть ниже его пояса… По всем тем меркам, которые он усвоил в церковной среде, это было сверхнагло и очень непристойно – но как раз это-то и нравилось. А дальше рацио отключилось, полностью вытесненное потоком либидо…
* * *
Артем шагал по улице, как обычно, быстрым и широким шагом – так быстрее и вообще такой шаг ему нравился, было в нем что-то собранное и деловое. Шел же он в том направлении, которое теперь для него стало самым важным – и самым любимым. На лице Артема застыла тихая улыбка – такая, про которую говорят, что она «не от мира сего». Сам он этого, впрочем, не замечал; а улыбка эта была совсем не связана с его религиозными переживаниями. После того как они с Надей вернулись из своей совместной поездки, прошло чуть больше двух недель. И, казалось, каждый прожитый день делает их все более близкими друг к другу. Теперь они уже встречались ежедневно, почти не скрывая от окружающих своих чувств. Не то чтобы они не считали этого необходимым – по умолчанию и Надя, и Артем полагали, что пока что афишировать свои отношения не стоит. Но и скрываться особенно не получалось, и по Епархиальному управлению, а равно и среди общих знакомых, особенно среди околоцерковной интеллигенции, поползли слухи… Но их это почти не волновало: и Артем, и Надя были уверены, что очень скоро они вступят в брак, и тогда все эти сплетни станут безсмысленными и безопасными.
Сразу же после поездки Артемий, будучи настроен вполне покаянно, отправился на исповедь к Евсевию, который к тому времени уже был его духовным отцом. Для Дмитриева, совсем недавно еще девственника, переставшего быть таковым в силу греховных, с церковной точки зрения, обстоятельств, это было очень серьезным моральным испытанием. То, что архиерей отнесся к его признанию довольно спокойно, Артема вдохновило. В своих дальнейших матримониальных планах он Преосвященному признаться не решился. Что же касалось нынешней ситуации, то к ней Евсевий отнесся (само собой!) безо всякого восторга, но спокойно – и ограничился весьма легкой епитимьей.
– Двадцать поклонов утром клади. И вечером, после молитвенного правила, – сказал после исповеди архиерей, и на том ограничился.
Спокойное и как будто снисходительное отношение Артем истолковал по-своему. И когда при встрече Надя задала ему вопрос о том, состоится ли их свадьба, он ответил:
– Владыка ничего не сказал об этом. Думаю, он не будет против, и нам самим предоставит решать, что и как делать.
После этих слов Надя радостно обняла его и – уже привычно – поцеловала в губы.
И вот теперь Артем снова шел к ней в гости, а перед его взором вновь и вновь проплывали разные картины и сцены из их уже общего прошлого, из краткой, но казавшейся такой радостной и солнечной истории их отношений. Их недавняя совместная поездка и первая интимная близость… До того – их долгие и частые встречи, посиделки в гостях и прогулки… Безконечное ожидание автобусов или троллейбусов на остановках… И, конечно, Православное молодежное движение: беседы с солдатами в погрангоспитале, сбор пожертвований на строящийся собор, раздача и расклейка листовок… Последним они с Надей особенно любили заниматься. Это был отличный способ безконечно долго гулять вдвоем по вечерним улицам. Причем имелось и благочестивое объяснение: мол, не просто ходим, а листовки клеим, ведем просветительскую работу.
Внезапно взгляд Артема, скользивший по стенам домов, зацепился за небольшой клочок бумаги, прилепленный на плиточную облицовку стены. Да, так и есть – это была одна из таких листовок, с лаконичной надписью: «Аборт – это убийство!» И приклеили ее именно они с Надей. Сделано все было грамотно (это было предметом гордости Артемия): уголки листовки были аккуратно закруглены посредством ножниц, поэтому подцепить их – и сорвать агитматериал со стены – стало намного сложнее. Да и приклеен он был там, где надо – на плитку, а не на шершавую штукатурку. Такие листовки, как показывал опыт, могли висеть многие месяцы. А тут и нужно было, чтобы он провисел долго: за стеной, облицованной кафелем, находилось местное отделение Российской ассоциации планирования семьи, ненавистного всем православным активистам РАПСа, занимающегося пропагандой контрацепции и абортов.
Артем вспомнил Надины пальчики, длинные и тонкие, которыми она быстро и аккуратно расправляла влажный от клея бумажный листок на стене. Сколько раз потом ему доводилось видеть эти пальчики – видеть совсем близко! В том числе и в тех местах, где никто посторонний ранее не бывал… Счастливо выдохнув, Артем пошел дальше, не глядя вокруг, полностью отдавшись своими мыслям, которые проносились напряженным, пульсирующим потоком под аккомпанемент редких автомобильных гудков и мерный скрип снега и песка под сапогами.
В конце пути, как всегда, его встретила Надя – радостно ожидающая у приоткрытых дверей в обычном своем легком домашнем халатике. В тесной однокомнатной квартире сегодня никого, кроме нее, не было: в ожидании визита Дмитриева дочку заблаговременно переправили к бабушке. После обычных приветственных поцелуев (так же, уже по обычаю, затянувшихся на продолжительное время) Надя предложила Артему чай. Его это несколько удивило: в последнее время, когда они оставались наедине, первое, чем они занимались, было отнюдь не чаепитие… Однако он не подал виду и отправился за Надей на кухню. Там, за чайными кружками, начались обычные разговоры об епархиальных делах. В первую очередь, конечно, Артем начал рассказывать о своем будущем церковно-археологическом кабинете: до февраля рассчитывали доделать крышу, после чего собор могли подключить к сети отопления. А значит, в цокольном этаже можно будет начать работу. Артемий собирался уже в очередной раз рассказать о расположении помещений, о том, как там лучше всего разместить экспозиции и о прочем в этом роде, однако в этот раз Надя, выглядевшая несколько рассеянной, не стала ему молчаливо поддакивать. Но, дождавшись того момента, когда Дмитриев стал хлебать чай и потому допустил паузу в своем монологе, спросила, меняя тему:
– А что там у Георгия? С Машей уже все кончено?
– Да, там уже все, – ответил Артем. – О Маше уже речи нет. Идет спешная подготовка к его женитьбе на Зинаиде Юрьевне. Все приходские тетки в восторге, вкупе с кухонным советом.
– И что, после поста будут венчаться?
– Нет, наоборот – хотят успеть до начала поста.
– А почему такая спешка?
– Там, видишь ли, особая ситуация, – сказал Артем, криво улыбнувшись. – Зинаида Юрьевна времени не теряла. В общем, говорят, она от него забеременела. Вот и торопятся все.
– Вот как… – несколько напряженно сказала Надя. Но Артем этого напряжения не заметил, будучи погружен в мечты о церковно-археологическом кабинете, а также в процесс чаепития.
– Ага, – сказал Дмитриев.
– Что же, Владыка не возражал?..
– Ну, видимо, не возражал… А может, и не знает ничего.
– Может быть. Кстати, я хотела тебе сказать…
Артемий немного насторожился. На несколько секунда повисла пауза.
– Так о чем ты мне хотела сказать? – чуть помедлив, негромко спросил он.
– Артем, у нас… У нас будет ребенок.
Надя немного смущенно улыбалась. Улыбнулся и ее возлюбленный, хотя, как ей показалось, как-то жалко, едва ли не затравленно.
– Да?.. – переспросил он. – Это… Это точно?
– Да…
– Понятно…
– Ты не рад? – осторожно задала вопрос Надя.
– Нет, конечно, рад… Мы же говорили… Просто… Просто все это неожиданно немного…
– Что же в этом неожиданного? – немного резко спросила Надя. Артем кивнул: действительно, прозвучало глупо – ничего неожиданного в этой новости не было. Наоборот, она была более чем закономерной.
– Да нет… Все… Все как надо…
– Ты не хочешь ребенка?
– Ну почему… Хочу, конечно!.. Значит, нам надо теперь скорее пожениться! – уже более твердо сказал Дмитриев.
– Так мы… Поженимся? – тихо спросила Надя.
– Конечно! Как же иначе? – не без демонстративного легкого возмущения ответил Артем. На глазах у Нади выступили слезы. Она обняла его – как-то особенно любовно и нежно, прижимаясь к нему всем телом, и он чувствовал, как по этому телу, такому знакомому и такому родному, прокатывается легкая, нервная дрожь…
– Не переживай! – зашептал он ей на ушко. – Все будет хорошо!
– Правда?.. – спросила она, уткнувшись в его плечо.
– Конечно! Как ты могла подумать, что будет иначе?! Я пойду к Владыке… Он благословит… Конечно, благословит… И мы будем вместе. Будет в епархии еще одна свадьба! – закончил он почти весело.
Надя ничего не ответила. Да это и не требовалось, ибо и без всяких слов Артем понимал – она верила ему. Верила всецело и доверялась полностью.
* * *
– Еще что-нибудь? – спросил Евсевий Зинаиду, закончившую отчет об обычных, рутинных секретарских делах. Была половина седьмого вечера. День получился достаточно напряженным. С утра – встречи в администрации области, потом обед вместе с Котлярским, который как раз по делам прилетел в Мангазейск и которого, конечно, нужно было принять «на уровне», и все это не считая прочих повседневных дел. И вместе с усталостью накопилось и некое раздражение, прорвавшееся наружу в виде не вполне корректного вопроса.
– Нет… – ответила Зинаида Юрьевна. – По работе все, но тут есть еще одно дело… И даже не дело, а… – тут она замялась, давая понять, что вопрос деликатный.
– Ну, говори, что там у тебя за «не дело»! – сказал Евсевий.
– Просто я тут проходила мимо трапезной, и… Я так поняла, Алла опять в гости собирается…
Евсевий молчал.
– Конечно, это не мое дело… Но, Владыка, поскольку в прошлый раз это известно чем кончилось, я решила вам сообщить…
– В гости, говоришь… – протянул Евсевий. – Опять к этому своему… Кто он там – грузин или армяшка?
– Я так поняла, что к нему…
– Ну, ясно, – сказал архиерей.
– Она как раз скоро должна уходить, – завершила свой донос Зинаида Юрьевна.
Евсевий кивнул и снова спросил:
– Что-то еще?
– Нет.
Зинаида легонько поклонилась и вышла. А Преосвященный, оставшись наедине, погрузился в размышления. В последнее время люди, которых условно можно было отнести к его ближайшему личному окружению, совсем перестали его радовать. Георгий – еще куда ни шло, хотя его спешное намерение жениться наводило на разные мысли. С Артемием дело было хуже. По замыслу Евсевия, теперь, когда Георгий вступал в законный брак, именно Дмитриев должен был его заменить. И вообще стать ближайшим архиерейским помощником – одновременно и иподиаконом, и секретарем, и личным водителем. А может быть, и келейником. Все необходимые качества для этого у него были. «Более или менее», – сделал мысленную оговорку Евсевий. Да, чего-то было более, чего-то – менее, но особо выбирать не приходилось. И на ту роль, которую он наметил Дмитриеву, иных кандидатов просто не было. По этой-то причине его настораживал тот факт, что Артем вдруг начал интересоваться бабами. Архиерей в идеале видел его монахом и уж точно не был готов к тому, что тот сейчас женится и с головой уйдет в свою личную жизнь. Да еще и женится на этой Загоскиной, разведенной, да еще и с дочерью от предыдущего брака… «Это было бы ошибкой… Большой ошибкой!» – полагал Евсевий. А теперь вот еще и с Аллой новые приключения.
С одной стороны, на нее никаких надежд не возлагалось, да и вообще изначально задумывалось так, что она пробудет в Мангазейске лишь какое-то время, необходимое ей для духовной и психологической реабилитации. Что предполагало известную ее свободу в сфере личной жизни. С другой стороны, Евсевий ощущал себя ответственным перед ее отцом, который был и его духовным чадом, и не самым последним благотворителем, регулярно перечислявшим на соборную стройку солидные суммы. А сейчас эти суммы были очень важны. Освящение нового собора было запланировано на следующий год, на летнюю Казанскую. Чтобы успеть в срок, стройку приходилось откровенно гнать. Казалось, что вся епархия превратилась то ли в пароход, то ли в паровоз, летящий на всех парах. И скорость сбрасывать нельзя, и до финиша еще далеко. А в топку нужно закидывать не дрова или уголь, а купюры. Переводы, которые падали на счет Епархиального управления, исчезали почти так же молниеносно, как и появлялись. Но вместо того, чтобы договариваться о постепенном погашении долгов перед строителями, Евсевий был вынужден упрашивать тех же строителей наращивать темп… Давать заднюю было нельзя: о предстоящем освящении новопостроенного кафедрального собора уже объявили официально, а в Чистый переулок отправили приглашение Его Святейшеству прибыть в означенный день и возглавить богослужение. Нет, переносить сроки уже невозможно.
В этих условиях работа со спонсорами превращалась в хождение по острию бритвы: из них приходилось регулярно выжимать средства по максимуму, но трепетно и нежно, дабы сохранить отношения – и благополучно повторить операцию в следующем месяце. К каждому нужен был особый подход, к каждому требовалось подбирать ключ. С отцом Аллы Герасимовой, впрочем, подбирать ничего не требовалось – ключом была Алла. В личной жизни которой в последнее время наметились определенные изменения.
Неожиданно на ее горизонте возник некий Александр – средней руки предприниматель, державший небольшой продуктовый магазин в том же доме, где находилась его квартира. Александр этот был другом отца Святослава Лагутина, а подружились они по той причине, что отец Святослав, родившийся и выросший в Киргизии, неплохо разбирался в тонкостях всего того, что собирательно именуют «Востоком». А Александр хотя и имел вполне привычное для русского уха имя, но фамилию носил Чакветадзе. И был уроженцем Абхазии, откуда ему, грузину, в 1992-м году пришлось бежать вместе со всей семьей. Тогда он был еще подростком. Затем последовал переезд в Россию, перемещение по различным городам, и в середине 1990-х Александр вместе со своим братом Гиви осел в Мангазейске. Поначалу зарабатывали тем, что чинили обувь – ремесло, которому их обучил еще покойный дед, пришлось как нельзя кстати. А потом, разумеется, не без помощи диаспоры, стали заниматься торговлей и постепенно стали на ноги. Оба брата, как и большинство грузин, считали себя православными. Но если для Гиви это было скорее традиционной формальностью, то Александр отличался куда большей религиозностью. Вследствие чего ходил периодически на службы, и однажды после литургии вознамерился набрать себе святой воды. К делу он подошел основательно: прихватил из дома большой бидон, с которым и направился в тот церковный угол, где располагался бак с освященной водою.
Сидевшая в иконной лавке тетка заметила крупного, полноватого мужчину, который без спроса стал орудовать пластиковым ковшиком, и решительно сорвалась с места.
– Без благословения нельзя! – заявила она. – Только пономари могут воду наливать. Или кого батюшка благословит!
– Какие пономари? – тут же начал возмущаться Александр. – Почему нельзя?!
– Только по благословению! – так же, на повышенных тонах, контратаковала тетка.
– Почему ви мнэ запрещаетэ?! – едва не начал кричать Чакветадзе (в минуты волнений в его речи неизменно проявлялся родной грузинский акцент).
Спас ситуацию отец Святослав, случайно в это время зашедший в храм.
– Что за шум, а драки нет? – поинтересовался он – и благополучно разрешил намечавшийся конфликт. После чего последовал длительный разговор, к концу которого Александр и отец Святослав стали уже добрыми приятелями. А вскоре последний стал желанным (и частым) гостем в доме у братьев Чакветадзе. Знание того, что условно можно назвать «восточной ментальностью», делало Лагутина понятным и близким для обоих братьев-мигрантов. А для Александра это общение было важно и дорого еще и потому, что он наконец нашел священника, идеально его понимающего и при этом достаточно компетентного для того, чтобы ответить на его вопросы духовного и богословского характера. (Вопросы эти не отличались особой глубиной, но были, тем не менее, весьма многочисленны.) Поэтому теперь отец Святослав, бывая в Мангазейске, всегда останавливался у своего нового друга.
И вот однажды, когда Лагутин во дворе Свято-Воскресенского храма медленно прогуливался взад-вперед, при очередном развороте вокруг своей оси он едва ли не нос в нос столкнулся с Аллой.
– Благословите… – на ходу произнесла она.
– Бог благословит! – ответил отец Святослав. – Как поживаете, матушка?
– Ох!.. Житие мое!.. – с усталой желчностью выдохнула она. – У нас тут… Сами знаете…
– Да, откровенно говоря, догадываюсь! – в тон ей ответил отец Святослав. Он не был профессиональным психологом, однако сразу сообразил: Алла близка к нервному срыву. И понятно почему. Архиерейские келейницы, вкупе со своим кружком кухонных любительниц благочестия, задергали ее до крайности. Симпатии его были всецело на стороне Аллы: после его демарша с прошением о почислении на покой Евсевий перевел его на новый приход, куда более бедный, чем хостонорский, и с тех пор Лагутин для архиерейского окружения попал в список неблагонадежных.
– Вы присаживайтесь, поговорим! Если есть к тому благоволение, – сказал отец Святослав, махнув рукой в сторону скамеечки. Благоволение, конечно, было – Алла хотела выговориться. Полчаса пролетели незаметно, после чего, с визгом вывернув из-за поворота, у церковной ограды остановился «ниссан» Чакветадзе.
– Батюшка! – громко крикнул он, выскакивая из-за руля. – Благословите!
– Кстати, будьте знакомы, – сказал отец Святослав, представляя Аллу Александру. Дальше ему уже ничего делать не потребовалось. Александр мгновенно идентифицировал в Алле, слегка полнотелой и черноволосой, знойный идеал любого южанина. А Алла, в свою очередь, сообразила, что в лице Александра на ее горизонте возник человек из «нормального» мира, и не запрыгнуть в это окно возможностей будет глупо.
В результате в тот же день в гости к братьям Чакветадзе поехал не только отец Святослав, но и Алла. Причем назад она вернулась во второй половине следующего дня, вследствие чего случился изрядный переполох, сопровождавшийся активными поисками и не обошедшийся без телефонного разговора архиерея с отцом Аллы. Ни для Евсевия, ни для Александра Матвеевича Герасимова этот разговор особенно приятным не был…
Однако закончилась эта история для епархии с пользой. Причем с пользой в самом земном, материальном смысле этого слова. Герасимов-отец, решив, что его буйное чадо продолжает создавать Его Преосвященству ненужные проблемы, в порядке извинений перевел еще один довольно основательный денежный транш на епархиальный счет. Новость эта оказалась настолько приятной, что на радостях архиерей и его келейницы забыли надавать по шапке отцу Святославу, столь неосмотрительно познакомившему Аллу со своим грузинским другом.
И вот теперь Зинаида Юрьевна снова «стукнула», что Алла собирается к «этому своему». Евсевий чуть откинулся на спинку кресла и задумался. Пожалуй, следовало как-то вмешаться. «Запретить?» – задался он вопросом. Нет, запретить все же нельзя. Она не монахиня и не послушница и, строго говоря, подчиняться ему не обязана. И уж тем более было бы некстати обострять ситуацию до такой степени, чтобы она об этом заявила открыто, да еще и публично… Но вмешаться все же можно. Сделать ей архипастырское внушение. Попытаться пристыдить, напомнить о том, что отец, мол, волнуется. «Пожалуй…» – продолжал размышлять архиерей. Но, хотя он и не желал в этом себе признаваться, где-то на периферии сознания свербела мыслишка: ну и пусть едет. Вляпается во что-то – так то ее дело. А за безпокойство папаша ее еще денежек подкинет…
«Тьфу, дерьмо какое!» – мысленно одернул себя Евсевий. Конечно, деньги для строительства собора сейчас нужны – а нет сегодня в епархии более важного дела, чем эта стройка. Но вытягивать очередную сумму таким образом, конечно же, недопустимо. «И речи быть не может!» – сам себе сказал архиерей. С другой стороны, дело не только ведь в транше. Алла – взрослая женщина, у нее ребенок есть. Так сказать, сама в совершенных летах. И нужно ли ему, епископу, за ней бегать, повторяя, что хорошо, а что плохо?.. «Все она знает, – продолжал рассуждать Евсевий. – Не скажу я ничего ей нового… В конце концов, я архиерей, а не нянька…»
Но был в такой постановке вопроса некий изъян. Не нянька? А кто же тогда? Не является ли забота о каждой из словесных овец его первейшим долгом, как архипастыря? Тем более что он сам согласился особо присмотреть за Аллой.
Размышления тянулись своей чередой. И Евсевию не хотелось признаваться, что этот мысленный диалог сам с собой он, в действительности, затянул целенаправленно. Конечно, за то время, пока он все тщательно обдумывал, Алла наверняка уже уехала. И что бы он сейчас ни решил для очистки совести, выходило так, что победила та гнусненькая, постоянно отгоняемая им мыслишка – дескать, пусть едет и пусть опять пропадет, а мы через это с ее родителя еще денег стрясем…
Понимая, что это уже безсмысленно, Евсевий все же позвонил по мобильному Варваре:
– Бог благословит… Где там Алла?.. Да, посмотрите…
Разумеется, Аллы уже на месте не было.
Настроение у Евсевия было скверное. «Будто в грязи извалялся», – подумал он. И тут за дверью Зинаида Юрьевна быстро проговорила Иисусову молитву, и в открывшуюся щель произнесла:
– Владыка, к вам Артемий пришел…
– Ну, пусть заходит…
* * *
Артем зашел в кабинет, поклонился по обыкновению, попросил благословения.
– Ну, что там у тебя опять? – спросил Евсевий, показывая рукой, что можно садиться. Было видно, что настроение у архиерея не самое подходящее для беседы, но выбирать не приходилось. А кроме того, Дмитриев еще не утратил неофитской уверенности в том, что всякое деяние и слово архиерея так или иначе направляется Духом Святым. А тогда какое значение имеет его настроение? Нужно думать не о епископе, а Боге, Который через епископа объявит Свою волю…
Артем коротко изложил суть ситуации. И с каждым его словом Евсевий становился все мрачнее, хотя внешне это было почти незаметно. Ведь он не обратил особого внимания на всю эту историю с Надеждой Загоскиной, предположив, что это был обыкновенный загул по молодости лет. Буйство плоти и ничего более, и об этом можно будет забыть. Понятно, что Артемий придал этому большое значение – с ним это случилось впервые, молодой, до недавнего времени девственник, что он мог о таких вещах знать? В действительности подобное происходило сплошь и рядом (о чем Евсевий, не одно уже десятилетие принимавший исповеди, имел самые исчерпывающие сведения). Но чтобы все зашло так далеко… Мало того что рушились все надежды, которые Евсевий питал в отношении Артемия (а их было совсем немало), вся эта история приключилась еще и удивительно не вовремя. Георгий женится, он, архиерей, скоро может остаться без самого надежного своего помощника – иподиакона и водителя. А такой помощник сейчас, когда строится собор, был ему необходим. На смену Георгию должен был прийти Артемий, и теперь вот это…
– Ну что я могу сказать? – перебил, не дослушивая Дмитриева, Евсевий. – То же самое, что раньше: завязывай с этим.
– Но… Как же? – растерянно спросил Артем.
– Скажи, что все, мол, кончено. А лучше и не говорить, а СМС отправь. И сим-карту свою поменяй. Отрезать, и все!
– Но как же… Ребенок?
– Ребенок!.. Ну что же!.. Будет воспитывать – если, конечно, аборт не сделает. Тогда на ней еще и этот грех будет.
– Но ведь это мой ребенок… – негромко сказал Дмитриев.
– Твой! – недовольно буркнул Евсевий. – Надо еще разобраться, твой – не твой. У таких… девиц еще точно не скажешь, чей он!
Артем замолчал. Он понимал, что здесь и сейчас он должен был либо сдержать свое обещание, либо предать Надю, которой он обещал, что они будут вместе. Он, она – и их дитя. Но внутри него сидел и страх перед будущим: собственная семья, огромная ответственность, новые трудности… И все это в тот момент, когда в его жизни все начинало так замечательно складываться! Церковная карьера даже сейчас, в начальной, по сути, точке, выглядела впечатляюще. А впереди его ждали и научные штудии, и новые административные должности. И, конечно, священнический сан. И сколь бы неофитской наивности не оставалось еще в Артемии, он понимал, что сейчас у архиерея он в фаворе, а в Московской Патриархии нет карьерных перспектив без архиерейского благоволения. Пока он рассчитывал совместить все эти блестящие планы с женитьбой на Надежде, никаких сомнений в его душе не возникало. Но теперь все представало в ином свете…
– Ты сам подумай! – продолжил Евсевий. – Она тебя старше, да еще, говоришь, с ребенком! Это тебя сейчас блудный бес водит, вот тебе и кажется, что любовь, все прочее! Через полгода ты каждую морщинку на ее лице будешь видеть! Сам же и убежишь. Только замажешься в этом дерьме еще больше. И намучаешься еще.
– А как же ребенок? – снова спросил Дмитриев.
– Ну что… Помогать, конечно, можно. Может быть, и нужно. Но семьи у вас все равно не будет нормальной. Так что оставь ее в покое – и сам не дури! И помни: если хочешь в Церкви служить, послужить Богу – то нужно и жить стараться… Соответственно.
Артем чуть слышно вздохнул.
– Но… – попытался он что-то возразить.
– В общем, я тебе сказал, что делать. А решать тебе, конечно. Выбирай: или оставаться в Церкви, или… Или эти все… дела, – последнее слово Евсевий произнес с явным пренебрежением.
Вопрос был поставлен не явно, но очень четко: или церковная – в том числе и церковно-научная – карьера, включая сюда и вожделенный церковно-археологический кабинет, или Надя. Или свадьба, без благословения Владыки, и последующая за ней жуткая неизвестность. Хотя почему же неизвестность? Все как раз вырисовывалось с пугающей ясностью: отсутствие связей, отсутствие поддержки – и необходимость содержать семью, содержать ребенка… Лямка, которую придется тянуть не один десяток лет через мир всеобщей серости и рутины, через болезненное осознание того, что все могло бы быть иначе – ярче, красивее, почетней, в общем – успешнее, во всех смыслах этого слова.
Тень этого грядущего ужаса промелькнула перед Артемом уже в тот момент, когда Надя сообщила ему о своей беременности. Но тогда он не позволил этому вырваться наружу. Стыдно было своего страха, стыдно было отказываться от своего слова… Но теперь тень сгустилась и превратилась в каменный каток, готовый его раздавить. Что же до стыда, то его теперь можно купировать очень серьезным аргументом – владычной волей и обязательным этой воле послушанием.
– Я понял, Владыка, – негромко сказал Дмитриев. – Благословите.
* * *
Надя, сжавшись, молча стояла у окна на кухне своей квартиры. Стояла уже больше часа. К счастью, она была одна – она попросила маму оставить у себя внучку еще на несколько дней, пока хотя бы в общих чертах не решатся столь важные для нее вопросы. Да, хорошо, что дочери не было рядом. В одиночку она как-то справлялась, а вместе с ней могла бы и не выдержать.
Несколько часов назад заходил Артем. Рассказал о своей беседе с архиереем и сообщил, что против воли своего духовного отца он пойти не сможет.
– Прости, но вместе мы быть не сможем… – с видимым трудом произнес он. – Прости.
– Но ты обещал, – тихо, с абсолютным спокойствием, сказала Надя. В тяжелые моменты она умела быть спокойной, даже – удивительно спокойной.
– Да… Но я не могу пойти против Владыки… Он мой духовный отец… Прости! Извини! Не о чем больше говорить!
– Уже не о чем? – чуть иронически спросила Надя. – А как же ребенок?
– Да… Разумеется… Как Владыка и сказал, я, конечно, буду помогать… По мере сил, конечно…
– По мере сил?..
– Да. Я все понимаю, но и ты пойми! По-другому нельзя!
– Почему?..
– Прости! Прости! – выдохнул Дмитриев и выскользнул за дверь.
После его ухода много, очень много мыслей пронеслось в голове у Нади. Была, конечно, и обида, а еще острее обиды было разочарование в человеке, который совсем недавно был для нее героем и идеалом, которого она считала своей ожившей мечтой. Была и обида, даже злоба на саму себя – ведь не такая уж юная и неопытная, и могла догадаться, чем должен закончиться ее роман с таким вот парнем моложе ее… Может быть, все было предопределено? А может, она понимала, что совершает ошибку, но хотела ее совершить? Слишком много вопросов – и слишком мало ответов. А главное, не было ответа на самый важный вопрос: как жить дальше? Ведь понятно, что никакой серьезной помощи в воспитании ребенка он ей оказать не может. А на ней и без того – дочь-подросток и мама-пенсионер. Двух детей она просто не вытянет, и поддержки ждать неоткуда.
Четверо суток Надя провела в раздумьях о том, как поступить. Пыталась молиться, но не получалось. Не получалось вообще собрать свои мысли воедино. А на пятые сутки она, стараясь быть незаметной, зашла в то здание, на плиточной облицовке которого все еще висела антиабортная листовка, которую они с Артемом приклеили несколько недель назад.
Еще через три дня беременности уже не было. Жизнь Нади стала обычной, во многом даже похожей на ту, прежнюю, жизнь. Но в церкви она больше не бывала.
Глава 15 Помните узников
– Сормову звонил? – спросил Евсевий благочинного, пришедшего к нему по обыкновению ближе к вечеру с очередным отчетом.
– Да, – ответил отец Кассиан. – Не подходит к телефону.
– Не подходит? Вот как?
– Да, Владыко!
Архиерей недовольно фыркнул.
– И чего ж он добивается? – спросил он благочинного. Тот чуть улыбнулся кривой улыбкой и слегка развел руками:
– Не могу знать!
Евсевий покачал головой.
– Ну, ясно… – сказал он. – Значит, позвони ему еще раз, скажи, чтобы в ближайшее воскресенье приходил на службу. А еще лучше сам к нему домой съезди. Понял?
– Благословите! – в фирменном стиле, с интонацией ружейного затвора, ответил отец Кассиан.
– И скажи, что если не придет, мы на нем ставим крест.
– Благословите!
– Все!
В действительности понять, чего добивается отец Алексий Сормов, было не так уж и сложно. После конфликта во время поездки в Хостонор Сормов перестал ходить на богослужения. С ним пробовали связаться по телефону – он не брал трубку. Потом отправляли к нему различных посланцев от Епархиального управления – Наталью Юрьевну, Зинаиду Юрьевну, и даже отец Кассиан единожды доехал. Но ни с кем из них Сормов разговаривать не стал. Такое поведение выглядело достаточно резким и даже вызывающим. Оно означало, что отец Алексий будет говорить только с Преосвященным.
– Человек он своеобразный, – в доверенном кругу откомментировал ситуацию отец Игнатий. – Но понять его можно: не мальчик уже – на побегушках быть. Архиерей его обидел – он только с архиереем и говорить станет. В общем, логично…
Однако Евсевий встречаться со своим диаконом не считал необходимым. И уже твердо решил: если отец Алексий, несмотря на многочисленные приглашения, не явится на службу или к нему на прием, если не отреагирует на последнее его предостережение, то далее последует запрет. А там и извержение из сана. «Нечего с ним дерьмократию разводить! – не без некоторой злобы думал архиерей. – Хватит с нас одного Панасюка!..»
Документы об извержении отца Евгения из сана уже были отправлены в Синод. Сейчас продолжались Святки, и до начала Великого поста 2004-го года архиерей рассчитывал получить утвердительный ответ. Официальная причина была все та же – как бы изнасилование девицы Юлии. Реальной же была наступательная стратегия обороны, выбранная Панасюком.
Сообразив, что договориться с Евсевием «по-хорошему» не выйдет, отец Евгений решил нанести ответный удар. Для начала он вознамерился слить в местную прессу сведения о разных теневых сторонах жизни епархии. С этой целью он отправился в редакцию местной «независимой общественно-политической» газеты «В фокусе», в просторечии именуемой просто «Фокусом». Договориться о встрече с редактором, уже немолодым, опытным, но безталанным ветераном региональной журналистики Валерием Ильичом Заваловым оказалось несложно – друзья-бизнесмены снабдили и телефоном, и рекомендацией. Отец Евгений был уверен, что объект выбран верно: Валерий Ильич был большим другом Марата Яковлевича, «мракобесие» ненавидел изо всех своих душевных сил, а в вопросах морали и этики его взгляды отличались свинской широтой.
– Здравствуйте, Валерий Ильич! Очень рад знакомству! – радостно сказал отец Евгений, заходя к нему в кабинет.
– А, отец Евгений! Здравствуйте! Тоже рад! – Завалов, дабы показать свое расположение, даже вышел из-за стола и протянул опальному священнику руку. – Ну-с, присаживайтесь, рассказывайте, что привело вас в наши многогрешные дебри!
– Валерий Ильич! – почти торжественно начал Панасюк. – Ваша газета известна как очень авторитетное и действительно независимое издание…
– Не буду спорить, не буду спорить! – отозвался Завалов.
– И потому я уверен, что именно вам может быть интересен тот материал, которым я хотел бы с вами поделиться. У вас хватит и компетентности, и, скажем, широты взглядов, чтобы его правильно осветить…
– Так, так! И что за материал?
– Я мог бы вам рассказать о некоторых темных, прямо сказать, неприглядных… очень неприглядных сторонах жизни Мангазейской епархии…
Завалов едва не поперхнулся – такого поворота он не ждал. Панасюк, решивший, что он с первого захода поразил цель, начал подробно описывать открывшуюся перспективу: рассказал и историю о Джамшадове, и об отце Филимоне, которого, якобы, Евсевий «изгнал» из Мангазейска в Вену, упомянул о финансовых «схемах» и, конечно же, о себе.
– Все это, так сказать, только верхушка айсберга, – подытожил он.
– Мда… – выдавил Завалов. – Все это, конечно, очень интересно…
– Валерий Ильич! Люди ведь страдают! Сколько судеб поломано… Кроме вас, рассказать обо всем этом некому!
Завалов посмотрел на Панасюка рыбьими глазами. Разумеется, идея расписать самыми мрачными цветами мангазейских попов редактору «Фокуса» очень нравилась. Но он также понимал, что сейчас, когда областная администрация начала наконец активно включаться в процесс строительства собора, когда вся местная элита уже ждала патриаршего визита, запланированного на лето, подобные журналистские удачи наверняка обернутся определенными проблемами. Ибо именно сейчас, бросая камень в мангазейского архиерея, легко было попасть в губернатора. Или, скажем, в управляющего местной железной дорогой. И в погрануправление, и в УФСБ, кстати, тоже… Может, особой беды бы и не случилось, но рисковать не стоило.
– Видите ли, отец Евгений… Все это очень интересно, конечно… Но у нас светское издание, мы в этих вопросах некомпетентны… Так что, к сожалению, я вынужден отказаться! – отрезал Завалов.
Панасюку не оставалось ничего другого, кроме как извиниться за потраченное на него время и уйти. Но история на этом не закончилась. Редактор «Фокуса», само собой, рассказал о визите Панасюка своим коллегам в курилке – причем рассказал так, что запомнили даже и не слишком памятливые. И один из них, придя домой, поведал эту историю своей жене – просто так, в виде забавного анекдота:
– А к нам тут один поп приходил! Чего только не понарассказывал!
Жена выслушала его весьма внимательно, ибо была постоянной прихожанкой Свято-Иннокентьевского храма и ей все это было интересно. А заодно и узнала фамилию священника, который тайком хотел слить компромат – и на следующий же день сигнализировала отцу Кассиану. Который, в свою очередь, незамедлительно информировал архиерея.
После чего, столь же стремительно, было написано ходатайство в Синод об извержении отца Евгения из сана.
Евсевий был настроен решительно. Оставались последние полгода, за которые нужно успеть еще очень многое. Собор уже покрыли крышей, уже привезли и готовились монтировать первые купола. Само здание, тело нового кафедрального храма, выглядело почти законченным. Но архиерей знал, что это лишь видимость. Предстояло еще достроить колокольню, да и тот же монтаж куполов требовал не таких уж малых средств. Ведь готовы – и то, лишь относительно готовы – были только стены и крыша. Ко внутренней отделке еще не приступали, а уж о таких вещах, как облагораживание прилегающей территории, нечего было и думать. И губернатор, и иные сановные гости, которые теперь (после того как им посулили патриарший визит!) стали частенько наведываться на стройку, с удовлетворением кивали, глядя на высоченные, серые бетонные стены, на огромные оконные проемы – и, конечно же, выражали уверенность, что строительство завершится в срок. Но Евсевий, постоянно думавший о стройке и только о стройке, понимал: это почти невозможно. Слишком хорошо он разбирался в строительстве, слишком хорошо знал собственные финансовые возможности, чтобы не видеть, что, несмотря на очень впечатляющий темп, они отстают от графика. Конечно, к лету будут и купола, и штукатурка на стенах, но вот с отделкой успеть почти невозможно. Точнее, невозможно в принципе, и если это удастся сделать, то только чудом Божиим.
Об этом чуде он теперь часто и регулярно молился. И, верный своему правилу духовной мобилизации, стал еще чаще совершать продолжительные всенощные с акафистом. А отец Игнатий, ранее жаловавшийся на то, что трудно тридцать суток подряд служить литургии, уже боялся и жаловаться… Собор требовал новых жертв, и духовных, и материальных. И Евсевий был готов приносить их без малейшего промедления.
В этой ситуации всякая расхлябанность среди духовенства и мирян была недопустимой, не говоря уже про подковерные вылазки наподобие той, что позволил себе отец Евгений. «Остался последний рывок… – думал архиерей. – Тут как на войне: последний бой – он трудный самый! А на войне с дезертирами не нянчатся, не говоря уж про открытых врагов! Вот я и нянчиться не буду!..»
У дверей раздался голос Зинаиды Юрьевны, привычной скороговоркой прочитывающей Иисусову молитву.
– Аминь! – громко сказал Евсевий.
– Благословите, – сказала в щель Зинаида Юрьевна. – Владыка, вам из Торея звонят, из колонии…
– Откуда?
– Из колонии, ну, для заключенных. Администрация звонит. Звонок вам переводить?
– Да, конечно! – быстро ответил архиерей, уже почуявший недоброе.
Через три секунды у него на столе звякнул телефон.
– Да! – сказал он в трубку.
– Здравствуйте! Это епископ Евсевий, управляющий… – голос с той стороны провода прервался, видимо, чтобы зачитать официальную должность, – управляющий Мангазейской епархией Русской Православной Церкви Московского Па… Па-три-арх-хата?
– Да!
– Это начальник исправительной колонии номер одиннадцать полковник Гурулев. У меня к вам вопрос.
– Да-да, я слушаю!
– Вы давали указание священнику Георгию Тарутину не проводить освящение здания администрации колонии в связи с тем, что в колонии находится Раскин, которого Тарутин характеризует как политзаключенного?
* * *
До поры до времени жизненный путь Юры Тарутина был самым обыкновенным. Родился он в 1953 году, буквально через несколько месяцев после смерти лучшего друга физкультурников, в обычнейшей рабочей семье, в бараке на окраине Кыгыл-Мэхэ. Отец его был инвалидом (отсутствовала одна нога – до колена), по причине чего он в свое время не попал на фронт, и алкоголиком. Когда Юре было три года, его родитель выпил совсем уж лишнего и помер – что называется, сгорел. Как это выглядит, Юра Тарутин узнал много позже, когда находился в ссылке и когда на его глазах один из соседей по общежитию буквально в несколько глотков опустошил водочную бутыль, потом внезапно и резко покраснел – и рухнул замертво. Но, даже и не видев кончины своего отца, он уже в раннем детстве понимал, что ничего героического в ней не было. Впрочем, не было и ничего особо позорного – по меркам той среды и того района, где они жили, это считалось обычным делом. Оставшись одна, его мать более замуж не выходила. В отличие от своего супруга, алкоголя она практически не употребляла, и это, без сомнения, благотворно сказалось на личностном развитии ее сына.
До определенного времени Юра рос обычным подростком – а затем обычным юношей – с рабочих окраин Кыгыл-Мэхэ. Вернее, почти обычным. Он проводил много времени среди своих сверстников, вместе с ними познавая науку дворово-блатной жизни, выясняя отношения с обитателями соседнего двора, соседней улицы или же соседнего района. А отдельным, специфически местным пунктом был регулярный мордобой с «лицами тафаларской национальности».
Сколько-нибудь серьезных межнациональных столкновений между русскими и тафаларами в Кыгыл-Мэхэ, да и по всей Тафаларской республике, не случалось. На бытовом уровне представители двух народов также сосуществовали достаточно спокойно, да и межэтнические браки случались частенько. Среди местной интеллигенции КГБ также не фиксировал сколько-нибудь заметных националистических настроений. И тем сильнее сотрудники кыгыл-мэхинской госбезопасности удивились, когда «национализм» нарисовался совсем с другого – не интеллигентского, а вполне себе пролетарского направления.
Несмотря на абсолютное спокойствие в сфере межнациональных отношений, в рабочих кварталах драки между русскими и тафаларами случались постоянно. Однако власти не рассматривали их как межэтнический конфликт и попросту не обращали внимания. И, надо сказать, не были совсем уж неправы. Ибо участвовали в этих драках местные гопники, которые месили друг друга по всякому поводу: за то, что с чужого «раёна», за то, что иногородние зачем-то к ним зашли, за то, что где-то «наших бьют», как кто-то сказал, а кто – потом и не доискаться, и еще из-за миллиона разных причин. Был в этом миллионе также и такой пункт, что русские били тафаларов, а тафалары – русских. Но в рамках дискурса национальность имела ровно такое же значение, как и проживание в «чужом» районе. И само собой, никакой идеи, а тем паче националистической или какой иной, за этими драками не стояло. Рабочая молодежь колошматила друг друга, но до тех пор, пока в драках никто не погибал, милиция на это не обращала внимания. Что же до увечий, то их в расчет не брали.
Юра Тарутин, как и полагалось молодому человеку его круга, регулярно участвовал в подобных драках. Но, на свою беду, он пил водки несколько меньше своих сверстников, а книг читал – намного больше. Отчего приобрел способность думать и связно говорить, за что пользовался особым уважением среди своих друзей. И в какой-то момент ему показалось, что под их уличную деятельность можно подвести идейную базу.
– Мелко это все! – заявил он в начале марта 1971-го года своим товарищам по дракам с тафаларами.
– Чего? – недоуменно спросили его.
– Ну, вот с тафаларами этими, – пояснил он.
– А чего?
– Ну, вот бьем мы их, то там, то сям… А что толку?
– Как что? Да как их не бить?! – возмутились его друзья.
– Обожди! – остановил он их волну возмущения. – Мы же их бьем не просто так, а за дело! Потому, что они тут, в нашем городе, все места захватывают! Вон, в больницах что ни главврач – то их! И на заводах то же самое! И в партии! А нас, русских, здесь больше половины жителей!
– Какая половина! Считай, три четверти! – поддержали его.
– Ну вот… Выходит, нас на своей же, на русской земле давят! Ходу нам не дают!
Высказанные Юрой мысли его приятелей заинтересовали. Проблемы русско-тафаларского мордобоя вырисовалась перед ними в совершенно новом свете: если до того они били тафаларов потому что они – тафалары, то теперь это выглядело как акт национального сопротивления.
– А то! Конечно, не дают! Мать их! – горячо поддержали Юрия друзья.
– Ну! Так что нам надо делать? – задал он им вопрос. Вопрос повис в воздухе.
– Бить их, козлов! – вновь прозвучала не слишком свежая мысль.
– Это понятно! – сказал Юрий. – Но ведь мы ж не просто их бьем. Мы боремся за свои права! Стало быть, надо все правильно поставить. Надо людям объяснять, что мы, мол, не какая-нибудь шелупонь, что мы боремся за правду! Отстаиваем законные права русских людей, которые, между прочим, нам гарантированы советским законодательством!
– Объяснять?..
И вот тут-то Юра и рассказал о том, о чем он уже давно думал. По его плану, для разъяснения окружающим сути их «борьбы» следовало заняться пропагандой – а именно, изготовить некоторое количество листовок и раскидать их по почтовым ящикам и расклеить по стенам. Пару лозунгов можно было и просто написать на стене. В результате всей этой деятельности, по замыслу Юры, должна была сформироваться организация (он даже придумал ей название: «Русская народная воля»), которая поведет наступление на тафаларов. Как именно – он пока еще не придумал. Да это было и не так-то уж важно. Через несколько месяцев, с весенним призывом, он должен был на два года отправиться в Советскую армию, и потому о стратегической перспективе особо не задумывался. Что же до его друзей, то им инициатива с листовками тоже показалась интересной. И вскоре такая листовка была сочинена и написана в двадцати экземплярах. (На большее, ввиду отсутствия какой бы то ни было множительной техники, взойти не удалось.)
О том, что из-за всего этого могут быть какие-то проблемы с милицией, Юра и его друзья не задумывались. Во-первых, как и почти все молодые люди с рабочих окраин Кыгыл-Мэхэ, они росли с сознанием того, что в тюрьму попадают если не все, то почти все «нормальные пацаны» и «мужики». Разговоры о том, кого судят, кто сел, а кто недавно «откинулся», были обычными во дворах, где они проводили большую часть времени. Поэтому к риску попасть на зону здесь относились без восторга, но и без особого страха – примерно так, как относятся к неизбежной плановой операции. Во-вторых, уличные драки, если в них участвовала только рабочая молодежь и если обходилось без летальных исходов, по умолчанию считались нормой и никак не преследовались. А в-третьих, не только Юра, но и многие его друзья должны были в этот год отправиться в армию – не весной, так осенью. И милиционеры в таких случаях проявляли особую снисходительность, предоставляя вооруженным силам СССР выполнять функцию исправительного учреждения и не задерживая будущих призывников даже в случае довольно явной уголовки – по крайней мере, не задерживая всерьез.
Надо сказать, что расчет Юры Тарутина по-своему оправдался. С милицией у него проблем не возникло. Проблемы возникли с КГБ.
До тех пор, пока речь шла об уличных драках – пусть даже иногда происходивших по национальному признаку, – госбезопасность это никак не интересовало. Ежели рабочий класс вышибает сам себе зубы, так это его, класса-гегемона, право. А вот написание листовки, в которой перечислялись претензии к тафаларам, да еще и разговоры о какой-то новой «народной воле» – это уже шло совсем по иному ранжиру. Это уже было создание антисоветской организации и ведение антисоветской националистической пропаганды. А поскольку в Тафаларии антисоветчиков было совсем немного, то вся кыгыл-мэхинская гэбэшная «пятерка» тут же встала на дыбы.
Юра старательно приклеил на торец одной из хрущевок в своем районе написанное от руки воззвание с требованием «обуздать тафаларов» и «запретить притеснение русских». Была половина второго ночи, неразбитых фонарей вокруг не было, как не было и прохожих, и можно было не опасаться посторонних глаз. Он еще раз, от середины к краям, взялся разглаживать листовку, как за его спиной раздался голос:
– Юрий Денисович!
Сначала он даже не сообразил, что это обращаются к нему – впервые в жизни его назвали по имени-отчеству. Потом сверкнули вспышки фотоаппарата, свет фонарей – в общем, «антисоветчик и националист» Юрий Денисович Тарутин был взят с поличным. Чему, по наивности, очень удивился. Хотя ничего удивительного здесь не было – и он, и его затея были обречены на провал с того момента, как он поведал об этом своим друзьям. Среди которых оказался и один гэбэшный сексот, который «сигнализировал» о намечающемся «акте» в тот же день. В результате арест Тарутина стал делом техники – причем совсем нехитрой техники.
Вместе с Юрой было арестовано и трое его друзей, участвовавших в обсуждении текста листовки и ее изготовлении. Получалось скверно, ибо речь шла уже об организации. Но хуже всего для Юры Тарутина оказалось то, что если его друзья еще только собирались праздновать свои восемнадцатые дни рождения и потому формально шли как несовершеннолетние, то он собственное восемнадцатилетие отметил за десять дней до того. И потому мало того что числился организатором, но еще и должен был отвечать «по всей строгости». А насчет строгости сомневаться не приходилось: делом заинтересовались в Москве, тафаларский обком поставил его «на контроль», и теперь остановить завертевшиеся жернова местного управления КГБ было бы очень трудно даже людям с большими связями.
К числу которых ни Юра, ни его мама никогда не принадлежали.
* * *
– Интересно у вас, Юрий Денисович, получается, – мягко, размеренно ронял фразы Петр Никандрович – майор госбезопасности, занимавшийся делом «группы Тарутина». – Помогать готовы, и в содеянном раскаиваетесь, а вспомнить ничего не можете…
Дело двигалось к своему логическому завершению. Юра почти сразу дал признательные показания, так же обстояли дела и с его друзьями, ввязавшимися с историю с «русской народной волей». Петр Никандрович, самый старый сотрудник местной «пятой линии» УКГБ, был весьма опытным опером и потому сразу же сообразил, что никакого реального «националистического подполья» здесь и близко не было. А были большие дети, решившие сыграть на той территории, на которой играть было категорически запрещено. А потому и работать с ними надо как с подростками. То есть сначала как следует напугать, а потом – подружиться и стать для них в одном лице и мамой, и папой, и учителем жизни. После чего уже можно и документы для суда оформлять.
Сейчас этот процесс уже почти завершился. Юра Тарутин давно уже признался в том, что «организованную группу» замыслил он, и уже много раз заявил, что он об этом очень сожалеет и что и в мыслях у него не было идти против советской власти.
– Мы же за Родину! За советскую власть! – горячо повторял он вовремя допросов.
– Это хорошо, – примирительно и тактично отвечал Петр Никандрович. – Но только как-то странно получается. Вроде бы за советскую власть, а в листовке пишете, что тафалары все захватили, что русских якобы притесняют. Что же получается? Говорите, что за советскую власть, а на деле выступаете против ленинской национальной политики? А значит, и против советского строя?
– Нет… Не против, ничего подобного! – с той же горячностью протестовал Юра. – Мы ж не против дружбы народов, что все люди братья… Мы ж против перегибов… Злоупотреблений… Против национализма, на самом деле! За то, чтобы законы советские соблюдались!
Петр Никандрович глядел на него большими, влажными и лучистыми глазами и понимающе кивал, изредка делая пометки в лежащем перед ним блокноте. И, выслушав не перебивая, после небольшой паузы сказал:
– Видите ли, Юрий Денисович, – он всегда, в соответствии с требованиями закона и неписанными нормами чекистской властной вежливости, именовал Юру по имени-отчеству и на «вы». – Я вас очень хорошо понимаю. И то, что вы говорите, да и ранее говорили… Если так посмотреть, то нельзя не признать – сами понимаете, мы ведь тоже не слепые и не гестаповцы какие-нибудь – есть и перегибы отдельные, и напряженность кое-какая в межнациональных отношениях. Есть, в общем, проблемы. Но одно дело – видеть эти проблемы, сообщать о них как полагается, в установленном порядке, обсуждать – на комсомольских собраниях, например, обсуждать, как положено комсомольцам, честно, открыто, без обиняков… А другое – тайную деятельность начинать, пропаганду среди людей вести. Это же на деле выходит в обход власти! А значит, прямо против советского государства действовать!
Юра слушал, виновато потупив взор. Когда он только замышлял всю эту историю с «народной волей», ему как-то не пришло в голову, что все это может быть оценено именно так. Ведь не против же советской власти выступали, а против тафаларов! Но он был уже достаточно взрослым для того, чтобы теперь, уже постфактум, сообразить: старый чекист прав – по всем советским нормам и правилам это был антисоветский заговор. И спорить с этим безполезно. Оставалось лишь признаться и раскаяться – что Юра и сделал. И заслужил тем одобрение Петра Никандровича, сказавшего:
– Вы поймите, Юрий Денисович, мы вам не враги… Я-то, уж поверьте, за время службы повидал людей и знаю, кто настоящий враг, а кто – так, кто надолго к нам, а кто – случайный… Запутались, по молодости лет… Но ответственность, конечно, нести придется, – строго добавил чекист.
Юра беззвучно кивнул.
– Но тут тоже, сами понимаете, по-разному может быть, – продолжал Петр Никандрович. – Вот вы уже и сознались, и раскаялись – все это вам на суде зачтется. А если вы и дальше поможете, то и совсем хорошо. Врать я вам не буду: срок, конечно, дадут. Но срок ведь разный может быть: может, и десять лет, а может, и три года. Да и те три года можно полностью отсидеть, а можно и условно освободиться…
Юра, разумеется, все это знал и понимал. И рассказал все, что можно, но вот когда зашла речь о том, чтобы назвать имена и фамилии своих друзей, которые вместе с ним создали «организацию», вышла заминка: Юра Тарутин был воспитан в суровых дворовых традициях, и стукачество было для него наистрашнейшим грехом.
И Петра Никандровича, который уже было решил, что клиент спекся, это несколько раздосадовало и удивило: он уже было собирался завершать вербовку Тарутина в качестве сексота – и тут, поди ж ты, не хочет своих закладывать!
– Я помогать готов… – тихо ответил Юра. – Только…
– Только? – чуть насмешливо спросил Петр Никандрович.
– Ну, не могу я как-то… Нехорошо… – невнятно ответил Юра.
Петр Никандрович снова замолчал. С одной стороны, подобное упорство на последнем рубеже было совсем некстати. А с другой, никому, кроме самого Юры Тарутина, который в данном вопросе отказывался сотрудничать со следствием, это не вредило. Его друзья – «подельники» – были изобличены и без его показаний (их также взяли с поличным, и они сами во всем сознались). Для суда этого более чем достаточно. А с третьей стороны, вербовка – вербовкой, но, как по своему опыту знал Петр Никандрович, окончательно ломать агента не всегда полезно. Надавить-то легко, тут большого ума не надо. Но подлинное оперское искусство состоит в том, чтобы вывести будущего сексота на добровольную вербовку. Чтобы сам попросился. Чтобы в кураторе своем не надзирателя видел, а спасителя и благодетеля.
– Ну, дело хозяйское! – все еще с некоторым недовольством, но уже примирительно, ответил Петр Никандрович. – Это ваше право. Хотите – помогаете следствию, не хотите – не помогаете! Вы не думайте, Юрий Денисович, я вас по-человечески очень хорошо понимаю… Но тут тоже понимать надо, что вы нам поможете, мы – вам. Тюрьма, зона – это-то не так и страшно. Везде люди, в конце концов! – почти весело завершил он.
Юра снова, с готовностью, кивнул.
– Но у вас-то ситуация будет особая… – посерьезнев, добавил Петр Никандрович.
– Какая? – настороженно спросил Юра.
– Ну как какая… У вас же дело об антисоветской деятельности. Поэтому в обычную зону вас, конечно же, не отправят.
– А куда же меня отправят?
– Куда следует… Есть у нас в стране специальные места лишения свободы для антисоветских элементов, вот, кстати, и для националистов тоже…
Заметив протестующий взгляд Юры, Петр Никандрович быстро оговорился:
– Да нет-нет, я все понимаю, что у вас случай другой… Но тут ведь как: есть порядок. И я его изменить не могу.
– И что же… будет? – уже испуганно спросил Юра.
– Одна из соответствующих колоний будет. А там, я вам скажу, контингент-то особый… Это вам не обычные воришки и не бандиты. Там у нас действительно антисоветчики сидят, фашисты разные. Помните про Хатынь?
– Да, конечно! – ответил Юра, разумеется, о Хатыни слышавший.
– Ну, вот… А такая Хатынь, к величайшему сожалению, не одна была… Специальные каратели этим занимались. И немцы, и наши предатели. И после войны этой недобитой фашистской сволочи порядочно осталось. Вот таких в спецзонах и держим. Убийцы, насильники, садисты. Настоящие фашисты, словом. Бандеровцы, власовцы, лесные братья и прочие в этом духе.
– Еще с войны, что ли?.. – удивленно спросил Юра.
– Кое-кто и с войны, кого-то уже годы спустя удалось поймать. А кто-то, прямо скажем, и после войны начал действовать. Такие тоже бывают.
Уловив удивленно-испуганный взгляд Юры, Петр Никандрович продолжил:
– Да-да, и такое, к сожалению, бывает. Редко, но бывает. Ваш-то случай что!.. Говорить не о чем: нормальный советский парень. Ну, запутался, оступился. Случайный человек, собственно говоря. А вот те… Те действительно зверье. Нелюди. Фашисты, одним словом.
– Почему же их там держат? – спросил Юрий. Вопрос прозвучал глупо, хотя и был, в рамках тех мировоззренческих координат, в которых существовал советский юноша, вполне естественным. Ведь «фашисты» казались какими-то инопланетными, потусторонними монстрами, чем-то вроде голливудских живых мертвецов. Которым в принципе не место на земле. И представить себе, что они все еще существуют, и не где-нибудь, а здесь, в СССР, на этой земле, было очень трудно. А уж вообразить, что его, «нормального», отправят к ним…
– А где же их еще держать? – вопросом на вопрос ответил Петр Никандрович. – У нас есть закон. По закону они свои срока получили, вот и отбывают в соответствующих местах. На обычные зоны мы их пускать не можем, дабы они на тамошних заключенных разлагающего влияния не оказывали. Да и не только влияния… По сравнению с ними матерые уголовники – просто дети малые. То, что эти творили, что в войну, что после войны, в Прибалтике, на Западной Украине… Страшное дело!
– Что же мне делать? – окончательно испугавшись, спросил Юра.
– А вот это вопрос! – ответил чекист. – Там, на этих спецзонах, такие порядки, что с вами все что угодно сделать могут. Прямо скажу: могут и изнасиловать, и убить – я не преувеличиваю! – и никто вас там потом не найдет. Даже мы.
– Петр Никандрович, так что же делать?!
– Что ж… Можно, конечно, кое-что и сделать… Ну да вы устали, наверное, да и я, честно говоря, тоже подустал, – тут чекист прижал ладонь к области сердца, слегка массируя пальцами грудную мышцу. – Завтра продолжим!
По замыслу Петра Никандровича, к утру Тарутин должен был окончательно дозреть, и тогда уже он бы провел его вербовку – легко и красиво. Но этого не случилось. Ночью у Петра Никандровича прихватило сердце, да так, что врачи его еле-еле откачали. После этого он провел полтора месяца в больнице и три месяца в санатории, а затем был отправлен на пенсию. А дело Юрия Денисовича Тарутина ушло в суд, где он получил свои четыре года лагеря и два года административной ссылки. Информация о нем как о «перспективном» с точки зрения вербовки объекте осела в бумагах, но вспомнили об этом гэбисты много позже – когда Юра уже прибыл в мордовские политзоны…
* * *
– Здравствуйте! Вас как зовут?
– Юра…
– А по батюшке?
– Юрий Денисович…
– Рад знакомству, Юрий Денисович! А я – Евгений Леопольдович! – и высокий широкоплечий человек в серой лагерной спецодежде протянул Юре руку.
– Очень… приятно, – с трудом выдавил из себя Юра. Первый его по прибытии в лагерь диалог был совсем не похож на то, что он себе представлял. И следующий вопрос тоже его удивил:
– Скажите, Юрий Денисович, а вы кто по национальности?
– Я?
– Да, вы.
– Я – русский…
– Ага! Ну, значит, вам к нам!
Через несколько дней суть вопроса о национальности прояснилась. Политические, как и уголовники, имели свою внутреннюю систему самоорганизации, которая, однако, не имела ничего общего с социальной иерархией мира блатных. Единая масса политзеков делилась на национально-религиозные общины – русскую православную, украинскую православную и украинскую униатскую, а также армянскую, грузинскую, латышскую, эстонскую и многие другие. Особняком держались те, кого именовали правозащитниками – их, впрочем, никогда не бывало много. Все вопросы решались либо в рамках отдельной общины, либо, если того требовали обстоятельства, на специальных сходах, где собирались делегированные представители каждого сообщества. По этой-то причине вопрос о национальности был всегда одним из первых и ключевых, ибо от ответа на него зависело, с кем ты будешь в первую очередь взаимодействовать, общаться, дружить. Впрочем, это не отменяло ни дружбы, ни общения, ни тем более солидарных действий вместе с представителями «чужих» общин – просто такая система была естественной и потому простой и эффективной формой самоорганизации. А самоорганизация была обязательным условием выживания: без этого ни связь с волей (в том числе и с зарубежьем), ни сопротивление лагерной администрации стали бы невозможны.
Буквально через несколько часов после прибытия в лагерь Юра стал замечать, что среда, в которую он попал, сильно отличается от того, что ему описывал «заботливый» Петр Никандрович. «Нелюди» и «фашисты» общались на «вы» (на «ты» были только старые приятели и друзья), в большинстве своем говорили на чистом литературном русском языке, в котором не то что мата, но даже и жаргонизмов почти не присутствовало. Впрочем, не только на русском: на второй день после прибытия Юра услышал, как встречавший его Евгений Леопольдович что-то живо обсуждает по-немецки с другим политзеком – старым, но стройным и по-военному подтянутым, чего не могла скрыть даже безобразная серая зековская роба.
– Евгений Леопольдович, так вы и немецкий знаете? – восхищенно спросил Юра.
– Да, более или менее, – ответил тот. – Не вполне идеально, но читать и говорить могу.
– Ух ты! – не смог сдержать своего восторга Юра и немного настороженно продолжил:
– А можно спросить?
– Спрашивайте.
– А с кем это вы говорили?
– А, это Анри Бонье! Он вообще-то бельгиец, валлон, но я не знаю французского, зато мы оба знаем немецкий. Так что говорим на немецком.
– А как же он сюда попал?
– Осенью сорок четвертого под Дерптом получил контузию, попал в плен.
– И он с того самого времени в лагерях?
– С того самого.
Историю старого валлона Юра Тарутин узнал несколько позже: в 1956 году Бонье должны были отправить на родину, но по каким-то причинам этого не сделали. А когда снова вспомнили о нем, то стало неудобно: пришлось бы объясняться и с бельгийским посольством и, возможно, даже и с посольством ФРГ – мол, почему не освободили вместе с остальными? Вот и решили оставить его на политзонах, регулярно продлевая срок заключения.
История эта, поначалу поразившая Юру, была, однако, далеко не единственной в своем роде – и не самой фантастической. Практика продления срока, по факту делавшая заключение пожизненным, в 1970-е годы еще оставалась в ходу. Разумеется, сие было весьма сомнительно даже и с точки зрения советского законодательства, но КГБ такие мелочи не смущали никогда. Дольше всех – по тридцать и даже по сорок лет – сидели священники и монахи из числа катакомбников. Это были те, кто отказался принять Декларацию митрополита Сергия 1927 года и считал Московскую Патриархию «советской церковью», прислужницей богоборческой власти. Попавшие за решетку еще молодыми (а подчас и совсем юными), теперь катакомбники казались глубокими стариками. Однако ни сталинская мясорубка, ни «либеральный» подход хрущевского периода, ни брежневское свинцовое безвременье не смогли угасить их веры. По всем расчетам, они вообще не должны были бы выжить – но они были живы. И не только сохранили свою веру, но и проповедовали ее среди других.
Именно отцы-катакомбники и стали для Юры Тарутина первыми учителями православной веры. О религии он впервые задумался именно в лагере, увидев, сколько культурных и образованных людей верили в Бога – причем верили искренне, всей душой. До этого он не думал над религиозными вопросами, по советской привычке полагая, что все это не более чем опиум для народа, удел «темных» старушек и наживающихся на них безсовестных попов. Здесь же все решительно противоречило этой точке зрения. Тот же Евгений Леопольдович, который помогал Юре разобраться в лагерной жизни с момента его прибытия. Образованный человек, петербуржец (он очень не любил, когда его называли ленинградцем), севший в тридцать лет, но к тому времени уже успевший опубликовать цикл своих стихотворений. Поэт и сын поэта, получивший первоклассное, по меркам СССР, образование – к тому же дополненное самообразованием. Уже в лагере, заочно, он стал членом британского Пэн-клуба – за свои репортажи о жизни политзон, которые тайно переправлялись на волю и за границу, а затем звучали на «голосах». «Темным» назвать такого человека было невозможно. А он был православным христианином, искренне и глубоко верующим.
Или отец Антоний, седовласый старец, катакомбный монах. Из своих семидесяти трех лет он тридцать один год провел в лагерях и ссылках. Он совершал богослужение для православной русской общины – за одним из бараков, после того, как мимо проходил патруль… Со старым, дореволюционной печати маленьким служебником, уцелевшим вопреки многочисленным обыскам, отец Антоний начинал молитву – и с ним вместе молились все остальные, ныне зеки, а в прошлом профессора и студенты, заводские рабочие и восставшие против колхозного рабства крестьяне, бывшие власовцы и бывшие красноармейцы. Так же – в своих местах – молились где-то и православные украинцы, и латышские баптисты, и литовские католики. И было ясно Юре, что если Евгений Леопольдович точно не является дураком, то отец Антоний так же точно не может быть мошенником и прохиндеем. Но тогда неизбежно возник вопрос: если это не глупость и не мошенничество, то что? Что дает силу этим людям? Почему ради этого они готовы идти и на смерть, и на то, чтобы десятки лет провести в лагерях (а это, возможно, похуже самой смерти)?..
Он стал задавать вопросы – и стал получать ответы. Именно политзона в Мордовии стала для него тем местом, где он обрел православную веру – сознательную и искреннюю.
Но и не только веру. Несмотря на ежедневный и тяжелый труд, несмотря на жесткий режим, политзеки прилагали все силы для того, чтобы обезпечить себе и культурную, и интеллектуальную жизнь. Тайком от «начальства» проводились собрания – по сути, лекции и семинары, на которых обсуждались исторические, политические, философские и религиозные вопросы. Существовало правило: учиться друг у друга. Тот, кто был специалистом по истории, делал доклады по истории. Кто знал философию или богословие, просвещал соузников по этим дисциплинам. Кто-то, наконец, учил иностранные языки. Впоследствии, вспоминая годы заключения, Тарутин поражался: откуда только находились силы на то, чтобы после изматывающей и тупой работы, несмотря на вечную нехватку нормальной еды, читать доклады, устраивать дискуссии, обсуждать те или иные новинки в искусстве – и, конечно же, регулярно молиться.
Но силы находились. В итоге лагерь заменил Юре университет, а в действительности дал даже гораздо больше: он стал для него путешествием в иной, несоветский мир. Нигде в СССР, кроме как в политзонах, где были собраны вместе все антагонисты советской реальности, такое путешествие совершить было невозможно. И пребывание там стало для Юрия временем колоссального личностного роста. В лагерь он попал советским ксенофобом, почти гопником, разве что прочитавшим несколько книжек «сверх нормы». А покинул его православным христианином и патриотом старой, дореволюционной и несоветской, России.
Через два месяца после прибытия Юры на зону им наконец заинтересовались местные оперативники. То ли из Кыгыл-Мэхэ поступили какие-то новые данные о нем как о перспективном объекте вербовки, то ли они просто раскачивались – но, однако, его вызвали и сделали то самое предложение:
– Вы у нас человек новый, – начал местный опер. – Личное дело я ваше посмотрел… Впечатления очень хорошие: раскаиваетесь, готовы сотрудничать… Так?
– Так, – ответил Юра.
– Ну, тогда подпишите вот это… – тут опер положил перед ним стандартный бланк подписки с обязательством «сотрудничества».
– Нет, – сказал Юра.
– Что «нет»?
– Я не буду.
– Вот как! То готовы, то не буду! Вы уж определитесь как-нибудь!
– Я определился. Не буду.
– Уверены?
– Уверен.
– Ну, смотрите, не пожалейте!
После этой беседы Юра сразу же отправился к Евгению Леопольдовичу и рассказал ему все: и о том, как он еще в Кыгыл-Мэхэ был уже почти согласен на вербовку, и о том, как все это сорвалось, и о том, что произошло сейчас.
– Я как посмотрел, что здесь за люди, с вами вот пообщался – понял, что не смогу… Что врали мне все, – закончил свое повествование Юра.
Евгений Леопольдович ничего не ответил. Посмотрел в глаза, кивнул и пошел дальше, по каким-то очередным делам. Но Юра понял: он все сделал как надо.
Отказ от сотрудничества даром не прошел: свои четыре года лагеря и два года ссылки Юрий Денисович Тарутин отсидел от звонка до звонка. Освободившись, он не захотел возвращаться в Кыгыл-Мэхэ, где слишком много людей помнило историю с его арестом, а поселился в Мангазейске. Там он сначала работал грузчиком, потом рабочим на машиностроительном заводе и, наконец, устроился водителем троллейбуса. В начале 90-х успел поучаствовать в работе разных патриотических организаций, которые в Мангазейске представлял Шинкаренко, а потом стал алтарником при Свято-Воскресенском храме и вскоре был рукоположен Пахомием во священника. А уже при Евсевии отец Георгий Тарутин был назначен настоятелем прихода в городе Торей.
* * *
Появление Виктора Иосифовича Раскина в торейской исправительной колонии, да еще и в качестве заключенного, предсказуемо стало сенсацией и событием года. Еще бы! Вся страна тогда с ленивым удовлетворением наблюдала за тем, как олигархов стали оттирать от власти. А некоторых не просто оттирали, а скидывали с самых высот – и финансовых, и государственных. Зрелище грело душу и было эпичным – и этого было более чем достаточно.
И вот теперь живой участник этого эпического шоу этаким метеоритом свалился в мангазейскую глушь. И даже не в сам Мангазейск, а в Торей, в тамошнюю ИК-11! Само по себе это уже стало сенсацией, сопоставимой с высадкой инопланетян. Но мало того. Раскин был человек весьма богатый – не топовые места в российском Форбсе, но несколько сотен миллионов долларов у него по-прежнему имелось. Люди с такими деньгами в Торее никогда не жили, а тем более не сидели на зоне. И о Раскине тут же стали ходить легенды: рассказывали, какие подарки он делал сокамерникам, когда был еще в московском СИЗО, и о том, что он сразу же, дабы не скучать, выписал себе всю прессу, которая была в каталоге Роспечати, что он собирается произвести ремонт в колонии за свой счет, и прочее в этом роде. Надо сказать, что эти рассказы не были совсем уж чистым вымыслом: Раскин действительно выписал себе весь каталог Роспечати и действительно обещал, если ему позволят, помочь обустроить колонию, куда он попал, и даже город.
В итоге в Торее сложилась трагикомическая ситуация. С одной стороны, отцы города и администрация ИК, как и полагается лояльным гражданам, публично не ставили под сомнение правомерность вынесенного Раскину приговора и всячески заверяли читателей и телезрителей в своей полной лояльности государственному курсу и лично президенту. С другой, они уже мечтали о том, сколько дел, которые не могли сдвинуться годами, удастся осуществить с помощью Виктора Иосифовича. Городские власти всерьез рассчитывали, что он отремонтирует участок дороги на Мангазейск (что-то около семидесяти километров), по которому на машине из мангазейского аэропорта ездила на свидания к Раскину супруга. Эта дорога не видела капитального ремонта со времен кончины Константина Устиновича Черненко. Администрация колонии уже наметила целый план ремонтных и строительных работ, которые они хотели «предложить» профинансировать опальному полуолигарху. Ну и, конечно же, множество более мелкой публики, также алчущей получить свою финансовую подкормку с раскинских пажитей, потянулась в колонию номер одиннадцать, дабы попросить поддержки у «уважаемого Виктора Иосифовича». Тут был и директор местного техникума, которого Раскин ошарашил предложением почитать лекции в его учебном заведении, и директриса музыкальной школы (естественно, обшарпанной и разваливающейся), и редактор местной как бы независимой газеты, и многие другие. Был среди них и священник Георгий Тарутин.
Главной причиной, заставившей его искать свидания с Раскиным, была вечная нехватка денег. Поиск спонсоров давно уже превратился едва ли не в основное его занятие, а с благодетелями в Торее было туго. Меж тем Епархиальное управление, ведомое твердою рукою отца Кассиана, продолжало вышибать из приходов если не последнюю, то предпоследнюю копейку. Но ладно бы лишь это! Храм в Торее еще только строился, и если отец Кассиан требовал в срок выплачивать назначенные взносы (объем которых все возрастал), то Преосвященный регулярно интересовался тем, как идет строительство. И был явно недоволен тем, что нерасторопный отец Георгий не может найти новых – столь необходимых! – финансовых источников.
К самому Раскину Тарутин поначалу относился скептически (как и большинство российских граждан, живших более или менее нище, олигархов и иже с ними он недолюбливал). Но если б опальный миллионер согласился хоть немного поддержать торейский приход, это стало бы для отца Георгия спасением. И даже давало надежду на основательное повышение котировок в епархиальном мире: с человеком, который держит связь с почти что олигархом, наверняка стали бы считаться и благочинный, и архиерей! И потому он должен был попытаться установить с ним некие (в идеале – дружеские) отношения.
Кроме того, несмотря на скепсис, отец Георгий не мог не отметить того факта, что Раскина многие считают политическим заключенным. Сам бывший политзек и к тому же довольно мягкий и добродушный человек, Тарутин не мог совсем уж не сопереживать новому обитателю ИК-11, оказавшемуся за решеткой пусть и с кучей оговорок, но все-таки «за политику».
Добраться до Раскина оказалось не так-то просто. Желающих повидаться с ним было предостаточно, а время, отведенное для таких свиданий-аудиенций – ограничено. Помог случай. Местное управление исполнения наказаний, следуя общегосударственному тренду на установление тесных контактов с РПЦ МП, стало активно приглашать священников на зоны и в изоляторы – как для общения с заключенными, так и для иных, все больше празднично-протокольных, мероприятий. Приглашали и отца Георгия. И вот, через полтора месяца после прибытия в торейскую ИК Раскина Тарутину позвонил начальник колонии:
– Здравствуйте, отец Георгий! Это Гурулев безпокоит!
– Здравствуйте, Сергей Петрович!
– Отец Георгий! Я что звоню! У нас тут небольшое мероприятие запланировано. Юбилей: шестьдесят пять лет основания колонии!
– Ясно, – кротко, но безо всякого восторга ответил священник (и бывший политзек, имевший довольно ясное представление о героической истории учреждения).
– Так вы это! Мы прошлый раз говорили, чтобы колонию нашу освятить! Вы как, придете?
– Да, конечно… Раз вы просите, то что же… Дело благое. Богоугодное.
– Значит, договорились!
– Да. Сергей Петрович! У меня к вам просьба есть одна.
– Говорите.
– Хотелось бы с Раскиным встретиться…
– С Раскиным? А вам-то он зачем? Он же еврей! – хихикнул полковник.
– Ну как… – растерялся Тарутин.
– Ладно, ладно! Понятно все. Поспособствуем. Но только это…
– Да-да!
– Это если он захочет. Он у нас тут на особом счету. Тут все добровольно. Так что если откажется – то откажется. Тогда ничем помочь не сможем.
Однако Раскин не отказался, и в тот день, когда было намечено «мероприятие» и отец Георгий явился в колонию, чтобы освятить здание администрации, их свидание и состоялось – за полтора часа до «мероприятия» и освящения. Тарутин ожидал увидеть нечто вроде нувориша – бандюка из 90-х, разве, может, несколько более лощеного и к тому же озлобленного на весь мир. Однако когда он зашел в комнату для свиданий, навстречу ему поднялся худой и подтянутый человек в зековской черной робе, ничего общего с архетипическим образом «крутого» не имеющий. Тонкие черты лица, большие глаза, седина, тронувшая уже его волосы и мягкая добрая улыбка – если бы его одеть в джинсы и свитер, получился бы классический интеллигент из ленинградских коммунальных кухонь конца 1980-х годов. И держался он в похожей манере, но, однако, и жесты, и слова его были более изящными и мягкими, чем у большинства таких продвинутых ленинградцев.
– Здравствуйте, отец Георгий! – первым поздоровался он. – Я очень рад, что вы пришли.
Тарутин был несколько удивлен таким началом.
– Здравствуйте, Виктор Иосифович, – чуть смущенно ответил он. – Вот, решил вас навестить… Раз вы не против…
– Я очень рад! – снова повторил Раскин. – Вы понимаете, в моем положении общение всегда важно. Но со священником, с духовным лицом – особенно.
И заметив, что Тарутин чувствует себя неловко, и тут же вычислив, что его смущает, он добавил:
– К сожалению, я человек не слишком церковный. Но себя считаю христианином. И православным.
– Слава Богу! – ответил отец Георгий. – Понимаю, вам очень тяжело пришлось. Вам выпали очень тяжелые испытания. Но Господь никогда не посылает их напрасно…
– Да, именно так! – ответил Раскин. – Потому-то я и хотел с вами встретиться, что священник очень хорошо должен понимать суть моего нынешнего положения.
– Ну, я не только как священник… Я ведь сидел в свое время.
– Вот как? – удивился Раскин. – Простите за вопрос…
Отец Георгий чуть улыбнулся:
– В начале семидесятых. На политзонах в Мордовии четыре года. И потом еще два года административной ссылки в Пермском крае.
– Так вы были политзаключенным?
– Выходит, что так…
– Удивительно! Да, действительно, не без Божиего промысла мы встретились!
Раскин попросил отца Георгия рассказать немного о себе и, главным образом, о том, как он попал на политзоны. Что тот и сделал. А потом уже сам Виктор Иосифович поведал ему вкратце свою историю: как замышляли «идти в политику», как их сначала предостерегали, потом запугивали, как прозвучали последние предупредительные сигналы и как они попали под каток…
– Вы священник, я и хочу быть с вами искренним, – в заключение их беседы сказал Раскин. – Как на исповеди – хотя, конечно, это не исповедь в точном смысле слова. Я не буду вам говорить о том, что все, что мы делали, было абсолютно законно и правильно. Не все, разумеется. Да и не было в начале девяностых годов никаких законов, которые бы определяли в нашем деле, что законно, что нет. Жизнь слишком быстро шла вперед, мы все делали буквально на ходу. В том числе и юридические нормы, и прецеденты. Но ничего такого, чего не делали бы наши конкуренты, чего не делало бы наше государство, мы не совершали. Я вам рассказал, как мы заботились о наших рабочих, о персонале. Скажу откровенно, я этим горжусь – такого, как у нас, ни у кого не было. И если бы не наши планы на участие в выборах, если бы не позиция… Позиция понятно каких лиц… То меня бы здесь не было. Я грешный человек, и я это признаю…
– Все мы грешны… – вставил отец Георгий.
– Но здесь я нахожусь не из-за того, что мы кого-то ограбили или обманули. А совсем по иным причинам. И в этом смысле – в этом смысле – совесть моя чиста.
– Что же, это самое главное… – чуть помолчав, сказал отец Георгий. – А с Божией помощью, годы вашего срока пройдут, и вы освободитесь. Нельзя сказать, что они пролетят, но пройдут… С Божией помощью, вы справитесь…
– Отец Георгий! Время нашего свидания заканчивается. Я вижу, что вы очень… благородный человек. И вы не станете просить у меня сейчас о чем-либо… Но если я могу вам быть чем-то полезным – обращайтесь! Я скажу своему адвокату, и он с вами свяжется.
Тарутин грустно улыбнулся. «Абсурд какой-то! – подумал он. – Я, свободный, прихожу просить помощи у него, заключенного… У своего же брата, политзека!..»
– Скорее я должен бы спрашивать, чем вам могу помочь! – ответил отец Георгий.
– Вы уже мне помогли, придя на встречу. Поверьте, для меня это очень важно, – серьезно сказал Раскин. – Но я буду вам благодарен, если вы помолитесь за мою семью. За мою маму, за жену, за детей. За меня.
– Конечно, обязательно!
– Буду рад увидеться с вами снова! Спасибо, что пришли. И, повторяю – обращайтесь, если что-то потребуется!
Отец Георгий, пожав руку олигархического зека, молча вышел из помещения для свиданий. Сзади лязгнул замок. Ну да, конечно, ему все это знакомо! Этот лязг замков и грохот металлических дверей, окрики конвоиров и «начальства», эти стены, выкрашенные то синей, то зеленой – но всегда уныло-тошнотворной – краской… И этот человек. Он ожидал увидеть наглого и злобного нувориша, от скуки решившего поглядеть на попа, а встретил вежливого, тонко чувствующего собеседника, который как будто читал его мысли, отвечая на его вопросы еще до того, как они были высказаны. И отвечал всегда именно то, что он хотел услышать, что он, Тарутин, считал самым правильным ответом. (О том, что Раскин может быть очень опытным психологом, которому ничего не стоило «расшифровать» и «обаять» простоватого и доверчивого провинциального священника, отец Георгий как-то не подумал.) Умный, тонкий, правильно мыслящий и правильно говорящий человек. И к тому же – свой брат, политзек. «Такой же, каким был когда-то я…»
А теперь он, бывший заключенный Тарутин Юрий Денисович, 1953 года рождения, безпартийный, национальность – русский, особых примет не имеется, а ныне – иерей Георгий Тарутин, идет на «торжественное мероприятие» к надзирателям…
Когда он зашел в актовый зал, вышеназванное торжество уже началось. Собрался почти весь здешний «личный состав», а также старики – тутошние ветераны, было даже несколько журналистов и съемочная группа МГТРК. Все места были заняты, и отец Георгий сел в заднем ряду. С официальным докладом выступал полковник Гурулев. Рассказывал, сколько и чего было отремонтировано, что запланировано построить, какие улучшения будут произведены в ближайшее время… Упомянул, конечно, и о «славном пути», пройденном за шестьдесят пять лет, о служении Отчизне. После доклада включили газмановскую песню про офицеров-россиян и про то, что «свобода воссияет». Все встали, кое-кто из уже не вполне трезвых прапорщиков пытался подпевать. Тарутин погасил горькую усмешку, невольно изобразившуюся на его лице при мысли об анекдотичности строк про воссиявшую свободу в стенах данного учреждения. А потом, само собой, на сцене появился председатель ветеранской организации ИК-11.
– Уважаемые товарищи! – начал он, сделав демонстративный акцент на слове «товарищи». – Сегодня мы отмечаем славный юбилей нашей исправительно-трудовой колонии. За шестьдесят пять лет, вместе со всем аппаратом министерства внутренних дел, вместе со всей нашей Родиной, под руководством коммунистической партии, ныне, к величайшему сожалению, несуществующей, нами был пройден славный путь!
Тут он прервался, дабы сглотнуть накопившиеся во рту слюни. Зал же взорвался аплодисментами. Далее глава ветеранской организации помянул, как водится, славные годы Великой Отечественной войны, когда сотрудникам НКВД, служившим в лагере, было особенно тяжело, но они справились… Выстояли… Не дрогнули… И снова и снова аплодисменты. О том, было ли тяжело заключенным, никто, разумеется, не говорил. А перед мысленным взором Тарутина проносились картины его политзековской юности. «Заботливые» следователи, ласково и умело ломавшие его волю, дабы превратить его в стукача… Евгений Леопольдович, которому четверо оперативников скрутили руки за спиной, чтобы снять нательный крестик, после чего он отправился в карцер на сутки (карцер не отапливался, а было это в декабре месяце, и на улице стояло двадцать пять градусов мороза)… Отец Антоний, после очередного обыска аккуратно выкапывающий из земли зарыты й туда старенький служебник, завернутый в специально припасенный полиэтиленовый пакет…
«Господи!.. Где я?.. С кем я?.. – спрашивал он себя, когда зал раз за разом взрывался аплодисментами. – Ведь ничего не изменилось! Вот, снова здесь сидит политзаключенный! Все те же вертухаи на сцене, говорят о тех же своих достижениях и своих героях-кровососах! Но почему я сегодня здесь? Среди них?..»
После выступления председателя ветеранской организации на сцену поднялся детский хор, прибывший из подшефного детдома. После того как он спел несколько песен про войну, Родину и еще что-то как бы патриотическое, начальник колонии вышел на сцену и объявил:
– Сейчас в работе исправительных учреждений особое внимание уделяется вопросам духовности, вопросам взаимодействия с традиционными конфессиями. На протяжении всей истории России именно Православие было основой нашей государственности, скрепляло наш народ. И потому мы сегодня позвали отца Георгия для того, чтобы он провел обряд освящения здания нашей администрации. Отец Георгий, пожалуйста! – пригласил его Гурулев, и кто-то даже захлопал в ладоши.
Тарутин встал со своего места и медленно пошел к сцене.
«А ведь все как тогда! – мысленно отметил он. – Либо предаешь своих, и за это тебе помогут, либо… Либо не предаешь… А ведь тогда-то было проще! Яснее! А как сейчас? Что скажут в епархии? Что потом?..»
Как бы медленно он ни шел, но сцена приближалась со стремительной быстротой. Еще несколько секунд, и он будет там. И нужно будет что-то говорить и делать. Например, поблагодарить всех за… За что? За что-нибудь, не так уж и важно. И начать служить молебен, а потом с чашей и кропилом пойти по коридорам. Или?
Отец Георгий поднялся на сцену. Помолчал несколько секунд и обратился к залу:
– Меня позвали сегодня для того, чтобы освятить здание администрации колонии. Освящение – это значит призывание Божиего благословения на тех, кто здесь находится, на то, что они делают. На богоугодное дело. Но я только что говорил с Виктором Иосифовичем Раскиным. Он – политзаключенный. Я в этом теперь уже совершенно не сомневаюсь. То, что у нас есть политические заключенные – это недопустимо. Это – преступление. А преступление не может быть богоугодным. Поэтому я отказываюсь освящать здесь что-либо!
И, произнеся эти слова, отец Георгий сошел со сцены, под вспышки фотоаппаратов и под объективом телекамеры.
* * *
– Ты что натворил? – сразу после беседы с Гурулевым Евсевий перезвонил Тарутину и задал ему этот вопрос.
– Благословите, – раздалось с того конца провода. – Вы, Владыка, наверное, про то, что в колонии случилось?
– Конечно! – ответил архиерей. Он говорил, не повышая голоса. Но те, кто его хорошо знали, по тону наверняка бы догадались: он очень сильно раздражен.
– Я отказался освящать здание администрации колонии, потому что нельзя призывать благословение Божие на преступное деяние.
– Какое преступное деяние? Ты там совсем с ума сошел?! – Евсевий почти сорвался.
– Там находится политический заключенный. Это – преступление, – спокойно ответил отец Георгий.
– Ну, хватит! – отрезал архиерей. – Значит, так! С завтрашнего дня ты в запрете. Уяснил?
– Да, – ответил Тарутин. В таком, как будто спокойном, ответе присутствовал намек на явное недовольство: вместо обычного в церковной практике «благословите» – благословите исполнять – отец Георгий ответил просто «да». То есть уяснить-то уяснил, но правильным это не считал. И Евсевий, конечно, это заметил.
– Завтра же приезжай сюда. Во-первых, получишь указ о запрещении в священнослужении. Во-вторых, объяснишься лично, что там у тебя. А там будем решать, что с тобой делать.
– Владыка, я завтра не смогу…
– То есть как не сможешь?
– Мне жену нужно встретить, с внучкой надо побыть… Не раньше чем через три дня смогу приехать.
– Ты еще пререкаешься! – возмутился Евсевий. – Тебе сказано: завтра же прибыть сюда, в Мангазейск. Не приедешь – пеняй на себя! Понял?
– Понял…
И Преосвященный бросил трубку. Завтра с утра во всех СМИ поднимется не то что волна, а настоящее цунами. Уж мимо такого ядреного сюжета, как священник-диссидент, выступивший в поддержку Раскина, они, конечно, не пройдут!
– Вот искушение!.. – тихо прошептал Евсевий. Такое событие не могло не принести множества проблем. Но именно сейчас демарш Тарутина мог стать фатальным. До окончания строительства собора – точнее, до намеченной даты окончания строительных работ – оставались считанные месяцы. Уложиться в оставшийся срок можно только чудом. Не хватало времени, не хватало денег. Но сейчас, наконец-то, к строительству активно подключились местные власти. Губернатор стал наведываться на стройплощадку, областная администрация начала проводить «работу с бизнесом» и устраивать как бы добровольные благотворительные марафоны среди бюджетников. После истории с отцом Кассианом наладились взаимоотношения с УФСБ и пограничниками, этот денежный ручеек даже слегка увеличился. Да и вообще спонсоров стало больше: все видели, что «в центре» власти и РПЦ МП налаживают все более тесные отношения. Денежная публика, уловив перемену ветра, спешно меняла курс. И хотя в Мангазейске этот процесс явно запаздывал, сейчас, наконец, и власти, и бизнес как будто раскочегарились.
И тут такое!..
Выступить в поддержку одного из главных врагов действующей власти! И как раз в тот момент, когда над ним готовится расправа, когда его шельмуют все правительственные СМИ! Выступить в поддержку того, кого большинство народа если не ненавидит, то точно не любит! Да еще и сделать это едва ли не от лица всей Церкви!
За это могли взгреть не то что епархиального архиерея – за такое могли спросить в Москве и с самого Патриарха! Что, понятное дело, вдребезги разбило бы архиерейскую карьеру Евсевия. А уж про соборное строительство и говорить нечего! Как только власти решат, что Мангазейская епархия, хотя бы даже и неявно, поддерживает Раскина, все денежные поступления прекратятся. Останутся лишь самые верные духовные чада, да и те могут отказаться, страха ради административного… Собор моментально превратится в долгострой, а Евсевия сместят с кафедры и выкинут на покой в какой-нибудь монастырь.
Перед глазами Преосвященного снова возникла соборная стройка. Когда-то, когда он только прибыл на мангазейскую кафедру, это был всего только замысел – эмбрион, родившийся в его уме. Он постепенно вызревал, принимая формы первых проектных чертежей, эскизов, презентационных файлов. Потом пришлось выдержать первую настоящую битву за это дитя: доказать, что Мангазейску нужен свой, непременно большой («второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве!») кафедральный собор. Затем – выбить под него место. И вот наконец настал тот день, когда был заложен первый камень в основание нового соборного храма. Дитя пришло в этот мир.
А дальше, чтобы оно росло – и росло быстро, потребовалось окружить его поистине материнской заботой – и материнской же ревностью. Все, что только было, каждую копейку, каждую крупицу влияния, каждую минуту времени – все это отдавалось только ему. Все остальные должны были подождать, ибо по-другому нельзя. По крайней мере, Евсевий не представлял, как это могло быть иначе.
И вот, наконец, его дитя и его творение приблизилось к той черте, когда для него начнется собственная, самостоятельная жизнь. Красные кирпичные стены, с таким трудом приподнявшиеся некогда над кромкой котлована, теперь устремились ввысь. Монтировались первые купола, был уже поднят на колокольню огромный благовест. Остался последний, решительный рывок – и новый кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери будет впечатан в реальность во всем своем совершенстве и великолепии!
И в этот момент, на самом взлете, Тарутин пытается его срезать. Пусть даже и по глупости, пусть и искренне заблуждаясь – но пытается…
Евсевий был убежден: самую попытку нанести этот удар нужно не просто пресечь – ее нужно растоптать, испепелить, изничтожить! Завтра Тарутин будет у него в кабинете и завтра же, уже запрещенный в священнослужении, покается в своем поступке. Скажет, что его обманули, что он просит прощения и так далее. Иначе… Иначе придется растоптать его самого.
* * *
Утро следующего дня, как и предполагал Евсевий, началось со множества звонков. Причем не только ему: журналисты РИА Новости где-то добыли номер отца Игнатия и позвонили отцу игумену в половине седьмого утра:
– Как вы можете прокомментировать поступок священника Георгия Тарутина?
– Какой поступок?.. – недоуменно спросил отец Игнатий, еще лежавший в кровати.
– Отказ освятить колонию, в которой находится Раскин, так как Тарутин считает его политзаключенным.
– Послушайте, я от вас об этом впервые слышу… Никак не отношусь…
Большинство, впрочем, дозванивалось куда надо – до епархиального архиерея. Им Евсевий отвечал одинаково:
– Свои действия иерей Георгий Тарутин со мной никак не согласовывал. Это грубое нарушение канонических правил, устава Русской Православной Церкви, запрета на вмешательство в политическую деятельность. Сразу же, как только меня уведомили о случившемся, мной было принято решение отстранить Георгия Тарутина от священнического служения…
Но журналисты были не самыми неприятными собеседниками. Ведь утро в Мангазейске – это еще ночь в европейской части России. А вот ближе к трем часам дня начнет просыпаться Москва. А вместе с Москвой проснется и Патриарх, и патриархийный управделами – к этому моменту ситуация должна быть как-то разрешена…
По этой причине до полудня Евсевий самостоятельно обзвонил всех «кого следует» – начальника областного УИНа, главу УФСБ, губернатора – и перед всеми извинился, всех заверил в том, что Тарутин занимался партизанщиной и будет за это сурово наказан, что сам он, лично, полностью поддерживает президента, а к Раскину ни малейших симпатий не испытывает. Оставалось последнее: принять отца Георгия и заставить его публично и эффектно покаяться. В начале первого Евсевий набрал по мобильному своего диссидентствующего попа:
– Ну, ты где?
– Владыка, благословите, – как ни в чем ни бывало, ответил отец Георгий.
– Ты где, я спрашиваю?
– Я? Я в Торее.
– Я же тебе сказал, чтобы ты сегодня прибыл в Мангазейск!
– Владыка, но я же говорил, я не могу…
Отец Георгий прекрасно понимал, что его отказ приехать архиерея, мягко говоря, расстроит. Но он также понимал, чего от него будет добиваться Евсевий. А отказываться от своих слов Тарутин не собирался. Кроме того, у него в Торее и вправду оставались неотложные дела. И он решил положиться на волю Божию: глядишь, удастся пересидеть эту бурю подальше от кафедрального града, ну а если не удастся… То пусть будет то, что будет.
– Ну, смотри! Ты сам выбрал! – сказал Евсевий и бросил мобильник. После чего вызвал по внутренней связи благочинного. Через несколько секунд отец Кассиан стоял перед архиерейским столом.
– Вот что, – обратился к нему Евсевий. – Сейчас же сделай указ о запрещении Тарутина в священнослужении и ходатайство в Синод об извержении его из сана. Прямо сейчас. Понимаешь?
– Благословите!
Однако отец Кассиан не двинулся с места. Архиерей посмотрел на него вопросительно.
– Простите, Владыка, – ответил тот. – Какое каноническое основание писать?
Вопрос этот застал Евсевия врасплох. То, что отца Георгия нужно было извергнуть из сана, представлялось ему самоочевидной истиной. О том, на основании каких канонов это делать, он даже не задумывался. И лишь сейчас он подумал об этом… И увидел: собственно говоря, никаких канонических оснований для извержения из сана отца Георгия нет. Отказался освящать здание колонии? Это вообще не является каноническим преступлением. Мотивировал это политически? Собственно, политической эту мотивировку тоже можно назвать не без натяжки… Но даже и это трудно подвести под какое-либо соборное постановление или апостольское правило. Разве только нарушение Устава РПЦ МП, запрещающее клирикам заниматься политической деятельностью, да и то – притянуто за уши… Однако извергать из сана было надо.
– Пиши: аще досадит архиерею… – сказал благочинному Евсевий, вспомнив любимую епископатом и универсально применимую каноническую норму. – И сразу пересылай бумаги факсом в Синод. Чтобы к девяти утра по Москве там уже все было.
* * *
– Будете кофе?
– Ой, спасибо… – смутившись, ответил Тарутин. – А можно чаю?
– Конечно! – ответил ему радиоведущий, тоже священник. Правда, был он не из Московской Патриархии, а из одной микроскопической юрисдикции, и в прошлом был довольно известным диссидентом, а в последние годы стал среднего калибра звездой на «Радио “Свобода”». С того момента, как отец Георгий Тарутин отказался в знак протеста освящать здание администрации ИК-11 в Торее, прошло два месяца. Решение о его извержении из сана было принято Синодом, и теперь он формально был уже не отцом Георгием, а простым мирянином Юрием Денисовичем. Сам он, однако, не считал это решение канонически законным и намеревался продолжить священническое служение. Правда, пока он еще не знал, к какой церковной юрисдикции примкнуть, но не сомневался, что этот вопрос скоро решится.
Вообще, он был уверен – уверен почти абсолютно, – что мрачная полоса в его жизни, наполненная скорбями и испытаниями (а как знать, не была ли вся его жизнь, до недавнего времени, такой полосой?), миновала – отныне и навсегда. Решение о запрете в служении он воспринял спокойно – он этого ожидал. Подлинным ударом для него стало известие об извержении из сана. Это было и неожиданно, и даже жестоко. Ведь он не совершал ничего такого, что по канонам карается лишением священства. По большому счету, даже отправлять его в запрет оснований не было – но к такому повороту он был готов, ибо понимал, что архиерея его поступок, мягко говоря, рассердил. Но чтобы извергнуть из сана… Да еще столь поспешно! Эта новость его шокировала. Однако к тому времени вокруг него появилось уже множество людей, готовых его поддержать. Помимо журналистов, едва ли не каждую минуту звонивших ему и просивших вновь и вновь рассказать о том, почему он отказался освящать административные помещения на зоне, ему начали звонить и писать самые разные люди, восхищенные его поступком. Все они заверяли его в своей поддержке, благодарили за то, что он сделал, а очень скоро с ним связалась Ирина Раскина – супруга Виктора Иосифовича. И не просто позвонила, а лично встретилась с ним в Торее.
– Вы не представляете, как для нас это важно! – снова и снова говорила она, обеими руками, наманикюренными своими пальчиками, сжимая его мясистые, мужицкие ладони. – Для меня! Для Вити! Для всей нашей семьи! Мы так вам благодарны! Поверьте, мы никогда этого не забудем!..
И действительно, не забыли. Через неделю ему предложили прилететь в Москву, дабы принять участие в нескольких радио– и телеэфирах.
– Да я бы рад… – ответил он на приглашение. – Но у меня нет денег в Москву ехать. Да и жить негде.
– О, об этом и речи нет! – заверил его телефонный собеседник. – Самолет, гостиница, проживание – все это мы вам оплатим!
И он вылетел в Москву. Правда, в этот раз Ирина Раскина с ним встретиться не смогла, но позвонила ему на мобильный и опять долго говорила о том, как она ему признательна, и даже сказала, что они с мужем его никогда не забудут и он всегда может к ним обращаться за помощью. Московская же реальность показалась Тарутину и вовсе сказочной. Для него, привыкшего к съемным квартирам с ободранными стенами и полуразвалившимся домам в частном секторе, четырехзвездочная гостиница стала подлинным дворцом, а тамошний шведский стол – пиршеством. С ним постоянно хотели пообщаться как журналисты (в том числе и весьма известные, некоторых из них он ранее видел по телевизору), так и некоторые политические и общественные деятели. Все эти люди пожимали ему руку и говорили:
– Спасибо! Спасибо за то, что вы сделали! Вы – очень мужественный человек! Вы – пример для нас всех!
И даже священническое служение, как выяснилось в Москве, оказалось возможным: мир альтернативного православия, как в консервативно-фундаменталистских, так и в либеральных своих проявлениях, всегда был весьма разнообразен. И сейчас представители разных юрисдикций старались наладить с ним контакт, предлагая присоединиться именно к ним…
А сейчас он сидел в студии знаменитой «Свободы», которую начал слушать еще в советские времена. И скоро должен был начать рассказывать – в очередной раз – о своем поступке и о том, что его к этому толкнуло.
– А скажите, отец Георгий! – обратился к нему вежливый радиоведущий. – Вы, кажется, на политзоны попали по каким-то националистическим делам?
– Да, – ответил он. – Можно сказать, был одним из родоначальников движения скинхедов. Мы там против тафаларов выступали. Ну, точнее, собирались только.
– А скажите, отец Георгий! – снова спросил ведущий. – Вы и сейчас придерживаетесь националистических убеждений?
Тарутин знал, какого ответа от него ждет радиоведущий. Да и не только и не столько он, сколько его слушатели, а равно доброжелатели и потенциальные благодетели самого Тарутина. Те, кто привез его в эту сказочную, чистую, красивую, интересную жизнь. Те, кто поставил его под телевизионные софиты. На мгновение он задумался: может, стоит им попытаться все объяснить? За что он попал в лагеря, что там пережил и как это его изменило? Что ожидал там встретить и что в действительности встретил? Но все это было слишком сложно. Особенно же сложно это было выразить в коротком ответе. Чтобы все поняли, и чтобы приняли, чтобы не обиделись. Чтобы не оттолкнули. Ибо если оттолкнут они, то куда тогда?.. И он решил просто сказать то, что от него хотели услышать:
– Нет. Националистом я был только до того, как стал православным. А православие и национализм несовместимы, ведь в Царствии Божием нет ни эллина, ни иудея!
– Вот и хорошо! Вот и хорошо! Вы это во время передачи обязательно скажете, да?
– Да, конечно!
* * *
Когда Тарутин готовился к полуденному эфиру в Москве, на Мангазейск уже опустились сумерки. Архиерей сидел у себя в кабинете, в очередной раз перелистывая подготовленную отцом Кассианом справку по доходам и расходам епархии. Что ж, в сравнении с тем, с чего начинали, успехи выглядели впечатляюще. Когда он прибыл на кафедру, о таких поступлениях нельзя было и мечтать. Но все равно – мало! Ничтожно мало для того, чтобы успеть достроить собор. А самое скверное, что начинало не хватать уже не только денег, но и времени…
Вновь пробежав глазами первую страницу кассиановской справки, Евсевий вдруг понял, что на ближайший час дел у него нет. Чувство необычное: он уже давно привык, что едва ли не каждая минута у него расписана. И вдруг – пауза. Внезапное свободное время.
Евсевий глянул в окно – на Свято-Воскресенский храм, очертания которого уже терялись в темноте. На проходящих мимо людей. «Нет, расслабляться нельзя!» – вспомнил он о правиле, усвоенном еще со времен семинарии. Если навалились проблемы и есть время – надо читать Псалтирь!
Он подошел к аналою, который стоял в красном углу под иконами Спасителя и Богородицы. На аналое висела старенькая епитрахиль, которую он надевал, когда кого-то исповедовал. Но сейчас она не нужна. Тут же и томик Псалтири, слегка пообтрепавшийся от частого использования. Закладка лежала на сто сороковом псалме – там, где он остановился в прошлый раз.
Евсевий быстро, по памяти проговорил начальные молитвы и приступил к чтению. Впрочем, и псалом этот он тоже произносил почти по памяти, ибо не запомнить его за десятилетия монастырских служб он не мог.
«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя…» – знакомые слова проносились быстро и легко. Но, возможно, именно из-за этой легкости они начали перепутываться с другими мыслями.
«На месяц денег хватит, а потом как?.. Опять придется выпрашивать! Может, еще отчисления с приходов повысить? Или монастырских благодетелей на собор переключить?»
«Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие…»
«Нет, монастырских лишний раз трогать не стоит! Монастыри нам нужны, ой как нужны! Без молитовки никакой собор не построится… Нет. Тут других надо тормошить…»
«Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему. Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне…»
«Опять Герасимова? Да, пожалуй… Слава Богу, что Тарутина тогда вовремя… нейтрализовали. Вот ведь гаденыш! Говорят, ему Раскин пообещал персональный собор построить! Выше, чем у нас! Ничего, Господь тебя окоротит! И тебя, и твоего жи…!»
«Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу…»
«Выше, чем у нас!..»
«И ныне, и присно, и во веки веков…»
«С попами напряженно… В тот же Торей непонятно, кого ставить. Кого-то надо, а кого?..»
Евсевий перелистнул страницу, на секунду задумавшись. И начал читать следующий псалом. Однако слова пролетали мимо сознания, переполненного мыслями о ближайшем будущем – и собора, и епархии, и самого Евсевия.
«Может, монахов на приходы поставить? Зосиму, да и Савватия. Денег на них меньше надо. Может, монашествующему священству вообще оклады отменить? На приходах не отменишь, конечно, а вот в Мангазейске – надо подумать… Да и куда им деньги? Пусть напрямую в епархию обращаются, если что…»
«Слава, и ныне», – треть кафизмы уже прочитана.
«Так кого все-таки в Торей? Андрейко нельзя, жирно ему будет, пусть пока на другом приходе посидит. Лагутин? Тем более! Больно наглый, пусть сперва пообломается… Ревокатов? Боязно… Как бы лаптей не наплел. Пусть пока здесь побудет. Игнатий? Этого можно, а кого вместо него?.. Отца Аркадия? Дуралей он, для настоятеля…»
Архиерей не заметил, что уже перестал читать Псалтирь, и молча, невидящим взглядом, смотрел в окно. В Свято-Воскресенском храме зажгли огни – видимо, служат всенощную. Теперь едва ли не каждый день служили всенощные.
«Одни проблемы, со всех сторон… – печально подумал Евсевий. – Да, тяжеленько им всем пришлось… Нам всем. Ну, да ничего! Сейчас главное – собор! Ничего важнее сейчас нету. Ничего-ничего! Пусть тяжеленько, но прорвемся. Построимся, с Божией помощью. А что попов не хватает, что сил нет тянуть – так то все ерунда. Будет еще все, обязательно будет. А сейчас на это смотреть нечего. Сейчас все – на стройку!»
Евсевий устало вздохнул и посмотрел на часы. Через пять минут его позовут к ужину. Что ж, пора. Он закрыл Псалтирь, выключил свет и вышел из кабинета.
* * *
– Так вас здесь высадить? – спросил отца Игнатия водитель. Старый знакомый, а вернее сказать – один из его многочисленных друзей, в очередной раз подвозил до дому отца игумена. Правда, в общей массе знакомых и приятелей Игнатия он несколько выделялся: он был откровенным безбожником – в отличие, впрочем, от собственной жены, весьма религиозной и при этом не страдающей неофитской неадекватностью. Возможно, именно это сочетание и привело к тому, что настоятель соборного храма как-то быстро и удивительно крепко подружился с этой семьей. Сам для себя он причину определил почти сразу:
– Хоть среди нормальных людей побыть…
Действительно, безбожник хоть и был безбожником, но – по-человечески честным и совсем не агрессивным. А с его супругой можно говорить на церковные темы, не обходя острые углы, причем без лицемерно-елейных оговорок и «благочестивого» закатывания глаз к потолку. Вот и сейчас, пробыв два часа в гостях – благо, в кои веки выдался свободный вечер – и основательно отведя душу, отец Игнатий возвращался восвояси. Но неожиданно попросил остановиться вблизи строящегося кафедрального собора.
– Да, здесь! Спасибо! – ответил он своему приятелю.
– Ну, всего вам!
– Ага! И вам также!
ВАЗ-«пятерка» с хриплым тарахтением снялся с места и поехал дальше. А отец Игнатий остался стоять перед громадой строящегося собора.
Он и сам толком не знал, почему он захотел выйти именно здесь. То есть, с одной стороны, все было логично. В Мангазейске то ли потихоньку заканчивалась зима, то ли потихоньку, в микроскопических масштабах, начиналась весна. Время, по правде сказать, так себе: начинали дуть степные ветры, поднимавшие песчаные облака, и ветры эти выдували тепло из-под самой теплой одежды, а песок начинал хрустеть на зубах после пяти минут прогулки. Но все же зимние морозы отступали. И раз выдался свободный вечер, то не воспользоваться возможностью и не прогуляться было просто глупо.
Вместо того чтобы сразу пошагать в сторону дома, отец Игнатий остановился перед собором. «Вот, значит, венец всех наших трудов! Земля обетованная!» – иронически размышлял он.
Красно-кирпичная громада нового собора возвышалась в темно-синем вечернем небе. Скоро должны были зажечься тусклые, желтые фонари. И казалось, что эта громада слышит слова, мысленно к ней обращенные – и своим молчанием отвечает на них.
«Здесь каждый кирпичик святой водой окроплен!» – отец Игнатий вспомнил, как его наставлял архиерей во время очередной аудиенции. Мол, все делать надо с «молитовкой». «Да, каждый кирпичик окроплен… Святой водой, конечно… Но вот только ли ей одной?» – вдруг подумалось отцу Игнатию.
Почему-то ему вспомнились занятия по библейской истории и вавилонские зиккураты. Каждый из которых суть маленькая (или не очень маленькая) вавилонская башня – место, где соединяется небо и земля. Или должны соединяться, по замыслу строителя. Храмы древнего Вавилона – они почитались не местом, где поклоняются Богу, но местом, где бог живет. И которые сами обретали божественные свойства, и поклонение себе, как божеству…
Цвет кирпича, из которого были возведены соборные стены, в сумерках все больше напоминал цвет свежего мяса. «Только ли святой водой? Уж не жертвенной ли кровью?» – спросил сам себя отец Игнатий и даже не удивился собственной формулировке. Сколько человеческих сил впитали в себя эти стены? Сколько людских судеб было переломано и перепахано ради того, чтобы они поднялись над землей? Чтобы здесь, в Мангазейске, встал этот новый соборный храм – «второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве»? И начинало казаться, что здесь, на этой стройплощадке, уже совершается богослужение. Но не почитание евангельского Пастыря и даже не служба будущему грозному, но справедливому Судье-Вседержителю. Это совсем иной, очень древний, вырастающий из самых глубин земли культ. Древний и страшный. Страшный не жестокостью и не чем-то еще, что можно описать языком человеческих чувств. Страшный как раз своей древней, нечеловеческой, хтонической природой. Который принимает жертвоприношения с безстрастностью одноклеточного, засасывающего бактерии. И продолжается безостановочный рост, и продолжается поток бактерий…
«Ну да, – подумал отец Игнатий. – Это многое объясняет». Ведь вправду, как же так? Как благочестивый, искренне верующий архиерей, как все его помощники – часто ведь тоже вполне искренние – могли прийти туда, куда пришли? «А разве неискренни были жрецы Ваала? Разве они не были благочестивы – по-своему, конечно? – продолжал спрашивать себя отец Игнатий. – И эти, в Латинской Америке, как их… С обсидиановыми ножами, которые людей тысячами резали. Тоже ведь веровали. И тоже служили алтарю. Только вот алтарь у них был свой…»
Кроваво-красная кирпичная громада, казалось, продолжает смотреть на него. На своего – своего! – священнослужителя. И в этом молчании как будто слышался ответ, и ответ этот был как будто утвердительным, даже одобряющим – мол, наконец-то ты, поп, все и понял.
«Так, значит… Значит, так… – продолжал уже в каком-то лихорадочном смущении думать отец Игнатий. – Вот, значит, как… Вот что у нас превыше всего. Превыше всего на свете! Вот эти стены! Эти кирпичи…»
– Мда… – уже вслух произнес игумен. – Мда…
Нервное напряжение, было совсем его прижавшее, чуть отпустило. Он слегка встряхнул головой и, не поднимая более глаза на собор, пошел мимо бетонного забора в сторону дома.
– Мда… Чего только в голову не лезет… – прошептал он и ускорил шаг.
Глава 16 Вместо эпилога
Июль 2004-го года выдался в Мангазейске жарким – впрочем, как и любой другой июль в этих краях. Но, в отличие от прошлого года, жара не мешала службе на летнюю Казанскую. В этот раз богослужение совершалось не на дне строительного котлована, а под сводами новопостроенного собора, в столь приятной в летнее время прохладе.
С новопостроенностью, правда, вышла некоторая заминка. Как ни старался Преосвященный Евсевий поспеть к намеченной дате, но строительные и отделочные работы в срок завершить не удалось. Главный купол так и остался не смонтированным, и в центре, промеж четырех самоварно-желтых глав, торчала серая бетонная проплешина. Само собой, в этих условиях к оштукатуриванию стен снаружи приступить не удалось, потому собор был не небесно-лазоревого цвета, как планировалось, а темно-красный, ибо выстроен он был из красного керамического кирпича. Прилегающая территория и вовсе осталась неухоженной и выглядела как обычная стройплощадка: исполосованная колеями песчаная плоскость, на которой волдырями торчали кучи разного хлама, ощетинившиеся арматурными прутьями.
Да и внутри кафедральный собор был далек от завершения. Огромный иконостас пока так и остался в планах – ко дню освящения был установлен лишь самый первый его уровень. Две недели учащиеся Пастырских курсов по четырнадцать часов в сутки надраивали полы и окна и все вообще, что можно надраить, но пепельная бетонная пыль все равно появлялась, будто из ниоткуда, и уже через несколько минут после очередной уборки покрывала полы, ковры, новые облачения и новые иконы.
Масштаб самих торжеств получился несколько меньше, чем ожидалось. Патриарх так и не собрался приехать на освящение, и вместо него прибыл митрополит Кирилл.
– Говоря по-мирски, это первый заместитель нашего Святейшего Патриарха, – много раз повторял в своих проповедях накануне освящения Евсевий. Прихожане, конечно же, внимательно слушали, внимательно слушали и чиновники, которым во время встреч архиерей говорил то же самое. Но всем было очевидно: замена Патриарха на его «заместителя», пусть даже и первого, получалась далеко не равноценной. И региональный истеблишмент был этим явственно разочарован. (Прихожане, на самом деле, тоже огорчались, но на их мнение было более-менее наплевать.)
Впрочем, служба получилась довольно торжественная, хотя организована она была безтолково. Григорий, многолетний старший иподиакон Евсевия, разругался с ним после того, как тот поддержал очередные нелепые требования «матушек».
– Ну и оставайся один со своими бабами! – сказал Григорий архиерею на прощание, собрал свои немногочисленные вещи и уехал. Евсевий не стал его удерживать и возвращать не пытался. Место старшего иподиакона занял любимец Преосвященного Артемий Дмитриев. Трудолюбия и организационных способностей у него было явно меньше, чем у Григория (по крайней мере, если говорить о бытовых и хозяйственных делах), но Евсевий ему благоволил и прощал теперь все. Что примечательно, после того как Артемий расстался с Надей, к нему изменилось отношение архиерейских келейниц: они стали его часто хвалить и даже в некоторых случаях спрашивали у него совета. Радикально поменялось к нему и отношение Зинаиды Юрьевны: если раньше она регулярно ставила ему палки в колеса, то теперь они общались очень мило, до степени даже и некоторого флирта. Причем ни Евсевий, ни его келейницы, ни даже Георгий этого в упор не видели. Георгий вообще как-то обмяк после женитьбы: никакого интереса к дальнейшей церковной карьере не проявлял, норовил уклониться от любого дела, которое ему пытались поручить, и вообще старался лишний раз не вылезать на свет из-под крыла жены и тещи.
Отец Игнатий, подняв взгляд от служебника, наблюдал, как неловко Артемий складывает архиерейский омофор. Ни знаний, ни навыка к церковной службе у того по-прежнему не было. Но на лице его застыла восковая маска лицемерной угодливости, прочно соединенной с абсолютной уверенностью в себе.
«Далеко пойдет… – подумал о нем отец Игнатий. – А может, и недалеко. Во всяком случае, вряд ли так далеко, как он мечтает… Упырек! Сколь ж их развелось за два года!..»
Он подумал о Зинаиде Юрьевне. У той дела шли просто прекрасно. Через некоторое время после ее оперативного выхода замуж за Георгия выяснилось, что никакой беременности не было. «Я ошиблась», – просто ответила она мужу, и тому ничего не оставалось, кроме как принять это к сведению. Зинаида продолжала работать в Епархиальном управлении. Она превратилась в полноправную королеву архиерейской кухни. Нынешнее освящение кафедрального собора стало днем ее личного триумфа. Ибо сейчас, по торжественному случаю, благотворителям, священнослужителям и прочим достойным людям вручали церковные ордена, медали и почетные грамоты. Ко всеобщему удивлению, среди награжденных оказалась и Зинаида Юрьевна: ее удостоили ордена святого благоверного князя Даниила Московского за «понесенные труды». Где она их понесла и в чем была их особая значимость, осталось великой тайной.
Отец Игнатий окинул ряды священнослужителей, молившихся в алтаре – благо, алтарь большой, а священников за прошедшие годы изрядно поубавилось. Отец Ярослав, однако, здесь. Служит, правда, не в Мангазейске, а в одном из поселков в области, но вроде даже доволен. Говорит, что детям (а их у него уже двое) хорошо, супруге все тоже нравится… Первая его жена почти совершенно пропала с горизонта. Говорили, что она работает где-то в издательстве. Вадим на ней так и не женился и, по слухам, они уже больше года как расстались. И он, и Елена от Церкви отошли совершенно.
Да, поселок – это не так и плохо. Отец Игнатий тоже уже не был настоятелем мангазейского Свято-Воскресенского храма, в котором он служил много лет – и при Пахомии, и при Евграфе, и при Евсевии. В конце прошлого года он впал в немилость: архиерей придирался то к одному, то к другому. Масла в огонь подливали и келейницы, жаловавшиеся на его многоразличные тяжкие грехи: то отец Игнатий «с женщинами на улице стоял, смеялся», то «с пакетами разноцветными ходил, людей смущал». И в итоге после того, как Тарутин был снят с настоятельства и извержен из сана, вместо него служить в Торей отправили отца Игнатия. Так что сегодня и он оказался гостем здесь, в Мангазейске.
Что же до Тарутина, то его к этому времени все успели забыть. После нескольких телевизионных эфиров и радиопередач его новые столичные знакомые и доброжелатели перестали назначать встречи и снимать трубки. В конце концов он решил попросить помощи у Ирины Раскиной.
– Здравствуйте, – сказал он в мобильный, набрав ее номер.
– Здравствуйте. А с кем я говорю?
– Это иерей Георгий Тарутин…
– А, отец Георгий! Я сейчас занята, я вам потом перезвоню! – и Ирина бросила трубку. Потом, сколько он ни пытался до нее дозвониться, ответом ему были только долгие гудки.
Столичная богемная тусовка поиграла с ним, как играет избалованный и капризный ребенок случайно попавшей ему в руки дешевенькой и простой, и потому кажущейся необычной, игрушкой. И как избалованное чадо скоро забывает о новой безделушке и возвращается к своим привычным и излюбленным играм, так и московская тусовка, выжав из Тарутина необходимый им медийный эффект, потеряла к нему всякий интерес. Поняв, что никому в Москве он более не нужен, отец Георгий вернулся в Мангазейск, где и жил теперь вместе с женой на пенсию-минималку, снимая в аренду пару комнат в старом бараке.
А вот отец Евгений Панасюк оказался значительно более востребованным диссидентом – правда, исключительно в церковной сфере. Из Мангазейска он уехал, вернувшись на свою малую родину. Теперь он активно обличал в Интернете мангазейского Преосвященного, а равно и благочинного, и всех вообще. В этом деле ему помогал отец Филимон Тихиков, которого Евграф таки выгнал из Вены и который теперь обретался заштатным священником в Москве. Имея явный избыток свободного времени, он предпочитал тратить его на написание обличительных постов в блогах и неизменно поддерживал на форумах Панасюка, особенно напирая на тот возмутительный факт, что все статьи, которые он, отец Филимон, написал для «Православного Мангазейска» в Вене, так и не были опубликованы. Обоих клириков читал и репостил некий известный диакон-публицист, также не любивший Евсевия (последний ни разу не пригласил его выступить с лекциями в Мангазейске). В результате и Панасюк, и Тихиков в глазах церковной интеллигенции считались главными жертвами Евсевия, борцами за правду в Мангазейской епархии и вообще святыми людьми.
Отец Игнатий посмотрел на собравшихся в храме. Все, в общем, как обычно, но не хватало одной фигуры – фигуры Сергеича. Он появлялся обычно не ранее середины службы и начинал с невозмутимым видом фотографировать духовенство и молящихся для «своей газеты». Но газета давно уже не его. А уволился он как-то странно – не так, как от него ожидали. Зная характер Шинкаренко, все предполагали, что уволится он из Епархиального управления непременно громко, со скандалом «на идейной почве». Но вышло иначе. Полгода назад он стал частенько заговаривать о том, что работа его больше не радует, что у него наступило эмоциональное истощение и что пора двигаться куда-то дальше. В мае месяце подал прошение об увольнении, которое Евсевий сразу же подписал. Поначалу думали, что Сергеич нашел уже себе какое-то место, но выяснилось, что ушел он в никуда. И сейчас, будучи безработным, сидел дома, а жил на те деньги, которые друзья ему давали в долг. Хотя и понимали, что вернуть эти долги он, скорее всего, не сможет.
Хор пел прекрасно – и регент, и певчие были, что называется, в ударе. Состав старый – малоопытных курсанток, в связи с особой торжественностью службы, решили не привлекать. Может, если б Маша Молотникова продолжила учебу, регент ее позвала бы. Но Маша ушла с курсов после скоропостижной женитьбы Георгия на Зинаиде Юрьевне. Где она сейчас, никто не знал – да и, по правде сказать, никто и не интересовался.
Протодиакон, прилетевший на освящение вместе с митрополитом, хорошо поставленным басом начал выводит ектенью. «Хорошо, что протодиакон приехал, – на автомате отметил отец Игнатий. – А то с диаконами у нас совсем беда…» И тут же вспомнился Сормов.
Евсевий так и не поехал к отцу Алексию. А отец Алексий не пришел к нему. В итоге его лишили сана, и он снова стал мирянином. Теперь он, чтобы не сидеть дома, опять устроился на работу в школу, где преподавал китайский язык, а от веры отошел совершенно. Ненадолго расставшись с марксизмом, теперь он вернулся к нему и во время своих занятий обязательно находил время, чтобы рассказать детям о «великом Ленине». Однако по старой памяти он изредка заходил в Свято-Воскресенский храм, то ли поделиться новостями, то ли вспомнить что-то, что совсем недавно было для него таким важным. Отец Игнатий, пока еще был настоятелем, встречал его очень любезно, беседовал подолгу и о его мировоззренческом выборе никогда не спрашивал.
А вот отец Владимир Ревокатов служил, как и ранее, и уже был зачислен в клир нового кафедрального собора. Его даже наградили патриаршей грамотой. И то и другое произошло по одной причине – больше было некого. Все остальные либо провинились, либо о них просто не вспомнили. Может, стоило бы наградить отца Аркадия Ковалишина, но он полтора месяца назад был отправлен в запрет. Отец Святослав Лагутин на новом, бедном и далеком приходе развил бурную деятельность, его можно было включить в число достойных – но после демарша в Хостоноре, когда он подал прошение о почислении на покой, это было нереально. Ко всему прочему, благодаря ему Алла Герасимова познакомилась с Александром Чакветадзе… И кстати, она уже три месяца как не Герасимова, а Чакветадзе. Скандал не скандал, но некое напряжение в отношениях Евсевия с Александром Матвеевичем из-за этого вышло. А на освящение собора Алла не пришла – явно демонстративно.
Впрочем, еще награжденные, конечно, были. Отец Кассиан был возведен в сан игумена, а накануне освящения собора награжден палицей. Его статус второго человека в епархии давно уже никем не ставился под сомнение. И всем было очевидно, что с течением времени он намерен стать из второго первым.
Напротив отца Игнатия стояли два иеромонаха из Тафаларского благочиния. «Ну хоть эти довольны!..» – подумал он. Действительно, оба монашествующих священника, Зосима и Савватий, считали епископа Евсевия идеальным архиереем. Ведь он так часто навещал их монастырь, и именно при нем их обитель стала так быстро развиваться! И пострижены, и рукоположены они были недавно – Зосима еще год назад был Игорем Кулагиным, а Савватий – Евгением Коваленко. Искренне верующие, благочестивые и, пожалуй, счастливые… С новым тафаларским благочинным у них не было никаких проблем, а про старого теперь уже начали забывать. Несмотря на то, что уголовное дело, открытое некогда против отца Виктора Джамшадова, давно закрыли за отсутствием даже не состава, а события преступления (то есть вчистую), Евсевий не разрешил ему вернуться к служению. И он, похоже, уже смирился с этим, сосредоточившись на научной карьере. Говорили, что в Иркутском университете его готовы принять преподавателем на недавно открывшуюся кафедру религиоведения.
Отец Игнатий скосил глаза направо, на стоявшего рядом с ним отца Аркадия Котова. Что ж, у него тоже все было как будто неплохо. Все так же служил. Все так же преподавал на Пастырских курсах. Тихо, скромно, незаметно…
Когда наступило время произносить проповедь, митрополит Кирилл отказался говорить первым, настоятельно попросив епархиального архиерея произнести слово. Слово это было отцу Игнатию знакомо едва ли не наизусть. Вступление – насчет того, что сегодня освящается собор – и далее все то же:
– Надо помнить, братья и сестры, что храм – это маяк в бурном море житейских страстей! Это лечебница для искалеченной грехом души!..
Владыка Евсевий, однако, был на эмоциональном подъеме. Это день его торжества. Его триумфа. Пусть и неполного (строительство ведь не завершилось до конца, и потому прозвучала обтекаемая формулировка: «окончание основных строительных работ»), но все-таки очевидного и явного торжества. Его творение, его дитя сделало первый шаг в свою жизнь! Плод его трудов, его молитв, венец всех принесенных жертв наконец-то предстал перед его глазами. И как любящие родители в час совершеннолетия преисполняются гордости за свое чадо и не желают видеть его недостатки и изъяны, так и Евсевий не хотел видеть ни отсутствия отделки, ни явных ошибок проектировщика, ни самой атмосферы стройплощадки, которая все еще царила в соборе. Все это казалось несущественной ерундой, и более того – он этого сейчас даже не замечал. Было ощущение выполненного великого дела. Камня, упавшего с плеч. Марафонского бега, который он только что завершил, оставив позади финишную линию. И чувство это горячим потоком наполняло душу, и с чувством этим он продолжал проповедь:
– Братья и сестры! Вот, сейчас, глядя на этот прекрасный собор, мы должны помнить: все это во славу Божию. Мы призваны жить так, чтобы своими деяниями, самой своей жизнью славить Бога. И собор наш, и все те труды, все, что было сделано ради его постройки – все это тоже во славу Божию!
«Во славу Божию?» – подумал отец Игнатий. Перед его взором вновь пронеслись Андрейко и Лагутин, Сормов и Джамшадов, Тарутин и старый его знакомый, уже бывший иподиакон Григорий, Шинкаренко и Георгий… «Все это – во славу Божию?.. – снова задался он вопросом. – Или во славу кого-то другого? Ведь это не просто жертвоприношение, это целая гекатомба! Только вот Богу ли?.. Ну да, архиерей говорит, что Богу… Будем считать, что он в курсе. Архиереи и “Журнал Московской Патриархии”, как известно, не ошибаются…»
Пока Евсевий произносил проповедь, протодиакон митрополита Кирилла ленивым, слегка пренебрежительным взором оглядывал собор и молящихся. Храм действительно получился очень большой – настолько большой, что пришедшие на освящение несколько сотен прихожан казались среди этого огромного пространства небольшой горсткой. Несколько старушек, какие-то приходские бабы неопределенного возраста, бедновато одетые мужички, стайка местных казаков с нагайками и шашками… Скучная, неинтересная, ничего не могущая и потому ничего не стоящая публика. Взгляд митрополичьего протодиакона скользнул по ним, не задерживаясь. Высокопоставленных гостей в соборе еще не было, эти прибудут только на праздничную трапезу. (Кстати, Александрову и Козлобесову приглашения тоже были отправлены, но они явиться не могли – первый опять лечился в психбольнице, а второй проводил отпуск в Таиланде.) Впрочем, и местная элита не особо интересовала московского гостя. Он поглядел на Евсевия и чуть ухмыльнулся. «Старается! – подумал протодиакон. – Да только криворуко как-то все. И зачем он нас сюда выдернул? Хоть бы отделку до ума довел… Видать, надоело совсем в Мангазейске сидеть, хочет на кафедру поприличнее. Да только кому ж он нужен?»
И протодиакон о Мангазейске больше не думал. Вечером вместе с митрополитом Кириллом они должны лететь в Гонконг, на освящение храма при тамошнем российском диппредставительстве. Вспомнился один славный ресторанчик, который он в прошлый раз навещал с отцом Дионисием. «Эх, опять ведь времени не будет!» – с грустью подумал отец протодиакон. Он очень любил китайскую кухню, и мысль о том, что в этот раз, скорее всего, добраться до нее не удастся, заставила его взгрустнуть. Впрочем, кухня – это ерунда. Впереди было еще множество дел – дел, которые нужно было совершать в больших и красивых городах, вместе с интересными и влиятельными людьми. Впереди была большая, настоящая жизнь – а Мангазейск был лишь случайной и досадной остановкой. Серой песчинкой, непонятно зачем кружащейся во Вселенной, и населенной такими же серыми, непонятными и ненужными людьми.
И отец протодиакон снова погрузился в мысли о ресторанчике в Гонконге, который, скорее всего, посетить в этот раз так и не удастся…
Ноябрь 2013 – июль 2016 гг.
Санкт-Петербург – Лиепая – Баня-Лука – Нови-Сад – Подгорица – Лиепая






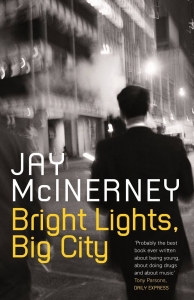
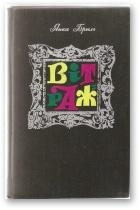
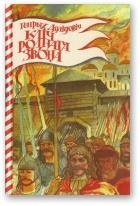


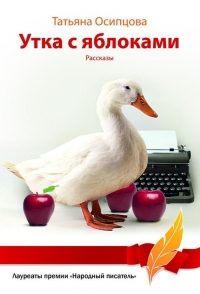
Комментарии к книге «Превыше всего. Роман о церковной, нецерковной и антицерковной жизни», Дмитрий Саввин
Всего 0 комментариев