Рональд Х. Бэлсон Исчезнувшие близнецы
© Ronald H. Balson, 2016
© DepositPhotos.com / bedya, обложка, 2017
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2017
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2017
Издано с разрешения St. Martin’s Press, LLC
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
Переведено по изданию: Balson R. H. Karolina’s Twins: A Novel / Ronald H. Balson. – New York: St. Martin’s Press, 2016. – 320 р.
Глава первая
Лаконичная надпись, сделанная на матовом стекле с помощью трафарета, гласила: «Расследования». На втором этаже конторы на Дирборн-стрит широкоплечий мужчина в свободной футболке развернул итальянский сандвич с говядиной и перцем и открыл газету «Чикаго трибьюн» на страничке спортивных новостей. Его чуть поредевшие волосы, подернутые сединой, были коротко подстрижены, по румяному лицу видно, что он занимается своим делом уже лет тридцать.
Только он откусил добрый кусок, как зазвонил телефон.
– Черт! – выругался он. – Алло, Лиам Таггарт слушает.
– Здравствуйте, меня зовут Лена Вудвард. – Слабый голос свидетельствовал о том, что звонит пожилая женщина. – Это частный детектив?
– Да, мадам. Чем могу помочь?
– Я бы хотела договориться о встрече.
– Я могу поинтересоваться причиной, мисс Вудвард?
– Миссис Вудвард. Я бы хотела, чтобы вы помогли мне кое-кого найти. Точнее, двоих.
– Эти люди – ваши родственники?
На том конце повисло молчание.
– Нет. Мы можем договориться о встрече? Пожалуйста! И тогда я расскажу вам все.
– Хорошо. Сегодня после обеда я свободен. Вам подходит?
– Завтра утром было бы удобнее, – ответила она, – но мне необходимо встретиться также и с миссис Локхарт. С вами обоими.
– Кэтрин – адвокат. Она не занимается поиском людей. У вас судебная тяжба?
– Нет.
– Понимаете… Давайте сделаем так: встретимся завтра, и, если будут законные основания, мы сможем позднее поговорить с Кэтрин.
– При всем моем уважении, я настаиваю на ее присутствии, мистер Таггарт. Вы не могли бы посмотреть, свободна ли она завтра утром?
– Миссис Вудвард, она очень занятой адвокат, и утром у нее слушание в суде. Ее время стоит очень дорого…
– В таком случае завтра после обеда. И не стоит меня опекать, мистер Таггарт, – я знаю, сколько стоят услуги адвоката. У меня есть деньги, чтобы оплатить гонорар, если я решу вас нанять.
– Вы не могли бы мне хоть намекнуть, о чем речь? Почему вы хотите разыскать этих людей? Они живут в Чикаго?
На другом конце провода вновь молчание.
– Миссис Вудвард?
– Я расскажу вам обо всем завтра. В три часа удобно?
Лиам вздохнул:
– У меня нет расписания Кэтрин, но я проверю, будет ли она свободна в это время. Вы не могли бы продиктовать номер своего телефона?
Черкнув номер телефона собеседницы, детектив положил трубку и несколько мгновений сидел, раздумывая над тем, почему эта женщина так настойчиво требовала участия Кэтрин в столь простом деле, как розыск. Потом позвонил.
– Глэдис, что у Кэт завтра в три?
– Готовится к утреннему слушанию в понедельник.
– Ясно, можешь записать меня на три часа. У нас завтра встреча с клиенткой, некой Леной Вудвард.
– Предмет встречи?
– Не знаю.
* * *
В трехэтажном особняке на западе Белден-авеню, в двух кварталах от чикагского Линкольн-парка, Лиам сидел за кухонным столом, уткнувшись в компьютер и потягивая пиво «Гиннесс», и ждал жену. Мысли его занимали две вещи: загадочный звонок от Лены Вудвард и его полная неспособность собраться с мыслями перед еженедельным словесным поединком с двоюродным братом. Дверь распахнулась, и с коробкой документов вошла Кэтрин Локхарт-Таггарт.
– Сегодня вечер занят? – поинтересовался Лиам.
– На понедельник на утро назначено судебное слушание. А потом один мой знакомый детектив сообщил Глэдис, что на завтра у нас назначена встреча с клиенткой, и до вечера я буду занята.
Лиам забрал у Кэтрин коробку и поставил на обеденный стол.
– Дама очень настаивала. Можно сказать, вынудила меня силой.
Кэтрин сбросила туфли на каблуках, повесила плащ на крючок и подошла к холодильнику. Взяла пиво и стакан.
– Чего она хочет? Зачем вам вместе приходить ко мне в кабинет?
Лиам покачал головой и пожал плечами:
– Потому что она ищет с нами встречи.
– Зачем?
– По-моему, она хочет, чтобы мы разыскали двух человек.
– Кого?
– Понятия не имею.
– Лиам, откровенно говоря, иногда ты поступаешь крайне глупо. Почему ты не поинтересовался?
– Я спрашивал, но она не ответила. Она вела себя довольно надменно.
– Черт, Лиам, а если она с приветом? Может, вообще не придет.
Он покачал головой:
– Нет. Она не с приветом. И обязательно объявится.
– И ты точно это знаешь, потому…
– Так подсказывает мне моя ирландская интуиция.
Кэтрин начала раскладывать бумаги на столе:
– В таком случае интуиция должна подсказать тебе, что ты сегодня готовишь ужин.
* * *
Лиам любил поболтать с секретаршей Кэтрин. Благодаря этой знойной латиноамериканке, живущей неподалеку, в квартале Пильзн, в конторе Кэт все ходили по струнке, как в 3-й бронетанковой армии генерала Паттона.
– Сколько скрепок использовала Кэт на этой неделе? – поддразнил ее Лиам.
– Полагаете, я не знаю? – ответила она, уперев руки в бока.
В этот момент распахнулась дверь и в контору вошла высокая женщина в верблюжьем пальто. Посетительница прихрамывала, поэтому опиралась на блестящую черную трость. Она улыбнулась Лиаму.
– Я полагаю, вы и есть мистер Таггарт? – Дама протянула руку. – Я – Лена.
– Приятно познакомиться, Лена. Это Глэдис, тайное оружие Кэтрин. Думаю, Кэтрин уже ждет нас.
Глэдис взяла у Лены пальто и проводила их в кабинет. Лене оказалось лет восемьдесят. Она выглядела очень величественно в элегантном сером костюме-двойке, шелковом дизайнерском шарфе и жемчужно-серого цвета таблетке, изящно сидящей на тщательно уложенных седых волосах. После церемонии знакомства Лена сразу перешла к делу:
– Я бы хотела нанять вас обоих. Мне необходимо узнать, что случилось с двумя детьми.
– Как я уже говорил вам по телефону, – ответил Лиам, – Кэтрин поиском людей не занимается. Это моя епархия.
Лена понимающе улыбнулась и кивнула:
– Я обратилась к вам не случайно. Мы с Беном Соломоном были очень близкими друзьями. Восемь лет назад вы помогли в последнем деле его жизни – найти и отдать под суд гауптшарфюрера Отто Пиатека. Мы с Адель Зильбер почти каждую ночь дежурили у его постели в те непростые времена. Я прекрасно понимаю, на что способен ваш тандем, если вы беретесь за дело. Я стала тому свидетелем. Поэтому хочу нанять вашу команду. Я заплачу.
– Дело не в деньгах, миссис Вудвард, – ответила Кэтрин. – Бену необходим был адвокат, который представлял бы его в суде, – и я ему подошла. А еще Бену требовался детектив – тут-то и пригодился Лиам. У Бена была уникальная ситуация. И я уверена, что ваше дело совершенно иного порядка.
Лена осталась безучастной к уговорам и с улыбкой продолжила:
– В некотором роде иного, но сходства в них больше, чем различий. Тем не менее мое дело потребует неутомимых усилий и творческого подхода. По словам Бена, волшебная комбинация двух умов и отличает вас от остальных. Он говорил, что никогда еще не видел, чтобы люди так работали вместе. – Она подняла указательный палец, чтобы подчеркнуть сказанное. – Мне нужна команда.
– Чего вы от нас хотите, Лена? – чуть более покладисто поинтересовалась Кэтрин.
– Я уже вам говорила. Я хочу, чтобы вы нашли двух детей.
– Это ваши дети?
Лена покачала головой.
Кэтрин развернулась к столу и нажала кнопку на телефоне.
– Глэдис, пожалуйста, принеси кофе и никого со мной не соединяй.
Глава вторая
– Наверное, стоит начать с самого начала и объяснить вам, откуда я знаю этих детей. Я урожденная Лена Шейнман из польского городка Хшанув. Это на юго-запад от Кракова, в провинции Силезия. Подростком…
Кэтрин подняла руку:
– Хшанув? Это недалеко от Замосца?
– Нет, там родился Бен. Chrzanów произносится как Хшанув. В другом конце Польши, на границе с Чехословакией.
Кэтрин взглянула на Лиама:
– Мне кажется, мы уже плыли в этой лодке. Это задание относит нас к тому, что случилось во время холокоста? Именно поэтому вы нас искали? Из-за Бена Соломона? То есть я имею в виду, что его дело относилось непосредственно к холокосту, но мы отнюдь не являемся экспертами по истории Польши времен Второй мировой войны.
Лена удивленно приподняла брови:
– Я обратилась к вам исключительно из-за ваших талантов и, должна признать, отчасти из-за Бена. Он был вашим самым преданным почитателем. А я – его. Возможно, потому, что мы оба пережили войну, возможно, потому, что мы оба прошли через настоящий ад во время оккупации Польши. Как я вам уже говорила, между нами много общего – у нас с Беном особая связь. И я разыскала вас, потому что должна выяснить, что случилось с двумя детьми. И верю, что вы именно те люди, которые могут мне помочь.
Кэтрин снова подняла руку:
– Прошу прощения за неудачно сформулированную фразу. Я просто хотела, чтобы вы понимали: если вам необходим специалист по Польше или Второй мировой войне – есть люди намного более сведущие, чем я и Лиам. Нам удалось помочь Бену и сделать так, что Отто Пиатек предстал перед судом, но всю информацию касательно войны мы получили от Бена.
– Я понимаю, но уверена, что обратилась по адресу. Молю вас, выслушайте меня!
– Разумеется. – Кэтрин взяла блокнот для записей. – Мне бы хотелось кое-какие подробности. Откуда нам начинать? Эти дети – ваши?
Лена покачала головой:
– Нет. Это дети Каролины. Они близнецы.
Лиам подался вперед:
– Как их зовут, Лена?
Она снова покачала головой:
– Сегодня? Не знаю. Много лет назад их звали Рахиль и Лия.
Кэтрин посмотрела на Лиама и перевела взгляд на Лену:
– Кто такая Каролина?
– Моя самая любимая и близкая подруга. Она спасла мне жизнь, но получилось так, что я не смогла спасти ее. – Пожилая дама смахнула слезинку и прошептала: – Прошу вас, помогите мне сдержать обещание найти дочерей Каролины.
Кэтрин взяла коробку с бумажными салфетками и поставила ее на стол.
– А где жила Каролина?
Лена прикрыла глаза:
– В Хшануве, недалеко от меня.
Кэтрин вновь взглянула на Лиама, но тот лишь пожал плечами.
– Рискну предположить, что дети родились во время войны. В Польше?
Лена кивнула.
– Но прошло уже семьдесят лет…
– Знаю. Я так долго ношу на душе этот груз. А скоро, как говорил мой муж, «срок моего абонемента на пребывание в живых истекает». Два года назад, за месяц и два дня до смерти Адель, рак забрал у меня мужа. За два месяца я потеряла двух самых близких людей. После их смерти жизнь утратила смысл. Меня держит на этом свете только обещание, данное Каролине. В последние годы у мужа дела шли очень хорошо. Перед смертью он сказал мне: «Лена, у нас есть деньги, выполни обещание, которое дала Каролине. Пусть твоя душа успокоится». После его смерти я начала активно действовать: разослала запросы, даже летала в Польшу. Но Хшанув изменился. Поиски ни к чему не привели, мне не удалось продвинуться ни на шаг. Откровенно говоря, я даже не знала, с чего начать, и в итоге пришла к выводу: если я хочу добиться успеха и найти этих девочек, мне просто необходима помощь профессионалов.
– Но к нам вы обратились из-за Бена?
– Как я уже говорила, мы с Беном и Адель были очень близки. Бен сказал, что, если я решусь на поиски этих детей, мне следует обратиться к вам с Лиамом. Он сказал, что вы отлично умеете слушать, и если кому и по плечу эта задача, то только вам. Он постоянно вспоминал вас, Кэтрин, какая вы терпеливая и понимающая…
– Я польщена, спасибо. Бен тоже занял особое место в моей жизни.
– Где вы в последний раз видели этих детей? – поинтересовался Лиам.
– К сожалению, не могу назвать вам точное место. И даже название городка. Я знаю только приблизительно район – по крайней мере каким он был в 1943 году. И то лишь в общих чертах. Возможно, если бы я вернулась на то место… Сомневаюсь, что даже тогда смогла бы точно указать местность.
Лиам покачал головой:
– Должен быть честен с вами, Лена. Не знаю, смогу ли вообще вам помочь. Я умею находить людей, но мне нужна отправная точка. – Он принялся загибать пальцы. – Во-первых, мы не знаем их имен. Во-вторых, мы не знаем, где они живут. Мы не знаем, где их видели в последний раз. Мы не знаем, как они сейчас выглядят. Нам неизвестно, живы ли они до сих пор. Боюсь, вы выбросите свои деньги на ветер.
Лена оставалась непреклонной. Решительно настроенной.
– Мы обязательно их найдем. Я точно знаю. С вашей помощью. – Она утвердительно кивнула. – Мы их найдем.
– Возможно, нам поможет, если вы расскажете о Каролине. И почему вы так хотите отыскать ее детей. Вполне вероятно, что по прошествии стольких лет у них все сложилось хорошо и они не нуждаются в вашей помощи.
– Дело не в помощи. Они должны кое-что узнать. Я обязана им рассказать.
Кэтрин подняла ручку:
– Что ж, в таком случае я тоже должна кое-что узнать, прежде чем согласиться заниматься этим делом. Я не возьму у вас деньги, если не буду уверена, что мы с Лиамом сможем хоть чем-то помочь.
– Поняла и полностью согласна.
– Отлично, тогда начнем. Расскажите о Каролине. Все, что знаете.
– И вы будете слушать? Внимательно?
Кэтрин улыбнулась:
– Обещаю.
– Спасибо. Спасибо большое. – Она сделала глоток кофе, скрестила ноги, одернула юбку и начала свой рассказ.
– Мы познакомились с Каролиной в тот день, когда она прикатила моего брата из школы…
Кэтрин нахмурилась:
– Прикатила?
– Моему брату было семь, и он передвигался в инвалидной коляске. Когда Милошу было четыре, его скрутил полиомиелит. Отец отвез его к доктору в Краков, который наблюдал за ним днем и ночью. Тогда, в тридцатые годы, то, что Милошу удалось победить болезнь, было почти чудом. Но в результате ноги остались парализованными, ходить он не мог. Брат стал инвалидом, но это ничуть не преуменьшало его достоинств. Он не мог играть на улице с другими мальчишками, но музы наделили его иными талантами – к музыке, живописи, поэзии.
– В семь лет?
– Именно так. Он мог бы восхитить вас своими талантами. Милош изумительно играл на скрипке. К сожалению, вам никогда не доведется услышать, как он играет. Или увидеть, как он рисует. Или как декламирует стихи. И это в семь лет. Милош заразил бы вас своей joie de vivre[1]. Будучи скованным физически, он никогда не считал себя несчастным, и улыбка не покидала его лица. И всегда говорил лишь добрые слова. Его обожали все. Как говорится: он любил жизнь. Как бы там ни было, но из-за инвалидности Милоша кому-то приходилось отвозить его в школу и привозить обратно. Обычно это делала Магда – няня и домработница, которая жила вместе с нами. На самом деле она была для нас кем-то большим. Магда была частью нашей семьи и оказала огромное влияние на мое воспитание. Она отвозила Милоша в инвалидном кресле в школу, а после уроков забирала. Свое кресло Милош называл «мазерати».
– Школа находилась далеко? – уточнила Кэтрин. – Я пытаюсь понять, что у вас был за городок.
– Наверное, кварталов семь-восемь. В Хшануве все находилось рядом. Там была центральная площадь, где располагался рынок, оттуда и расцвел наш городок. В Хшануве машины были редкостью. В моей семье машины не было – да нам она и не была нужна. Все ходили пешком. Если дойти было нельзя, брали лошадь с повозкой. У нас была своя повозка. Тогда это было в моде.
В те дни в Хшануве насчитывалось двадцать пять тысяч жителей. Сорок процентов населения составляли евреи, остальные – католики. Местность вокруг Хшанува была холмистой, поросшей лесом. Вокруг множество ферм, лесопилок, шахт, где добывали уголь. Краков, второй по величине город в Польше, находился в сорока пяти километрах на восток.
Мамина семья владела магазином на краю главной площади. Там продавались стройматериалы и продукты с ферм. Этот магазин много лет принадлежал ее семье. Мама, Ханна Шейнман, несколько дней в неделю работала в магазине. Отец мой, Яков Шейнман, работал там же. Поскольку родители работали, Магда не только присматривала за домом, но и заботилась о нас с Милошем.
В день нашего знакомства с Каролиной шел дождь. Магда уехала проведать свою матушку. Милоша должен был забрать из школы отец, но тот закрутился в магазине и не смог вырваться. Он попросил директора школы найти кого-то, кто смог бы привезти Милоша домой. Выбор пал на Каролину.
Дом наш располагался в трех кварталах от рыночной площади – двухэтажное каменное строение с остроконечной крышей и небольшим чердаком. Я упоминаю чердак потому, что скоро он станет центром моего существования. Каролина привезла Милоша домой после школы, но уходить не спешила. Мы перекусили и до вечера проболтали. Когда вернулась мама, она настояла на том, чтобы Каролина осталась поужинать с нами. В то время мне было двенадцать, Милошу – семь, Каролине – тринадцать.
Я видела Каролину в школе, но она училась на год старше. В нашей школе она была очень популярна. Уже тогда, в тринадцать лет, она обладала утонченной внешностью и с каждым годом становилась все красивее: жизнерадостная, сильная, со спортивной фигурой. У нее были темные вьющиеся волосы и огромные выразительные глаза. Неприступная, кокетливая, умная, дерзкая и уверенная в себе – парни ходили за ней толпой.
В то время я не знала, что ее самоуверенность – маска, которую Каролина носила, словно пальто. В душе она была глубоко несчастной и застенчивой девочкой. Ее отец, Мариуш Нойман, был замкнутым, жестоким человеком, которого заботил только бизнес. А дела у него шли неважно, особенно в тридцатых годах.
Каролина начала проводить много времени в нашем доме, стала еще одним членом нашей семьи. Мы все ее любили, и она отвечала тем же. Но мне кажется, что больше всех она любила Милоша. Она сидела и слушала, как брат играет на скрипке, даже если он просто разучивал гаммы. – Лена пожала плечами. – Или, возможно, все дело в супе креплах, который готовила моя мама. Как бы там ни было, Каролина практически поселилась у нас дома.
– Она тоже была еврейкой?
Лена кивнула:
– Тогда мы с Каролиной ходили в среднюю школу в Хшануве. Наша дружба открыла для меня новый круг общения. Она взяла меня под свое крыло и познакомила с учениками, которые пользовались популярностью в школе. Рядом с Каролиной все казалось просто. Я даже стала любить нашу школу. Но все закончилось в 1938 году. Отчасти потому, что я хорошо училась, отчасти потому, что моя семья была зажиточной, но в четырнадцать лет родители отправили меня в Краков в гимназию.
– Гимназию? – переспросил Лиам.
Лена улыбнулась:
– Хотя заведение и называлось гимназией, это была частная школа, где основные предметы читались на польском языке, а религиозные дисциплины – на иврите. Я не хотела туда ехать. Хотела остаться в Хшануве, там были все мои друзья. Я хотела ходить в школу с Каролиной. Я протестовала, но у меня не было шансов выиграть эту битву. Религиозные дисциплины были обязательными, а родители имели возможность устроить меня в престижную среднюю школу, поэтому я отправилась в Краков.
Уверена, вам известно, что до войны в Польше жили три миллиона евреев – больше, чем в любой другой стране в Европе. Десять процентов населения Польши были евреями, а мои родители были очень строгих правил и серьезно относились к религии. Каждый день я ездила в школу в Краков, а вечером возвращалась на поезде. Железнодорожный вокзал находился в шести кварталах от нашего дома. Но из-за немцев в гимназии я проучилась всего один год.
– Один год?
Лена пожала плечами:
– Война.
– Значит, до войны Хшанув был уютным городком?
– Для нашей семьи – да. Но не для всех. Наш магазин был очень прибыльным, ведь там обслуживались жители близлежащих силезских деревень. А отец мой был героем войны, награжденным медалями и орденами. Во время Первой мировой войны в звании капитана, три звездочки, он воевал в составе армии Австро-Венгерской империи на стороне немецких войск.
– На стороне немецких войск воевал капитан еврей? Интересно! – удивился Лиам.
– Нет, не совсем так. Во время Первой мировой войны не было никаких различий. Евреи из Германии и Австро-Венгрии сражались бок о бок в армии Центральных держав – как рядовые солдаты, так и офицеры. Сто тысяч евреев сражались в немецкой армии, часто достигая высоких чинов, двенадцать тысяч положили тогда свои жизни. В Австро-Венгерской империи всегда радушно принимали евреев, и еврейская община процветала. Евреи были врачами, адвокатами, судьями, учеными. То же самое и в Германии.
После Первой мировой войны благодаря своему званию и службе в армии мой отец пользовался определенным авторитетом и уважением. Все называли его Капитаном. Я бы не сказала, что мы были богаты, но жили мы не бедно. И все же в тридцатых годах Польша страдала от Депрессии, а вместе с ней – и экономика Хшанува. Наш магазин продолжал продавать продукты питания, но частенько в кредит, который, мы знали, никогда не погасится.
Семья Каролины также пострадала во времена Депрессии. Ее отец был портным. В начале тридцатых его дело процветало – вероятно, потому, что дешевле было починить одежду, чем купить новую. Часто у него было столько работы, что Каролине приходилось помогать отцу по воскресеньям и после школы. Еще подростком она стала профессиональной швеей. Пришел 1937 год. В пучине Великой депрессии у людей не было денег даже на ремонт одежды, и они перестали ходить к портным. Отцу Каролины пришлось закрыть магазин. Он перебрался в Варшаву, где его брат держал мясную лавку, и домой приезжал раз в месяц. Каролина с матерью остались одни.
Когда отец Каролины уехал, ее мать запила. В то время, когда я заглядывала к Каролине в гости, мама ее никогда не бывала трезвой. Несвязная речь, шатающаяся походка. Каролине было стыдно, и поэтому я редко к ней наведывалась.
У Каролины была собака, белый французский пудель с розовыми лапками, которого она любила всем сердцем. У нее появилась собака, когда она училась в восьмом классе. Однажды мы возвращались домой из школы и проходили мимо двора, где какой-то мальчишка раздавал щенков.
– Мне мама не разрешит оставить всех, – признался он, кивая на коробку с девятью маленькими беленькими щеночками. – Если хотите, можете взять одного.
Сперва отец не разрешил Каролине завести собаку, но, видя отчаяние дочери, уступил ее просьбе при условии, что девочка сама будет заботиться о питомице и зарабатывать ей на еду.
Собака оказалась французским пуделем, Каролина назвала ее Мадлен. И поскольку фактически мать и отец у девочки отсутствовали, Мадлен стала спасением для Каролины. Во время практически ежедневных визитов в наш дом Мадлен всегда шла за хозяйкой. Изначально мои родители не слишком-то этому радовались, но Милош полюбил собачку, а Мадлен полюбила Милоша. Он садился на пол, играл ей на скрипке и так хихикал, что мы за животы хватались от смеха. Милош даже научил ее некоторым трюкам. Так Мадлен стала еще одним членом нашей семьи.
У отца было три брата. Один жил в Варшаве, второй – в Кракове, а третий – в Берлине. И все они были успешными. Отец часто ездил в Берлин по делам или просто в гости к старшему брату. Дважды он брал с собой меня. Я мало что помню, только то, что у дяди был огромный дом с красивым садом.
Но я отлично помню, как в 1933 году отец вернулся из Берлина и рассказал нам, что гитлеровцы жгли еврейские книги. Мне было тогда восемь лет, и я спросила:
– А зачем они сжигают еврейские книги? Если они им не нравятся, просто не нужно их читать.
И отец ответил, что это очень хороший вопрос.
Германию все больше охватывали гитлеровские настроения, и отец реже и реже ездил в Берлин – исключительно в тех случаях, когда этого требовали дела. А еще через два года, в декабре 1935, он сообщил нам, что дядя Самуил переезжает в Америку. Согласно Нюрнбергским законам, евреев лишали всех профессиональных лицензий, а дядя мой был уважаемым педиатром, профессором. По Нюрнбергским законам ему запрещалось лечить кого бы то ни было, кроме еврейских детей, запрещалось преподавать в институте. Он мудро решил, что настало время уезжать, и иммигрировал в Америку.
В 1938 году отец в последний раз съездил в Берлин. За две недели до Krystallnacht[2]. Где-то в это же время мы начали замечать растущее в некогда толерантном Хшануве напряжение. Общество стало разделяться, но не на богатых и бедных, а по религиозным верованиям. Нацистская пропаганда просочилась в Польшу, и антисемитизм прочно укоренился по всей стране. Я помню, как люди тыкали в нас пальцем, зажимали носы и приговаривали: «Чесноком воняет».
Поскольку Хшанув находился рядом с немецкой и чехословацкой границей, беженцы из Силезии и Германии через него направлялись дальше на восток со своими пожитками, которые везли на телегах и в повозках. До войны евреи свободно переезжали из Германии, но были вынуждены оставить все свое имущество и заплатить иммиграционный налог. От них мы и узнали о преследованиях евреев в Германии.
С приближением войны нацистская пропаганда усилилась, а наш городок окончательно убедился, что тучи сгущаются. В окрестностях развернулись польские войска. Они расквартировались в армейских бараках из красного кирпича в Освенциме, всего в двадцати километрах от нас. Нет нужды упоминать, что в эти же самые бараки позже согнали тысячи узников-евреев и форт получил название Аушвиц. Отец мой был не дурак. Он предчувствовал самое худшее. Пора было и нам уезжать.
Помню декабрьскую ночь 1938 года, когда отец усадил всю семью за стол и сказал:
– Ханна, нацисты наступают, и от этого деваться некуда. В марте они захватили Австрию. В сентябре захватили половину Чехословакии и скоро будут здесь. Когда пожелают. Их никто не остановит. И они ясно дали понять нашему народу свои намерения. В прошлом месяце, во время Хрустальной ночи, нацисты разгромили и сожгли тысячу синагог и тысячи еврейских магазинов по всей Германии, Австрии, Восточной Пруссии и Судетской области. Тридцать тысяч евреев были арестованы, бóльшую часть отправили в тюрьму Бухенвальд. Германия отпустит их только в том случае, если они смогут подтвердить, что иммигрируют из страны. Они хотят, чтобы мы покинули Европу, Ханна. Не только Германию, а Европу. Мы все. Такие люди, как я, уважаемые офицеры-евреи в немецкой армии, которые верой и правдой служили своей стране, лишены званий и даже гражданства. Пора посмотреть правде в глаза. Мы больше не можем оставаться в Хшануве. Я буду договариваться о переезде.
– Ваша мама была против?
– Она мягко возражала, – улыбнулась Лена. – Тогда были другие времена. Главой семьи был отец. Если он что-то решил, семья обязана была повиноваться. Несколько поколений семьи моей мамы жили в этом городке. Восемьдесят лет назад они открыли семейный магазин. Ей было очень тяжело покидать родные края. Разве она могла прижиться где-то в другом месте?
– И куда мы поедем? – спросила она. – В Америку, как твой брат Самуил? Он поселился в Чикаго. Там ганстеры, Аль Капоне… По-моему, мне там не понравится. Там очень опасно для детей.
Отец засмеялся:
– Аль Капоне в тюрьме.
– И все-таки в Чикаго очень опасно. Там орудуют другие гангстеры.
– Я думаю не о Чикаго, Ханна. Я хочу, чтобы мы переехали в Париж, где сплоченная еврейская община, двести пятьдесят тысяч человек. Я знаком там с выдающимися людьми. Я смогу купить бакалейную лавку, я уже связывался с владельцем. Мы продадим дом, магазин и на эти деньги переедем во Францию.
Я, естественно, просто обезумела. Точнее сказать, была раздавлена. Мне было пятнадцать, и, как и мама, Польша – это все, что я знала в жизни. И уж точно я не хотела переезжать в Париж. Или в Чикаго. Я ни слова не знала ни по-английски, ни по-французски. Вторым моим языком был немецкий. Во всех школах нас учили немецкому.
Но больше всего я не хотела оставлять Каролину и своих друзей. К тому моменту мы с Каролиной очень сблизились, мне было бы одиноко без нее. Я стала частью большой компании. Нам было так весело! И меня приняли в нее благодаря Каролине. Мы были лучшими подругами. Не разлей вода.
Однажды отец пригласил меня к себе в кабинет. Мы были только вдвоем.
– Я знаю, что тебе будет непросто, Лена. Милошу этот переезд дастся еще сложнее, но я желаю нашей семье самого лучшего, а оставаться в Хшануве слишком опасно. Я подыскал нам отличную квартиру в Париже, в Двенадцатом округе, южнее Люксембургского сада. Обещаю, тебе понравится. Я нашел магазин, который мы могли бы купить. Со временем, если в Хшануве станет безопаснее, мы сможем вернуться. Но ты полюбишь Париж.
– А как же Магда? – поинтересовалась я.
Он покачал головой:
– Боюсь, что Магду придется оставить здесь. По правде сказать, мне едва удается содержать нашу семью, у меня не хватало духу ее уволить.
– А как же Каролина?
– Прости, но там ты заведешь новых друзей, хотя, возможно, когда-нибудь Каролина сможет приехать к нам в гости.
Для меня это было совершенно неприемлемо, и я убежала в свою комнату. Отец поднялся туда спустя несколько минут и присел на мою кровать.
– Мне жаль, что ты расстроилась, но я должен думать о благе семьи. Пожалуйста, попытайся понять.
– Может, Каролина все-таки поедет с нами в Париж?
– Сомневаюсь, что ее родители на это согласятся.
– Им на нее наплевать. Отец бросил семью и бóльшую часть времени живет в Варшаве. Мать постоянно пьяная. А если они согласятся?
К моему удивлению, отец кивнул:
– Если они разрешат, мы возьмем Каролину с собой. Только пока ничего не говори, мне нужно продать магазин и дом. Это займет некоторое время. Когда я найду покупателя и точно буду знать, что мы уезжаем, тогда скажешь Каролине и спросишь, разрешат ли ей родители поехать с нами.
Я крепко обняла отца. Какой он у меня чудесный!
Во время Депрессии найдется немного желающих купить дом и магазин. Наш магазин приносил неплохой доход и, соответственно, был довольно дорогим для небольшого городка. Но к февралю 1939 года отец подписал контракт с Варшавским консорциумом, и мы начали готовиться к переезду.
– А Каролина?
– Разумеется, Каролина узнала нашу тайну сразу же после того, как у нас с отцом состоялся серьезный разговор, однако своих родителей ни о чем не спрашивала. Но однажды она пришла домой и поговорила с матерью, которая, что удивительно, дала согласие. Впрочем, когда на выходные приехал отец, Каролина получила решительный отказ:
– Ни за что! Все это ерунда! Эта истерика о войне. Кучка немецких выпендрежников. Шейнманы – поляки. Им не понравятся заносчивые парижане, Каролина. Они скоро вернутся. Тогда все изменится к лучшему.
Когда Каролина рассказала мне новости, я была убита горем. Мы обе были убиты. Она была частью нашей семьи. Моя мама называла нас две «Л» – Лена и Лина. Я теряла свою лучшую подругу. Каролина продолжала упрашивать отца. Семьи вынашивали планы на переезд. Некоторые паковали вещи и отправлялись на восток в Украину или Румынию. Кто-то бежал на юго-запад в Словакию. Наша компания распадалась, каждый день кто-то из друзей прощался с нами. Но отец Каролины был непоколебим.
Конечно, не все семьи уезжали. Кто-то отрицал очевидное и по глупости верил в армию Польши или в союзников – Великобританию и Францию. У некоторых не было денег или возможности уехать. Отец Каролины решил, что его семья остается в Хшануве. Накопив денег в Варшаве, он намерен был вернуться и снова открыть портняжную мастерскую.
Я плакала. Милош плакал. Я не знала, кого ему будет больше не хватать – Каролины или Мадлен. Но мы с Каролиной разработали тайный план. Как только я обустроюсь в Париже, Каролина сбежит из дома, сядет в поезд и приедет к нам. Я вышлю ей денег. Милош подслушал наши планы и пригрозил, что все расскажет родителям, если Каролина не пообещает, что привезет с собой Мадлен, но, по-моему, подруге даже в голову не приходило бросить свою собаку. Она всюду ходила с Мадлен.
– Но ваша семья так и не уехала в Париж, верно?
– Нет, к сожалению. Покупатели из Варшавского консорциума так и не смогли собрать деньги: из-за Великой депрессии и все возрастающей военной угрозы со стороны Германии банки не давали кредитов. Покупатели просили дать им еще время и молили, чтобы отец не продавал магазин никому другому. Впрочем, еще желающих купить наш магазин не нашлось. Настал июнь 1939 года. Отец не мог уехать, пока не состоится сделка. Поэтому мы ждали. И надеялись.
А первого сентября 1939 года Германия захватила Польшу. Семьдесят тысяч поляков были убиты, а шестьсот девяносто четыре тысячи взяты в плен. В шесть утра бомбардировщики начали бомбить вокзал. Мы по радио слышали, что Германия атакует Польшу с воздуха, и понимали, что наши планы относительно переезда откладываются. Оглядываясь назад, я понимаю, что не было никакого смысла в переезде в Париж – в мае 1940 года Гитлер вторгся во Францию. И четырнадцатого июня Париж пал. Сомневаюсь, что наша судьба в Париже сложилась бы иначе. Как бы там ни было, через три дня, уже четвертого сентября, немецкие грузовики появились на улицах Хшанува и солдаты без боя захватили город.
Нацисты, словно глубокий и холодный снег, заполонили городок. И их численность с каждым днем только увеличивалась. СС и гестапо появились немного позже, но от немецкой армии тоже было скверно. Первым делом начались аресты. Забирали исключительно мужчин. Арестовывали как евреев, так и не евреев.
Как-то ближе к вечеру солдаты пришли в наш магазин и вытащили отца из-за прилавка. Чем более заметной личностью человек был в городе, тем выше вероятность того, что его заберут. А при сопротивлении просто застрелят. Старика по имени Хаим, который был туговат на ухо и не расслышал команду остановиться, убили посреди улицы.
Немцы закрыли евреев в синагоге, а католиков в церкви. Остальных заперли в административном здании. Людей жестоко избивали, но массовых казней не было. Они просто продержали арестованных ночь, а на следующий день объявили новые правила и отпустили всех по домам. Послание было предельно ясным: теперь немцы здесь хозяева и вольны поступать, как им заблагорассудится. Не сметь ослушаться приказа! Следовать правилам! И тогда гарантируется жизнь.
Нацисты установили свой командный пост в здании мэрии, потребовали провести перепись. Я уверена, что вы уже слышали эту историю от Бена. Они записали имена всех жителей городка, всех членов семьи, их адреса. В то время не спрашивали, кто ты: еврей, коммунист или цыган. Все это началось значительно позже. Их целью было довести до сведения всех и каждого: они выше по социальному статусу, а мы ниже, и у них есть право быть жестокими. Они могут и будут действовать без всякого смущения – законного, морального или какого-то другого.
Немцы расклеили по всему городу перечень новых правил. Все магазины должны работать без выходных, даже в субботу. Запрещено без разрешения покидать городок – а разрешений никто не давал. Для жителей города установлен комендантский час. Любого, кого увидят после комендантского часа, расстреляют на месте. Все радиоприемники должны быть немедленно сданы новым властям. Каждого, кого поймают с радиоприемником, расстреляют. У нас был большой стационарный радиоприемник с консолью. Мы вынесли его на улицу, а немцы проходили мимо и разбили его кувалдой. Обломки мы убрали. Четырнадцатого сентября, на Рош Ха-Шана[3], солдаты в форме окружили синагоги и приказали всем замолчать.
Евреям и не евреям раздали продовольственные карточки. Конечно, это не означало, что на них можно купить еду. С того момента, как в городке обосновались немцы, продовольствия стало отчаянно не хватать – они сметали все, что лежало на полках магазинов и булочных. Немцы реквизировали бóльшую часть продуктов на близлежащих фермах. У мясной лавки, у булочной, у бакалеи с самого утра выстраивались очереди. После томительного ожидания у мясной лавки можно было, если повезет, купить граммов двести говядины, а то и уйти с пустыми руками.
Поснимали все вывески на польском и развесили на немецком. Поменяли названия улиц – теперь они носили имена героев Германии или их названия были переделаны на немецкий манер. В 1941 наш городок переименовали с Хшанува на Кренау.
Таковы были написанные правила. Неписаные мы познавали на собственной шкуре. Когда приближается немец – сойди с тротуара, уступи дорогу: лучше не попадаться ему на пути, даже если при этом придется ступить в лужу. Если кто-то шел в кипе, немец обязательно ее стягивал и заставлял несчастного чистить ему сапоги. Не следовало смотреть немцам в глаза – это расценивалось как провокация. Мы, девочки, знали, что ходить можно только группками, а лучше вообще никуда не ходить. Даже в жару девушкам следовало кутаться с ног до головы.
Городок был красно-черным от нацистских флагов. Их развесили на всех городских зданиях. Повсюду чернела свастика. Такими же черными были и немцы. На каждом углу, на каждой улице… Бен, наверное, вам рассказывал об ужасах жизни во время оккупации.
Кэтрин кивнула:
– Да, боюсь, что рассказывал.
– Немцы ввели для евреев налог, который необходимо было платить немецкой администрации городка. По всей видимости, их целью было разорение евреев. И горе той семье, которая не заплатит!
В течение нескольких месяцев Германия аннексировала Хшанув и польские города на западе страны – Хелмек, Тшебиню, Либёнж. Мы еще не входили в состав Германии, но уже и не были частью республики Польша. И конечно же, нас нельзя было назвать гражданами Германии. Мы были евреями. Кренау стал немецким городком. Поляки, которые смогли доказать свое немецкое происхождение или были этническими немцами, фольксдойче, смогли германизироваться, а следовательно, иметь привилегии.
К сожалению, многие фольксдойче оказались как рыба в воде. Они сразу же почувствовали собственное превосходство и с энтузиазмом вскидывали руки вверх: «Sieg heil!»[4] – когда приветствовали немецких солдат. Фольксдойче изо всех сил старались проникнуть в ряды немцев. Они выдавали евреев гестапо и с готовностью докладывали о любом нарушении правил. Я помню пани Чехович, скромную, молчаливую вдову, которая настолько германизировалась, что даже подбежала к немецкому солдату, чтобы донести, что маленький Томаш Реский гулял в парке.
Кэтрин недоуменно нахмурилась.
– Томаш был еврейским мальчиком, а евреям запрещено гулять в парках. Пани Чехович увидела, как он бежал по парку домой, и донесла на него немцам. Томашу было всего двенадцать лет, но нацистов это не остановило, и они избили мальчишку. А пани Чехович стояла и смотрела.
Была запрещена национальная валюта – польский злотый, им было запрещено расплачиваться в магазинах. Новой валютой стала немецкая марка. Нам разрешили обменять злотые на марки – два злотых за одну марку. Впрочем, обмен приводил к обратному результату: тем самым люди показывали, что у них есть деньги, и тогда немцы приходили и отбирали их.
В 1939 году мне исполнилось пятнадцать. Мы с друзьями воспринимали оккупацию как подростки – как она сказалась на нашем существовании. Как я уже упоминала, в первую очередь все случившееся отразилось на образовании: гимназию закрыли. Даже если бы она не закрылась, ничего бы для меня не изменилось – не могло быть и речи о том, чтобы ездить в Краков: без паспорта садиться в поезд запрещалось.
Отец записал меня в государственную школу в Хшануве. Сказать по правде, в тот момент я даже обрадовалась. Я опять была с Каролиной и своими друзьями. Наша группа вновь объединилась. К сожалению, все это продлилось до тридцатого октября 1939 года. Именно в этот день закрыли все старшие школы в Польше. Здание нашей старшей школы забрали немцы – устроили там армейский склад. Все карты, оборудование, книги – вся библиотека, более шести тысяч томов! – были уничтожены.
Средняя школа работала, но после того, как всех евреев в ней переписали, учащимся-евреям запретили посещать занятия. Евреям в Хшануве, чтобы как-то выделять их, надели белые повязки с голубыми звездами, которые они обязаны были носить на левой руке. Как немцы могли узнать, кто еврей? Как я уже упоминала, были поляки, которые, пытаясь угодить немцам, водили их по городу и тыкали пальцем с воплем: «Еврей!»
Немцы издали новые предписания для польского образования. Рейхсфюрер Генрих Гиммлер, который, как вы помните, был дирижером холокоста, ввел новые правила. Поскольку полякам и евреям было уготовано судьбой стать рабочей силой для немцев в Генерал-губернаторстве, не стоило тратить время и деньги на их образование. Гиммлер заявил, что им следует выучить только простую арифметику, счет до пятисот, и научиться писать собственное имя: «Я считаю, что уметь читать не обязательно».
Помню, как однажды зимним утром закрыли среднюю школу для еврейских детей. Я повезла Милоша в школу, но когда мы приехали, то увидели немецких солдат, которые, наставив автоматы на детей, стояли в дверях. У них были списки учеников. Один из солдат обратился к нам:
– Как фамилия?
– Милош Шейнман, – ответила я.
Солдат сверился со списком:
– Забирай его домой. Он еврей. Его исключили из школы. И не привози его больше, или твоих родителей арестуют.
В ответ на закрытие школы еврейская коммуна организовала занятия в синагоге, но это продлилось недолго. Немцы стали всячески ее притеснять, и занятия пришлось прекратить. Поэтому мы с Каролиной стали учиться дома. Мама оказалась строгим учителем. Она заставляла заниматься нас, как в школе, и выполнять домашние задания.
А еще мама ввела ограничение, которое казалось мне очень строгим, потому что отдаляло меня от друзей. Однако мама стояла на своем:
– Для немцев нет большей радости, чем арестовать и обидеть девушку. Не выходи на улицу без крайней необходимости. И никогда – после комендантского часа.
Но мы были подростками. А когда подростки слушались родителей?
Дни становились короче, и у нас было все меньше возможностей общаться: комендантский час начинался уже в половине пятого. Однажды, когда мне только-только исполнилось пятнадцать, я выскользнула из дома через черный ход, встретилась с Каролиной и мы отправились к Фриде. У нее дома, в подвале, мы устроили безумную вечеринку. Музыка из патефона, мальчишки и даже пиво. С моей стороны это было большой ошибкой. Когда я вернулась домой, мама была вне себя.
– Ты где была? С ума сошла? Забыла, что за нарушение комендантского часа расстреливают?
Пара бокалов пива придала мне смелости, я пожала плечами и улыбнулась, выказывая неповиновение. Это разозлило маму. Она с размаху ударила меня по лицу – единственный раз в жизни! – и на месяц посадила под домашний арест. Мне не разрешалось выходить из дому, а Каролине – навещать меня. Я должна была оставаться в своей комнате, спускаясь только к обеду и справить нужду. Разумеется, маме было жаль Каролину, но она целый месяц не позволяла нам видеться.
Весной 1940 года я спустилась вниз и услышала, что отец в гостиной с кем-то разговаривает. Оказалось, на юго-западе от нас строится большой лагерь для заключенных. Один из гостей рассказывал, что требуются рабочие, чтобы перестроить бывший польский армейский лагерь в Освенциме. Вернее, к тому времени название лагеря уже сменили на Аушвиц – немецкий вариант Освенцима.
Когда гости ушли, я принялась расспрашивать отца. Он несколько минут молчал, потом ответил:
– Ты уже достаточно взрослая, скоро сама все узнаешь. Идем со мной.
Он привел меня в кабинет и закрыл дверь.
– Лена, то, что я собираюсь рассказать, должно остаться между нами, ты никому об этом не скажешь, договорились?
Я молча кивнула, но поведение отца меня напугало.
– Ты знаешь людей, с которыми я встречался?
Я покачала головой:
– Только пана Остина, учителя математики.
– Вот и хорошо, – сказал отец. – Забудь о них. Никому не говори, что видела этих людей в нашем доме. Обещаешь?
Я кивнула:
– Обещаю.
С одной стороны, я испугалась, но с другой – гордилась, что папа мне доверился.
– Я слышала разговоры о лагере в Освенциме, – шепотом призналась я.
Отец что-то пробормотал себе под нос и пояснил:
– Лена, если ты еще не обратила на это внимания, то скоро заметишь, что немецкие солдаты хватают мужчин из нашего городка и увозят, как предполагается, на работы. Иногда их посылают на день, но бывает, что на несколько. Известно, что некоторых из них посылают в Освенцим, где немцы строят очень большой лагерь для военнопленных – чтобы в нем можно было разместить тысячи человек.
– И тебя заберут на работы?
– Надеюсь, что нет, но кто знает? Могут забрать. Там работают целый день и возвращаются домой только ночью.
– Но не все?
– Не все.
– А почему вы это обсуждали?
Отец улыбнулся и погладил меня по голове:
– Ты и так знаешь больше, чем положено. Но запомни: это наш секрет, никому ни слова.
– Значит, ваш отец с самого начала знал об Аушвице? – спросила Кэтрин.
– Знаете, тюрьма в Аушвице никогда не была секретным местом. Люди работали в лагере, возвращались в Хшанув и рассказывали о том, что делали. В то время в Аушвице не было газовых камер и крематориев. Он представлял собой лагерь, окруженный колючей проволокой. В июне 1940 года Аушвиц заработал. В нем разместили польских военнопленных – солдат, участников Сопротивления и интеллигенцию, – которых перевели из других лагерей и тюрем, оказавшихся переполненными. Их содержали в камерах. Одиннадцатый блок пользовался дурной славой, гестапо там пытало людей.
Откровенно говоря, с самого начала Аушвиц был местом насилия и массовых казней. В мае следующего года лагерь еще больше достроили, чтобы он вмещал тридцать тысяч заключенных. В 1940 году я не знала, зачем отец встречается с другими мужчинами и почему они обсуждают Аушвиц, хотя у меня и были подозрения: похоже, он был участником неформального Сопротивления.
Позже в этом же году немцы начали конфискацию домов. Обычно они давали знать об этом за пару дней. Семьи заставляли переезжать в другое место. А в отобранные дома вселялись офицеры вермахта, СС, гестапо и польские коллаборационисты. Мы прекрасно понимали, что вскоре и наш дом отберут: он был одним из самых красивых в городке и расположен в центре.
– А куда переселялись прежние хозяева? – поинтересовалась Кэтрин. – Немцы предоставляли им жилье? В еврейском гетто?
– Хм-м… Немцам было на это плевать. В то время ничего не строилось. Гетто существовало, но только де-факто. Евреи-переселенцы из Хшанува начали селиться в северо-восточной части города. Здания были старыми – как жилые, так и нежилые, – многие из них пустовали, а комнаты сдавались за копейки. Или вообще бесплатно. И люди повсеместно начали вселяться без разрешения. Так часть Хшанува постепенно превратилась в гетто. Позже этот район и стал официальным еврейским гетто. Но по необъяснимой причине наш дом не отбирали еще несколько месяцев.
Практически ежедневно я видела, как какая-нибудь семья толкает повозку по улицам городка в сторону гетто. Повозки были доверху заполнены пожитками, обычно связанные в узлы из одеял и простыней. Обувь, постельное белье, кастрюли, сковородки… Рядом с повозками брели с чемоданчиками дети. Они несли с собой все, что могли, зная, что уже не вернутся домой. Иногда хозяева брали кое-что из мебели, но чаще немцы требовали, чтобы бывшие владельцы оставляли всю мебель в доме.
Когда наступил 1941 год, немцы по-настоящему закрутили гайки. Они объявили большинство магазинов Juden Verboten[5]. Наш магазин тоже перешел к владельцу-немцу, правда, отца оставили там управляющим за небольшое жалованье.
По карточкам евреи больше не могли покупать одежду.
Питаться стали скудно, и не потому, что мы не могли ничего себе позволить, – отец накопил немного денег и драгоценностей, – а просто потому, что еду невозможно было достать. Каждый месяц нацисты выпускали для семьи Lebensmittelkarte[6]. Карточки были разделены на колонки. На каждом купоне была проставлена дата и указано, что можно покупать в этот день. Например, в ноябре было всего пятнадцать купонов на хлеб. Можно было простоять в очереди за хлебом целый день – если хлеб в булочной был. И всего четыре купона на мясо. Четыре на мармелад. Только четыре дня в месяц можно было купить сахар – если попадешь в бакалею в первых рядах и если сахар есть в продаже. Но если в магазине сахара не было, приходилось ждать до следующей недели, когда купоны опять станут действительными.
На продовольственных карточках была звезда Давида[7] и надпись Für Juden[8]. Они должны были быть подписаны семьей, передавать их запрещалось. Если карточку теряли – никто ее не возмещал.
Сперва в магазины ходила Магда и стояла в очереди с нашими продовольственными карточками. Но вскоре немцы запретили ей работать у нас, поскольку христианам запрещалось работать на евреев, и Магде пришлось покинуть наш дом. И наши сердца, и сердце самой Магды были разбиты, ведь она была нам второй матерью.
В ноябре, ко всем нашим бедам, произошло еще одно душераздирающее событие. Я сидела дома и читала, когда к нам ворвалась Каролина. Она была в истерике.
– Мадлен! – рыдала она. – Они хотят забрать Мадлен!
Мама кивнула. Она уже знала новость: евреям приказали сдать всех домашних животных и дали на это два дня.
Каролина была безутешна. Она сидела, обняв Мадлен, и постоянно ее целовала.
– Я не отдам им Мадлен! Я сбегу. Они не заберут мою собаку. Она мой ребенок.
Моя мама обняла ее, пытаясь утешить. Она понимала, что в мире, где мать пила, а отец постоянно отсутствовал, любовь собаки – единственное, что у Каролины было.
– Ты можешь сбежать, вот только бежать некуда, – мягко урезонила ее мама. – Давай поговорим с Капитаном. Возможно, он что-то посоветует.
Каролина кивнула и продолжала сидеть, обнимая собаку и рыдая, пока домой не вернулся мой отец. Он придвинул стул и сел, уперев локти в колени. Он знал, насколько важна для Каролины Мадлен. И что значит собака для Милоша. А еще он знал, что есть время, когда стóит отстаивать свои убеждения, а когда приходится уступать.
– Я поговорю с парой фермеров, – пообещал он. – Возможно, они смогут взять Мадлен на время, пока немцы не уйдут. Договорились?
Каролина бросилась моему отцу на шею и от души благодарила его.
Но Мадлен так и не удалось пристроить. Никто не хотел рисковать и нарушать приказ нацистов ради спасения какой-то собаки. Отец с сожалением сказал Каролине, что ничего не получилось и придется отдать Мадлен. И пообещал, что завтра сам пойдет с ней на площадь.
Каролина не смирилась. Глаза ее вспыхнули гневом. Я никогда ее такой не видела.
– Я не отдам им собаку! Это моя собака. Это маленькая, хорошенькая собачка, она ни разу никого не обидела. Почему они хотят ее отобрать? Я этого не позволю! Они ее не получат! Я не буду выполнять их ужасные приказы! Хотят – пусть меня убивают, мы с Мадлен умрем вместе.
Отец покачал головой:
– Я не могу позволить тебе так поступить. Ты нам слишком дорога.
– Но они убьют Мадлен. Просто так.
– Да, боюсь, что именно так и произойдет, – негромко ответил отец. – Нам пришлось отдать много дорогих для нас вещей… Но это всего лишь вещи. Запомни: наши жизни намного важнее. Мы должны сохранить свои жизни и жизни наших родных. Они могут отобрать у нас все, кроме наших жизней. Мы можем отдать радио, шубу, даже любимую собаку, если это поможет спасти нашу семью. А ты, Каролина, часть нашей семьи.
– Я им не позволю! Я увезу ее в деревню, на окраину города, куда только смогу доехать, и там отпущу.
И снова отец покачал головой:
– Она не выживет. Мадлен – домашняя собачка. Она будет просто лежать и ждать, пока ты вернешься и покормишь ее. Видимо, гуманнее отдать ее немцам.
Каролина топнула ногой:
– Откуда вы знаете? А может, она выживет! Кто-нибудь найдет ее и полюбит. Она и сама могла бы найти себе еду, поймать птичку или мышку. Я скорее оставлю Мадлен в поле, чем позволю нацистам убить ее.
К моему удивлению, отец ответил:
– Ты права. Ее могут найти. Но ты не сможешь ее увести, она прибежит за тобой. Я ее отведу.
– Правда? А вы не обманете?
Отец взял мою подругу за руку и сказал:
– Каролина, я никогда тебе не врал. Я сегодня же вечером отведу Мадлен так далеко за город, насколько смогу, и пусть Господь о ней позаботится.
Так и случилось. Когда стемнело, отец надел на Мадлен поводок и Каролина попрощалась со своей любимицей.
– Ты найдешь хорошую семью, – заверила она, садясь на пол и обнимая Мадлен, которая облизывала хозяйке лицо. – Новую семью, которая тебя полюбит и будет хорошо с тобой обращаться. Ты сильная, Мадлен. Ты справишься. А когда немцы уйдут, я найду тебя, где бы ты ни была. Я вернусь и найду тебя, обещаю.
После этих слов отец вышел из дома, и его не было несколько часов.
Каролина рыдала. Мама утешала ее. Мы все плакали. Забрать у ребенка собаку – это проявить невероятную жестокость.
Мы даже не подозревали, какая жестокость нас ждет.
С каждым днем появлялись новые правила, вводились новые ограничения. Тем не менее мы выжили. Мы адаптировались. Мы пережидали. Цеплялись за надежду, что скоро мир раздавит немцев и они уйдут. Но в 1941 году для нас все изменилось.
Во время оккупации отец оставался внешне покорным немецким властям, однако втайне продолжал ходить на собрания группы Сопротивления. Хотя быть инакомыслящим в такое время опасно. Любые неподобающие разговоры карались смертью, а польским информаторам выдавались вознаграждения. Но партизаны были людьми отчаянными. Не думайте, что все евреи были овцами, покорно идущими на заклание! Устраивались тайные собрания, где строились планы, как уничтожить нацистов. Мой отец был уважаемым армейским офицером, и его вклад в общее дело очень ценили.
В Хшануве группа была слишком обширной, и немцы благодаря тайным отрядам собственной разведки и напуганным осведомителям быстро выявили инакомыслящих и спешно арестовали всех, одного за другим. Одних привели на площадь и публично повесили на деревянных столбах. Других увезли в неизвестном направлении. У отца были в городе приятели – как евреи, так и не евреи, – и он знал, что нацисты охотятся за ним.
Это произошло ближе к вечеру. Двенадцатое марта 1941 года – эта дата навсегда отложилась в моей памяти. Отец вернулся домой рано.
– Мне сказали, что сегодня к вечеру к нам нагрянут немцы. Они придут за мной. Вероятно, отведут на допрос, а потом отпустят. В худшем случае они отправят меня в тюрьму.
– За что? – спросила я. Внезапно губы у меня задрожали, на глаза навернулись слезы. – За что им тебя забирать?!
– Слухи, инсинуации, предатель в наших рядах… Не верю, что у них есть какие-то доказательства, но это никогда нацистов не останавливало. Не думаю, что преследования коснутся членов семьи, но нацисты на все способны. Могут всех забрать на допрос. Помни, что ты ничего не знаешь и никогда никого не видела.
– Папа… – заплакала я.
– Или они могут просто прийти и сказать, чтобы мы переезжали. Они так говорят по всему Хшануву. Не знаю. Никто не знает. Именно поэтому все и боятся, что немцы непредсказуемы. Как лающие собаки. – Отец положил руки мне на плечи. – Они могут всего лишь захотеть переселить нашу семью. Но ни в чем нельзя быть уверенным, возможно и худшее.
Он передал мне конверт с деньгами:
– Ты молодая, сильная, здоровая. Не хочу, чтобы ты оказалась с нами. Ступай наверх и спрячься на чердаке. Закрой люк. Не пользуйся лестницей. Не издавай ни звука. Если они придут забирать семью, оставайся наверху. Даже если услышишь крики. Не спускайся, пока не почувствуешь, что опасности больше нет. Может быть, глубокой ночью. А возможно, придется просидеть на чердаке до завтрашнего утра. Они знают, кто живет в нашем доме, и начнут искать тебя… После спускайся и ступай на ферму к Тарновским, что за улицей Славской, на запад от городка, километрах в десяти. Я обо всем договорился. Они приютят тебя и спрячут.
– Значит, ваш отец предполагал, что всю семью могут арестовать и выслать в лагерь? – уточнила Кэтрин.
– Или того хуже. К 1941 году для меня вполне реальной стала перспектива быть высланной в трудовой лагерь – вне зависимости от того, чем занимался мой отец. Нацистам требовались молодые мужчины и женщины, которых отправляли на работы в лагеря. Также многие предприятия использовали евреев как рабочую силу. Поскольку мне исполнилось семнадцать лет, я была достаточно взрослой, чтобы попасть в число избранных.
Спрос на рабочих-евреев обычно удовлетворялся через юденрат[9]. Нам следовало каждый день проверять доску объявлений. Если юденрат вывешивал твое имя на работу, ты должен был с утра явиться в указанное время и место, чаще всего на городскую площадь. Если человек не являлся, нацисты начинали его разыскивать. Если находили – убивали. А потом забирали пятерых членов его семьи. Если их не находили, хватали двадцать человек наугад. И не жди пощады. Мольбы не помогут.
Несколькими неделями ранее нацисты разъезжали по городу и орали в свои мегафоны: «Alle Juden auf dem Marktplatz! Schnell! Mach schnell!»[10] Тысячи мужчин, женщин и детей собрались под дождем на городской площади. Посередине возвели деревянную виселицу. На табуретах в ожидании смерти стояли четверо евреев – кипа на голове, вокруг шеи веревка, руки связаны сзади – и негромко читали молитву «Шма Исраэль». Нацисты не возражали. Люди, которые молились, умрут, и неважно, молишься ты или нет, – все равно умрешь.
Так они стояли в течение двух часов. А потом командир отряда СС вышел в центр и поднял мегафон.
– Эти мужчины предстали перед судом и были приговорены к смерти за намеренное нарушение правил. – Он повернулся и принялся тыкать пальцем в несчастных. – Этот дал деньги польке, чтобы она купила ему фрукты, и вопиющим образом нарушил продовольственные правила. Строго запрещено! А вот этого поймали за тем, что он слушал радио, которое прятал в подвале. Строго запрещено! Вот этого осудили за подготовку мятежа против Рейха. Вот этот отказался выходить на работу. – Потом он повернулся лицом к толпе. – Не стоит относиться к правилам легкомысленно. Они обязательны к исполнению, и вы должны выполнять их беспрекословно. Мы предупреждали, что любые нарушения будут пресекаться. А теперь вы станете свидетелями того, что происходит, когда человек решает нарушить правило.
Он поднял руку и пошел прочь. Один за другим табуреты повыбивали из-под ног осужденных.
– И это происходило у вас на глазах? – спросил Лиам.
Лена кивнула:
– Да, на моих глазах. Я все это слышала. И чувствовала. Еще семерых повесили таким же образом в 1942 году. И хотя сама я этого не видела, сейчас в Хшануве возведен памятник семи мученикам.
– Какой ужас! – воскликнула Кэтрин, зажимая рот рукой.
– Когда отец велел мне спрятаться на чердаке, а потом бежать к Тарновским, я запротестовала и расплакалась. Я не хотела, чтобы семья куда-то без меня ехала. Я не знала этих Тарновских. Я видела их в городе, но только мельком. Пан Тарновский был грубым стариком. Я его опасалась. Они не были евреями, и детей у них не было. Я только знала, что у них был кредит в магазине в течение нескольких месяцев, когда они не могли платить. Я отлично понимала, что таким образом они хотели отблагодарить отца за свои просроченные выплаты. Но я ошибалась. Позже я узнала, что дело было вовсе не в деньгах. Они были Праведниками народов мира и сделали подобное предложение отцу из благих побуждений[11].
– А как же Милош? – спросила я. – Он останется со мной на чердаке?
Отец покачал головой:
– Нет.
– Я смогу о нем позаботиться, – заверила я. – Он может прятаться со мной.
Отец обхватил мое лицо руками и поцеловал в лоб.
– Ангел мой, ты молодец, что заботишься о младшем брате. Но Милош не сможет подняться на чердак, не сможет добраться до Тарновских. Он останется с мамой.
– Я смогу поднять его на чердак, а потом довезти в «мазерати» до Тарновских. Я сильная. Мы справимся, обещаю!
Глаза отца заблестели. Он обнял меня крепко-крепко, и я испугалась, что он выдавит из меня весь воздух.
– Я счастливый человек. У меня такая прекрасная семья! Но Милош не сможет подняться на чердак и спуститься вниз, а ты не сможешь увезти его в коляске за город. Это означает только одно: вас поймают. – Отец улыбнулся мне. – Может, немцы хотят просто поговорить со мной. Возможно, они не станут тревожить маму и Милоша. Но на случай, если они решат нас куда-то увезти, я договорился с Тарновскими. Спрячься, а потом ступай к ним. И храни тебя Господь!
Не успел он договорить, как мы услышали визг тормозов у дома.
– Прячься! – велел отец.
И я вскарабкалась на чердак.
Глава третья
– Подобно ударам молота, градом посыпались удары прикладом автомата в дверь, от которых завибрировал дом. Я, дрожа, спряталась на чердаке. Я слышала повторяющиеся крики: «Offnen sie die Tür!»[12]
Отец ответил:
– Минутку, иду, иду, не ломайте дверь!
Но в дверь продолжали стучать и крики не замолкали. Потом я услышала, как открылась дверь и в доме загрохотали сапоги. Последовал суровый приказ:
– Herr Scheinman, mit uns zu kommen, sind Sie![13]
– Зачем? – удивился отец. – Чего вы от меня хотите?
– Mittkomen![14] – резко ответили по-немецки.
Наступило молчание, потом мама сказала:
– Он офицер. Воевал. Воевал за вас. Ветеранов не арестовывают. Яков, покажи им свои медали.
– Мы знаем, кто он, женщина.
Что ответила мама, я не расслышала. И снова голос отца:
– Хорошо, хорошо, иду. Ханна, жди меня здесь. Я скоро вернусь.
– Nein. Nein. Alle[15], – велел немец.
Отец ответил:
– Что вы хотите от моей семьи? Меня допрашивайте. Им незачем идти.
– Ich sagte: alle![16] – крикнул немец. – У меня приказ. Вас выселяют.
– Но наши вещи… – возразила мама. – Мне нужно все собрать. Нам никакого предписания не вручали. Другие за неделю получали уведомления.
Вновь повисло молчание. И тогда я услышала мамин голос:
– Нет, господин офицер. Пожалуйста, дайте мне несколько минут, чтобы собрать вещи и кое-какие пожитки.
– Возможно, вы вернетесь… может быть, завтра, – медленно ответил немец.
– Давайте говорить откровенно, – вмешался отец. – Вы не позволите нам вернуться. Разрешите собрать вещи.
– Das ist genug![17] – закричал немец. – Wir gehen[18].
Вновь повисло молчание. А потом я услышала мамин крик:
– Остановитесь! Рука! Мне больно!
– Оставьте ее в покое, – вступился отец, и я услышала, как он охнул – должно быть, его ударили под дых или он упал на пол.
И снова взмолилась мама:
– Прекратите! Ему нужно инвалидное кресло. Он не ходит.
– В таком случае, пусть ползет, – приказал немец. – В машине нет места для инвалидного кресла.
– Она же сказала, что он не ходит! – возмутился отец. – Да что с вами?!
Милош расплакался, и я услышала мамин крик:
– Прекратите его тащить! Это же ребенок!
– Я уже сказал: никаких колясок! Он или идет, или умрет.
– Я понесу его, понесу. Оставьте его, – попросил отец. – Не плачь, мой маленький…
– Где остальные? Девчонка?
– Ее здесь нет. Моя дочь в школе в Люблине. Она здесь не живет.
– Ха-ха! Вы, евреи, хоть когда-нибудь говорите правду? Все еврейские средние и старшие школы закрыты.
Он отдал лающий приказ обыскать дом. Я слышала, как солдаты ходят по дому, как открываются двери. Слышала топот сапог на лестнице. И была уверена, что они идут за мной. Меня обязательно найдут, стащат с чердака, и одному Богу известно, как меня накажут за то, что я пряталась. Я сидела, не двигаясь и почти не дыша. Они открыли дверь в кладовку и порылись в ней всего в полуметре подо мной. А потом отправились дальше.
– Es gibt niemand hier[19], – доложили они.
Казалось, что прошла целая вечность, но через несколько минут все ушли: немцы, мама, отец, Милош…
Лена достала из сумочки вышитый носовой платочек и промокнула глаза.
– Мне очень жаль, – сказала Кэтрин.
Лена кивнула:
– Это было очень давно, но все же…
– Они были прямо под вами, обыскивали кладовую и не заметили дверь на чердак? – удивился Лиам.
– У нас был очень маленький чердак – даже чердаком его не назовешь, просто небольшое пространство над вторым этажом, – настолько маленький, что даже нельзя было встать в полный рост. Там и двери не было, только деревянная панель в потолке, меньше метра шириной, в маминой кладовой. Просто кусок клееной фанеры, которую нужно было отодвинуть в сторону, чтобы пролезть наверх. Если не знать, что там лаз, никогда не догадаешься. К тому же вход прикрывали мамины шляпные коробки на верхней полке.
– А как же вы забрались туда без лестницы? – удивился Лиам.
– В кладовке были полки, на которых стояли туфли и сумки. Взбираться было легко – хватаешься за брус и карабкаешься по полкам. Я много раз такое проделывала. Это была своего рода лестница в потайное место, где можно спрятаться.
Наступила ночь, а моя семья так и не вернулась, и я подозревала, что отец оказался прав: они сюда больше не вернутся. Конечно, я не знала, что с ними произошло, и пыталась не вешать нос. Мне кажется, что если бы я позволила себе поверить, что их куда-то выслали или убили, то впала бы в панику. Я изо всех сил цеплялась за надежду, что скоро мы снова будем вместе. Только так я смогла выстоять.
Помню свою первую ночь в одиночестве. Я свернулась калачиком, но не сомкнула глаз и бóльшую часть ночи проплакала. Я была напугана тем, что осталась одна, боялась тех, кто забрал моих родных, меня страшила неизвестность… Я лежала на чердаке, прислушиваясь к тишине. Жутко! В нашем доме никогда не было такой гробовой тишины. Простые звуки повседневной жизни: шаги в коридоре, кипящая на плите кастрюля, льющаяся в душе вода, Милош, играющий гаммы, скрип двери – шумы дома, в котором живут люди. В тот день здесь царила гробовая тишина – только вой ветра за окном и прыжки белки по крыше.
Мне очень хотелось есть и пить, но я боялась спускаться и решила дождаться, пока снова стемнеет. Был март, и солнце раньше шести не садилось. Но потом голод стал нестерпимым, захотелось в туалет. Я тихонько отодвинула панель и спустилась в кладовку.
Дом тонул в темноте – ни одна лампочка не горела. Я спустилась по лестнице, прижимаясь к стене, чтобы меня нельзя было заметить с улицы через окно. Сначала воспользовалась ванной, потом решила заглянуть в кухню. По гостиной метались тени, и я боялась, что кто-то с улицы может меня увидеть, поэтому передвигалась чуть ли не ползком.
Посреди гостиной я наткнулась на «мазерати» Милоша. Коляска была разбита и погнута, как будто один из этих ублюдков раздавил ее. На полу валялась туфля Милоша. Меня словно под дых ударили. Они выволокли его из дому в одной туфле. Бедный малыш! Я села и расплакалась.
– Почему люди так жестоки? – Лена посмотрела на Кэтрин. – Семьдесят лет прошло, а я до сих пор не получила ответа.
– Его не знает никто, – ответила та.
– Мне так хотелось выбежать из дому и разыскать свою семью, но… – Она пожала плечами и покачала головой, потом смахнула слезу. – В конце концов я попала в кухню. Нашла кусок курицы и немного молока в холодильнике и, сидя на полу, поела. Признаться, я набросилась на еду, как волк, потому что до смерти боялась, что в любую минуту может кто-нибудь войти. Потом положила в сумку немного еды, поставила банку молока и потащила все это наверх, как белка, которая готовит припасы.
На чердаке окон не было, только крошечная дырочка, щелочка где-то в сантиметр шириной, и каждую ночь я могла на несколько минут увидеть луну, а прижавшись к щелке, разглядеть звезды. Я разговаривала с ними. Спрашивала, где моя семья. Спрашивала, когда мне пробираться к Тарновским. Они так и не дали мне дельного совета.
На следующую ночь я опять решилась спуститься вниз – и в последующие ночи поступала так же. Но я больше не ползала. Я перестала беспокоиться, не услышит ли кто-нибудь, что спускают воду, хотя и пользовалась туалетом только глубокой ночью.
– Вы не пошли к Тарновским? – удивилась Кэтрин. – Мне казалось, отец велел вам сразу отправляться к ним.
– Верно, но мне страшнее было уйти, чем остаться. Я подумала, что, возможно, безопаснее жить на чердаке, пока не закончится война и не вернутся родители. Чердак стал моим маленьким уголком мира. Я даже украсила его. Принесла простыни, подушку, одеяло. Рядом с подушкой усадила двух кукол, которые были у меня с пяти лет. При свече я читала свои любимые книги. Как ни забавно, сперва одиночество ужасало, но со временем стало ясно, что собственный разум – неплохая компания. Мысленно ведешь сама с собою долгие беседы… И одиночество стало вполне терпимым. Иногда даже приятным.
– Не очень-то разумное решение, – заметила Кэтрин. – Рано или поздно пришлось бы выйти.
– Разумеется. Но мне было семнадцать. И мне очень не хватало Каролины. Я много о ней думала. А если она заглянет в гости, откуда я об этом узнаю? Конечно же, я не могла открыть дверь. Я представляла, что мы как-то встретимся и спрячемся от немцев. Я придумывала различные сценарии. Что мы вдвоем сможем убежать, спрятаться в деревне. Пробраться в горы. – Лена пожала плечами. – У меня было много времени на раздумья.
– К концу недели у меня закончилась еда и молоко. Вода у меня была, без молока я могла бы обойтись, но без еды… Это другое дело. В доме кроме пары банок солений ничего не осталось. Я съела все, что было в холодильнике, в буфете, все хлопья в коробках и все консервы. Стало ясно, что придется идти к Тарновским или отправляться в магазин.
Той ночью я спросила совета у звезд. Бакалея была открыта весь день, но для меня было опасно выходить при свете. Какое время подошло бы лучше? Идти по улице, когда там многолюдно, тогда меня не заметят в толпе? Или лучше, когда людей на улицах поменьше и меньше шансов быть узнанной?
С тех пор как немцы пришли за моей семьей, я все гадала, когда же они придут за остальными. Сколько евреев осталось у нас по соседству? А за Каролиной пришли? Следят ли немцы за моим домом? Патрулируют? Немцы рассмеялись, когда отец сказал, что я в Люблине. А сейчас меня разыскивают? Может, лучше покинуть свое безопасное убежище и помчаться сломя голову к Тарновским?
Всю ночь я мучилась этими вопросами и решила, что из двух зол выбирают меньшее. Я останусь и просто пополню запасы провизии. Отец оставил мне денег, следовательно, хотел, чтобы я ими воспользовалась. Я взвесила все «за» и «против» и решилась на короткую прогулку – это лучше, чем отправляться к незнакомым Тарновским. Мне было уютно в своем уголке. Только я и звезды. Я могла затаиться. Дождаться возвращения своей семьи, дождаться, пока случится что-то хорошее, дождаться… я сама не знала чего. Отложить решение на потом мне казалось более приемлемым, чем испытывать терпение совершенно незнакомых людей.
– Я понимаю, – сказала Кэтрин, взглянула на часы и встала. – Лена, уже поздно. Как вы себя чувствуете? Хотите продолжить сегодня вечером? Или прервемся?
– Я отнимаю слишком много времени, да? А вы хотите узнать продолжение истории двух девочек?
– Не волнуйтесь, все в порядке. Несколько лет назад наш общий друг попрекнул меня тем, что я зациклилась на финале. Мы сидели в «Чоп Хауз», и – я никогда это не забуду! – Бен сказал Лиаму: «Зачем так спешить? Разве человек может что-то понять, если его интересует, как добраться до последнего абзаца?» Я оценила его слова. Человек может располагать всем временем, которое ему необходимо.
– Я немного устала и не хочу отнимать у вас весь вечер. Мы могли бы продолжить завтра?
– Разумеется. Утром у меня слушание в суде, а в одиннадцать мы сможем продолжить.
Глава четвертая
– Ну-с, что скажешь? – поинтересовалась Кэтрин у Лиама, который как раз подъехал к кафе «Сорренто» и протянул ключи парковщику.
– Скажу, что умираю с голоду.
– Я имела в виду Лену, умник!
Лиам улыбнулся:
– Я понял, о чем ты. Я думаю, если она не выложит неопровержимые данные о том, кто они и где жили, этих девочек невозможно будет отыскать. Если они до сих пор живы… Прошло семьдесят лет.
– У нее, должно быть, есть веские причины верить в то, что они живы. Она бы не стала выкладывать свои сбережения, чтобы найти детей подруги, если только у нее нет оснований полагать, что мы их найдем. Должно быть, в этой истории есть что-то еще.
– Например?
– Понятия не имею.
– Тогда пообедаем. – К их столику подошла официантка, и Лиам сделал заказ: – Мы будем баклажаны с пармезаном и фирменный салат. Приправленный уксусом, оливковым маслом и зеленью. И обоим – воду.
– Лиам! – возмутилась Кэтрин. – Я терпеть не могу то, что ты заказал. Я уже взрослая женщина.
– Ладно-ладно, прости.
– Что желаете, мадам? – улыбнулась официантка.
Кэтрин вздохнула:
– Я буду баклажаны под пармезаном и фирменный салат.
– Приправленный уксусом, оливковым маслом и зеленью? – уточнила официантка.
– Прекрасно.
– Воды к салату?
Кэтрин кивнула, и официантка ушла выполнять заказ.
– Зачем это Лене, Лиам? Почему она так хочет найти этих девочек?
– Уверен, что она дойдет и до этого, если ты дашь ей время. Впрочем, ты всегда сможешь сказать, что пора перейти к самому главному.
– Очень смешно. Я не стану ее торопить и буду все подробнейшим образом записывать.
– Отлично. Никогда не знаешь, какая информация, какая деталь окажется важной.
– И это тоже. Но Лена этого заслуживает. Она семьдесят лет хранила свою тайну. Она пережила войну, Лиам. Как и Бен. Я не стану обрывать ее на полуслове. Возможно, после ее рассказа мы так и не найдем этих людей, но исповедь может стать для нее катарсисом – очищением, и я не могу лишить ее такой малости.
Лиам наклонился и поцеловал жену.
– В этом вся Кэт! Именно поэтому я тебя и люблю.
Они чокнулись бокалами с водой, и Лиам добавил:
– Завтра я не смогу к вам присоединиться, у меня встреча.
Кэтрин вздохнула и закрыла глаза:
– А это совсем на Лиама не похоже. Привести в мой кабинет клиента, у которого дело к нам обоим, и скинуть все на старушку Кэт.
– Только завтра, Кэт. Потом я присоединюсь.
Глава пятая
– Я решила отправиться в магазин прямо с утра, когда на улице будет меньше народу, – начала Лена. – Я не хотела, чтобы меня кто-нибудь остановил и спросил, где мои родители, понимаете? «Мы не встречали их последние пару недель, как они поживают?» Или: «Мы слышали, что немцы приходили за твоей семьей. А почему тебя не забрали?»
Еще больше страшило меня то, что еврейские семьи собрали в одном месте и если меня увидят, то об этом обязательно доложат немцам. Тем не менее придется рискнуть, если я собиралась оставаться у себя на чердаке. Прямо с утра я решила отправиться за покупками.
Меня разбудил дождь – словно мелкие камешки стучали по крыше. Из-за мартовской прохлады опустился туман, и я едва могла разглядеть, что происходит на противоположной стороне улицы. Какая удача! Из-за дождя на улицах было меньше людей, а лицо я спрячу под зонтом. Я натянула вязаную шапочку на уши и подняла воротник плаща. Но как поступить с повязкой на рукаве? Если немцы согнали евреев в одно место, то моя повязка – смертный приговор. Если нет, если евреи все еще ходят по улицам, появиться без повязки – уголовное преступление и меня арестуют. Поэтому я решила ее надеть.
Бакалейная Россбаума находилась на углу площади, всего в трех кварталах от нашего дома, но я была хорошо знакома с паном Россбаумом и не хотела, чтобы он начал меня расспрашивать. Не то чтобы я ему не доверяла – Россбаум был милым стариком, но он мог рассказать обо мне остальным. «Сегодня утром я видел дочь Капитана. А разве Капитана не забрали? Как же получилось, что не забрали Лену?» или «Где твоя мама, Лена? Что-то ее не видно. Если твоя семья переехала, почему ты все еще здесь?» Но волноваться мне не стоило – магазин Россбаума оказался закрытым. Окна были темными.
В четырех кварталах дальше по улице располагался большой магазин Оленского. Мама его не любила и жаловалась мне: «Пан Оленский слишком завышает цены. Пан Оленский недружелюбен. Особенно по отношению к евреям. Лучше ходить к Россбауму». Поэтому я никогда не была у Оленского в магазине, и он меня не знал. Туда я и направилась.
Я взяла наши продовольственные карточки. У меня был купон на хлеб, мясо и всякие мелочи. Очередная дилемма. А что скажет пан Оленский? Как отреагирует, когда в его магазин войдет еврейская девочка? Когда я пришла, он как раз стоял за прилавком – высокий раздраженный человек с торчащими пучками седых волос. Подошла моя очередь, и я протянула ему свою карточку. Он оглядел меня с головы до ног.
– Чего надо? – спросил он.
Запинаясь, я стала перечислять: цыпленка, колбасы, свеклы, хлеба, мармелада, бобов, молока и упаковку яиц.
– Ха-ха! – рассмеялся он. – Ты шутишь? Тебе ничего не известно о нормах? Ты видишь масло или молоко на этой карточке? Хочешь, чтобы я в тюрьму попал?
Я нервничала, дрожала и вертела головой: никто ли не подслушивает?
Потом пан Оленский нахмурился и спросил:
– А почему ты не в школе?
Я не хотела говорить, что еврейским детям запрещено посещать государственные школы. Наверное, он не знал.
– Я заболела, – ответила я.
– Заболела, а мама посылает тебя на улицу в такой день? – удивился он, отступая назад.
Я пожала плечами:
– Она тоже заболела.
Пан Оленский покачал головой и искоса взглянул на меня.
– Я так и подумал. Жди здесь. – И он скрылся за прилавком.
Желудок словно узлом стянуло. Несмотря на то что я стояла неподвижно, внутри у меня все дрожало. Я испугалась. Я подождала пару минут, нервничая все сильнее и сильнее. Каждая частичка моего тела кричала, чтобы я уносила ноги из этого магазина, но у пана Оленского осталась моя продовольственная карточка и он знал, кто я. Все в городе знали капитана Шейнмана. Неожиданно стало понятно, почему отец велел мне сразу же идти к Тарновским: за каждым углом подстерегала опасность.
Только я собралась развернуться и выбежать из магазина, вернулся пан Оленский. В левой руке он нес пакет с провиантом, в правой – маленькую кастрюльку.
– Держи, – произнес он, протягивая мне кастрюльку. – Это еще теплая zupa grzybowa, суп с грибами. Пани Оленски сварила сегодня утром. Ступай домой и поешь, пока горячий. – Он подмигнул мне и поманил поближе. – Молоко, сыр и масло для евреев запрещены. – Он улыбнулся и приоткрыл пакет, чтобы я заглянула в него. – Чертовы нацисты! Я завернул все в белую бумагу. Но больше меня не проси. Слишком рискованно. Передавай привет Капитану.
Я расплатилась за покупки, от души поблагодарила его и направилась к двери.
– Принеси назад кастрюлю! – крикнул он мне вслед. – Но только когда поправишься.
Кэтрин улыбнулась:
– Выходит, он оказался не таким уж плохим человеком?
– Нет, очень хорошим. И суп был великолепен! В Польше грибы деликатес. Я пополнила запасы и готова была приняться за дело.
– Какая мысль пронеслась у вас в голове, когда вы увидели, что магазин Россбаума закрыт? – поинтересовалась Кэтрин.
– Я уже понимала, что нацисты либо закрыли еврейские магазины, либо конфисковали их. А еще я знала, что еврейские семьи вытесняли и переселяли, особенно в нашем районе. Исчезали целые семьи, а в их домах появлялись новые люди. Я часто видела, как еврейские семьи везли по улицам свои пожитки – совсем как на старинных картинах, которые нам показывали в школе: евреи, бегущие от погромов… Какой бы безрадостной ни была картина, я рисовала в своем воображении всего лишь повсеместное переселение. Зачем приказывать еврейским семьям собирать вещи и переезжать, если их все равно казнят? Я была уверена, что все еврейские семьи собирают где-то в гетто. Я не подозревала о существовании операции «Рейнхард»[20]. Да разве здравомыслящий человек мог такое представить – что нацисты создали целую индустрию, чтобы совершать массовые убийства миллионов людей? Никто не мог даже предположить столь дьявольского хода! И тем более не могла этого представить семнадцатилетняя девушка из приличной семьи, которую так оберегали родители.
Дни сменяли ночи, я стала ночной птичкой. По ночам я ела в кухне, стирала вещи, принимала ванную – все в полной темноте. Я старалась содержать дом в порядке. Я понимала, что не могу разжечь камин – нацисты увидят дымок из трубы. Холодными весенними днями я в пальто лежала под одеялами. Но, в общем и целом, все шло хорошо.
– Довольно рискованно, – заметила Кэтрин. – Вам не было страшно?
– О да. Больше всего страшит неизвестность. У нас больше не было радио, поэтому я понятия не имела, что происходит в Хшануве и в остальном мире. Но мне не хотелось встречаться с немцами, которые ворвались в наш дом. Особенно я тревожилась за свою семью. Что с ними сделали немцы? Где они?
А еще я волновалась за Каролину. Я не видела ее и не получала от нее весточек с тех пор, как немцы пришли за моими родными. Прежде наш дом был для нее крепостью. Отец Каролины куда-то исчез, мать, можно сказать, тоже, Мадлен убежала, а теперь исчезла и ее приемная семья. Психика Каролины была очень хрупкой. Что с ней стало? Я решила пойти посмотреть.
– Вы собирались разыскать Каролину? – уточнила Кэтрин.
Лена кивнула:
– Она жила всего в паре кварталов от парка, за железнодорожным полотном, через поле. Я могла бы пробраться туда в темноте. Часа в три утра я надела пальто и вышла через черный ход. На улице ни души, ни одной повозки или машины – к тому времени все автомобили в Хшануве принадлежали немцам. Рельсы шли через город по насыпи высотой примерно в четыре с половиной метра. Я перебралась через пути, спустилась и направилась через поле к Каролине.
В ее одноэтажном домике света не было. Я принялась вглядываться в окно кухни, потом вернулась к спальне Каролины. Окно было приоткрыто, и я медленно приподняла раму. В постели моей подруги лежал мужчина! Он спал, но почувствовал ветерок и повернулся на бок. Я присела и услышала, как он захрапел. Я снова осторожно заглянула в окно и разглядела крупного лысого человека. Было очевидно, что Нойманы больше не живут на улице Дрогарш. Я прокралась вдоль стены дома и бросилась бежать через поле.
Наверное, всех евреев согнали в одно какое-то место в городе. Я понимала, что однажды и мне придется покинуть свой дом, это всего лишь вопрос времени. И тем не менее я медлила. Я чувствовала себя на чердаке в безопасности. Пока. И это уже хорошо.
Я еще раз сходила к пану Оленскому, вернула кастрюлю. Он поинтересовался нашим самочувствием. Потом дал мне немного еды, даже шоколадный батончик, и прошептал, чтобы я больше не приходила. Теперь его магазин для евреев «Verboten» – «Вход воспрещен».
– И когда вы об этом узнали, откуда планировали брать еду? – спросила Кэтрин.
– У меня еще были продукты, поэтому я отложила решение этого вопроса. Вернулась к своей размеренной жизни. Но все изменилось спустя две недели, в начале апреля. Меня разбудили разговоры в доме. Был день – я это понимала благодаря щели в крыше. Я услышала голоса женщины и двух мужчин. Было очевидно, что они расхаживают по дому и комментируют увиденное. Я не все разобрала, но услышанного было достаточно, чтобы понять: женщина намерена переделать гостиную, как только вселится в дом.
Голоса зазвучали громче, и я поняла: троица поднимается по лестнице. Я слышала, как женщина сказала:
– Из этих шкафов нужно все убрать. Я-то уж точно не буду носить еврейскую одежду.
Мужчина засмеялся и посоветовал ей не волноваться: они от всего этого избавятся, как и от самих евреев.
– И я хочу, чтобы заменили все сидушки в туалете, – добавила женщина.
Они посмеялись и ушли.
Я принялась обдумывать план побега в ту же ночь.
Глава шестая
– Семьи, которые переселялись в гетто, брали с собой столько вещей, сколько удавалось погрузить в повозку. Но я собиралась тайком выбраться из города после комендантского часа и добраться до фермы Тарновских, поэтому взяла только то, что уместилось в вещмешке: пару комплектов одежды, шесть-семь семейных фотографий и туфлю Милоша.
– Туфлю Милоша? – удивилась Кэтрин.
Лена кивнула:
– Эта туфля была очень важна для меня. Она принадлежала Милошу, была его частью и подходила его маленькой ножке. Когда я прижимала туфлю к себе, то как будто обнимала Милоша. Я боялась за брата, мне его ужасно не хватало! Как он там в одной туфле? Я пообещала себе, что сохраню ее и верну Милошу, когда разыщу свою семью. Я молилась, чтобы мы поскорее снова были вместе.
Перед уходом я в последний раз обошла дом. Здесь прошла моя жизнь. Я попрощалась со спальней родителей, с комнатой Милоша, с гостиной, где каждый предмет мебели был частью истории. Я видела прошлое: праздник, гости собрались за обеденным столом, сервированным тончайшим маминым фарфором, мужчины обсуждают мировые проблемы… Как давно это было!
Я распахнула дверь своей спальни и обошла ее, прикасаясь к рисункам, книгам, куклам, письменному столу, запискам от друзей, которые я сохранила. В последний раз легла на свою кровать, натянула одеяло на голову и разревелась как ребенок. Наконец я попрощалась со всеми своими вещами и закрыла дверь в прошлое.
Когда я подошла к входной двери, то попрощалась с воспоминаниями, населяющими этот чудесный дом, а они попрощались со мной. После полуночи я натянула вязаную шапку, запахнула поплотнее тяжелое пальто, закинула на плечо небольшой вещмешок, засунула нарукавную повязку в карман и вышла из дому.
Тарновские жили в деревне на молочной ферме. Я не знала, как далеко мне идти, но помнила адрес, который дал отец, и его наставления следовать по улице Славской. Только я ступила на тротуар, как мимо проехал черный «мерседес», в котором сидели люди в форме. Я спряталась за воротами, дожидаясь, пока они проедут. В следующем квартале я увидела, что машина остановилась и двое немцев проверяли документы у стоящих перед рестораном людей. Слава богу, меня они не заметили.
Я держалась в тени, пока не дошла до площади. Яркие огни ресторанов, баров и газовые уличные фонари освещали это популярное место как днем. По улицам прогуливались люди, хотя было уже далеко за полночь, но, как вы понимаете, после комендантского часа прогуливаться могли только немцы и их спутницы. Изредка ко мне обращался кто-нибудь из прохожих, но я старалась не смотреть никому в глаза и шла себе дальше.
Я была довольно высокой для своих семнадцати лет и уже приобрела округлые женские формы. Даже в зимнем пальто было заметно, что у меня хорошая фигура. Не сочтите это хвастовством, но я была очень привлекательной девушкой. Поскольку стояла глубокая ночь, многие мужчины как раз вышли из пивных, большинство на подпитии. Снова и снова они пытались заговорить со мной. В конце концов, что молодая женщина могла делать в такое время на улице, если не ждать непристойных предложений от мужчин? Или она как раз возвращалась после романтической встречи? Это была одна из причин, которыми объяснялось нарушение комендантского часа. Нарукавная повязка лежала у меня в кармане, я опустила голову и быстро шла вперед.
Я уже достигла конца площади, как молодой немецкий солдат вышел из бара, едва не сбив меня с ног. Верхние пуговицы его серой форменной рубашки были расстегнуты.
– Привет, милашка, куда торопишься? – окликнул он и, споткнувшись, шагнул ко мне.
Я покачала головой и поспешила дальше, но солдат не отставал.
– Подожди! Куда ты так спешишь? – заплетающимся языком бормотал он и глупо улыбался. – Эй, да что со мной не так? Я не так красив, как тот, с кем ты только что была? Посмотри на меня. Я крепкий, красивый немецкий парень из деревни, и сегодня мне очень одиноко. Может, выпьешь со мной?
Я пыталась не обращать на него внимания, но он был настойчив.
– Эй, не убегай от меня! Я, черт возьми, немецкий солдат! Сейчас комендантский час, а ты гуляешь по улицам. Ты же знаешь, что я могу тебя арестовать. – Он схватил меня за руку и развернул к себе. У него были пьяные, какие-то дикие глаза. – Да брось ты! Поцелуй меня, и я тебя отпущу.
– Нет, – решительно сказала я и попыталась высвободить руку. – Оставьте меня в покое!
Но солдат оказался сильнее, распахнул на мне пальто и сунул руку под свитер. Я сопротивлялась, но это лишь подлило масла в огонь. Происходящее, похоже, забавляло его. Солдат начал целовать меня. От него воняло алкоголем. Внутри все перевернулось, к горлу подступила тошнота… Я отвернулась – и меня вырвало прямо на тротуар.
– Фу! – с отвращением воскликнул он. – Ты просто омерзительна.
Он передернул плечами и поспешно зашагал в другую сторону.
– Вы можете вызывать рвоту по желанию? – уточнила Кэтрин.
– Он не заметил, как я сунула палец в рот. Просто предположила, что это может сработать, – улыбнулась Лена. – Так и случилось.
На протяжении еще пары километров меня трясло как осиновый лист. К счастью, больше я никого не встретила.
Я пришла в деревню, когда только-только начинался рассвет. Пасторальные пейзажи разительно отличались от апокалипсиса, воцарившегося в Хшануве! Поля прорастающей пшеницы, цветущие фруктовые сады, пасущийся скот… Словно стол, уставленный богатствами польской плодородной земли. А всего в нескольких километрах отсюда город опухал с голоду.
Дальше виднелась ферма Тарновских. Я зашагала по тропинке. На дворе клевали зерно цыплята. Это означало, что у них есть яйца, а я была такой голодной! Я постучала, и пани Тарновская чуть приоткрыла дверь.
– Слушаю, – сказала она, с опаской глядя на меня.
– Я Лена, дочь капитана Шейнмана.
– Ох, девочка, входи скорее! – Она огляделась, не видит ли кто.
– За мной никто не шел.
Пани Тарновская окинула меня взглядом. Я не сомневалась, что выгляжу как человек, который за ночь преодолел тридцать километров. Потом она взяла меня за локоть и провела в кухню, где накормила яйцами и бисквитным печеньем. Я никогда ничего вкуснее не ела! Я не видела горячего завтрака с того дня, как забрали мою семью. Я рассказала пани Тарновской, что мне довелось пережить, и спросила, не знает ли она что-нибудь о моей семье.
– Нет, – ответила она. – Я уже месяца два не была в городе. Это слишком опасно. Вилли ездит туда дважды в неделю, отвозит молоко и масло. Он говорит, что еврейские семьи постепенно выселяют. Наверное, с твоими родителями произошло то же самое.
– Мне кажется, я должна пойти к ним.
Пани Тарновская пожала плечами:
– Если хочешь, иди. Но ты только что выбралась из города и, должно быть, устала. Может, примешь теплую ванну, а я пока приготовлю постель? Я обещала твоему отцу присмотреть за тобой, пока война не закончится, а я не из тех, кто нарушает свои обещания. Одному Богу известно, насколько опасно прятать еврейку, поэтому, если ты решительно настроена уйти, я не стану тебя останавливать.
Я лежала в теплой воде и размышляла о том, что известно Господу, а чего Он не знает. Я вспомнила свои религиозные занятия. Принципы нашей веры. Наш Бог всезнающий и всемогущий. Он знает все, что было, и все, что будет. Но если это правда, то почему нацисты вообще населяют землю? Они же подобны скорпионам, гадюкам, клопам, вызывающим чуму! Для меня все эти создания были одинаковыми. У них одна цель – сеять зло и причинять вред. Почему добрый и справедливый Бог позволяет им ходить по земле? И если Бог правит кораблем, неужели Он заснул у руля? Лежа в ванне, я отказывалась от веры. Так требовала логика.
Я попыталась отбросить плохие мысли, думать о более счастливых временах, о мирной жизни до вторжения немцев. О жизни в Хшануве, о жизни моей семьи, о жизни моих друзей. Казалось, вода снимает напряжение с моего тела. Я взглянула на себя. Я похудела и утратила недавно обретенные округлости.
Я беспокоилась о своей семье. Где они? Устроились в другой части Хшанува? Или их куда-то выслали? Кто тот мужчина в кровати Каролины? И где сейчас моя подружка? Я представила, что мы снова все вместе. Вот я сижу за субботним ужином. Слышен смех Милоша. Мама приготовила вкуснейший суп. В доме тепло и светло. Я чувствую радость и любовь…
И тут пани Тарновская тронула меня за плечо.
– Лена! Лена! Ты заснула?
Она протянула мне полотенце и чистую сорочку. Я помогла ей застелить кровать в небольшой кладовке в самом углу коридора, на втором этаже, и спросила:
– А пан Тарновский возит продукты в ту часть города, где живут евреи? Когда он вернется домой, можно у него спросить, не видел ли он мою семью?
Мой вопрос задел ее за живое. Она покачала головой и подчеркнула абсурдность подобного вопроса восклицанием:
– Ха! Возить продукты евреям? Разумеется, нет! Он же не хочет, чтобы его расстреляли! Неужели ты думаешь, что евреям доставляют масло и молоко? Это запрещено! Противозаконно. В наше время евреям повезет, если удастся заполучить краюшку хлеба. А мне, жене фермера? Мне тоже не достается молока и масла. Все отбирают нацисты. Ты же из города пришла, неужели не видишь, что происходит?
Я кивнула.
– Вилли доставляет продукты нескольким оставшимся клиентам. Нацисты отбирают девяносто процентов того, что мы производим. Немцы приезжают в своих крытых брезентом грузовиках и обыскивают ферму, словно лисы курятник. Они ничего не покупают, просто отбирают, а потом еще велят Вилли развезти все продукты им по домам. Дома у меня едва ли найдется кусочек масла. Деточка, немцы отобрали большинство предприятий в Хшануве – лесопилку, угольную шахту, электростанцию, булочную и, разумеется, цех. Если твоя мама еще в городе, скорее всего, она именно там. Работает в Цеху.
– В каком цеху? – спросила я.
– В том самом Цеху. На старой швейной фабрике на Речной улице. Сейчас фабрика стала в три раза больше, а рабочих там в десять раз больше, все шьют форму и шинели для немцев. Все еврейки, которые еще остались в городе, трудятся на этой фабрике за гроши. И поляки тоже там, потому что всем нужна работа. Деньги платят в зависимости от выработки. С тех пор как немцы оккупировали город, у нас появилось много рабочих мест. Немцы хвастались, что они обеспечили полную занятость. Смешно! Вилли говорит, что и мне придется выйти на работу, если он потеряет оставшихся клиентов. Но я не стану гнуть спину на немцев. – Она обвела взглядом кладовую, где постелила мне постель. – Раньше я хранила здесь белье. Кладовка небольшая, но тебе подойдет.
Пани Тарновская слабо улыбнулась. Я понимала, что мое присутствие ее стесняет, но она изо всех сил старается сдерживаться. Что ни говори, но эта грубоватая деревенская женщина приютила меня.
– Иногда они наведываются сюда, нацисты, просто чтобы проверить нас. Хотят убедиться, что мы не прячем масло, и это несмотря на то, что мы отдаем все, что у нас есть. – Она поджала губы и вызывающе подбоченилась. – Иногда они и цыплятами не брезгуют. Если немцы придут и увидят тебя, скажешь им, что ты – Лена Тарновская. Они разницы не заметят.
Я сказала, что благодарна ей, но было предельно ясно, что я не только обуза, но и бомба с часовым механизмом для этой семьи. Я решила, как только представится возможность, двигаться дальше – не стоило настаивать на том, чтобы она выполнила свое обещание.
Проснулась я от оживленного разговора между паном и пани Тарновскими, больше похожим на ссору. Несколько раз прозвучало мое имя. Когда я вошла в кухню, они вздрогнули.
– Какие они были, Лена, – спросила Кэтрин, – эти Тарновские?
– Пани Тарновская была крепкой женщиной. Здоровая деревенская баба. Вся жизнь под солнцем и ветром – кожа загрубела и потрескалась. Темные с сединой волосы всегда аккуратно причесаны и частенько украшены цветным бантиком. Она носила домашние мешковатые платья. Пан Тарновский походил на медведя. Широкоплечий, с крупными руками, очень высокий. Ни бороды, ни усов, всегда тщательно выбрит. Они были прекрасной парой. Хорошие люди.
Когда я вошла в кухню, они тут же замолчали и предложили мне стакан молока. Такое поведение было немного странным, ведь все мы понимали, что я – главная тема сегодняшних разговоров. Я выпила молоко – свежее, прямо из-под коровы. Ничего нет вкуснее парного молока.
Лена улыбнулась, глаза ее просияли.
– Я до сих пор люблю молоко. Пью каждый день. Но парное молоко – это совершенно другое. Вы когда-нибудь пробовали свежее молоко на ферме?
Кэтрин покачала головой:
– Как будто пьешь мороженое, только вкуснее. Когда-нибудь попробуйте. Для беременных женщин это очень полезно. – Она кивнула в подтверждение своих слов.
Кэтрин покраснела:
– Как вы догадались, что я беременна?
Лена улыбнулась и пожала плечами:
– Для этого не нужно ничего говорить.
Кэтрин взглянула на свой живот.
Лена засмеялась:
– Не там. Это написано у вас на лице. И на лице вашего мужа.
Кэтрин удивленно вскинула брови:
– Откуда…
– Бабушка всегда говорила, что в нас течет цыганская кровь. – Лена вновь засмеялась.
– Я буду очень признательна, если вы не…
Лена подняла вверх указательный палец:
– Даю слово.
И она продолжила свой рассказ.
– Не считайте меня неблагодарной, – сказала я Тарновским, сидя за столом, – но, наверное, для всех будет лучше, если я вернусь в город. Думаю, мне нужно найти семью. Я уверена, что они там, где и остальные евреи.
Пан Тарновский покачал головой:
– Не делай ошибки, оставайся у нас, здесь тебе ничего не грозит. А в Хшануве евреям небезопасно. Я знаю, что многих заставили переехать в небольшой район, но немцы еще не закрыли этот вопрос. Для них евреи – враги, а мы на войне. Нацисты не позволят им жить самостоятельно, не вмешиваясь в их уклад и не притесняя. У евреев нет защитников в Европе. Они будут жить столько, сколько в них будут нуждаться немцы. А потом умрут. Когда евреи исчезнут, они примутся за католиков-поляков. Немцы говорят о Lebensraum[21]. Они намерены развиваться, очистить Польшу для немцев. Мы же не дети. Я тоже кое-что планирую.
– Тихо, довольно! – оборвала его пани Тарновская. – Не стоит говорить о своих планах. – Она повернулась ко мне. – Ты можешь отправиться с нами, когда придет время. А пока никому ни слова.
Я осталась у Тарновских до конца месяца, помогая им по хозяйству, как могла. Я никогда не жила на ферме, и мое невежество даже в простейших вещах являлось предметом постоянных шуток. Каждый вечер мы ужинали в шесть, а в восемь уже ложились спать. Я знала, что у них есть сын, но дома он не появлялся, и за столом никто о нем не упоминал, и вообще ни слова о сыне сказано не было. И я никогда не поднимала эту тему.
Две недели спустя беспокойство взяло верх, и я сказала Тарновским, что возвращаюсь в Хшанув. Они отговаривали меня, но желание найти свою семью пересиливало здравый смысл. На следующее утро, когда пан Тарновский повез в город молоко, я отправилась с ним. Роковое решение!
На глаза Лены навернулись слезы. Она замолчала и сделала глоток воды. Казалось, она хотела что-то сказать, но передумала и покачала головой.
– Я пока остановлюсь. Мы не могли бы прерваться? Может, встретимся через пару дней?
– Как хотите, – ответила Кэтрин. – Позвоните мне, когда решите продолжить.
Глава седьмая
– На этом вы и закончили? – уточнил Лиам.
Кэтрин кивнула:
– Я сказала, что Лена может продолжить, когда пожелает, не торопиться и рассказывать свою историю столько, сколько заблагорассудится. Воспоминания очень тяжело ей даются.
– Она что-нибудь говорила о девочках или Каролине?
– Пока нет. На этом этапе истории Лена еще не знает, что случилось с Каролиной. А о близнецах она вообще не упоминала.
– Сегодня утром мне звонил некий Артур Вудвард. Сын Лены, как он представился. И он настойчиво рекомендует нам держаться подальше от его матери.
– У нее есть сын?
Лиам кивнул:
– Он показался мне обеспокоенным и раздраженным. Спрашивал, говорила ли его мать о женщине по имени Каролина. Я ответил, что ничего не могу ему сказать: разговоры между адвокатом и клиентом строго конфиденциальны, а я работаю на адвоката.
– Отлично, – кивнула Кэтрин. – Нельзя раскрывать информацию никому, даже сыну Лены. Без ее разрешения.
– Согласен. А потом Артур спросил: «Она что, повторяет эти безумные истории о потерянных детях? Моя мать хочет, чтобы вы разыскали пропавших близнецов Каролины? Хоть это вы можете мне сказать?»
– Я ответил, что, к сожалению, ничего не могу ему сообщить, и посоветовал обратиться к матери – интересно, что она скажет. И тогда он по-настоящему разозлился. «Послушайте, – отрезал он, – это бредовая идея! Нет никаких младенцев, нет никакой Каролины. И никогда не было. Не знаю, какую игру вы затеяли, но я не позволю, чтобы какой-то адвокатишка обвел ее вокруг пальца и заманил дурацкими обещаниями. Никаких пропавших детей вы искать не будете. Поэтому оставьте ее в покое! И берегитесь, если я узнаю, что вы взяли у нее деньги. Понятно? Я ясно выразился?» И он швырнул трубку.
– Ничего себе, какой приятный парень! – заметила Кэтрин. – Хоть мы и знакомы всего пару дней, у меня нет ощущения, что Лена – слабоумная старуха. Наоборот, ее рассказ хронологически выстроен и изобилует подробностями. Она четко излагает свои мысли. И, Лиам… она знает, что я беременна!
– Наверное, она еще и очень наблюдательна.
– Но по мне ничего не видно, разве нет?
Лиам кивнул:
– Не видно. Поверь, я внимательно наблюдаю за всеми твоими выпуклостями, Кэтрин.
– Ты ей что-нибудь говорил?
– Я никому ничего не говорил.
– Лена сказала, что в ее жилах течет цыганская кровь. Может, она обладает мистической силой. – Кэтрин засмеялась. – Знаешь, Лена начинает мне нравиться. Она напоминает мою бабушку. И я не верю, что она слабоумная. У меня есть знакомые адвокаты, которые и вполовину не могут говорить так складно, как она.
– Согласен, она не выглядит безумной. Возникает ощущение, что этого Артура больше беспокоят деньги, чем душевное состояние матери. Может, он ждет не дождется значительного наследства?
– Не знаю. Она живет на Пиарсон-стрит, в одном из старинных особняков. У нее изысканный гардероб, красивые вещи. Надеюсь, ты это заметил.
Лиам пожал плечами:
– Возможно. Она всегда выглядит достойно и вовсе не похожа на убогую старушку.
– Лиам, не стоит так говорить. И я готова держать пари, что она тратит немало на Мичиган-авеню.
Он кивнул:
– Она очень привлекательная женщина.
– Ты можешь раздобыть информацию о ней? И об Артуре Вудварде?
– Кэт, ты меня обижаешь! Ты же разговариваешь с величайшим детективом. Не говоря уже о том, что ты с этим величайшим…
– Прекрати! Я серьезно. Посмотрим, что ты сможешь узнать о Лене и ее семье.
– Договорились.
– Мне кажется, не стоит рассказывать Лене о звонке Артура. Пока. Будем просто продолжать беседу.
Глава восьмая
– В ночь перед отъездом я почти не спала, меня раздирали сомнения. У Тарновских я чувствовала себя уютно и в безопасности, они были добры ко мне. Зачем же уезжать? С другой стороны, мне отчаянно не хватало родных, хотелось быть с ними рядом. Если они в беде, я хотела разделить ее с ними. Я должна была выяснить, что произошло.
Лена глотнула горячего чаю и поставила чашку на письменный стол Кэтрин. Лиам покачивался на стуле. Кэтрин что-то записывала в желтый блокнот. Она не стала говорить о звонке Артура.
– Я понимала, что возвращаться в Хшанув рискованно, что евреев повсеместно арестовывают. Ходили слухи, что их увозят в трудовые лагеря. Я предпочитала верить, что мою семью увезли просто потому, что наш дом экспроприировали, ведь отец уверял, что против него ничего нет. Я была убеждена, что мои родители и Милош поселились в каком-то другом районе Хшанува.
Пан Тарновский, который всегда вставал до восхода солнца, был удивлен, когда оказалось, что я уже сижу в кухне за столом. Потом он увидел мой вещмешок и понимающе кивнул. Я ждала, пока он подоил корову, выполнил всю неотложную работу по хозяйству и приготовился ехать в город со свежими молочными продуктами. После обильного завтрака я попрощалась с пани Тарновской, которая крепко обняла меня и попросила быть осторожнее. Для нас обоих это знакомство, пусть и короткое, не прошло даром. Когда я пришла, она приняла меня как нежелательное обязательство. А теперь, всего через несколько недель, между нами установилась духовная связь.
На глаза пани Тарновской навернулись слезы, когда я уселась в повозку. Она взяла меня за руку и с тревогой сказала:
– Никому не доверяй! Если не найдешь родных или что-то не получится, знай – ты всегда можешь сюда вернуться. И за деньгами приглядывай.
Я кивнула и похлопала по рукаву жакета. Днем ранее пани Тарновская убедила меня зашить деньги под подкладку.
– И никому их не показывай. Только неприятностей наживешь.
Когда мы приехали в Хшанув, городок еще спал. Добравшись до центра, мы свернули на северо-восток и поехали вниз по улице, состоявшей из складов и многоквартирных домов, где, как я верила, мои родители присоединились к другим переселенным еврейским семьям.
– Я мог бы подвезти тебя поближе, но лучше не буду отклоняться от обычного пути, – сказал пан Тарновский.
Не успел он договорить, как раздался звук клаксона, который заставил нас остановиться. Пан Тарновский взглянул на меня и поднес палец к губам.
Из черной машины вышел и неспешно направился к нашей повозке высокий красавец в офицерской форме. На голове – фуражка с черным блестящим козырьком, золотистым шнурком и серебристым взлетающим орлом, немецким национальным символом, на зеленой ленте. Под расстегнутой длинной шинелью – мундир с серебристыми пуговицами, высоким черным воротничком и красным поясом. Вся грудь в медалях и значках. Виски уже начали серебриться, хотя на вид ему было около сорока. Офицер совершенно не был похож на тех наглых молодых солдат, которые задираются в городке.
– А-а, герр фермер… Как приятно встретить вас утром. – Он похлопал лошадь по холке. – Но что вы делаете в этой части городка? Сюда ваши продукты не поступают.
– Что он хотел этим сказать? – уточнила Кэтрин.
– Молоко, яйца, сыр были строго по продовольственным пайкам, купить их можно было только в определенных магазинах. Как я уже говорила, евреям запрещено было их продавать. Хотя тогда я об этом не знала, район, куда мы приехали, был выделен немцами под еврейское гетто.
– Значит, нацисты не позволили вам въехать в гетто?
Лена кивнула:
– Один-единственный нацист, офицер. Он общался с паном Тарновским вежливо – в отличие от остальных немцев, которых мне довелось встретить. Тем не менее он был немцем – страшным человеком, с которым не стоило шутить.
– Что вы привезли сегодня, герр фермер? У вас есть тот удивительно вкусный сыр?
Пан Тарновский кивнул:
– Jа[22], герр оберст.
– М-м-м… Как я люблю этот сыр! Он напоминает мне о детстве в Баварии. Вы сегодня заедете ко мне? Привезете, как обычно, продукты?
Пан Тарновский кивнул и достал откуда-то из-за спины кусок белого сыра.
– М-м-м… Какой мягкий! – сказал офицер, пробуя его. – Увидимся позже, ja?
– Ja.
Он повернулся и уже отошел, но потом вернулся.
– Где мои манеры! – Он лицемерно улыбнулся. – Я же не поприветствовал юную барышню. Это ваша дочь?
– Ja.
Нацист улыбнулся еще шире:
– Ай-ай, герр фермер, считаете, меня можно обмануть? Нам отлично известно, что у вас нет дочери. У вас есть сын, не так ли? И в настоящее время ваш сын служит Рейху, строит дороги на Восточном фронте. Разве нет?
– Ja.
У пана Тарновского затряслась нижняя губа.
– Увы, герр фермер, дочерей у вас нет. Как вы думаете, откуда я узнал?
Пан Тарновский пожал плечами и покачал головой.
– Потому что ее нет в списках, составленных во время переписи, – нараспев произнес офицер. – Неужели вы полагаете, что мы не знаем, кто живет в этом маленьком уютном городке? – Он взглянул на меня и улыбнулся. – Знаете, что я думаю? Мне кажется, вы развлекаетесь в отсутствие жены, герр фермер. Нет?
– Нет-нет, герр оберст.
Офицер кивнул и протянул руку.
– Dokumente, bitte[23].
Я не хотела показывать ему свои документы. Стояла не двигаясь, словно застыла на месте.
– Он просит у тебя документы, – по-польски сказал пан Тарновский.
Я покачала головой и развела руками:
– Документов нет.
– Так-так-так! – усмехнулся офицер. – И где же вы нашли эту девушку, герр фермер?
– Я путешествовала, – вмешалась я в разговор по-немецки. – Он подобрал меня на улице Славской. Он не знает, что у меня нет документов.
– Путешествовала? Это правда, герр фермер?
Пан Тарновский опустил голову и кивнул:
– Ja.
– Откуда же и куда ты направляешься, юная путешественница?
– Из Люблина, – дрожащим голосом ответила я. Так, я слышала, говорил нацистам отец. – Я ходила там в школу.
– Я тебе не верю. Школы уже больше года как закрыты. – Офицер посмотрел на пана Тарновского и погрозил ему пальцем. – Знаете, герр фермер, я мог бы застрелить вас на месте за то, что подбираете попутчиков, которые могут оказаться евреями, понимаете?
Пан Тарновский молчал.
Офицер повысил голос:
– Я спросил, вы понимаете?
– Ja, герр оберст, – негромко произнес он. – Согласен.
– Но тогда кто же будет доставлять мне каждую неделю сыр и масло, не так ли?
Офицер засмеялся, и я уже подумала, что он собирается нас отпустить. Но немец поманил меня пальцем.
– Подойди ко мне, маленькая путешественница.
Я схватила свой вещмешок, спрыгнула с повозки и подошла к машине.
Офицер сказал пану Тарновскому:
– Вам очень повезло, что я такой мягкосердечный. В знак благодарности вы на этой неделе привезете мне еще порцию сыра, ja?
– Ja, герр оберст.
– А сейчас развози´те продукты, и больше никаких попутчиц! Я провожу юную фрейлейн на вокзал.
Немец ткнул в мой вещмешок.
– А здесь у нас что? – Он перебрал мою одежду и фотографии. – Вы кто, юная фрейлейн? – Говорил он вежливо, но жестко. – Как тебя зовут? Где ты живешь?
И я сказала ему правду:
– Я Лена Шейнман и горда тем, что являюсь дочерью капитана Якова Шейнмана. Я разыскиваю свою семью. Два месяца назад моих родных забрали солдаты, вытолкали из нашего дома.
– А ты, значит, смелая?
Кэтрин прервала повествование Лены:
– Довольно дерзко. Как вы в семнадцать лет нашли в себе столько мужества? Как вообще держались? Я бы растерялась в такой ситуации.
– Я решила, что для меня, так или иначе, все закончено. Меня куда-то отправят, а куда – уже не имело значения. – Лена налила себе еще чаю. – Если честно, сама не знаю, что на меня нашло.
Офицер распахнул дверцу черного «мерседеса» и жестом велел мне садиться. Я скользнула на заднее сиденье, и мы поехали в северо-восточную часть города. Только я и полковник. Судьба продолжала надо мной насмехаться. Только что я дерзко отстаивала свою честь перед полковником вермахта, а сейчас сижу на заднем сиденье его полированного автомобиля, блестящего, как зеркало, с прямоугольной хромированной решеткой и развевающимися нацистскими флагами на передних крыльях. Когда мы ехали по городу, люди шарахались в стороны, а немецкие солдаты останавливались и отдавали честь. В машине на мягких кожаных креслах сидела я, семнадцатилетняя девушка, и вез меня сам полковник.
Он снял фуражку и положил на пассажирское сиденье.
– Я знаком с твоим отцом, капитаном Шейнманом. Недолгое время служил с ним в Галиции. Он хороший человек, твой отец, но он еврей.
– Когда евреи отдавали на фронте свои жизни во имя Германии, это не имело значения. А сейчас немецкие солдаты ворвались в наш дом, избили отца, мать и моего младшего брата. А потом еще и арестовали их.
– Следи за своим языком, смелая девушка. Времена изменились. Рейх больше не уважает евреев. – Полковник пожал плечами. – И не имеет значения, согласен я с этим или нет. Такова официальная политика.
– Вам известно, куда увезли мою семью?
– Нет. – Он покачал головой. – Если они до сих пор в Хшануве и больше не живут в своем доме, то, скорее всего, поселились на северо-востоке, где собрали всех евреев. Впрочем, их могли отправить в бесчисленное количество мест. Предполагается, что к бывшим офицерам будет уважительное отношение, но так случается не всегда. Лена Шейнман, расскажи мне, как ты сегодня утром оказалась в повозке у пана Тарновского?
Кэтрин уточнила:
– Но вы же не рассказали ему, что жили у Тарновских, нет?
Лена покачала головой:
– Нет, я сказала ему, что пришла в город искать родителей. Мой ответ рассмешил полковника.
– Ох-ох, маленькая путешественница, ты со мной не откровенна, – сказал он. – Защищаешь герра фермера. Отважно с твоей стороны, но глупо. Будешь обманывать немецких офицеров – тебя убьют. – Полковник помолчал, потом вздохнул. – Эта война еще и двух лет не длится, а я уже от нее устал. – Он притормозил. – Надень на рукав повязку, пока один из моих солдат не остановил и не пристрелил тебя. И когда тебе приказывают предъявить документы, не говори, что у тебя их нет. Я отвезу тебя в Цех. Там нужны работники. На этот раз веди себя как подобает.
– Он не повез вас на вокзал? – уточнила Кэтрин.
Лена покачала головой:
– Тогда меня помиловали. Он отвез меня на Речную улицу к огромному двухэтажному каменному зданию без окон. Раньше там была швейная фабрика, но, по-моему, она до войны не работала, пока немцы не открыли в ней Цех. У входных дверей стояли два охранника в форме. Мы остановились, и герр Оберст повел меня к двери.
В большом помещении с высокими потолками стояло больше пяти сотен швейных машин. Они строчили день и ночь, шум просто оглушал. Сотни рабочих – в основном женщины, но были и мужчины, и дети – молча сидели за работающими машинами. В 1942 году в Цеху работало полторы тысячи рабочих.
Полковник привел меня туда и заговорил с Давидом, начальником Цеха:
– Это Лена Шейнман. Смелости ей не занимать, но, по-моему, из нее выйдет хорошая швея. Если она будет доставлять тебе неприятности, в четверг отправляется эшелон в Гросс-Розен[24].
– Гросс-Розен? В ткацкий цех в трудовом лагере? – спросил Давид.
Полковник кивнул:
– Там нужны швеи и упаковщики хлопка. Помнится, из Хшанува мы отправляем восемьсот человек.
– Так вы заберете всех моих рабочих. У меня осталась всего тысяча двести. Как мне, скажите на милость, выполнять план?
Полковник пожал плечами:
– У меня приказ. Я, как и ты, выполняю приказы. На этой неделе должны прибыть еще евреи. Я не хочу отослать всех твоих рабочих, но гетто в Хшануве в следующем году должно быть ликвидировано. Каждый месяц евреев будут депортировать, и я попытаюсь поставлять рабочих из общего гетто. Депортированным в четверг еще повезет: они отправятся в Гросс-Розен, а не в Аушвиц или Бухенвальд.
– Ну, не знаю, как они себе представляют то, как мне руководить цехом.
– Евреи так или иначе будут депортированы. А пока вот тебе смелая юная фрейлейн. – Он кивнул в мою сторону. – Сомневаюсь, что она хоть раз в жизни пальцем о палец ударила, но она молодая и здоровая. Дай знать, как все устроится. – И он ушел.
Я осталась стоять с вещмешком, вбирая в себя шум Цеха и незаметно осматриваясь.
– И думая о том, что следовало бы остаться на ферме у Тарновских? – спросила Кэтрин.
– Возможно. Но я все равно собиралась разыскать свою семью и Каролину. Откровенно признаться, я думала, что мне повезло. Меня не арестовали, не отправили в концлагерь, никто меня не обидел. Я стояла в швейном цеху и смотрела на его симпатичного начальника. Все могло сложиться намного хуже.
– Давид был евреем, на семь лет старше меня и учился на портного. Когда нацисты открыли Цех, они забрали Давида из его портняжной мастерской, привезли сюда и назначили бригадиром. Он настолько хорошо себя показал, что его повысили до начальника Цеха. Когда я сюда попала, он под бдительным оком нацистов уже руководил всем процессом. В его обязанности входило выполнять ежедневные заказы.
Каждый день нацисты составляли квоты, и Давид сообщал им, сколько человеко-часов и рулонов материала потребуется. Если нужно было людей больше, чем работало в настоящее время, немцы посылали солдат в город за дополнительной рабочей силой. В самом Цеху солдаты расхаживали по рядам и подгоняли швей, как надсмотрщики в Египте. В каждом небольшом квадрате Цеха был свой надзиратель. Они постоянно ругались, заставляя рабочих повышать производительность, выкрикивали угрозы, обещали депортировать в трудовые лагеря, хотя на самом деле подобными полномочиями не обладали.
– Ты дочь капитана Шейнмана? – поинтересовался Давид, пока вел меня в дальний угол помещения. – Того самого, у которого продовольственный магазин на краю площади?
– Был когда-то. Магазин у нас отобрали. Как и дом. Я понятия не имею, куда увезли отца и остальную мою семью.
Давид понимающе кивнул. Он выглядел очень привлекательно. Его длинные черные волосы были щегольски зачесаны на косой пробор, как у голливудского актера Эррола Флинна, рукава спецовки закатаны, обнажая бицепсы, ворот расстегнут. А еще у него были голубые глаза. Настоящий еврей-ашкенази с огромными голубыми глазами и пухлыми губами, он был просто великолепен.
– А вы не знаете, где моя семья?
Он покачал головой:
– Я уже несколько месяцев не видел твоего отца. Я редко покидаю эти стены. Сплю вверху в конторе. Пока предприятие работает, меня не внесут в список на депортацию.
– Может, моя мама здесь работает? Ханна Шейнман. Вы не слышали хоть что-нибудь о ней? Или о ком-то из моей семьи?
Он снова покачал головой и указал на незанятую машинку:
– У тебя была швейная машина?
– Нет. Я шить не умею.
Давид иронично улыбнулся: немецкий полковник в Хшануве лично привозит в Цех девушку, у которой не только никогда не было швейной машинки, но которая даже шить не умеет!
– Очень смешно, – сказал он. – По всей видимости, ты пришлась по душе полковнику Мюллеру. Большинство тех, кто попадает сюда, приносят свои швейные машины и хорошо умеют шить. Девушек, которые не умеют шить, сразу отправляют в трудовые лагеря. Или еще хуже. Почему мама не научила тебя шить?
– Наверное, потому, что она видела мое будущее несколько другим. Я ходила… Впрочем, неважно.
– В частную школу? В Кракове? – Он понимающе улыбнулся. – Наверное, в гимназию? Я встречал тебя в синагоге. И видел на площади. – Он обвел рукой сидящих в цеху женщин. – Всех их научили шить матери, и все они принесли швейные машинки из дому. Мы не предоставляем нашим работникам швейных машин. И не даем уроков шитья. Как же ты собралась здесь работать?
– Не знаю, Давид, – сдержанно ответила я. – Сегодня у меня не самый лучший день.
Он засмеялся:
– А ты мне нравишься. И полковник прав, ты – отважная. Отважная, но без швейной машинки. Ступай за мной. – Он провел меня мимо десятка рабочих за угол. – Пани Клейн опять заболела. Она постоянно болеет, бедняжка. А когда выходит на работу, ее хватает всего на пару часов. Не знаю, вернется ли она вообще. Я делаю все, чтобы ее не включили в список на депортацию. Сядешь за ее машинку, как-то приспособишься.
– Спасибо, – негромко поблагодарила я. – Простите, что была резка. Но меня забрали с повозки молочника и усадили на заднее сиденье «мерседеса», за рулем которого был немецкий полковник. Он поймал меня на улице без нарукавной повязки.
– Тебе оказали поистине королевский прием. Оберст Мюллер прибыл в Хшанув всего три месяца назад. Он старший из всех расквартированных здесь офицеров, но ходят слухи, что вскоре сюда прибудет СС, а уж они-то наведут порядок. После их приезда количество депортированных увеличится вдвое. Еврейские семьи вышлют в другие места.
– Откуда вам это известно?
Давид улыбнулся:
– Держу ушки на макушке.
Во время разговора я все время думала: «Боже, какой же он красивый! Как я не замечала его в синагоге?»
– А куда их высылают? Тех, кого депортируют. Может быть, туда вывезли и мою семью?
Давид покачал головой:
– В трудовые лагеря, в тюрьмы. Не знаю.
В вещмешке лежали все мои вещи, и жить мне было негде.
– Немцы отобрали наш дом, мне даже ночевать негде. Вы не знаете, где я могу остановиться?
Давид подарил мне очередную очаровательную улыбку:
– Вопрос с подвохом?
Я невольно засмеялась:
– Я серьезно.
Он пожал плечами:
– Если у тебя в городе есть друзья, советую обратиться к ним. А еще я слышал, что в гетто есть несколько комнат за небольшую плату. Там должны жить все евреи.
Я села за швейную машину, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше.
Давид засмеялся:
– Я пришлю Ильзу, чтобы она тебя научила.
Через несколько минут он вернулся с пожилой женщиной и рулоном шерстяной ткани. Женщина села рядом со мной и недовольно пропыхтела:
– Я – Ильза. Сейчас покажу, как шить шинель.
В следующие двадцать минут она преподала мне краткий курс пошива шерстяной шинели. Ильза оказалась прекрасным учителем, но благодарной ученицы из меня не вышло.
– Ох! У шинели не может быть трех прорезей для рукавов. И нельзя делать петли для пуговиц и с левой, и с правой стороны. – Она явно была настроена не слишком дружелюбно.
После обеда подошел Давид.
– Как у нее дела?
Ильза раздраженно покачала головой.
– Сами смотрите. – Она подняла мою работу.
– Пройдет, если у кого-то три плеча, – улыбнулся Давид. – Продолжай работать, и у тебя получится.
Мне понадобились пара дней и несколько бракованных шинелей, но в конечном итоге я овладела этим мастерством. В первый день я отработала семичасовую смену и в шесть вечера была уже свободна. Перед моим уходом Давид принес удостоверение, в котором значилось, что я работаю в Цеху.
– Если будешь идти в Цех на работу или возвращаться со смены, или ходить по городу за пределами гетто, или если окажешься на улице после комендантского часа, это удостоверение даст тебе право там находиться. Немцы знают, что не стоит трогать моих работников. Тем не менее среди них есть масса ублюдков, поэтому будет разумно с твоей стороны перейти на противоположную сторону улицы и всячески избегать конфронтации. Завтра в семь утра ты должна быть здесь и сидеть за своей машинкой.
Я поблагодарила и развернулась, чтобы уходить, но Давид остановил меня:
– Ты сегодня ела?
– Завтракала.
Он велел мне подождать и вернулся с бумажным пакетом.
– Держи ужин. Уже поздно покупать еду в магазинах, где разрешено обслуживать евреев. Они работают только с утра. Поэтому лучше зайти туда, как только они откроются. Или еще раньше занять очередь с купонами.
Я снова поблагодарила его. И поняла, что этим пакетом с едой Давид выразил понимание того, что он видит, насколько мне не по себе. Я была абсолютно не подготовлена к жизни, с которой мне пришлось столкнуться.
Тем вечером я шла по городу через площадь в гетто. Мой дом всего в нескольких кварталах отсюда теперь занимала немка, чей голос я слышала, когда пряталась на чердаке. Через поле был дом Каролины – одноэтажное белое здание, обшитое деревом, – но теперь он принадлежал толстяку, который спал на ее кровати. Больше я не знала мест, где могла бы переночевать. Мне нужно было снять комнату. Кроме того, если моя семья живет в гетто, у меня появится возможность их найти.
Глава девятая
В конторе Лиама зазвонил телефон. Высветившийся номер сообщил детективу, что звонят из «Болджер-энд-Мартин», одной из крупнейших юридических фирм в городе.
– Мистер Таггарт? Это Майк Ширли из фирмы «Болджер». Мы представляем Артура Вудварда.
– Ах да, Артура. Очень неприятный парень. И что вы хотите от меня, мистер Ширли?
– Майк. Зовите меня Майком. Я могу обращаться к вам «Лиам»? Давайте начнем с самого начала. Дела продвигаются легче, если удается наладить дружеские отношения.
– Вам стоило бы поделиться своей теорией с клиентом, Майк. И все же, чем могу помочь?
– Я бы хотел встретиться с вами и миссис Локхарт.
– Зачем?
– По поводу матери Артура. Она не вполне здорова. И Артур озабочен ее… ее… как это сказать…
– Имуществом, Майк. Слово, которое вы никак не можете подобрать, – «имущество».
– Нет-нет, вовсе не этим. Он обеспокоен ее здоровьем. Вы же понимаете, ей уже восемьдесят девять лет…
– Как по мне, она вполне здорова. Но, если вы не знаете, миссис Локхарт не врач…
Тон Ширли изменился.
– Лиам, прекратите эти игры! Мой клиент попросил меня увидеться с вами. Мы встретимся или в конторе миссис Локхарт, или в зале суда. Почему бы нам не попытаться договориться мирно?
– А почему вы не позвонили непосредственно Кэтрин? Почему звоните мне?
– Простите, я пытался, но она не берет трубку и не перезванивает. Я решил, что вы сможете связаться с ней быстрее, чем я.
– Когда вы хотите встретиться?
– Чем скорее, тем лучше. Артур очень озабочен.
– Не сомневаюсь. Я поговорю с Кэтрин, и кто-то из нас вам завтра обязательно перезвонит.
– Это было бы чудесно, Лиам. Просто отлично.
* * *
Кэтрин вошла в прихожую, смахнула с пальто пару ноябрьских снежинок и повесила его на плечики.
– Как прошла сегодняшняя встреча? – поинтересовался Лиам. – Доктор Эпштейн сказал тебе, что ему еще не доводилось видеть такого красивого ребенка?
Кэтрин засмеялась:
– Пока с помощью ультразвука немного разглядишь, но он уверяет, что плод развивается отлично. – Она притворно надула губы. – Я поправилась на целых кило двести!
Лиам всплеснул руками:
– Где? Быть не может. Передай ему, что я пристально слежу за каждым сантиметром и у будущей матери фигура голливудской звезды!
Кэтрин ласково погладила его по щеке:
– У меня на автоответчике сообщение от Майка Ширли насчет миссис Вудвард. Он хочет встретиться.
– Знаю. Я с ним разговаривал. Он представляет интересы Артура, хочет встретиться с нами обоими.
– Лиам, с Леной Вудвард все в полном порядке. Всем бы так соображать, как она! Жаль, что я не обладаю такой памятью.
– Ширли грозил судебным иском. Сказал, что мы встретимся либо у тебя в кабинете, либо в зале суда.
– Этот негодяй намерен засудить собственную мать? Она что, недостаточно настрадалась, чтобы пережить еще и слушание о признании недееспособной, которое инициирует ее сын?
– Все дело в деньгах.
– В самую точку, Лиам.
Кэтрин загрохотала сковородками и кастрюлями.
– Кэт, что ты делаешь?
– Готовлю пасту! – отрезала она. – Чтобы набрать еще пару килограммов.
Лиам подошел к жене, обнял ее и поцеловал в шею.
– Да брось ты кастрюли! Не позволяй этому ничтожеству вывести тебя из равновесия. Я отвезу тебя в «Сорренто».
Кэтрин обернулась, посмотрела ему в глаза.
– Она такая милая, отважная женщина… – Она покачала головой. – Похоже, нам придется с ними встретиться. Я не хочу, чтобы он побежал в суд подавать иск о признании ее недееспособной, страдающей старческой деменцией.
– Ты же знаешь, как все будет. Мы с ним встретимся, и все пройдет отвратительно. Он потребует, чтобы ты перестала встречаться с матерью Артура. Ты откажешься. Тогда он предъявит тебе иск, который уже набросал. И сообщит, что завтра идет в суд.
Кэтрин кивнула:
– Ты прав. И в эту секунду я захочу ударить его по лицу.
Лиам улыбнулся:
– Мне нравится, как ты ведешь переговоры.
Когда они шли к машине, Кэтрин сказала:
– Я уже назначила встречу с Леной на завтра в полдень. Я уверена, это займет весь день. Передай Ширли, что мы встретимся с ним в четверг.
Глава десятая
– Лена, прежде чем мы начнем, должна сообщить, что адвокат Артура Вудварда настаивает на встрече со мной.
Лена сидела, сложив руки на коленях, спина прямая. Как всегда, она была элегантно одета: твидовый костюм, белая блуза и яркий шелковый шарф. Умело наложенная косметика, аккуратная прическа.
– Он отругал меня за то, что я к вам обратилась, и потребовал, чтобы я прекратила с вами встречаться, – ответила она. – И что вы решили? Будете беседовать с его адвокатом?
– Я ваш адвокат и буду поступать так, как вы скажете. Но хочу вас предупредить: Артур обратился в адвокатскую контору, привыкшую действовать агрессивно. Если я не встречусь с мистером Ширли, он пойдет вразнос.
– Что вы имеете в виду?
– Не знаю. Он дал мне понять, что может подать в суд иск о назначении опекуна.
– Опекуна? Кому? На каком основании?
– Не знаю наверняка, но подозреваю, что он станет указывать на ваш почтенный возраст, на то, что вы не способны о себе заботиться, не можете принимать самостоятельные решения относительно имущества.
– Какая чушь! Для этого иска нет оснований.
– Я знаю. Как по-вашему, Артур способен дать делу ход?
– Артур очень упрям. Он пытается все контролировать, особенно после смерти моего мужа. Отношения между нами довольно прохладные. Я не знаю, на что он способен, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией. – Она помолчала. – И он может выиграть дело? Мне уже восемьдесят девять лет.
– Ваш возраст не является определяющим. Будут учитываться медицинские заключения профессионалов, а не только его субъективное мнение. Я могу задать вам личный вопрос? Вы регулярно посещаете врачей?
– Я наблюдаюсь у ревматолога из-за артрита, дважды в год обследуюсь у кардиолога и дважды в год хожу к терапевту. Еще я регулярно посещаю стоматолога. Это тоже нужно указывать?
– Нет, простите, но…
– У психиатра или психолога я не наблюдаюсь. И у геронтолога не консультируюсь. – Она посмотрела Кэтрин в глаза. – Я не душевнобольная. Я в своем уме. Никогда ничего не путаю и не забываю.
– Я вам верю. Но если он потребует представить в суде ваши медицинские документы, карты, врачебные записи, не окажется ли там отметок о том, что вы обсуждали с врачами свою забывчивость или проблемы с памятью?
– Когда доживаешь до моего возраста, эта тема становится непременной при осмотрах. Врачи обязаны интересоваться душевным здоровьем пациента, и мы беседуем об этом. Возможно, я сожалела, что старею, но, по-моему, никогда не говорила, что начинаю сдавать.
– Это хорошо.
– Я могла пожаловаться, что стала забывчивой, уже не помню многие имена. Похоже, память у меня не та, что раньше. Знаете, если восемьдесят девять лет складировать в голове различную информацию, ее становится слишком много. Но я ничего не путаю, меня нельзя назвать недееспособной.
– Я тоже так думаю.
– Позвольте задать вопрос: что произойдет, если агрессивный адвокат Артура потребует, чтобы вы прекратили представлять мои интересы?
Кэтрин покачала головой:
– Артур мне не указ.
Лена кивнула:
– Хорошо. В таком случае эта тема закрыта. Со мной все в порядке. Мы можем продолжать?
Кэтрин улыбнулась, пристроила блокнот на коленях и ответила:
– Всенепременно.
– Итак, я вышла из Цеха и отправилась в гетто, чтобы найти место, где переночевать. Мой дом, дом Каролины – все было конфисковано. У меня были еще друзья, но тоже евреи, поэтому я подозревала, что и их дома отобрали. Кроме того, я бы чувствовала себя неловко, если бы появилась у них на пороге с просьбой о ночлеге. Давид сказал, что в еврейском гетто есть комнаты, туда я и направилась.
Уже наступил комендантский час, на улице стояла тишина. Нет, не так. На улицах возле гетто стояла тишина. Такие, как я, рабочие с удостоверением, молча возвращались с работы: мы все держались в тени, избегая встреч с немцами. А вот на площади царило веселье – гуляла шумная и наглая толпа немецких солдат. Они сидели в ресторанах и пивных, столы ломились от еды, воняло пивом. Им не нужны были продовольственные карточки.
Если они гуляли по улицам и встречали еврея, то издевались над ним ради забавы. Как и предупреждал Давид, многие были настоящими садистами. Так, например, правоверным они стригли бороды. Могли заставить танцевать прямо на улице под пьяные немецкие песни. Я видела, как они заставляли людей слизывать грязь с сапог. Видела, как они заставили женщину присесть на корточки и помочиться на свою скудную пищу. Я могла бы продолжать и продолжать…
В первый день, когда я шла в гетто, меня остановили двое солдат и потребовали предъявить документы. Я заставила себя сохранять спокойствие, хотя была крайне напугана. Они осмотрели меня с ног до головы и спросили, куда я направляюсь.
– Я возвращаюсь в гетто. Иду с работы.
– Какой у тебя адрес?
– У меня его пока нет. – Моя тревога нарастала.
– Нет адреса? Где же ты живешь?
– На улице.
Солдата разозлил мой ответ, он раздраженно покачал головой.
– Nein, nein…[25]
Но товарищ поторопил его:
– Брось, Йозеф, мы опаздываем. Нас ждут в ресторане. Наплевать на эту еврейку!
Солдат отдал мое удостоверение и отпустил меня. Я облегченно вздохнула. По дороге в гетто я встретила еще нескольких человек, в основном возвращающихся с работы женщин. Некоторых я останавливала, расспрашивала о Шейнманах. Как я уже говорила, почти все знали Капитана. Он был уважаемым человеком. Но встреченные мною люди отвечали, что, насколько им известно, в гетто Капитан не появлялся. Его никто не видел. Ни его, ни мою маму, ни Милоша.
В поисках свободной комнаты я обошла пару переполненных многоквартирных домов, но все было занято. Ситуация в гетто была безрадостной. Такое даже представить трудно: на площади, где раньше жили несколько сотен бедных семей, сейчас разместились почти десять тысяч евреев. Если раньше, до войны, семья жила в добротном двухэтажном доме, то теперь она ютилась в ветхом здании в комнатушке три на три метра.
Я переходила от дома к дому. Было уже поздно, а для апрельского вечера темно и невероятно холодно. Возле железнодорожного полотна располагалось четырехэтажное кирпичное здание, где на каждом этаже было по две квартиры. Теперь в каждой из них ютилось по нескольку семей и свободной комнатушки не было. Я уже собралась уходить, как меня остановил какой-то старик.
– Ты что-то хотела?
– Мне негде ночевать. Похоже, все занято. Вы не знаете, есть ли где свободные комнаты?
– Уже почти полночь. Сегодня ты ничего не найдешь. Большинство людей спят, если могут, конечно. У меня есть маленькая комнатка, можешь остаться. Я для тебя опасности не представляю. – Он тепло улыбнулся. – Меня зовут Йосси.
Он жил в подвале котельной. Там была большая печь, которой предполагалось отапливать здание, но отопление не работало, потому что угля не было. Мы жили в стране, где добывают уголь, но в гетто его никто не завозил. Йосси сказал, что я могу постелить в углу коврик и спать на нем. Я с благодарностью приняла это предложение и протянула несколько рейхсмарок, но он отказался. Я села на коврик, открыла пакет, который дал мне Давид, и вытащила хлеб с мясом. Я умирала с голоду, но тут заметила, что Йосси не сводит с меня глаз.
– Есть хотите? – спросила я.
Он пожал плечами, потом кивнул. Я поделилась с ним тем немногим, что у меня было, – он был тронут до слез. Я подумала: а как же этот старик достает себе еду? Было видно, что он слишком слаб, чтобы стоять в очереди за продуктами. И, разумеется, он был нездоров, чтобы работать. Оставалось надеяться, что у Йосси есть семья, которая о нем позаботится. В противном случае он так и умрет в этом холодном подвале. В потертом, изношенном пальто и разваливающихся туфлях.
– Вы знаете Якова Шейнмана? – спросила я, пока мы ели.
Он кивнул:
– Я знаю Якова. Капитана. – Он улыбнулся. Зубы у него были желтыми, некоторых уже не хватало. Уверена, что зубная паста – роскошь, которую он уже давно не видел. – Я знаю Якова с юношества. Я был учителем.
– Он мой отец. Его арестовали немцы вместе с моей мамой и маленьким братом. Я думаю, они могли поселиться где-то в гетто. Вы их не видели?
Он печально покачал головой:
– Мне очень жаль. Я мало где бываю, почти не могу передвигаться. Я хожу в синагогу, если кто-то поможет мне туда дойти. Если нет – сижу в своей комнате и читаю. Но Якова я не встречал. – Он поднял вверх сучковатый указательный палец. – Ты должна спросить в юденрате. У них все списки: они точно знают, кто здесь, а кого нет.
– Юденрат?
– Это Еврейский совет. В его обязанности входит ведение всей документации, поэтому они знают, кто здесь живет, кого выслали, кого отправили на работы, а кто так и не вернулся. Каждый день они подают немцам списки и такие же вывешивают у Городского совета. Ты смотришь этот список и если находишь там свою фамилию, то наутро являешься на городскую площадь, чтобы отправиться на работы. Иногда в конце дня ты возвращаешься домой, иногда отсутствуешь целую неделю, но бывало, что люди вообще больше не появлялись.
От его рассказа у меня мурашки побежали по коже.
– В юденрате, в этом Еврейском совете, сознательно составляют эти списки для немцев?
– Нельзя винить членов юденрата, у них нет выбора. Не они дергают за веревочки. Мне кажется, что они в общем и целом хорошие люди и стараются, как могут. Они – наше связующее звено с нацистским командованием. Если бы не они, не было бы гражданской организации, некому было бы общаться с нацистами. Но, по большому счету, ты права: они помогают нацистам насаждать свои приказы. Когда будешь наводить в юденрате справки о своей семье, проси встречи с Мейером Капинским.
Йосси дал мне адрес и сказал, что вероятнее всего застать Капинского перед обедом.
– Обычно днем у них собрание, которое длится до захода солнца. Они не хотят нарушать комендантский час.
Я покачала головой:
– Днем я не могу, я должна быть в Цеху. Вы не могли бы поспрашивать для меня? Если не трудно, просто спросите у пана Капинского о Якове и Ханне Шейнман и маленьком мальчике-инвалиде по имени Милош. А я вернусь завтра вечером, и вы мне все расскажете.
Йосси погладил меня по голове:
– Конечно, конечно. Возвращайся завтра, и я расскажу тебе все, что удастся узнать. И можешь жить в этом уголке сколько пожелаешь. – Он засмеялся. – Или пока не найдешь место, где переночевать. Место, которое не придется делить с мышами. Будь осторожна.
Я искренне поблагодарила его, сунула вещмешок под голову вместо подушки и заснула.
На следующее утро я проснулась от резкого тычка в бок. Надо мной стоял Йосси. В комнате было темно, только тонкая полоска света просачивалась со стороны лестницы.
– Просыпайся давай, – сказал старик. – Солнце уже встало. Нельзя опаздывать в Цех. За опоздание тебя накажут.
– А здесь есть где умыться?
Он покачал головой:
– Пойдешь по улице, там фонтан. В доме воды нет. Только в фонтане.
Я помчалась в Цех и в семь часов уже сидела за швейной машинкой. К моему рабочему месту поднесли рулон материи, и я начала работу. В полдень объявили перерыв, дали краюху хлеба с сыром и маленький кусочек колбасы – я уже проголодалась не на шутку. Еще я познакомилась с сидящей рядом молодой женщиной. Марця, худенькая невысокая девушка с тонкими белокурыми волосами и высокими скулами, была родом из городка Тшебиня, что в пяти километрах от Хшанува. Я знала этот городок, там находился железнодорожный вокзал.
В первый день войны немцы бомбили Тшебиню, уничтожили и вокзал, и бóльшую часть города. Она рассказала, что ее семью раскидало по миру, – кто-то оказался в России, кто-то отправился на север, – но ее мама осталась в Тшебине. Марця пришла в Хшанув в поисках работы. Она каждое воскресенье шла домой пешком и возвращалась назад. Даже несмотря на снегопад. А в будние дни она снимала комнату в гетто.
– А я потеряла следы своей семьи, – пожаловалась я. – Их забрали прямо из дома. Я надеялась, что мама работает здесь, но Давид сказал, что не видел ее.
– Людей забирают из дому, хватают прямо на улицах, даже из Цеха уводят, – вздохнула Марця. – Я слышала, что по всей Польше и Германии настроили трудовых лагерей, туда-то всех и отсылают. Больше домой они не возвращаются. Наверное, там и твоя семья.
Марця стала неисчерпаемым кладезем информации о Цехе, о повседневной жизни, которой она с радостью со мной делилась. Это она рассказала мне, что за день у нас есть возможность три раза сходить в туалет, но только на десять минут, а мыться лучше всего в женском туалете, хотя вода там течет ледяная. Еще она посоветовала мне пару магазинов, которые открываются очень рано, до восхода солнца, и подсказала, где очереди меньше и где с большей долей вероятности можно отоварить продовольственные карточки.
Настал вечер, и я поспешила к Йосси, чтобы узнать новости о своей семье. Он мягко положил руку мне на плечо.
– Этель Гудман помогла мне дойти до синагоги, и я побеседовал с паном Капинским. – Он кивнул мне. – Хорошие новости! Капинский уверяет, будто знает, что случилось с твоей семьей. Он хочет увидеть тебя лично и все тебе рассказать.
– Отлично! Как мне с ним встретиться? Днем из-за работы я не могу.
– Пану Капинскому об этом известно. Он готов встретиться с тобой сегодня вечером. В десять. Будет ждать тебя в старой синагоге на улице Горской. – Йосси широко улыбнулся, гордый тем, что удалось мне помочь. – Капинский. Он располагает информацией.
Я была вне себя от радости. Капинский знает, где мои родные! Я поблагодарила Йосси, обняла и поделилась с ним своим скудным ужином. Около десяти я отправилась в старую синагогу.
На улицах в гетто царила темень. Фонарей или не было вообще, или они не работали: никто не заправлял газовые фонари, а электричество было редкостью. Я пришла в синагогу и открыла тяжелую дверь. В коридорах стояли кромешная темнота и тишина. В самом святилище горела пара свечей, и вместе с лампадкой они тускло освещали помещение. Я никого не увидела и отправилась дальше по коридору к биме – возвышению, где обычно лежит Тора.
– Я здесь! – негромко окликнул меня пан Капинский.
Я обернулась и увидела высокого мужчину с седой бородой. Он сидел в среднем ряду. На нем был темный пиджак поверх заношенной белой рубашки. Он показал на место рядом с собой и жестом пригласил меня сесть. В синагоге, кроме нас двоих, никого не было.
– Спасибо, что согласились со мной встретиться. Йосси говорит, что вы смогли разузнать о моей семье.
Он кивнул, но как-то печально.
– Не знаю, насколько хорошо ты знаешь своего отца. Настоящего польского патриота.
– Да, я знаю. Он герой войны. Он храбро сражался.
Пан Капинский покачал головой:
– Я имею в виду не Первую мировую войну, я говорю о нынешней. Сегодня, во времена этой варварской оккупации, находятся отважные души, готовые отдать жизнь во благо родины. Они и есть польское Сопротивление. Они – это местная самооборона. Они – воины, курьеры, саботажники и настоящие руководители. Твой отец был таким человеком.
– Был? – Я тяжело сглотнула.
Пан Капинский прикрыл глаза и кивнул:
– Капитан Шейнман, да благословит Всевышний его память, был руководителем одной из групп. Под его предводительством мы нанесли значительные потери немецкой военной машине.
Я вытерла слезы, которые капали из глаз, словно из протекающего крана. Я изо всех сил старалась держать себя в руках.
– Расскажите мне все.
– На войне сильный становится дерзким, а слабый отчаивается. Голод, нужда, страх, связанные воедино, заставляют слабого человека пойти на компромисс со своей честью и совестью. Нацисты очень тонко чувствуют уязвимые души и пользуются их слабостями. Мне очень жаль, но такой человек – член нашей тайной группы – и сдал твоего отца нацистам. Именно поэтому они и пришли в ваш дом.
– А мама? А Милош?
Пан Капинский медленно покачал головой:
– Нам известно, что расстреливали целыми семьями и за меньшие преступления.
Тут я не выдержала и разрыдалась. Он обнял меня, стараясь утешить.
– Можешь оставаться здесь сколько захочешь. Я посижу с тобой.
– Кто этот предатель? Кто его сдал?
Пан Капинский помолчал, потом кивнул:
– Ты имеешь право знать. Мне кажется, мы его вычислили. Я скажу тебе, когда буду стопроцентно уверен.
Ночь я провела, свернувшись калачиком на скамье в синагоге. Боль утраты была непреодолимой. Утром пришли несколько верующих на миньян[26]. Уже рассвело. Я потерла покрасневшие глаза, посмотрела на молящихся и покачала головой. «Кому вы молитесь? – подумала я. – Кто, по-вашему, вас слышит? Только вы сами! Какая бесцельная трата времени и сил!» Я неспешно покинула синагогу и пришла в Цех, когда смена моя уже давным-давно началась. Меня встретил Давид. Он сразу понял: что-то произошло.
– Что с тобой? Ужасно выглядишь.
– Они их убили, Давид. Всю мою семью. Моего отца, мать, младшего брата. Их всех. Безжалостно расстреляли!
– Идем со мной.
Он потянул меня наверх в комнатушку, которую использовал в качестве кабинета и спальни.
– Моего отца выдал предатель, – сказала я. – Змея! Ублюдок! Я еще до него доберусь, Давид. Я обязательно отомщу! Проклятые нацисты! Они за все заплатят. – И я разрыдалась.
– Тихо, тихо… – обняв, успокаивал меня Давид. Он убрал волосы с моего лица и вытер слезы. – Следи за своим языком. Нельзя такого говорить! Ты не знаешь, кто находится рядом. Думай, когда говоришь. С чего ты решила, что можешь быть откровенна со мной?
Я взглянула на него, в его голубые глаза. Неужели и он коллаборационист? Как ни крути, а он управляет Цехом. Что же ему пришлось сделать, чтобы получить эту должность? Неужели он тоже? Я отогнала эту мысль. Нет, только не Давид. Это невозможно!
– А мне уже плевать, – ответила я. – Плевать, что кто-то услышит мои слова. Я доберусь до этого предателя. Я отомщу за свою семью. Клянусь!
Давид улыбнулся:
– Мюллер был прав, ты отчаянная девчонка. Но ярость – плохой советчик. Дождись своего часа. Пока еще рано. Сейчас главное – здравый смысл, четкий план, умение выжидать. И ты дождешься. Твой отец был великим человеком.
– Ты знал его? Ты тоже состоишь…
Он прижал палец к моим губам, чтобы я замолчала.
– Таких, как твой отец, много. Хочешь почтить его память? Тебе представится такая возможность.
– Когда?
– Будь терпелива. Жди своего часа. Ветер меняется.
– А ты откуда знаешь?
Он тепло улыбнулся мне и подмигнул.
– Можешь побыть здесь, пока успокоишься. Я прикрою тебя. – Он уже собрался было уходить, потом обернулся. – Надеюсь, тебя не нужно предупреждать, что о том, что рассказал пан Капинский, и о нашем разговоре…
– Я не дура, Давид.
Он улыбнулся и вышел. До вечера я просидела в его комнате, а когда стемнело, вернулась к Йосси в подвал. Он ожидал увидеть мое счастливое лицо, но когда взглянул на меня, то понял, что случилось самое страшное.
– Мне очень жаль. – Он обнял меня слабыми руками. – Это нелюди, драконы, гаргульи. Невозможно даже вообразить себе подобное зло. Они скоро вымрут. – Он с трудом нагнулся и вытащил из-под матраса сумку с талитом[27]. – Ступай за мной.
– А куда мы?
– В синагогу. Прочтем кадиш за твою семью.
Лена тут прервала рассказ и поинтересовалась у Кэтрин:
– Вы знаете, что такое кадиш?
– Не совсем.
– Это молитва. Она восхваляет Бога и просит установить Его царство на земле. Те, кто скорбит, должны читать кадиш. Йосси хотел, чтобы я исполнила свои обязательства. Он решил, что мои родители и Милош заслужили этого ритуала. Учитывая время и обстоятельства, молитвы о мире и установлении царства Божьего на земле были как нельзя кстати.
– Кадиш? – воскликнула я, передразнивая Йосси. – Кому? Богу, которого нет? – Я говорила все громче. – Неужели ты думаешь, что кто-то слышит, когда ты читаешь кадиш? Йосси, открой глаза! Если Бог и есть, он уже давным-давно о нас забыл. Где он, когда над нами издеваются нацисты? Где Всемогущий, когда убивают набожных людей? Где…
– Прекрати! – велел старик и схватил меня за руку. – Ты еврейка. Этого у тебя никто не отнимет. Нацисты могут забрать твой дом, могут отобрать твой хлеб, могут даже лишить тебя твоего тела, но им не под силу отобрать у тебя то, кем ты есть. Нацисты хотят истребить нас физически и морально. Я не могу остановить их, чтобы они не убили меня физически, но я хозяин своей души. Мне, и только мне, решать, когда читать кадиш, когда праздновать шаббат, когда танцевать на Simcha Torah[28]. Твой отец, твоя мама и младший брат – они все были евреями. Нацистская Германия всей своей мощью обрушилась на их еврейскую сущность, но проиграла. Немцам не удалось лишить их веры. Нацисты не смогут победить, пока мы остаемся евреями. Понимаешь?
– Я восхищаюсь твоей силой, Йосси. Восхищаюсь твоей решимостью. Но не могу разделить твоего благоговения. Посмотри, что они с нами сделали. Образованный человек еле выживает на полу в подвале. Ни воды, ни еды. И все только потому, что ты еврей.
– Но я все равно остаюсь евреем. Как и ты. Если не хочешь читать кадиш, помоги мне дойти до синагоги, и я прочту за тебя. Проводи меня, пожалуйста. Мы найдем миньян и прочтем кадиш. Мы восславим имя Господа в минуту, когда это кажется совершенно напрасным. Именно поэтому мы так и поступаем. Идем со мной.
Я кивнула и помогла ему подняться. Придержала дверь и поддерживала его, когда мы шагнули на каменный тротуар гетто.
– Спасибо тебе, – поблагодарила я и посмотрела в его доброе лицо заплаканными глазами. – Как такое возможно? Ответь мне, Йосси. Ты – божий человек. Как находить разумное объяснение всему происходящему?
– Я не могу. И пробовать не стал бы. Нельзя задавать подобный вопрос и пытаться найти разумный ответ. Невозможно допустить, что у этого кошмара есть смысл, причина, разумное объяснение. Почему в нашем мире немцы установили геноцид? На этот вопрос мы не должны даже пытаться найти ответ. Мы должны сопротивляться. Никакая логика не способна объяснить это.
Под руку мы вошли в синагогу.
На следующее утро я встала рано, отстояла очередь в мясную лавку и отправилась на работу. Давид кивнул в знак приветствия, когда я вошла. И хотя я чувствовала себя подавленной, его улыбающееся лицо немного подняло мне настроение.
Шло время, меня целиком поглотила рутина. Часов в десять у нас был короткий перерыв. Уборная располагалась в противоположном конце Цеха, и мне приходилось мчаться что есть духу, лавируя между машинками, по коридорам, чтобы успеть за время перерыва пробежать туда и обратно. Поскольку я всегда спешила, у меня даже не было времени обращать внимание на то, кто еще работал со мной в одной смене. Мне удавалось умыться, кое-как пригладить волосы, почистить зубы и вернуться на работу. В обед нам давали хлеб с мясом. Часа в три – еще один перерыв, в шесть моя смена заканчивалась, если только нас не оставляли сверхурочно. А по вечерам я возвращалась в свой уголок в подвал Йосси.
В конце весны 1941 года мой мир изменился к лучшему. Я как раз мчалась по Цеху, чтобы умыться, на этот раз по другим проходам, когда услышала девичий шепот:
– Лена! Лена! Неужели это ты?
Я обернулась и застыла как вкопанная.
– Каролина! – закричала я.
Она поморщилась:
– Тихо, тихо…
Но было уже поздно. Надсмотрщик заметил нас и подошел.
– Разговоры запрещены! – рявкнул он и подтолкнул меня. – Иди дальше. Сегодня нужно сшить много шинелей.
Я поверить не могла, что наткнулась на Каролину. Да еще и на своей смене. В конце дня я дождалась ее на улице. Что это было за воссоединение! Я крепко обняла ее, и мы ревели белугами. Я получила назад украденный кусок своей жизни.
По дороге в гетто мы поведали друг другу о том, что произошло. Я рассказала о дне, когда забрали мою семью, о том, как пряталась на чердаке, о Тарновских. Когда я сказала ей о Милоше, она разрыдалась.
Каролина рассказала, что их с мамой выселили из дома в середине марта – там поселилась семья поляков, по всей видимости, их я и видела. Каролина с мамой нашли крошечную комнатушку в трехэтажном доме без лифта на задворках гетто и работу в Цеху. Денег у них не было – те гроши, что они получали, уходили на еду.
Я спросила, как ее мама, и подруга покачала головой:
– Она угасла, Лена. Но не от того, что ты думаешь. Не от алкоголя. Она прекратила пить раз и навсегда. Я так ею гордилась! Мы каждый день утром вместе шли на работу, а вечером возвращались. Она обустроила маленькую квартирку. Когда нас вынудили покинуть дом, мы с мамой собрали белье, вещи, посуду, даже наши подсвечники, погрузили все на тачку и привезли в гетто. Жили мы в помещении размером с большую кладовую, но мама сделала его уютным. Когда мы возвращались с работы, она готовила ужин. И всегда уверяла, что есть не хочет. Проглатывала пару кусочков и говорила: «Каролина, доедай». Теперь я понимаю, что она отдавала мне свою еду, чтобы я выжила. Ей сказали, что сильных молодых женщин отберут для работы, потому что нацистам нужна рабочая сила. Тех же, кто работать не может, пустят в расход. Мама понимала, что старики для немцев бесполезны. «Стариков убьют», – говорила она. Мама жертвовала собой и голодала, чтобы я могла жить.
Каролина остановилась и отвернулась. Она плакала, а я пыталась хоть как-то утешить ее.
– Жаль, что я к ней плохо относилась, Лена. Когда я выросла, то только и делала, что критиковала ее. Думала: «Почему она не может быть такой, как пани Шейнман, а не слабой духом и безвольной? У Лены такие прекрасные родители, а у меня мать пьяница». Я всегда считала, что достойна лучших родителей. Но мама доказала, что была сильной женщиной. Она стала сильной ради своей дочери. И все, что мне оставалось, – это наблюдать за тем, как она угасает. Сейчас я живу одна в маленькой, неотапливаемой комнате, которую мама, как смогла, попыталась сделать уютной. Если тебе негде жить, можешь переехать ко мне.
– Я бы с радостью, ведь я сплю на полу в котельной… Но я помогаю милому старичку Йосси. Как по мне, он и тридцати килограмм не весит. Как и твоя мама, он просто угасает. Едва передвигает ноги. Я ношу ему еду. Даю попить. Ночью слежу за тем, чтобы он был укрыт. Если я перееду, боюсь, он умрет. Прости.
– Мне очень жаль, Лена. Жаль мою маму, жаль твою семью, которую я всегда считала своей. Очень жаль малыша Милоша. Мне жаль поляков, потому что мы все – расходный материал. Мы живем, пока нужны немцам. Поляков используют и выбрасывают, как пустую банку. Мы с тобой живы, потому что умеем шить. Молись, чтобы немецкой армии нужны были шинели. Но даже сейчас немцы нас ломают, кусочек за кусочком, уже мало осталось. Мы тоже скоро умрем.
– А может быть, и нет. Я слышала, что формируются партизанские отряды, что другие страны воюют с немцами.
Каролина улыбнулась:
– Лена Шейнман всегда жила надеждой. Всегда была полна солнечного света. Ты везучая. Надежда поможет тебе пережить ночь. Я так не умею.
– Но у тебя есть я! – Я обняла подругу. – А у меня есть ты. Мы будем жить друг для друга.
Они решили на сегодня закончить, и Кэтрин закрыла свой блокнот.
Глава одиннадцатая
– Кэт, – через открытые двери позвала Глэдис, – тут толпа людей, которым ты назначила сегодня на утро! Сказать, чтобы подождали в приемной, или проводить их в конференц-зал?
Лиам, который сидел рядом с Кэтрин, удивился:
– Какая толпа, Глэдис?
– Четыре человека. Мистер Ширли, мисс Купер, мистер Вудвард и еще один неприятный на вид мужчина, который не удосужился представиться.
– Ясно. Скажи им, что я сейчас выйду. – Кэтрин повернулась к Лиаму. – Я думала, у нас встреча только с мистером Ширли.
– Я тоже так думал. Вполне предсказуемо, что он привел с собой помощницу, но он ни слова не сказал о том, что явится с клиентом и еще одним неприятным на вид мужчиной.
Кэтрин встала:
– Это всего лишь игра мускулами. Давай узнаем, что они предлагают.
Они вышли в приемную, где уже ожидали четверо посетителей.
Невысокий практически лысый мужчина в темно-синем костюме, белой сорочке, красном галстуке, с черным кожаным атташе-кейсом в левой руке шагнул им навстречу и с едва уловимым южным акцентом сказал:
– Доброе утро, миссис Локхарт. Я Майк Ширли. – Он широко улыбнулся и протянул правую руку. – Сьюзан Купер, моя помощница. Позвольте представить вам мистера Артура Вудварда.
Кэтрин ответила на рукопожатие.
– Доброе утро, приятно познакомиться. А это Лиам Таггарт. – Потом указала на крупного мужчину в углу. – Могу я поинтересоваться, кто этот джентльмен?
– Разумеется. Это мистер Скарпини, личный секретарь мистера Вудварда.
– Насколько я помню наш телефонный разговор, – раздраженно вмешался Лиам, – вы хотели встретиться со мной и Кэтрин. Ни слова о ваших клиентах и их личных секретарях сказано не было.
Кэтрин добавила:
– Разумеется, мы не пригласили миссис Вудвард. И пока я не пойму, насколько оправдана наша встреча, я считаю это нецелесообразным.
– Я вам сейчас расскажу, чем оправдана наша встреча, миссис Острый Язычок! – рявкнул Артур. – Вы грабите пожилую, немощную старушку. Но на сей раз вы выбрали не ту женщину, потому что она оказалась моей матерью. Вы хотите знать, чем оправдана встреча? Потому что я так хочу! И если наша встреча не состоится и вы не уступите моим требованиям, мои адвокаты в мгновение ока подадут иск в суд.
Кэтрин в ответ кивнула и сказала:
– Мистер Ширли, вам лучше развернуться и покинуть мою приемную. И забирайте ваших клиентов вместе с секретарями с собой. Всего доброго!
Ширли все это время продолжал улыбаться.
– Давайте соблюдать спокойствие. Артур, я полагаю, что вам стоит немного спустить пар. Вы слишком напираете. Давайте не будем ссориться, а сядем и изложим друг другу свою позицию.
Лиам подошел к двери и распахнул ее:
– Вы слышали, что сказала миссис Локхарт? До свидания, уважаемые!
– Нет! – отрезал Артур.
Скарпини, сжимая кулаки, встал перед ним.
– Еще шаг – и получишь под дых, – пригрозил Лиам. – А теперь убирайтесь отсюда!
Ширли примирительно поднял руки:
– Спокойнее, спокойнее… Мы все встали не с той ноги. Артур, почему бы вам с Рико не прогуляться на улице, пока мы переговорим с миссис Локхарт? Если она позволит, разумеется.
Кэтрин кивнула. Проходя мимо Лиама, Артур прорычал:
– Морочат тут голову…
Лиам улыбнулся:
– Знаете, я не очень-то разбираюсь в том, кто и кому морочит голову, но мне кажется, что скоро вы узнаете, как отлично миссис Локхарт умеет давать под зад. – И он закрыл за мужчинами дверь.
Лиам, Кэтрин, Ширли и мисс Купер устроились в конференц-зале.
– Прошу прощения за неподобающее поведение мистера Вудварда, – извинился Ширли. – Он просто защищает свою мать. Вы же знаете, что она пережила войну.
– Знаю.
Ширли продолжил:
– Могу я узнать, какие отношения связывают вас с миссис Вудвард?
– Отношения между адвокатом и клиентом, – сдержанно ответила Кэтрин, которая сидела спокойно, сложив руки перед собой на столе.
– Она официально наняла вас и заплатила предварительный гонорар?
– Это вас не касается.
– Знаете, а может и коснуться. Я, как вы понимаете, представляю интересы мистера Вудварда на основании общей доверенности.
– Я могу с ней ознакомиться? – поинтересовалась Кэтрин.
Мисс Купер достала из портфеля документ и передала его через стол. Кэтрин прочла доверенность и вернула ее назад.
– Срок доверенности два года как истек, – сказала Кэтрин. – Согласно ей требуется согласие Лены, чтобы продать бизнес мужа после его смерти. Здесь нечего обсуждать.
– Очень проницательно, – заметил Ширли. – Но мой клиент уверяет, что у него есть более поздняя копия. К сожалению, я пока ее не видел.
– У вас есть что добавить? – поинтересовалась Кэтрин. – В противном случае наша встреча окончена.
Ширли вновь поднял руки в знак капитуляции.
– Послушайте, мы можем говорить откровенно? Мать Артура очень слаба. В столь преклонном возрасте ее преследуют призраки и сказки. И дело не только в деньгах, речь идет о том, чтобы удержать ее в границах реальности. Профессия накладывает на вас определенные обязательства. Как адвокат, вы не можете вести ее некой иллюзорной дорогой без всяких обоснованных шансов на положительный исход.
– У вас все?
Ширли вздохнул и покачал головой. Потом кивнул своей помощнице, которая тут же вытащила из портфеля очередной документ.
– Я надеялся избежать этого, но вот иск о признании вашей клиентки недееспособной. В нем идет речь о признании миссис Вудвард недееспособной в связи с расстройством психики и о назначении Артура Вудварда ее опекуном. И распорядителем ее имущества. Уже в понедельник мы подадим этот иск в суд, если я не дождусь от вас звонка. Уверен, вы меня понимаете.
– И вы посмеете подать подобный иск и лишить эту мужественную женщину имущества и достоинства, как поступили нацисты семьдесят лет назад? Неужели Артур хочет упрятать ее в дом престарелых? У вас совесть есть?
– У меня есть клиент, который очень щедро платит.
Лиам вскочил с места:
– Убирайтесь к черту из этого кабинета! Адвокатишка-прощелыга!
– Не смейте называть меня…
– Пошел вон! Или уходишь, или вылетишь отсюда. Немедленно!
Ширли посмотрел на Кэтрин:
– Мне действительно уйти, миссис Локхарт?
Кэтрин улыбнулась:
– Вам лучше его послушаться.
Ширли собрал свои бумаги:
– Вы совершаете огромную ошибку.
Лиам обошел стол.
– Хорошо, я уже ухожу, ухожу…
Ширли схватил пальто и поспешил к двери.
Кэтрин тяжело опустилась на стул. В глазах у нее стояли слезы.
– Может быть, стоило попытаться его образумить? Теперь ситуация осложнилась.
– Неужели ты действительно думаешь, что разговор привел бы к чему-нибудь? У этого Ширли приказ от клиента, который очень щедро платит.
– Мне так жаль Лену. Я должна связаться с ней и предупредить.
Кэтрин взяла телефон и набрала номер. Лиам откинулся в кресле, вцепился в подлокотники и покачал головой.
– Лена! – произнесла Кэтрин в трубку. – Я только что встречалась с адвокатом Артура. – Она помолчала, слушая ответ. – Знаю. Согласна. Нет, не думаю, что удастся от него отмахнуться. Вы можете прийти завтра утром? – Снова молчание. – Отлично! Тогда до встречи.
Глава двенадцатая
– В десять утра у меня назначена встреча с Леной, – сообщила Кэтрин.
– В таком случае у нас полно времени, чтобы позавтракать, – ответил Лиам, спокойно разбивая три яйца. Рядом стояла тарелка с беконом, накрытая салфеткой.
– Если ты не возражаешь, я бы съела тост. Меня что-то подташнивает.
– Тебе нужен белок. Что толку в тосте? В подсушенном хлебе? Что полезного в нем для моего малыша?
– Это единственное, что я смогу проглотить. – Она подавила отрыжку. – Что ты нарыл вчера о семействе Вудвардов?
– Все, как ты и думала, за исключением того, что инвестиционная компания «Ди-Эм-Даблю-Инкорпорейш» – сокращенно от Д. Моррис Вудвард – оказалась намного более успешной, нежели мы ожидали. В прошлом году ее продали за семьдесят пять миллионов долларов компании «Прогрессив».
Кэтрин кивнула:
– Следовательно, речь идет о внушительном имуществе.
– И очень веской причине, по которой Артур хочет наложить лапу на мамины денежки. До продажи он был вице-президентом «Ди-Эм-Даблю». Когда компанию продали, Артур занял должность консультанта в «Прогрессиве», но продержался там всего полгода. Насколько мне удалось узнать, он не очень-то пришелся ко двору и его попросили уволиться.
– Вот так сюрприз! Тебе удалось узнать, какая часть из семидесяти пяти миллионов от продажи компании перешла к Артуру?
Лиам покачал головой:
– Это частная компания. Они не обязаны сообщать доли пайщиков или их дистрибуции. Как я понимаю, Артур процветает. Он живет в Баррингтоне в доме за десяток миллионов долларов. А еще у него есть место на бирже, он торгует от имени «Артур Вудвард Инвестментс». Но Лена является единственной наследницей состояния мужа по условиям завещания, представленного в суде по делам о наследстве. Имущество, которое переходило по наследству, было небольшим. Но это совершенно ничего не означает. Насколько я понимаю, у Лены с мужем был сложный план наследования и все находилось в совместном владении – возможно, через некий трастовый фонд, – а потом все имущество перешло к Лене как пережившей супруга, без обращения в суд.
– Значит, Артур мог ничего и не получить в случае смерти отца?
– Возможно, и нет, но он мог получить часть от продажи компании.
– Странно. Если он катается как сыр в масле, то почему хочет наложить лапу на деньги матери?
– В голову приходит две причины.
Лиам выложил яичницу на тарелку, добавил несколько кусочков бекона и подошел к столу, но Кэтрин протестующе подняла руку.
– Лиам, пожалуйста, не ставь это на стол. Серьезно, мой желудок не выдержит. Ты не можешь поесть в сторонке? – Она отвернулась и замахала руками. – Запах… Прости…
Она выбежала из кухни и бросилась по коридору.
Через несколько минут Лиам заглянул в гостиную:
– Ты как?
– Прости. Сегодня утром твой малыш не хочет яичницу с беконом.
Лиам улыбнулся:
– Что ж, вернемся к Артуру. Почему он хочет наложить лапу на мамины денежки? Мои версии следующие. Первая: несмотря на то что Артур Вудвард кажется богатым, мы точно не знаем его настоящего финансового положения. Я не обнаружил ничего противозаконного – ни тяжб, ни судебных разбирательств, у него хорошая кредитная история, – но, возможно, сведения о его состоянии преувеличены. Он живет на широкую ногу. Его сегодняшние вложения могут быть очень рискованными, а может, он не в силах разобраться в некоторых рыночных позициях компании. Кто знает? Все, что нам известно: он мог бы взять кредит для каких-то финансовых сделок, мог бы убедить остальных увеличить кредитный лимит на том основании, что он унаследует родительское состояние.
– А вторая причина?
– Возможно, он просто алчный человек, который хочет контролировать все состояние Вудвардов.
– Настолько жадный, что готов засудить собственную мать?
– По всей видимости, да. Но почему он хочет засудить Лену, если она не оставит попыток найти дочерей Каролины? Расходы на поиски, даже учитывая твои и мои гонорары, – капля в море. Это и на один процент не уменьшило бы суммы его наследства. Почему выдвигается требование, что либо Лена перестает с тобой встречаться, либо тебя ждет слушание о признании ее недееспособной? Другими словами: какая связь между этими двумя вещами? Не вижу разумного объяснения.
* * *
Лена приехала в контору где-то в начале одиннадцатого, и Кэтрин передала ей копию иска, который намерен был подать Артур. Лена прочитала, покачала головой.
– Почему Артур это пишет? Это же все неправда!
– Мне очень жаль, – ответила Кэтрин. – Я же предупреждала вас: у него очень агрессивные адвокаты.
– Но Артур сам подписал этот иск. И он нотариально заверен. Он клянется, что все это правда. А это не так.
– Нам понадобятся ваши медицинские карты. Они помогут доказать, что его утверждения голословны.
Кэтрин протянула Лене предусмотренное законом заявление о согласии на разглашение и обработку медицинской информации.
– Когда мы должны ответить на этот иск? – спросила Лена.
– Понимаете, иск еще не подан в суд. Если адвокат подаст его, как грозится, предварительное слушание по делу может быть назначено через пятнадцать дней.
– Неужели Артур на это пойдет? Неужели он действительно может отобрать все имущество и поместить меня в сумасшедший дом?
– Получится ли у него? Нет, если мне будет что сказать. Истцом выступает Артур, следовательно, и все бремя доказательств ложится на него. Ему придется представить суду неопровержимые медицинские доказательства вашей недееспособности и невозможности принимать какие бы то ни было решения, касающиеся вас лично и ваших финансов.
– Он не достанет никакого медицинского подтверждения. Мои врачи никогда не скажут, что я страдаю старческим слабоумием. Они знают меня много лет.
– К сожалению, заключение будут давать не ваши врачи. Он пригласит одного-двух сторонних специалистов, которых сам наймет, а они могут быть, а могут и не быть честны и откровенны. Но они будут являться свидетелями-специалистами, а ваши врачи – нет. Вне всякого сомнения, врачи Артура изучат ваши медицинские карты и представят заключение, что вы не способны управлять своими делами, как, вероятнее всего, делали уже десятки раз во время десятков слушаний о признании недееспособным человека, которого они никогда в жизни не лечили.
– Врачи, которые меня даже не знают?
– Именно так. Они прочтут все ваши медицинские документы. И уже основываясь на его мнении и информации, которую предоставит ваш сын, а возможно, и некоторые другие люди…
– Какие еще люди? – вздрогнула Лена.
– Не знаю, Лена. Какие еще люди могут располагать информацией о вашей каждодневной жизни?
– Никто из них никогда не назовет меня сумасшедшей.
Кэтрин подняла руку:
– Послушайте, в конце концов, Артур обязан убеждать суд, приводя неопровержимые доказательства, а не просто голословные утверждения. Слова его врача или свидетеля не будут такими же вескими доказательствами, как слова врача, который лечит вас уже много лет.
Вмешался Лиам:
– Лена, помогите нам в этом разобраться. Адвокат Артура сказал, что даст этому иску ход, если только вы не прекратите встречаться с Кэтрин. Все наши предположения – денежные аппетиты Артура, желание полного контроля, возможные финансовые трудности – строятся на масштабах наследственного капитала. Но это миллионы, а расходы на поиски дочерей Каролины не превысили бы и пары тысяч долларов. Ну, максимально десять-пятнадцать тысяч. Почему Артур готов взорвать атомную бомбу, лишь бы сберечь пару тысяч долларов?
Лена не поднимала головы, глядя на сложенные руки.
– Мне кажется, я знаю.
Лиам и Кэтрин переглянулись. Оба молчали.
– Все дело в завещании. После смерти мужа я попросила адвоката составить новое завещание. И Артуру об этом известно.
– Вы исключили Артура из числа наследников? – поинтересовалась Кэтрин.
– Нет. Не совсем так.
– Артуру известна суть нового завещания? Ему известно, что он частично лишен права на наследство?
– Нет. Он понятия не имеет, что в новом завещании.
– Я читала завещание вашего супруга, – сказала Кэтрин, – которое было представлено в суде. Мистер Вудвард все оставил вам, а если бы вас не было в живых, все перешло бы к Артуру. Следовательно, Артур был бы первым наследником всего состояния, если бы вы умерли раньше супруга. Артур был бы, как мы это называем, наследующим бенефициаром. До того как вы изменили завещание, оно было точной копией завещания вашего мужа?
Лена кивнула:
– Мы с мужем одновременно составили свои завещания много лет назад. Они были аналогичными. Все имущество в случае нашей смерти наследовал Артур. И наши доверенности были одинаковыми.
Кэтрин подалась вперед:
– Лена, вы не обязаны раскрывать нам или кому бы то ни было еще суть вашего последнего завещания или вашей доверенности. Это ваше личное дело.
– Благодарю.
– Как я понимаю, вы не показывали Артуру ни копии нового завещания, ни вашей доверенности? – уточнил Артур.
Лена кивнула:
– Нет.
– Потому что знали, что он бы этого не одобрил?
– Понимаете… Как вы сами сказали, это мое личное дело.
– Не является ли адвокат, который составлял это завещание, одновременно и адвокатом Артура?
– Разумеется, нет. Артур никоим образом не мог узнать о моем завещании. Но он точно знает, что завещание я переписала.
– Откуда ему это известно?
– Он видел, как я доставала из сейфа копию старого завещания, и поинтересовался, куда я собралась. Я сказала, что иду к своему адвокату, а когда вернулась, он спросил, что я там делала. Я ответила, что его вопрос неуместен.
Лиам посмотрел на Кэтрин и пожал плечами.
– Нетрудно догадаться.
– Что ж, вернемся к делу. Мне понадобятся копии всех ваших медицинских документов и разрешение побеседовать с врачами, – сказала Кэтрин.
Лена взяла иск и потрясла им в воздухе.
– То, что он утверждает в этой бумажонке, – вранье! Я не могу управлять своими делами? Я путаюсь в повседневных делах? Врачи советовали мне переехать в дом престарелых? Я представляю угрозу для себя и окружающих? Откуда он это взял?
– Это всего лишь голословные заявления. Ему придется представить фактические доказательства, и достаточно подробные. Общие утверждения меня не слишком-то заботят, больше беспокоит текст на странице три, абзац, в котором утверждается: «Ответчицу преследует навязчивая идея о существовании воображаемых детей. В последнее время она все свои силы и значительную часть сбережений тратит на поиски тех, кого в реальном мире не существует. Ни один здравомыслящий человек не станет так себя странно и эксцентрично вести».
Лена опустила голову, как будто внезапно она стала слишком тяжелой.
– Артур, Артур… Несмотря на то что жил в достатке, Артур всегда был закомплексованным ребенком, и я уверена, что в этом отчасти есть и моя вина. В группах психологической поддержки переживших войну всегда обсуждается эта тема: отношения в семье – это борьба. Поверьте, я старалась наладить отношения с Артуром. Но еще мальчиком он был очень скрытным. Постоянно сидел в своей комнате. Мы с Артуром… никогда не были достаточно близки. Тем не менее я не думала, что дойдет до такого. – Лена постучала пальцем по странице. – Неужели суд может признать меня слабоумной и отправить в дом престарелых? Я уверена, что дети Каролины существуют.
– Все не так просто. Мания – это психическое расстройство, вера в то, во что ни один человек в здравом уме никогда бы не поверил. Но для того, чтобы признать человека недееспособным или нетрудоспособным, суд обязан установить, что эта мания настолько овладела вами, что ваше личное и финансовое состояние под угрозой.
– А разве не об этом говорит Артур?
Кэтрин кивнула:
– Да, именно об этом. Иск очень искусно составлен. И я обязана предупредить вас, что в Иллинойсе прошла череда дел, когда завещание признавалось недействительным и не имеющим юридической силы, если было составлено под воздействием некой абсурдной мании. Подобное решение суда будет означать, что ваше новое завещание и доверенность аннулируются, а старое завещание вступает в силу.
– И тогда Артур после моей смерти унаследует все состояние?
– Совершенно верно.
– И как же нам его обыграть?
– С помощью доказательств. Конечно, убедительнее всего было бы доказать, что девочки существовали.
– За пятнадцать дней? – удивился Лиам.
Кэтрин покачала головой:
– Думаю, я смогу выиграть немного времени. Но вы уверены, что хотите продолжить поиски? Дело может оказаться очень мучительным. И мы можем проиграть. Мы можем не найти доказательств того, что близнецы живы, что вообще когда-либо существовали. Все может закончиться тем, что вашим опекуном назначат Артура. Вы можете оказаться в доме престарелых.
– Вы должны, по крайней мере, рассмотреть альтернативу, – посоветовал Лиам.
– А какая альтернатива?
– Мне кажется, мы могли бы обсудить это с ними и достичь компромисса, – сказала Кэтрин.
– И нарушить мое обещание, данное Каролине, прекратить поиски и порвать новое завещание? Ни за что! Я на это не пойду. Буду с ним бороться. Могу я рассчитывать на вашу помощь?
– Всенепременно, – ответила Кэтрин. – Буду готовить ответ на иск. Как я понимаю, они подадут его в суд уже в понедельник, а слушание назначат на начало января.
Кэтрин встала и направилась к выходу из комнаты.
– А сегодня у вас нет для меня времени? – спросила Лена. – Раз уж я здесь…
– Я только принесу стакан молока, Лена, – улыбнулась Кэтрин. – Но не прямо из-под коровы. И возьму свои записи.
Лиам потянулся за курткой и сказал:
– Прошу меня извинить. У меня небольшое дельце вне конторы. Позже увидимся.
Глава тринадцатая
– В последнюю встречу, – сказала Кэтрин, – мы остановились на том, что вы с Каролиной вновь встретились.
– Верно. Это было в мае 1941 года. Я была несказанно рада вновь воссоединиться с Каролиной, но заметила, что, как и многие другие, она пала духом. Я жалела, что не могу переехать к ней. Я могла бы ей помочь. Мы могли бы поддержать друг друга. Но я чувствовала себя в ответе за Йосси. Он с каждым днем слабел, и за ним некому было ухаживать.
Каждый вечер я приносила Йосси еду. Три раза в неделю водила его в синагогу. Приносила книги из библиотеки в синагоге и, когда у него уставали глаза, читала ему вслух. А еще каждый вечер я читала ему главу из Библии. Он уже и нескольких кварталов не мог преодолеть пешком. У него настолько иссякли силы, он стал таким слабым, что, казалось, переломится, как тростинка. Я боролась с его старостью и угасанием, связанным с постоянными притеснениями.
– Расскажи мне о своей семье, – однажды вечером попросила я Йосси.
Его глаза тут же наполнились слезами.
– Они все умерли. Моя Ривка умерла двадцать лет назад. У нас был один-единственный сын, Ефрем, который переехал в Литву. – Он покачал головой.
– А внуки?
Йосси расплакался и ответил:
– Я не могу об этом говорить.
Мы оставили эту болезненную тему, и я больше никогда ее не поднимала. Но, несмотря на все горести, обычно Йосси пребывал в приподнятом настроении. Я объясняла это его верой и начала понимать: существует Бог или нет, но для Йосси он точно есть. Даже при самых жутких жизненных обстоятельствах Йосси находил надежду и утешение в религии. Я уважала его набожность, но сама на подобное была неспособна.
К концу лета население гетто значительно возросло – здесь уже жили много тысяч человек, и не только из Хшанува, но и из окрестных деревушек. Наша основная инфраструктура не могла выдержать наплыва такого количества народу. Даже простая прогулка по гетто убеждала, что теснота – основное оружие старухи с косой. И урожай смерти был очевиден. Изначально, еще до того, как были построены газовые камеры и крематории, фашисты стремились довести людей до полного истощения. Недоедание, паразиты, болезни и отсутствие медицинского ухода каждый день забирали десятки человек. А зимой люди просто замерзали.
Что бы мы ни делали, условия жизни оставались антисанитарными. Здания в гетто были очень старыми, и лишь в немногих был водопровод. Общественные туалеты – обычные уличные уборные – не были рассчитаны на тысячи жителей. Там царили инфекции, с которыми шла постоянная борьба, но все равно каждый день поступали сообщения о новых и новых смертях.
Однажды вечером в начале сентября, возвращаясь с работы, я встретила Каролину. Она несла бумажный пакет.
– У нас будет чудесный ужин, – похвасталась она. – В этом волшебном пакете у меня утка, козий сыр, хлеб и масло. Ты можешь в это поверить?
– Ты шутишь? Нас же могут арестовать! Где ты все это взяла?
Он пожала плечами:
– Продала мамину брошку.
Мне стало грустно.
– Как жалко! Ты должна была сохранить ее.
Каролина улыбнулась:
– Она никогда мне не нравилась, я считала ее ужасной. За нее удалось получить еду, и давай не будем лукавить: еда намного лучше, чем какая-то брошка.
Мы засмеялись.
– Это правда!
– Давай устроим пир на свежем воздухе, – предложила Каролина. Вечер стоял теплый, и до заката оставалась еще пара часов. На углу гетто располагался маленький треугольный парк, там даже была скамейка.
– Сперва мне нужно проведать Йосси. Мы можем угостить его кусочком утки?
– Конечно. Здесь хватит на троих, – ответила Каролина. – Разумеется, мы поделимся с Йосси. Может, он даже захочет с нами на пикник.
Мы остановились у дома. Я бегом спустилась по лестнице и обнаружили Йосси, который лежал, свернувшись калачиком, с зажатой в руках Библией. Я остановилась как вкопанная. Он обмарался. Я наклонилась, чтобы его разбудить, и поняла, что Йосси умер. Я опустилась на пол, не в силах пошевелиться, парализованная отчаянием. Йосси был добрым человеком, который в жизни и мухи не обидел, который принес в мою жизнь надежду. Его смерть не укладывалась в голове.
Через несколько минут в подвал спустилась Каролина.
– Эй, две копуши, вы всю ночь намерены тут просидеть? – И тут она поняла, что произошло. – Нужно сообщить в юденрат.
– Я должна обмыть его, Каролина. Не могу допустить, чтобы его видели в таком виде.
– Его подготовят к захоронению. Они ежедневно с этим сталкиваются.
– Не могу. Он не должен так выглядеть. Он был образованным человеком. Хорошим человеком. Я должна его обмыть.
Каролина кивнула.
– Ты, конечно же, права. Я принесу воды.
Мы обмыли и одели Йосси, уложили снова на матрас и скрестили ему руки на груди поверх Библии. Потом пошли домой к пану Капинскому. Он обнял меня и поблагодарил за то, что я заботилась о старике.
– Уверен, что благодаря тебе он достойно и легко прожил последние дни. Он часто говорил мне об этом. Я пришлю людей забрать тело.
– Вы пойдете со мной в синагогу, прочтете кадиш? – негромко спросила я.
Капинский удивленно приподнял брови.
– А разве не ты уверяла, что молитвы – это пустая трата времени и сил? Разве не ты смеялась над миньяном и говорила: «Кто вас слушает?»
– Это не ради меня, – ответила я. – Ради Йосси.
Пан Капинский улыбнулся:
– Может быть, и так – а может быть, и нет.
Он собрал в синагоге людей – мужчины расположились на первом этаже, женщины на балконе, – и мы восславили имя Господа в память о Йосси.
Лена замолчала и посмотрела на Кэтрин.
– Вам не кажется это странным? Первое, что пришло в голову: мой долг прочесть кадиш ради Йосси.
– Кто я такая, чтобы судить?
– Я имею в виду: объединиться с другими жертвами нацистского насилия в молитвах, которые восхваляют Господа в подобных безбожных обстоятельствах, – это вопиюще парадоксально. Но мне кажется, что Йосси настоял бы на том, чтобы я поступила именно так. Он повел бы меня за руку читать кадиш. Поэтому я так и поступила.
– После похорон Йосси у нас больше не было причин жить отдельно. Квартирка Каролины, в которой они жили с матерью, была крошечной и находилась в донельзя переполненном здании. Столько семей переехало в дом, где жила Каролина, и посягало на ее уголок, что жизненного пространства для нас двоих было недостаточно. Бессчетное количество людей было вынуждено жить на этом пятачке – не только евреи из Хшанува, но и беженцы, и переселенцы из других городов из Верхней Силезии. На этаже Каролины было битком семей, многие с маленькими детьми. Поэтому мы решили поискать другую комнату. Было совершенно очевидно, что котельная Йосси слишком мала и опасна для здоровья. Мы решили обратиться к пану Капинскому, поскольку юденрат часто выступал в качестве агентства, которое подыскивало комнаты людям.
– Свободной комнаты у меня нет, а если бы и была, я бы отдал ее семье с детьми, – ответил нам пан Капинский. – Но мы только что расчистили старый чугунолитейный завод на площади Божена. Это каменное одноэтажное здание с одним огромным открытым цехом. Там можно разместить до пятидесяти человек в маленьких отгороженных блоках. Но занимайте побыстрее! – предупредил он. – Больше десяти тысяч человек теснятся в нашем гетто всего в нескольких городских кварталах.
– Пятьдесят человек в одной комнате? Звучит не намного заманчивее, чем та, в которой жила Каролина, – заметила Кэтрин.
– Немногим лучше, но комнатка Каролины была тесной для двоих. Даже несмотря на то, что цех представлял собой единое открытое пространство, люди благодаря своей изобретательности могли обустроить себе отдельное жилье. Из ящиков можно было сделать комоды и столы. Можно было даже найти брошенную мебель. Давид тайком передал нам пару отрезов шерсти, которые мы использовали как матрас. До того как отнять дом, Каролине с мамой дали время собрать пожитки, и они привезли с собой постельное белье, посуду и комод. А у меня было лишь то, что смогло уместиться в вещмешке.
В цехе, которое все называли общежитием, были окна, высокие потолки, несколько голых лампочек и цементный пол, но, к сожалению, ни кухни, ни туалета, ни водопровода. Еще тут была котельная, вот только не было угля и никакого утепления на каменных стенах. Тем не менее благодаря изобретательности жильцов все помещение было разделено на импровизированные комнатки: простыни или одеяла, свисая с потолка, заменяли стены, а предметы мебели и ящики, расположенные определенным образом, отгораживали проходы. К чести всех нас стоит сказать, что уголки уединения были созданы из уважения одной семьи к другой. Хотя соседи находились от нас на расстоянии вытянутой руки, мы предпочитали ничего не видеть и не слышать.
Мы с Каролиной отделили себе уголок, в котором оборудовали место для сна и жизни. Старый комод Каролины и деревянный ящик, который мы использовали в качестве стола, служили еще и небольшой стеной, которая обозначала границу нашего пространства. Я бы сказала, что у нас было помещение где-то два с половиной на три метра с окном. В сентябре окно казалось благословением, но с приходом зимы мы поняли, что иметь его – большая неприятность.
Летом для нас хватало света, чтобы создать уют до наступления комендантского часа. Мы могли встать рано утром, с первыми лучами солнца, и стоять в очередях за продуктами. После работы мы могли постирать одежду. Мы могли даже погулять, хотя и в пределах гетто. Но к осени все изменилось.
Пища стала более скудной. Во многих магазинах уже к десяти часам заканчивались продукты. Нацисты указом запретили продавать евреям яйца и молочные продукты – ни молока, ни сыра, ни масла. Особенно страдали семьи с маленькими детьми. Младенцам нужно было молоко, а голодающие матери не всегда могли накормить их грудным. Начал развиваться «черный рынок». Иногда запрещенные продукты можно было купить у не евреев, но это было опасно, да и денег было в обрез. Если удавалось купить молока в городе, обычно его отдавали в юденрат, а там уже раздавали детям. Очень опасно было приобретать запрещенные продукты: нацисты без суда и следствия расстреливали любого, кто покупал или продавал из-под полы.
Чтобы еще больше подорвать наше здоровье и не дать нам возможности приобрести продукты на «черном рынке», нацисты конфисковали все наши ценности – серебро, украшения, картины, даже красивую мебель. Они требовали, чтобы мы сдали все ценности еще в начале оккупации, но многие оставили у себя хоть что-то. Немцы периодически обыскивали наши комнаты и вещи, и тем, у кого находили ценности или деньги, грозило телесное наказание или того хуже. Поэтому то, что Каролина обменяла украшение на еду, было рискованным поступком.
В Цеху распорядок никогда не менялся. Каждое утро, когда другие женщины уходили со смены, мы с Каролиной подходили к своим машинкам. Три смены трудились круглосуточно, одна за другой. Огромные отмеренные куски тяжелой черной шерсти периодически выкладывались на мое рабочее место. Не успевала я дошить одну шинель, как Ильза тут же приносила следующую. Иногда иглы ломались. Тогда я поднимала руку, Ильза подходила, и мне влетало по первое число за сломанную иглу. В конце концов после восьмичасовой смены звенел звонок и мы с Каролиной возвращались в наше общежитие.
Такая была у нас жизнь в 1941 году. Работали. Ели. Спали. Мы терпели и, как и остальные, приспосабливались к этому скудному образу жизни. Пока не стало хуже, мы думали, что сможем пережить оккупацию. Тогда мы не знали, что для нас приготовили нацисты и зима.
Каждую ночь я сворачивалась калачиком под одеялом, пытаясь согреться в неотапливаемом помещении. Как всегда, я спала, прижимая к себе туфлю Милоша, обнимая ее, словно плюшевого мишку. Как мне не хватало младшего братишки! Но плакать я перестала.
А в Цеху в конце осени ситуация изменилась. Зигфрид, немецкий солдат двадцати с небольшим лет, был назначен надсмотрщиком на участок Каролины. Подруга призналась мне, что он частенько околачивался около ее стола, иногда болтал с ней, когда Каролина работала. Он был молодым, одиноким, и она явно ему нравилась. Как я уже говорила, Каролина была очень красива: густые, черные, вьющиеся волосы, выразительные глаза, нежные черты лица и потрясающая фигура. И она знала, как вскружить мужчине голову.
А еще Каролина была хорошим собеседником, и неважно, о чем шел разговор, – она могла поддержать любую тему. И отлично умела слушать. Благодаря сияющим очам и соблазнительной улыбке у нее в школе был не один воздыхатель. А сейчас ею заинтересовался Зигфрид.
Внимание солдата оказалось для нас огромным благом. Он стал защитником Каролины. Ей больше не докучали остальные надсмотрщики. Она работала над меньшим количеством шинелей, но выработка у нее считалась прежней. Каждый день Зигфрид приносил завернутую в газету еду и смущенно уверял Каролину, что это излишки, которые он хотел бы разделить с ней: сыр, мясо и – чего больше всего хотелось! – немного фруктов. Когда никто не видел, он совал этот пакет в карман пальто Каролины. Угощать девушку – для застенчивого парня это был шанс стать ближе к ней. Чтобы понять, насколько Зигфриду нравилась Каролина, следует оценить серьезность его поступка, ведь было строжайше запрещено давать еду евреям.
Все знали, что девушки, которые хоть немного сближались с надсмотрщиками, могли получить дополнительную порцию на обед, не говоря уже о более мягком обращении. Одни девушки при свете звезд тайком встречались и миловались с солдатами, у других складывались более серьезные отношения. Но все они меньше работали, пользовались привилегированным положением и обычно не подвергались насилию.
Нацистские высшие чины, естественно, по ряду причин не одобряли подобных отношений. Время, потраченное на флирт, отбиралось у работы: девушки, которые работали меньше часов, выдавали меньше шинелей. Не говоря уже о том, что немцам было запрещено иметь какие-либо отношения с евреями.
Тем не менее «верхушка» закрывала на это глаза, и подобная практика продолжалась.
– Помню, Бен рассказывал, что его сестру забрали и увезли в бордель, – сказала Кэтрин. – Нацистская элита не возражала против того, чтобы насиловать евреек.
– Вы правы. По всей Польше молодых женщин хватали на улицах, забирали с рабочих мест, из магазинов и домов, принуждали быть проститутками или сексуальными рабынями – называйте это как хотите. Бордели росли как грибы после дождя, чтобы обслуживать офицеров Рейха и элиту Германии, и всем было наплевать, была ли изнасилованная девушка еврейкой или католичкой. Таким был и бордель в Рабке, куда отослали сестру Бена. Бордели, как теперь известно, были в числе сорока пяти тысяч пятисот мест, где люди подвергались гонениям со стороны нацистов.
В какой-то момент большинству девушек в Цехе делались подобные предложения. Наверное, предложение – это эвфемизм. Многих брали силой. Многие держались до конца, но мерзкие условия, малодушие и страх вынуждали все большее число девушек уступать. Особенно зимой.
Зимы в Хшануве стояли суровые. Мороз проникал в неотапливаемые здания, а тонкие одеяла почти не согревали. Мы сворачивались клубочками, кутались в одеяло, но и это не спасало от холода. И если немецкий солдат, живший в отапливаемой квартире, проявлял интерес к кому-то из работниц, она могла воспользоваться возможностью провести ночь в его теплой спальне. Лучше переступить через стыд, чем замерзнуть до смерти. Никто не осуждал за подобные поступки.
Кэтрин подняла руку:
– Вы не обязаны говорить об этом. И разумеется, вам не за что извиняться.
– Я и не собиралась ни за что извиняться. Не стоит делать поспешных выводов.
Не все сразу же прыгали в постель к нацистам, и Каролина дурой не была. Подобные отношения заканчивались так же быстро, как и начинались. Длительные ухаживания были намного выгоднее, чем перегоревшая страсть. Зигфрид был робким юношей, а Каролина – яркой красавицей. Она держала его на почтительном расстоянии: игривые намеки, временами отстраненность… Отношения между Каролиной и Зигфридом оставались на уровне очаровательного флирта.
Зима 1941–1942 года выдалась невероятно суровой, к тому же началась очень рано. В декабре температура упала значительно ниже нуля. Мы напоминали кочаны капусты: блузка, свитер, пальто. Если повезло, у тебя было теплое пальто. Если повезло еще больше – два свитера. Тогда женщины не носили штанов или широких брюк, только юбки, чаще до середины икры. А если совсем уж везло, у тебя были сапоги, в которых можно было согреть ноги. Тонкий хлопчатобумажный шарф, бабýшка[29], – единственное, чем мы прикрывали голову.
В цеху было тепло. На улице стоял ледяной холод. И даже когда мы оказывались дома, облегчения это не приносило. В неотапливаемом здании было всего на пару градусов теплее, чем на улице. Даже сложенное вдвое одеяло мало помогало. Заснуть было практически невозможно. Просто не было способа согреться. Через щели в окнах, хотя мы и заткнули их газетной бумагой, свистел ветер.
Когда в свои права вступил декабрь и подул северный ветер, я промерзала до костей. Каждую ночь я мерзла. Я натягивала всю свою одежду, куталась в одеяло и, если удавалось довести себя слезами до изнеможения, засыпала. Но уже через час просыпалась от того, что меня била дрожь. И психологически, и физически я проигрывала эту битву. Каждый день я боялась идти домой, опасаясь не пережить очередные ледяные восемь часов. Помимо всего прочего, я плохо себя чувствовала. Я была истощена, обезвожена и плохо питалась. Не хватало витаминов и белка, чтобы противостоять простуде. Скудного количества пищи было недостаточно для поддержания организма, и наша сопротивляемость снизилась до минимума. Казалось, силы по капле сочатся из моего тела. И я всерьез беспокоилась, что не переживу очередную ночь.
Однажды особенно холодной ночью в конце декабря я лежала, свернувшись калачиком под сложенным вдвое одеялом и укрывшись поверх него картоном, и дрожала так сильно, что зубы стучали. Я понимала, что конец близок, и уже готова была сдаться. Если честно, мне было наплевать, умру я или нет, только бы избавиться от этих страданий. И если бы рядом не оказалась Каролина, я бы до утра не дожила.
Я лежала, тряслась как осиновый лист и плакала навзрыд, когда почувствовала, что кто-то гладит меня по спине. У моей постели стояла Каролина со своим одеялом и подстилкой.
– Подвигайся, – велела она, – к тебе гости.
– Не надо! – запротестовала я. – Похоже, я заболеваю, не хочу, чтобы и ты заразилась.
– Помолчи, – ответила она. – Просто подвинься.
Она скользнула под одеяло и прижалась ко мне. Обнявшись, мы лежали на двух подстилках под двумя одеялами.
Я уже выдохлась и готова была забыться вечным сном. Но Каролина проявила силу там, где у меня ее не хватило. Она хотела, чтобы я выжила. Она вернула меня к жизни. Тепло наших тел соединилось и согревало нас всю ночь.
Она замолчала. Слезы струились по ее щекам, губы дрожали, дыхание было прерывистое. Кэтрин достала коробку бумажных салфеток и обняла Лену за плечи, пытаясь успокоить.
– Хотите, мы на этом остановимся? – спросила она.
Лена покачала головой.
– Мы выжили. Каждую морозную ночь мы скручивались калачиком, я обхватывала руками и ногами ее прекрасное тело… И мы выжили. Многие не перенесли тех холодных польских ночей. Утром мы просыпались, а кто-то проснуться уже не мог. Иногда мы обнаруживали замерзших детей, их маленькие тельца навеки остались скрюченными.
Обморожение было обычным делом, а его последствия – просто ужасающими. В больнице гетто со смешным запасом медикаментов пытались помочь пострадавшим этой лютой зимой – иногда накладывали повязки, иногда ампутировали конечности, но многие не выживали. Случалось, кто-то выживал, но пальцы так и оставались обмороженными. Благодаря решительности и силе воли Каролины я выжила.
– Она вас согрела.
– Даже больше. Я плохо себя чувствовала и, несмотря на все усилия Каролины меня согреть, все-таки заболела. У меня поднялась температура, ее никак не удавалось сбить. Меня бросало то в холод, то в жар. В итоге мне стало настолько плохо, что я не смогла выйти на работу. В цеху меня прикрывал Давид. Вечером Каролина вернулась домой с чашкой горячего супа.
– Где ты его взяла? – удивилась я.
– Об этом не волнуйся, – ответила она. – Твое дело – поправляться.
Разумеется, я догадалась, что суп она взяла у Зигфрида, поэтому расстроилась. Каждый вечер она приносила мне чашку супа, немного сыра и мяса, а в обеденный перерыв – горячий чай, тост с вареньем и даже кусочек какого-нибудь фрукта. Я понимала, откуда что берется, и умоляла ее не давать Зигфриду никаких обещаний, не компрометировать себя.
– Помолчи, – отвечала она. – Я сама о себе позабочусь.
Тем не менее, несмотря на заботу, которой окружила меня Каролина, температуру сбить не удавалось. Мне стало трудно дышать, начал мучить кашель, глаза покраснели, я судорожно вздрагивала.
Каролина видела, что мне становится все хуже и хуже. Она отправилась в больницу гетто и притащила оттуда врача. Я была вся в поту, когда он меня осматривал. Врач закончил осмотр, встал и, поджав губы, покачал головой, глядя на Каролину.
– У нее воспаление легких, – прошептал он, но я расслышала. – Мне очень жаль, но антибиотиков у нас нет[30].
На следующий день Каролина не пришла ночевать, вернулась только под утро, встала у кровати, поправила одеяла и помогла мне сесть. Я была в полубредовом состоянии.
– Каролина, где ты была?
– Открывай рот. Будем тебя лечить.
У нее была бутылка с лекарством, и она тут же влила мне в рот столовую ложку. Представляете, что сделали бы нацисты с тем, кто дал антибиотик – фантастика! – еврейке? Наказание – смерть. Но Зигфрид пошел на такой риск ради Каролины, и я тут же поняла, чем ей пришлось пожертвовать ради этого.
Я схватила ее за руку и заплакала:
– Ох, Каролина, что же ты наделала!
– Все хорошо. Обо мне не волнуйся. Принимай лекарство и поправляйся.
Следующей ночью ее опять не было дома. Она вернулась под утро, чтобы дать мне антибиотик. Я заплакала:
– Не делай этого. Я этого не стою.
Она велела мне молчать.
Лекарство помогло. Каролина вылечила меня. Через неделю я достаточно поправилась и смогла вернуться на работу – я была еще слаба, но чувствовала себя значительно лучше. Даже после того, как холода прошли и температура в помещении немного повысилась, мы продолжали спать под одним одеялом, тесно прижавшись друг к другу, – за исключением тех дней, когда Каролина не ночевала дома. Она согревала меня своим телом, а ее доброта и готовность к самопожертвованию согревали мне душу. В самых жутких условиях, в которых только мог существовать человек, Каролина оберегала меня, и благодаря ей я выжила.
Лена подалась вперед:
– Теперь вы понимаете? Понимаете, почему я должна выполнить свое обещание? Никого в своей жизни я так сильно не любила, как ее. Она готова была сделать для меня все. Она спасла мне жизнь. Я перед ней в долгу и собираюсь этот долг вернуть.
Кэтрин кивнула:
– Мы вам в этом поможем.
– С наступлением весны ночи стали теплее, но нам казалось странным спать по одиночке. Мы стали невероятно близки. Для нас было естественно спать вдвоем. Так мы и делали. Мы вместе вошли в 1942 год, и он стал для меня поворотным… Хорошо бы нам прерваться, – сказала Лена. – Я устала, да и вам, вижу, нужно отдохнуть. Продолжим в следующий раз?
– Договорились.
Глава четырнадцатая
– Все готова отдать за мороженое «Роки Роуд», – сказала Кэтрин, сидя в махровом халате на диване.
– А у нас ничего нет? – Лиам предчувствовал самое худшее.
– Если бы у нас что-то осталось, я бы встала и взяла сама.
Лиам вздохнул:
– Кэт, уже одиннадцать вечера. В это время все магазины с мороженым закрыты.
– «Мариано» работает до полуночи.
– «Мариано» – бакалейная лавка.
– Там продается мороженое.
– Кэт…
Она улыбнулась:
– Мне так хочется!
– Это всего лишь миф, который придумали женщины, чтобы манипулировать мужчинами во время беременности.
– Откуда ты знаешь? Ты женщина?
– Женщины заблуждаются. Это уже доказанный факт.
– Хочешь сам вынашивать ребенка?
Лиам вздохнул, пошел в коридор и надел куртку.
– «Мариано» от нас в двадцати минутах езды, – проворчал он.
– Спасибо, дорогой.
* * *
– Я просмотрела медицинские документы Лены, – сообщила Кэтрин мужу, когда тот вернулся.
– Серьезно? И что узнала?
– М-м-м… Это мороженое божественное! Еще одну ложечку, пожалуйста, маленькую ложечку, а потом я все тебе расскажу.
– Кэт!
– Расскажу, когда получу свое мороженое.
Лиам вернулся в гостиную с очередной порцией и сел рядом с Кэтрин.
– Ну и как, продвигаешься? – спросил он.
– Что ты имеешь в виду? Беременность? Только потому, что я попросила еще мороженого?
Он покачал головой:
– С Леной. С ее историей. Может, не стоит сейчас браться за это дело? Я помню, как ты была подавлена, когда беседовала с Беном Соломоном. Он рассказывал о трагедии, которую пережил сам и которую довелось пережить его семье во время холокоста, а потом тебе снились кошмары. Помнишь канун Рождества, когда в вестибюле церкви ты увидела привидения? А когда мы вышли из церкви, ты решила, что продавец каштанов – настоящий провидец.
– Жестокость нацистов просто не укладывается в голове, Лиам. Не верится, что через такое довелось пройти людям. Но во второй раз, хотя рассказ Лены звучит не менее ужасающе, я справлюсь. Я как адвокат сейчас действительно могу помочь – а это совсем другое дело. Если я помогу Лене перевернуть эту страницу ее жизни – найдем мы этих детей или нет – ну, ты понимаешь…
Лиам улыбнулся и поцеловал ее в щеку.
– Расскажи мне о медицинских документах.
– Еще с утра я получила по почте эти документы, а потом созвонилась с доктором Уоткинсом. Это терапевт Лены, он лечит ее уже четверть века. В самих записях никаких симптомов или упоминаний о лечении умственного расстройства нет. Имеются записи о том, что доктор Уоткинс обсуждал с Леной ее умственную активность. Он пишет: «сфокусирована, жалобы на рассеянность отсутствуют, нет случаев дезориентации или нездравого суждения».
– Что ж, отлично! Где же Артур будет искать поддержку врачей, чтобы удовлетворить иск об опекунстве?
– С записями полный порядок. Несколько вопросов возникло у меня после разговора с врачом. Он отметил возросшую тревогу, но полагает, что это из-за одержимости Лены двумя детьми.
Лиам поморщился:
– Он так и сказал: «одержимости?»
Кэтрин кивнула:
– Но никакого распада психики. Доктор Уоткинс сказал, что один из трех пожилых людей умирает от болезни Альцгеймера, и две трети из них – женщины, однако подобных симптомов у Лены не обнаружено. Я поинтересовалась, порекомендовал бы он обследовать ее на старческую деменцию. И он признал, что не видит в этом смысла. Во время регулярных осмотров он обследовал ее психическое здоровье, как обычно обследует восьмидесятилетнюю пожилую женщину, и она выглядела здоровой. Он не видит ни малейшего повода приписать дополнительные обследования, например энцефалографию или нейропсихологическое обследование.
Лиам пожал плечами:
– И почему ты волнуешься?
– Он явно был обеспокоен ее одержимостью детьми Каролины. В прошлом году Лена вопреки его совету все-таки съездила в Польшу. Он рекомендовал, раз уж она так хотела поехать, взять с собой Артура или какую-нибудь подругу и предупреждал, что ей опасно путешествовать одной. Лена ответила, что не хочет вмешивать в это дело Артура, а больше ей не с кем туда поехать, поэтому она отправится в Польшу одна, нравится это доктору или нет.
Лиам покачал головой:
– Врачи не любят, когда пациенты не прислушиваются к их советам. Почему доктор Уоткинс не хотел, чтобы она ехала?
– По физическим причинам. Она ходит с тростью, потому что у нее серьезно поражены артритом ноги и колени. Временами она не может сохранять равновесие. И ей уже восемьдесят девять лет! По мнению врача, поведение пациента, который, отмахиваясь от явных угроз и рекомендаций врачей, отправляется в столь утомительное путешествие, чтобы найти детей, вполне может быть расценено как одержимость. И когда я сообщила ему, что Артур утверждает, будто она бредит, врач ответил, что подобное поведение вызывает опасение.
– Лена одержима иллюзиями?
– Такого диагноза он не ставит, но сказал, что не стал бы его исключать. А потом мне прочли лекцию о маниакальном поведении. Существует два типа маний: бредовое расстройство – решительная вера в то, что в реальном мире невозможно, например что твоим телом завладели марсиане, и не бред – теоретически возможность существует, но немыслимая и иррациональная. Такие люди верят, что их преследует, например, ЦРУ. Если только у Лены нет достаточных оснований считать, что Каролина и ее дети существуют, подобная уверенность, которая становится смыслом жизни, может расцениваться как психологическое расстройство.
– И Артур утверждает, что она все свое время и деньги тратит на поиски этих детей.
– Дело в том, Лиам, что любое доказательство существования детей Каролины, каким бы косвенным оно ни было, развенчает диагноз расстройства.
– Значит, дело за малым: нам необходимо добыть доказательства. Вкусное мороженое?
– М-м-м…
Глава пятнадцатая
– Во время нашей последней встречи вы поведали мне очень трогательную историю о вас с Каролиной, о том, как она спасла вам жизнь. Я понимаю, почему вы хотите выполнить свое обещание. Но вы так и не объяснили, что именно вы ей обещали.
– Я пообещала вернуться и разыскать ее детей.
– А еще вы говорили, что должны поделиться с ними некой информацией. Но так и не сказали, какой именно.
– Кэтрин, это очень личное. Я не пытаюсь что-то от вас утаить, но вам действительно необходимо знать это сейчас?
– Наверное, нет, но, будучи вашим адвокатом, я должна построить защиту, основанную на фактах. В иске Артура, слушание по которому скоро назначат, он утверждает, что вы одержимы манией. Если делу дадут ход, мне придется представлять доказательства, что это не так.
– Я понимаю, – мягко сказала Лена. – Хорошо, я скажу.
Она собралась уже заговорить, но Кэтрин ее остановила:
– Если вы предпочитаете немного подождать с признанием, можно подождать.
Лена кивнула:
– Отлично. Тогда давайте подождем.
– По-моему, мы остановились на начале 1942 года. Вы сказали, что обстоятельства изменились кардинально.
– Да, изменились. Но до этого у меня произошел инцидент с Рольфом.
– Рольф был надсмотрщиком на моем участке и постоянно ко мне цеплялся. Он был жирным, рыжеволосым, с красным лицом. Лет ему было двадцать восемь, может, тридцать. Такой тучный здоровяк под метр девяносто и весом под сто килограммов. Он был напыщенным, неприятным типом – другими словами не скажешь. Он расхаживал по Цеху, задираясь ко всем, и полагал, что может иметь любую женщину, какую пожелает. И я входила в это число. В начале года он начал околачиваться возле моего рабочего места, отпуская непристойные шуточки и хвастаясь своими сексуальными подвигами.
Я изо всех сил старалась не обращать на него внимания и, разумеется, никоим образом не поощряла этих ухаживаний. Но намеков он не понимал или не хотел понимать. Он клал руки мне на плечи, убеждая, что может изменить мою жизнь в лучшую сторону, если захочет. Я качала головой, вежливо отклоняла его ухаживания, убирала его руки со своих плеч. Через какое-то время он, обманувшись в своих ожиданиях, разозлился. И тогда началось физическое насилие.
Когда он обходил Цех, то намеренно налетал на меня и толкал. Или выхватывал шинель из-под моей машинки и швырял ее на пол с криком: «Ох!» Однажды это увидел Давид. Он отвел Рольфа в сторону, но я видела, что Рольф нагло отрицал, что делал что-то, и отвечал на все обвинения язвительным смехом.
На следующий день Рольф подошел ко мне сзади, наклонился и сказал:
– Не рассчитывай, что какой-то начальник цеха еврей заставит меня передумать. Я положил на тебя глаз. А Рольф всегда получает то, что хочет.
Он схватил меня за грудь, засмеялся и пошел дальше. Тем же вечером перед уходом домой я рассказала о случившемся Давиду.
Через два дня Рольф вновь принялся меня изводить. Давид увидел, подошел и велел зайти к нему в кабинет. В тот же день Рольф получил новый приказ – его перевели в ночную смену.
Рольф воспринял это болезненно. Он был просто вне себя и пожаловался гауптману Рихтеру, который руководил нашим предприятием. Как я уже говорила, нацисты организовали Цех и назначили управляющим Давида, но он был наемным служащим и подчинялся высшему руководству, а этим руководством и был гауптман Рихтер. Бóльшую часть времени Рихтер проводил в кафе и барах. Он принимал все рабочие решения Давида и обычно его не беспокоил, но после жалобы Рольфа от Давида потребовали, чтобы он оправдал перевод надсмотрщика.
Тем же вечером Давид позвал меня в кабинет и закрыл дверь.
– Мне необходимо обсудить с тобой кое-что важное.
– Речь пойдет о капрале Рольфе?
– О нем не волнуйся. Больше он не станет тебе докучать.
Я недоверчиво взглянула на Давида:
– Хорошо, если так.
– Нет, серьезно. Я перевел его в ночную смену. Он пожаловался гауптману Рихтеру, и сегодня у нас состоялся разговор.
– Какой разговор?
Давид улыбнулся:
– Интересно, о чем мы говорили?
Я кивнула.
– Во-первых, гауптман Рихтер захотел узнать, почему Рольфа перевели в другую смену. Я ответил, что он жестоко обращается с моими работницами и пытался принудить еврейку к сексу. К тому же у меня накопились к нему и другие претензии. «Наглая ложь! Ерунда! – заявил Рольф. – Вы верите на слово этой еврейке? Я просто выполняю свою работу, заставляю этих лентяек работать. Иногда приходится применить силу». – «При всем уважении, герр гауптман, я лично видел, как он вырвал шинель из швейной машины работницы и швырнул ее на пол, – сказал я. – И видел, как он при этом смеялся. Я видел, как он хватал ее за грудь. Уже не в первый раз он жестоко обращается с этой работницей. А это одна из моих лучших швей». Рихтер смерил взглядом Рольфа. «Отношения с еврейкой? Строжайше запрещено, капрал Рольф! Вам известно, что я могу отдать вас под трибунал? За подобное преступление я мог бы отправить вас на Восточный фронт». Рольф побледнел. «Отношения? Я? Да мне и в голову подобное не приходило. Вы совершаете огромную ошибку! Я никогда не стал бы пачкать руки об еврейку. Я только заставлял ее работать усерднее. Эта женщина пытается навлечь на мою голову неприятности, а я всего лишь выполнял свой долг». Рихтер кивнул и сказал: «Что ж, теперь будете выполнять свой долг в ночную смену. Перевод одобряется. Дайте мне знать, если с этим капралом снова возникнут неприятности».
Давид подмигнул мне:
– Вот такой состоялся разговор. Думаю, больше он тебя не побеспокоит. Но я позвал тебя не поэтому. Речь о другом. Садись. Мейер Капинский просил передать тебе, что имя человека, который предал твоего отца, – Луис Фейнберг.
Я напряглась:
– Он уверен?
Давид кивнул:
– Он знает об этом уже какое-то время.
У меня закипела кровь. Я была вне себя.
– Он знал? И ничего не сделал? Почему этот человек еще не наказан?
– Успокойся. Юденрат узнал, что он предатель и передает секретную информацию гестапо. Через него стали посылать фальшивые донесения, и теперь он немцам больше не нужен. Капинский сказал, что предоставляет тебе право решить судьбу Фейнберга, поскольку из-за него погиб твой отец. Ты можешь сама уладить этот вопрос, а можешь решить, что с ним сделать.
Я была ошарашена. Как я могла сама уладить этот вопрос? Сыграть роль палача? Я покачала головой.
– Я не знаю, что делать. Я не хочу брать на себя ответственность за смерть другого человека. Даже если он предатель.
Давид с улыбкой обнял меня:
– Никто не осудил бы тебя за это. На твоем месте я бы задушил его, но ты, черт побери, слишком порядочная! Если позволишь, я сделаю так, что этого человека накажут, как он того заслуживает.
– Только не убивайте! – предостерегла я. – Не хочу отвечать за его смерть.
– Не будем.
Через три дня Давид снова вызвал меня в кабинет.
– Я подготовил для Фейнберга наказание. Понадобится твоя помощь.
И он изложил мне свой план.
Тем же вечером Давид подбросил Фейнбергу анонимное послание на немецком языке: «Герр Фейнберг, вам приказано встретиться с обозначенным посланником у двери вашего дома в 19.00».
Ровно в семь вечера круглолицый мужчина в твидовой спортивной куртке и фетровой шляпе начал спускаться по лестнице к входной двери. У него был нос, как у хорька, и тоненькие усики, больше похожие на линию над губой. Выглядел он озадаченным – ему не давало покоя загадочное послание, которое он получил от своих немецких кураторов. Он повертел головой по сторонам.
– Пан Фейнберг! – окликнула я, стоя у подножия лестницы.
Он посмотрел на меня и вздрогнул:
– Да, я Фейнберг, но у меня важная встреча, юная леди, поэтому, пожалуйста, отойдите.
Он махнул рукой и попытался протиснуться мимо меня, но я преградила ему дорогу.
– Я жду вас.
– Вы? Девушка? Это вы написали мне?
Я покачала головой:
– Я не писала.
Он фыркнул:
– Хм! Неужели немцы послали девчонку, чтобы передать мне инструкции? О чем они только думают? – Он смерил меня взглядом и покачал головой. – Как тебя зовут?
Я не сводила взгляда с его лица. Мне необходимо было увидеть его реакцию.
– Лена Шейнман, дочь человека, которого вы предали.
Он замер и поспешно огляделся, но не заметил Давида, стоявшего в темноте у него за спиной.
– Капитана Шейнмана?
– Вы выдали нацистам моего отца. И еще трех патриотов. Вы донесли на них. Вам было известно, что за этим последуют репрессии. Нацисты расстреляли четыре семьи. Полностью. Это вы обрекли их на смерть! Вы предатель и убийца. Вы ничем не лучше гестапо.
Фейнберг пожал плечами:
– Кто ты такая, чтобы отчитывать меня? Что ты знаешь? Ты слишком молода. Если ты еще не поняла, идет война, и я сделаю что угодно, лишь бы остаться в живых. Я знаю, кто сейчас правит бал, и пойду на все, чтобы уберечь себя и свою жену.
– А как же моя семья? Мама и младший брат? И другие семьи, которых убили из-за вас?
– Им не повезло, но это издержки войны. Ты зря сюда пришла. Я поступил так, как должен был поступить. Когда-нибудь, когда повзрослеешь, поймешь.
– Я думаю, юденрату и остальным членам коммуны будет интересно узнать то, что вы рассказали.
– Ха! Рассказал что? Я ничего не говорил. Я буду все отрицать. Никто тебе не поверит – твое слово против слова Луиса Фейнберга.
Он повернулся, чтобы уйти, но Давид преградил ему путь и положил на его плечо свою сильную руку.
– По-моему, вы ошибаетесь, – сказал Давид.
Фейнберг уставился на него:
– Послушайте, что сделано, то сделано. Шейнмана в любом случае поймали бы. Это был только вопрос времени. Нацисты знали о существовании группы Сопротивления, я всего лишь немного ускорил процесс.
– Чтобы снискать их благосклонность, – сказала я.
– Да, чтобы снискать их благосклонность. Разумеется! Любой бы так поступил.
– Вы совершили предательство, – напомнил Давид.
– Против кого? Эй, откройте глаза, мы теперь часть Германии. Сейчас 1942 год! Проснитесь! Польши больше нет. Вы говорите о предательстве? Ха! Это Шейнман с дружками предавал Рейх.
– Пан Фейнберг, мы уже достаточно наслушались, – прервала его я. – На мгновение я подумала, что пан Капинский мог ошибиться. Я истолковывала свои сомнения в вашу пользу. Это больше, чем вы дали моей семье. – Я обернулась и направилась к двери. – Вы должны следовать за мной.
– Ни за что! – проворчал он. – Кто ты такая, чтобы мне приказывать?
– Сегодня приказы отдает она, – заявил Давид.
Он взял Фейнберга за плечо и подтолкнул к двери. На улице стояли все члены юденрата и больше тысячи других евреев. Они проклинали предателя и тыкали в него пальцем. Он извивался, но не мог вырваться из рук Давида.
Подошел пан Капинский:
– Ты – изгой в нашей коммуне, Фейнберг, презренный предатель. Ты больше не можешь жить среди нас. Ты изгоняешься из гетто. А теперь уходи!
– Куда? Куда мне идти? Мне запрещено покидать гетто, это против правил!
– Как вы там говорили? – ответил Давид. – Не повезло? Издержки войны?
Толпа расступилась, и Давид довел Луиса Фейнберга до границы гетто, к реке Хехло.
– Вот мост. Возможно, на том его конце вы встретите нацистов, которые оценят ваши жертвы ради Рейха. Может быть, вас удостоят еще большей благосклонности.
Фейнберг обернулся и умоляюще посмотрел на собравшихся:
– Капинский, помоги мне. Меня убьют. Дай мне время. Что я могу сделать? Как искупить вину? У меня есть немного денег.
Пан Капинский покачал головой и указал на мост:
– Здесь с тобой покончено, Луис. Ступай.
Фейнберг не оглядываясь пересек мост. Больше мы никогда о нем не слышали.
На следующее утро я, как обычно, шла на работу, но настроения не было. Бóльшую часть дня я провела как в тумане – не давала покоя ситуация с Фейнбергом. Я, как бы сильно его ни ненавидела, не могла избавиться от чувства вины за то, что изгнание, скорее всего, закончилось для него смертью или высылкой в трудовой лагерь. Несколько раз в течение дня Давид подходил к моему рабочему месту, спрашивал, как я себя чувствую. Я лгала, и он понял это.
Через пару дней после изгнания Фейнберга Давид вызвал меня к себе в кабинет.
– Ты должна это отпустить, – сказал он, – и жить дальше. Фейнберг был нацистским шпионом. Дать отпор Фейнбергу – то же самое, что дать отпор убийце. Капинский поступил бы с ним точно так же. Он дал тебе право выбора, потому что это затронуло твою семью.
– Знаю. Но, откровенно говоря, послать перепуганного еврея на верную смерть – это не сделало бы чести моему отцу. Даже если этот еврей – предатель. Посоветуй, как мне жить дальше? Мой отец – герой, Давид. Он никогда не переставал сражаться за Польшу. А я? Я сижу, как мышь, и весь день шью, чтобы получить свои крохи и хоть как-то выжить. И если завтра мой черед – чем мне гордиться? Какой след я оставлю после себя? Я хочу что-то делать. Хочу, чтобы отец мною гордился. – Я встала, положила руки Давиду на плечи, взглянула в его голубые глаза. – Что я могу сделать, Давид?
Он серьезно смотрел на меня, размышляя над этим вопросом. Прошло несколько томительных минут. Я слышала, как тикают часы. Потом Давид сказал:
– Ступай на свое рабочее место. Возможно, скоро что-то изменится. Я скажу, если ты сможешь помочь.
Я улыбнулась и поцеловала его в щеку:
– Спасибо тебе.
Так я впервые поцеловала Давида, и этот поцелуй был коротким.
Кэтрин удивленно приподняла брови и сдержанно улыбнулась.
– На сегодня довольно, – сказала Лена.
Глава шестнадцатая
– Кэт, – сказала Глэдис, – звонит какой-то мужчина из Иллинойского департамента по делам пожилых людей. Он не говорит, по какому вопросу.
– Думаю, я знаю, Глэдис. Соедини нас.
– Адвокат Локхарт, это агент Форрестер. Я провожу расследование для Иллинойского департамента по делам пожилых людей. Мы получили сигнал о предполагаемом ущемлении прав некой Лены Вудвард, проживающей на Ист-Пирсон-стрит, 460. Я приехал по адресу, чтобы лично во всем убедиться, но миссис Вудвард отказывается разговаривать без своего адвоката. Она имеет в виду вас.
– Очень разумно с ее стороны, – ответила Кэтрин. – Если бы все мои клиенты были такими здравомыслящими… Кто вам сообщил об ущемлении прав?
– Вы же адвокат и должны понимать, что на этот вопрос я ответить не могу. По закону личность человека, который сообщает об ущемлении прав пожилых людей, не подлежит разглашению.
– О каком ущемлении идет речь?
– Мадам, я просто выполняю свою работу, и в мои обязанности входит личная встреча с предполагаемой жертвой. Если мне будут препятствовать в проведении расследования, придется вызвать полицию. И по Закону о защите прав лиц пожилого возраста любые помехи в проведении мною расследования квалифицируются как преступление.
– А кто чинит вам препятствия?
– Мадам, если миссис Вудвард в течение пятнадцати минут не впустит меня в дом, я вынужден буду доложить в Департамент, а далее последуют соответствующие меры, вплоть до безотлагательного помещения под надзор – в интересах безопасности самого потерпевшего. Честно говоря, единственное, чего я хочу, – это лично оценить ситуацию, а Лена Вудвард не хочет разговаривать без вас. Мы могли бы встретиться?
– Разумеется, через пятнадцать минут я буду у нее.
* * *
Крупный афроамериканец в коричневой спортивной куртке, белой рубашке и галстуке в коричнево-оранжевую полоску сидел в кожаном кресле в холле дома Лены, когда приехала Кэтрин. Он встал, когда она вошла, и схватил свой черный портфель.
– Миссис Локхарт?
Кэтрин кивнула:
– Дайте мне несколько минут переговорить с Леной, и мы вас пригласим.
Он вздохнул:
– Откровенно говоря, мне нужно увидеть все как есть. Я должен указать на условия, в которых она живет, окружение…
– А что, по-вашему, может измениться за пять минут, мистер Форрестер?
Он вздохнул и вновь сел:
– Я вынужден буду отразить это в отчете.
– И чего мне ожидать от этой личной встречи? – поинтересовалась Лена у Кэтрин.
– Уверена, что это обычное посещение на дому. Он получил сигнал об ущемлении прав пожилого человека и хочет понять, требует ли ситуация немедленного вмешательства – угрожает ли что-то вашему здоровью или безопасности. Он задаст пару вопросов, осмотрит квартиру, чтобы удостовериться, что у вас приемлемые жилищные условия, а потом доложит своему начальству.
– Подобное вторжение меня совершенно не радует. Не хочу, чтобы какой-то чинуша изучал мою жизнь под лупой. Какое право имеет абсолютно незнакомый человек вторгаться в мой мир и о чем-то судить, решать, приемлемые у меня жилищные условия или нет?
– Я понимаю, что вы не в восторге, но не следует давать ему повод раздуть дело. Просто вежливо и прямо отвечайте на вопросы. Не стоит его дразнить. Он просто выполняет свою работу.
Агент Форрестер вошел в квартиру Лены, огляделся и присвистнул. Огромные, от пола до потолка, окна выходили на озеро Мичиган – как будто живой пейзаж был помещен в рамку, словно картина на стене. Форрестер шагнул из коридора на мягкий, приглушенного голубого цвета ковер и осмотрел обстановку. Массивный мебельный гарнитур в изысканном французском провинциальном стиле: бело-розовые резные стулья, стеганые оттоманки и кресла, диван с тремя подушками, накрытый светлым льняным покрывалом в центре гостиной. Свежие цветы в хрустальных вазах украшали столики по бокам. Форрестер вдруг остановился и уставился на картину маслом над столиком у дивана. Оригинал, подписанный автором.
– Это же…
– Да, Марк Шагал. Я приобрела его на аукционе в Лионе.
– Ничего себе! Когда я сегодня утром получил задание… Я хочу сказать, что обычно я хожу… – Он запнулся.
– Обычно вы ходите… – повторила Лена, подаваясь вперед и приподнимая брови в ожидании того, как Форрестер закончит свою неловкую прелюдию.
– Понимаете, Шагала на стенах я обычно не вижу.
– Шагал мне близок, – пояснила Лена. – Мы с ним во многом похожи. Именно эта картина пробуждает воспоминания из моего детства. Он был…
– Знаю, обычным евреем из маленького городка в Беларуси. Отец его торговал рыбой.
Лена с улыбкой кивнула. Лицо ее просветлело.
– А у моего был магазинчик в Хшануве, в Польше. Шагалу повезло, что ассоциация художников Америки тайно переправила его из Франции еще до прихода Гитлера. Моей семье так не повезло.
Форрестер стоял у картины, словно у алтаря. В восхищении.
– Я люблю Шагала. Наверняка вы видели плафон в Парижской опере.
– Вы имеете в виду Пале-Гарнье? Ведь теперь здание Парижской оперы – это ужасное сооружение из стали, Опера Бастилия.
– Полностью с вами согласен! Это новое здание просто отвратительно. Оно могло бы стоять в Хьюстоне или Финиксе. Но никак не в Париже. Разумеется, я имею в виду Гарнье.
– Вам известно, что Шагал расписывал эти панели прямо поверх росписи девятнадцатого века?
– Нет, я этого не знал.
– Какое у вас любимое произведение, мистер Форрестер? Мое – «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси.
– Хм, великолепные голубые и розовые тона… Я должен был бы догадаться, когда увидел вашу гостиную. Я же, боюсь, больше склоняюсь к «Щелкунчику». Люблю балет.
– Вы проверяете меня, – улыбнулась Лена. – Там идет «Лебединое озеро».
– Конечно же, вы правы. – Глаза Форрестера озорно блеснули. – Просто выполняю свою работу.
– Хотите чаю? – Лена жестом пригласила его присесть на розовый диванчик. – Скажите, мистер Форрестер, – крикнула она из кухни, когда ставила чайник на плиту, – зачем вы вообще ко мне пришли?
– Зовите меня Томас. Обычная процедура, которую называют «личная проверка». Иногда мы получаем сигнал, что страдает пожилой человек, и нам приходится это проверять.
– Вы говорите о физическом насилии?
Он пожал плечами:
– Похоже, в нашем случае об этом речь не идет.
Кэтрин, устраиваясь в углу комнаты, улыбнулась. «Я тут лишняя, – подумала она. – Всего лишь сторонний наблюдатель».
– И кто это обо мне побеспокоился? – невозмутимо поинтересовалась Лена.
– Прошу прощения, мадам, я не уполномочен разглашать имена, но, скорее всего, вы и сами знаете.
– Разумеется, это мой сын Артур. Он просто изнервничался с тех пор, как умер мой супруг.
Форрестер кивнул, принимая чашку чая.
– Вероятно, вы могли бы тонко намекнуть на то, что он нуждается в консультации психиатра. Я мог бы даже посоветовать специалистов.
– Ох, зовите меня просто Лена.
Форрестер улыбнулся и вытащил небольшой фотоаппарат.
– Вы не против, если я сфотографирую вашу прекрасную квартиру? Для отчета? Обещаю не распространять эти снимки.
– Прошу вас, фотографируйте. Они уже появлялись в «Чикаго мэгазин» в 1993 году.
Агент обошел комнату, делая снимки и негромко присвистывая.
– Какая красота! – Он остановился и обернулся. – И еще одно, пожалуйста.
– Синяки? Вы хотите, чтобы я разделась? – улыбнулась Лена.
– Господи, нет! Но нам следует обсудить ваше финансовое положение.
– Не вижу необходимости. Вас это не касается.
– Мне очень жаль. Значительная часть статей Закона о защите лиц пожилого возраста касается финансовой эксплуатации стариков. Другими словами, следует разобраться, не пользуется ли кто-то со стороны вашими финансовыми средствами. Это должно войти в мой отчет.
– Нет.
На его лице отразилось разочарование.
– У нас есть право затребовать информацию через суд.
– В таком случае – обращайтесь в суд. Как вы думаете, кто еще, кроме сына, может воспользоваться моими средствами?
– Насколько я понимаю, в заявлении речь идет об адвокате и детективе, которые, как предполагает заявитель, заставляют вас вкладывать средства в поиски определенных людей.
– Заставляют меня? Неужели? – Лена взглянула на Кэтрин. – Это я обратилась к ним, а не наоборот. И не заплатила еще ни копейки. Я, разумеется, жду, что мне выпишут счет за потраченное на меня время, как это и положено, но пока адвокат ни копейки из моих денег не потребовала.
Форрестер обернулся к Кэтрин, которая сидела в высоком, глубоком кресле в противоположном углу комнаты, скрестив ноги и сложив руки на груди.
– Она не нуждается в моей помощи. Мне добавить нечего.
Форрестер встал:
– Что ж, не стану вас больше задерживать. Благодарю вас, миссис Вудвард, за гостеприимство. – Он улыбнулся и поставил чашку на стол. – Я хотел сказать, Лена.
Глава семнадцатая
– Через неделю после изгнания Фейнберга, во время перерыва на обед, Давид снова вызвал меня к себе в кабинет. Он закрыл дверь, поставил два стула напротив друг друга и пригласил меня садиться.
– Ты говорила, что хочешь сделать что-то, за что бы отец, будь он жив, мог тобой гордиться. Насколько серьезно ты настроена?
– Серьезно, Давид. Как мне еще об этом сказать?
– Настолько серьезно, что готова рисковать жизнью?
Сердце в груди неистово заколотилось. У меня появилась возможность вступить в борьбу!
– Рисковать – да. Лишиться – нет.
– Ты вообще знаешь, что такое ТПА – «Тайная польская армия»?
– Тайная польская армия? – Я кивнула. – Отец упоминал о ней, когда мы разговаривали, но я не могу сказать, что знаю о ней что-то. Подозреваю, что в ней состоял мой отец.
– Еще бы! Теперь это часть польской армии, действующей против оккупантов, АК – Армии Крайовой. Если ты действительно хочешь участвовать в общем деле, я имею в виду всерьез, приходи сюда вечером, после работы, когда будет вечерняя пересменка.
Я встала, чтобы уйти, и Давид сказал:
– Лена, я не хочу, чтобы кто-то встревожился из-за твоего отсутствия. Наша встреча займет какое-то время. Я знаю, что ты живешь с Каролиной…
– Ты хочешь, чтобы я поговорила с ней?
– Только не говори о том, что мы с тобой обсуждали. Просто скажи Каролине, что я пригласил тебя на ужин. Можешь? Она поверит тебе?
Я зарделась:
– Уверена, что поверит. Да еще, скорее всего, будет ревновать.
– Неужели? Тогда приходи сюда в шесть.
Он открыл дверь, повторил свои предостережения никому ничего не говорить и стоял, глядя, как я возвращаюсь на рабочее место.
В конце дня мы встретились с Каролиной у цеха, и я прошептала:
– Давид приглашает меня на ужин сегодня после работы. – Я озорно улыбнулась.
Каролина округлила глаза и тоже улыбнулась:
– А ты соблазнительница! Как же тебе повезло! Он – это мечта.
Я пожала плечами:
– Наверное, ему нравятся занудные девушки. Я, скорее всего, вернусь домой поздно. – Я прикусила нижнюю губу.
Подруга легонько толкнула меня в плечо.
– Только потом все-все расскажешь, – сказала она и ушла.
Я слилась с толпой, которая покидала здание, проскользнула на лестницу и, поднявшись наверх, постучала в дверь. Открыл мужчина – сухопарый, высокий, в темных брюках, свитере с капюшоном и серой ветровке. Он оглядел меня с ног до головы и повернулся к Давиду.
– Это дочь капитана Шейнмана?
Давид кивнул.
– И ей можно доверять?
Давид опять кивнул. Этот человек жестом пригласил меня садиться.
– Меня зовут Ян.
Я пожала ему руку.
– Мы должны обсудить очень важное дело, но сперва я хочу рассказать тебе об одном человеке, – сказал Ян, – о великом польском патриоте, который служил вместе с твоим отцом.
– Как его зовут? Возможно, я его знаю.
Ян покачал головой:
– Никаких имен – ни его настоящего имени, ни клички. Ради его и твоей же безопасности. Между собой будем называть его Арес.
Я кивнула. Бог войны. Я была так взбудоражена, что в буквальном смысле подпрыгивала на стуле.
– Как и твой отец, Арес принимал участие в Первой мировой войне на стороне Австро-Венгрии. Он отважно сражался в кавалерии, хотя сам был еще подростком. Эту войну он начал уже офицером польской армии. Это все, что я могу о нем рассказать. Случись, что тебя схватят и будут задавать вопросы, случись, тебя принудят рассказать все, что ты знаешь, мы не хотим, чтобы ты владела информацией, которая бы могла его выдать.
– Конечно.
– Тебе известно, что в Освенциме стали строить немецкие лагеря?
– Это каждый знает! Всем известно. Освенцим всего в двадцати километрах от Хшанува. Мужчин из Хшанува посылали работать в этой тюрьме. Неужели Ареса схватили и отправили в Освенцим?
– Его никто не ловил, – сказал Ян.
И тут меня осенило. Я откинулась на спинку стула.
– Он добровольно отправился в Освенцим? Стал узником по собственной воле?
Ян кивнул:
– Когда в ТПА узнали, что в Освенциме строится огромный лагерь, куда в 1940 году сослали тысячи людей, то решили, что им нужны там свои люди. Несколько смельчаков вызвались отправиться в Освенцим, чтобы собирать информацию и создать там группу Сопротивления. 19 сентября 1940 года Арес шел по улице Варшавы как раз в то время, когда нацисты проводили облаву, и сделал так, что его забрали. В тот день на улицах арестовали еще две тысячи человек. Их бросили за решетку, избили и отправили в Освенцим.
Я была потрясена. Каким же отважным надо быть!
– Он умышленно попал в облаву, зная, что его будут бить и отправят в концлагерь?
У меня от удивления даже рот приоткрылся.
Ян кивнул:
– Арес именно такой человек. Находясь в Освенциме, он делает записи, собирает информацию о том, кого там содержат, откуда прибыли заключенные, как организован сам лагерь и, что самое важное, что нацисты делают с заключенными.
Тут вмешался Давид:
– Лена, они начали массовые казни. Сперва Освенцим был лагерем для военнопленных. Конечно, там царили зверства и жестокость, но это была всего лишь огромная тюрьма. Сейчас это лагерь смерти. Начались расстрелы и массовые казни. От Ареса мы узнали, что с сентября 1941 года начали применять отравляющий газ. Закрытые газовые камеры… Лагерь становится все больше, и теперь там содержатся десятки тысяч узников. Мы подозреваем, что нацисты намерены крупномасштабно использовать отравляющий газ для убийства заключенных. Арес тайком переправляет правду о происходящем в своих отчетах.
– И что вы хотите, чтобы сделала я? – поинтересовалась я, теперь уже в полной мере понимая всю серьезность своей роли.
– Каждые две недели отчеты Ареса тайком переправляют из лагеря и передают дальше по цепочке, – сказал Давид. – Сначала сюда, в Хшанув, после дальше, в Англию. Там они попадают к Польской армии в изгнании, а потом к Черчиллю. Вероятно, они доходят и до Рузвельта – теперь, когда американцы вступили в войну. Очень важно, чтобы лидеры союзников точно знали, что происходит в Освенциме. В последнее время звено в нашей цепочке порвалось. Мы потеряли одного из наших курьеров. Точно не знаем, что с ним произошло, но нам кажется, что нацисты пока не рассекретили нашу сеть.
– И вы хотите, чтобы я заняла его место? – обрадовалась я. – Вы хотите, чтобы я доставляла его отчеты?
Ян кивнул:
– Нам нужно восстановить сеть. Необходимо доставить эти отчеты в Англию. Давида слишком хорошо знают, за ним слишком пристально наблюдают, чтобы он мог выехать из города. Он вообще редко покидает это здание. Давид даст тебе написанные от руки отчеты Ареса. Нужно, чтобы ты передала их нашему связному.
– Но я же еврейка! У меня повязка на рукаве и документы, в которых указано, что я – Лена Сара Шейнман, еврейка. Я ограничена комендантским часом, и мне запрещено покидать гетто.
Ян и Давид переглянулись и пожали плечами.
– Ладно, – сказал Ян. – Мы все понимаем.
Они поднялись и поблагодарили меня за то, что я пришла.
– Пожалуйста, не говори никому о нашем разговоре.
– Постойте… Вы отвергаете мою кандидатуру?
Оба кивнули.
– Ни у кого нет к тебе претензий.
– Вы неправильно меня поняли! Я только хотела сказать, что, если меня остановят и я покажу свои документы, меня застрелят. Но я готова ко всему. Куда я должна доставить донесение? Мне идти глубокой ночью? Когда? Вы дадите мне капсулу с ядом, чтобы я ее проглотила, если меня поймают? Не хочу, чтобы эти ублюдки меня пытали.
Они засмеялись, и Давид сказал:
– Я же говорил, что она та, кто нам нужен. – Он обнял меня. – Никакого яда, Лена. Тебя не поймают. – Потом достал из буфета бутылку вина и поставил ее на стол, вытащил еще колбасу и сыр. – Давайте отпразднуем вступление в наши ряды нового товарища.
Глава восемнадцатая
Кэтрин аккуратно проскользнула на пассажирское сиденье, поморщилась, а когда устроилась, протяжно вздохнула.
– В чем дело? Ты в порядке? Что-то не так?
– Прекрати все время спрашивать, все ли в порядке, Лиам. Каждый раз, как я охаю, ты спешишь показать меня врачу. Беременные женщины морщатся, охают, вздыхают, ворчат и брюзжат. Это наше конституционное право. Оставь меня в покое!
– Дело не только в беременности. Мой радар «Кэтрин» улавливает тревожный сигнал.
Кэтрин усмехнулась:
– Ты слишком хорошо меня знаешь. Дело в Лене. Возможно, я перестраховщица, но я постоянно прокручиваю в голове наш вчерашний разговор, и он не дает мне покоя.
– Что именно тебя пугает?
Кэтрин покачала головой:
– Нет, не пугает. Откровенно говоря, наоборот – очень вдохновляет. Конечно, слушать подробности об ее страданиях ужасно, но вчера она рассказывала, как ее уговорили добровольно пойти на дело, которое мне представляется маловероятным. Разве не ужасно, что в моей душе скребут кошки сомнения?
– Ты всегда славилась адвокатской интуицией. Что улавливает твоя антенна?
– Все прелести еще впереди. Ту часть истории, которую я с таким нетерпением ожидаю услышать, она расскажет завтра. Мне кажется, эта история вызывает сомнения – по крайней мере та ее часть, где описана упомянутая ситуация. Я хочу ей верить, но все думаю: неужели возможно, чтобы рассказанное на самом деле случилось с этой женщиной?
– По-твоему, она преувеличивает? Может быть, что-то путает?
Кэтрин покачала головой:
– Ничего она не путает. Но я слышала, что люди, страдающие старческим слабоумием, даже в начальной стадии, иногда верят в то, что истории, которые они прочитали или услышали о других людях, на самом деле случились с ними. Ее личный врач сказал, что это обычное дело.
– Он сказал тебе, что она…
– Нет-нет, он описывал симптомы слабоумия в общем.
– И ты полагаешь, что у Лены есть эти признаки?
Кэтрин повернулась к нему.
– Нет, не думаю. Но я не врач и не могу оценивать психическое состояние. А если эта часть истории действительно принадлежит другому человеку?
– А если и так?
– Этот последний разговор…
– Ага, я понял. Существует вероятность того, что дети Каролины могут быть историей, которую она где-то услышала, а не сама пережила?
– Мне не хочется так думать. Но такое возможно. И вполне вероятно. Может быть, в словах Артура есть толика правды. Боже, надеюсь, что нет, Лиам!
– Что плохого в том, чтобы выслушать историю Лены? Дать ей выговориться? Что плохого? Или ты сильно устаешь на работе? Она отнимает слишком много времени? Хочешь сократить ваше общение?
– Нет-нет, сейчас работы мало. И уж я точно могу найти время. Все дело в эмоциях, которые я в эти беседы вкладываю. Я боюсь горько разочароваться в конце пути. Не столько даже из-за нее, сколько из-за себя.
– А что заставляет тебя сомневаться?
– Она хочет рассказать мне о том, как стала связной, как начала доставлять секретные сообщения от разведчика под кличкой Арес, который был заключенным в Освенциме. И если само по себе это недостаточно странно, то она еще говорит, что этот разведчик – польский герой, который добровольно позволил бросить себя в Освенцим, чтобы организовать там Сопротивление и рассказать всему миру, что происходит в концлагере.
– Неужели такое не могло случиться?
– С Леной Шейнман? Человеком, не упомянутым ни в каких исторических источниках?
– Признаю, что вопрос спорный. Но и только-то. Спроси ее. Черт побери, ты же мастер перекрестного допроса! Ты же сама говорила: перекрестный допрос – квинтэссенция правды.
– Меня тревожат не только сомнения в роли Лены. Речь о том, как бы не купиться на эту шпионскую историю. Чтобы она да передавала союзникам донесения о газовых камерах? Я хочу сказать, что вся ситуация сомнительна. Почему союзники не разбомбили Освенцим или железную дорогу к нему, когда появилась такая возможность? Почему ничего не сделали, чтобы предотвратить массовые убийства? Уверена, что Лена, пережившая войну, задавалась этим вопросом всю жизнь.
Лиам кивнул:
– Как я понимаю из того немногого, что мне известно, Америка не знала о массовых казнях, которые проводились, до самого окончания войны, наверное, до 1944–1945 годов. Мне помнится фотография потрясенного генерала Эйзенхауэра в одном из отделений лагеря Бухенвальд. Он тогда приказал своим адъютантам фотографировать и снимать на кинопленку доказательства того, что лагеря смерти действительно существуют. Для тех, кто в будущем не поверит в это.
– Верно. А сейчас Лена рассказывает историю о польском патриоте, который намеренно засадил себя в Освенцим и тайком передавал оттуда дневники о массовых казнях Черчиллю и Рузвельту. И не в 1944 или 1945 году, а сравнительно рано, в начале войны. И вооруженные этими знаниями союзники палец о палец, черт побери, не ударили, чтобы остановить геноцид? На протяжении нескольких лет? А тут еще и Лена Шейнман оказывается в самой гуще событий. Она – Мата Хари, которая доставляет тайные донесения? Подобная самоуверенность не настораживает?
– Кэт, у тебя же есть инструменты…
– Знаю-знаю, перекрестный допрос – квинтэссенция правды. Но сделай мне одолжение, проведи одно из своих всемирно известных расследований. Посмотрим, удастся ли наткнуться на кого-то, кто бы походил на этого Ареса.
– Договорились.
Лиам снизил скорость и въехал на парковку больницы Нортвестерн-Мемориал.
– Давай посмотрим, смогут ли аппараты УЗИ сделать хороший глянцевый снимок самого красивого в мире будущего малыша.
– Лиам, меня еще кое-что тревожит, – призналась Кэтрин, выбираясь из машины.
– Что-то серьезное?
Она кивнула:
– У меня появились боли. Я не хочу, чтобы ты переживал, пока я буду у доктора.
– Боли? Какие боли? Где болит? Черт, Кэт, почему ты молчала? Когда начало болеть?
– Пару дней назад. Уверена, в этом нет ничего страшного. Чуть-чуть побаливает. Боль приходит и уходит. Я решила, что раз у нас все равно запланирован визит к врачу, я потерплю и все ему расскажу.
– Почему ты терпела? Где болит?
– Пусть врачи ставят диагноз. И еще кое-что.
– Еще кое-что?!
– Мне нужна одежда для беременных. Придется пройтись по магазинам.
Глава девятнадцатая
– Сегодня вы выглядите напряженной, – сказала Лена.
– Спина немного болит. И голова. Врач говорит, что это может быть воспаление мочевого пузыря. Будет наблюдать за моим состоянием. Спасибо, что поинтересовались. – Кэтрин достала свои записи из папки. – Во время последней встречи мы говорили о вашей встрече с Давидом и Яном. Они рассказали о неизвестном польском патриоте, который знал о массовом уничтожении людей в Освенциме за несколько лет до того, как об этом услышал весь мир, – он добровольно позволил немцам себя арестовать и отослать в концлагерь, чтобы иметь возможность все это документировать.
Лена недоверчиво смотрела на Кэтрин.
– Я излагала не совсем так. По всей видимости, у вас зародились сомнения.
– Лена, я уверена, что отдельные части своей истории вы придумываете. Возможно, делаете это ненамеренно…
– Я ничего не придумываю. Ни намеренно, ни каким бы то ни было иным способом. Все сказанное мною – правда. Я не выжила из ума. Это словно вчера произошло.
– Простите, – извинилась Кэтрин. – Я не хотела усомниться…
– Но усомнились.
– И уж точно я не хотела вас обидеть, Лена. Прошу вас, не обижайтесь. Я не сразу могу переварить вашу историю. Особенно когда она вступает в противоречие с тем, что мне давно известно.
Лена удивленно приподняла брови:
– А что вам известно?
– Что лидеры союзников ничего не знали о массовом истреблении людей в Освенциме. Мне трудно поверить в вашу историю. Выходит, они получали из лагеря донесения о происходящем и ничего не сделали, а потом отрицали, что знали правду.
– И это все, что вам известно?
Кэтрин кивнула:
– Вы упомянули, что были самой преданной поклонницей Бена Соломона. И не только вы. Во время наших бесед я училась. Он учил, а я училась. Наверное, впервые в жизни я почувствовала необходимость узнать об исторических событиях. Бен показал мне снимки президента Эйзенхауэра в лагере смерти Бухенвальд.
– Ордруф, – поправила Лена. – Это был некий «филиал» Бухенвальда.
– В 1945 году Эйзенхауэр обнаружил обнаженные тела, сваленные друг на друга в деревянных сараях. Он увидел тысячи изможденных узников – обтянутые кожей кости! – и от этого зрелища его стошнило. Он ничего об этом не знал. Он позвал Джозефа Пулитцера и остальных журналистов, чтобы они записали увиденное. Пулитцер сначала даже ехать не хотел, полагая, что подобная история просто абсурдна. Но после приезда он решил, что отчеты не передавали всего ужаса. Никто ничего не знал, Лена.
– Все они знали.
– Бен рассказывал мне, что генерал Паттон был настолько потрясен увиденным, что приказал своим подчиненным отправиться в близлежащий городок Веймар и привести местных жителей, чтобы показать, что сделали их лидеры. Солдаты привели две тысячи человек и заставили их смотреть. Многие упали в обморок. Через три дня в эфир вышел Эдвард Р. Марроу – он прямо из Бухенвальда описал ужас всего там происходившего.
Кэтрин потянулась и достала с полки книгу. Полистала страницы и сказала:
– Позвольте я прочту. Марроу сказал: «Молю вас поверить в то, что я рассказал о Бухенвальде. Я доложил вам только о том, что видел и слышал, но это всего лишь часть – для оставшегося у меня просто нет слов. Если я вас обидел…»
Лена прервала Кэтрин и зашептала:
– «…Если я вас обидел своим довольно мягким описанием Бухенвальда, я ни капли об этом не жалею».
– Да. – В горле Кэтрин стоял комок. – Это страшное заявление одного из наиболее уважаемых в мире репортеров, человека, которому наверняка известно, что мир ничего не знал об этом. Все были шокированы. Никто даже не догадывался о масштабах нацистского геноцида. А теперь вы утверждаете, что лидеры свободного мира знали об «окончательном решении еврейского вопроса»[31]. Знали все о крематориях, о геноциде и ничего не сделали? Простите, но мне кажется немыслимым, что польский патриот добровольно дал отправить себя в Освенцим и тайком передавал оттуда донесения Черчиллю и Рузвельту, которые могли бы что-то предпринять, могли бы разбомбить крематорий или железнодорожные пути, но они это замалчивали, не говорили даже Эйзенхауэру…
– Она не ошибается, Кэтрин, – сказал, входя в конференц-зал, Лиам. – Лена говорит правду. Его звали Витольд Пилецкий[32]. – Он сел в кресло, разложил на столе какие-то бумаги и ткнул в них пальцем. – Пишется вот так, а по-польски произносится «Витольд Пилецки». Ты просила меня навести справки…
Лена кивнула:
– Благодарю вас.
Кэтрин была потрясена.
– Ты нашел имя этого тайного агента?
Лиам кивнул:
– Он был не один. Но мне кажется, что человек, о котором говорит Лена, – это Витольд Пилецкий. Настоящий польский патриот. Во время Первой мировой войны, еще подростком, он сражался на стороне Австро-Венгрии. Дважды был награжден Крестом за доблесть. Между войнами он посетил школу подготовки офицерского состава и имел звание подпоручика со старшинством, состоял в списке военнообязанных польской армии, когда началась Вторая мировая война. В ноябре 1939 года, когда на территорию Польши вторглись немцы, Витольд и его командование организовали Тайную польскую армию – сокращенно ТПА. Польское Сопротивление узнало, что в Освенциме строят огромный концентрационный лагерь, куда ссылают десятки тысяч людей. Под вымышленным именем Томаша Серафинского Пилецкий добровольно сдался немцам и дал себя сослать в Освенцим, чтобы организовать там сопротивление и тайком передавать информацию. Где-то в 1940 году…
– 19 сентября, – уточнила Лена.
Лиам кивнул и улыбнулся:
– Именно. Во время уличной облавы в Варшаве Пилецкий попрощался с женой и двумя маленькими детьми, смешался с толпой, дал себя схватить и отправить в Освенцим. Начиная с 1941 года его подпольная организация в Освенциме, которая называлась «Союз военной организации», тайком передавала подробные донесения по польской подпольной сети для польской армии в изгнании. Одно время у них даже было радио. Витольд надеялся, хотя и сам был узником, что союзники разбомбят Освенцим.
– Как ему удавалось передавать записки из Освенцима? – поинтересовалась Кэтрин.
– Время от времени заключенные убегали, поверите вы в это или нет, – ответила Лена. – В 1942 году трое польских заключенных убили охранников, завладели их формой и вышли через главные ворота. С одним из них я встретилась у Давида в кабинете. В другой раз донесения передали в нацистской форме, которую отправили в город в прачечную. Патриоты находили различные пути тайком передать информацию.
Лиам улыбнулся и продолжил:
– В 1943 году нацисты начали раскрывать имена руководителей Сопротивления, патриотов истребляли одного за другим. Однажды в апреле 1943 года Пилецкому удалось открыть заднюю дверь булочной, где он работал. Он и двое его товарищей под покровом ночи сбежали из лагеря. Витольд Пилецкий добрался до Варшавы и начел работать в подпольной ячейке, пытаясь заставить союзников захватить или разбомбить Освенцим, но все тщетно.
Кэтрин выглядела потрясенной.
– Значит, он пережил войну?
– По-твоему, это все? Я еще не закончил. В 1944 году, во время Варшавского восстания[33], Витольд Пилецкий командовал подразделением. Пару недель спустя, когда мятеж подавили, немцы схватили его и отправили в лагерь для военнопленных. Там Пилецкий и провел последние месяцы войны. В июле 1945 его освободили, и он отправился в Италию.
Кэтрин покачала головой:
– Полагаю, он наконец-то заслужил право откинуться на спинку кресла, потягивать из бокала кьянти и наслаждаться пастой.
Лиам засмеялся:
– А вот и нет! Он вернулся в Польшу. Как известно, после войны Польша стала марионеткой Советского Союза за «железным занавесом». Витольд вновь вступил в ряды польского Сопротивления и собирал доказательства жестокого обращения и зверств советских властей против польских граждан. В 1947 году его арестовали коммунисты и обвинили в шпионаже. После надуманного, показательного суда Витольда казнили. Его последними словами были «Да здравствует свободная Польша!». До 1989 года коммунисты держали всю информацию в секрете. Он герой Польши, Кэт, и посмертно удостоен самой высокой награды, ордена Белого Орла, в 2006 году.
Кэтрин встала, подошла и крепко обняла Лену.
– Простите, что позволила себе засомневаться. Вы действительно были звеном в подпольной цепи Витольда?
Она пожала плечами:
– Я никогда его не видела. Я знала только, что его зовут Арес.
– Расскажите, как вас задействовали.
– После первой встречи с Давидом и Яном я вернулась к обычной жизни, если можно ее так назвать. Я шила шинели, стояла с продовольственными карточками в очередях за продуктами, штопала изношенную одежду, спала, если получалось. Иного продолжения, кроме редких подтруниваний со стороны Каролины, мой ужин с Давидом не имел.
– Подтруниваний? – удивился Лиам.
– Не твое дело, – ответила Кэтрин.
Лена засмеялась и повернулась к Кэтрин:
– Я провела целый вечер в квартире Давида. С Давидом и Яном мы встречались довольно поздно, и мне велели сказать Каролине, что у нас свидание. Поэтому Каролина сделала очевидные выводы и стала надо мной подтрунивать.
Кэтрин ткнула пальцем в Лиама:
– Пока не прочтешь мои записи, лучше помолчи и держи свои вопросы при себе!
– Тысяча извинений.
– Несколько дней меня никто не вызывал, ни о чем не просил. Давид мимоходом подходил к моему рабочему месту, делал вид, что смотрит, как я шью, перебрасывался со мною парой слов и советовал сохранять спокойствие.
В 1942 году жизнь в гетто ухудшилась. Свирепствовали болезни, уносившие в первую очередь стариков и детей. С другой стороны, не стоит забывать о том, что болезни и притеснения тоже были способами «окончательного решения» – и намного более дешевыми, чем отравляющий газ. Сильных молодых мужчин забирали и отправляли на работы. Иногда на целый день, но все чаще и чаще они вообще не возвращались. Каролина поддерживала отношения с Зигфридом и продолжала приносить домой продукты. В результате мы были здоровее многих. Вполне вероятно, что без этих продуктов я бы тоже не выжила.
В конце февраля 1942 года Давид остановился у моего рабочего места, наклонился и прошептал:
– В конце смены поднимись наверх. Ян здесь.
– А вы не боялись, что вас застанут в квартире Давида? – спросила Кэтрин. – Она же служила ему и кабинетом, верно?
– Может быть, чуть-чуть.
Нацисты были повсюду. Большинство из них были молоды, призывники в запасе, но носили форму и подозрительно косились на всех. Они зорко смотрели по сторонам, разыскивая нарушителей ими же установленных правил. В основном они надеялись поймать кого-то с контрабандой – чем-то незаконным, например фруктами или сыром, – со всем, что можно продать на черном рынке. Может быть, с каким-нибудь украшением или деньгами. У нацистов повсюду были глаза и уши, и я боялась, что меня поймают, когда я буду подниматься к Давиду в комнату. Но я ему доверяла и готова была ради него идти на риск.
Тем же вечером во время неразберихи, которая всегда возникала в пересменку – полсотни работников уходили и полсотни заступали на смену, – мне удалось проскользнуть на лестницу и подняться к Давиду в кабинет. Ян в своем обычном темно-сером костюме был уже там, сидел на кровати и курил.
– Готова прыгать в полымя? – спросил он.
– Готова. – Меня так и распирало от восторга.
Он развернул бумажный пакет и достал пару обуви – коричневые полуботинки на шнурках, как у рабочих, с закругленными носами и обтянутыми кожей каблуками. Не знаю, как сейчас называются такие туфли, я давно их не встречала. Если посмотреть на фотографии сороковых годов, можно увидеть подобные у американского вокального трио «Сестры Эндрюс». Туфли были несколько великоваты.
– Тридцать девятый размер? – спросил Ян.
– Откуда вы узнали? – удивилась я и оглянулась на улыбающегося Давида.
Ян протянул мне туфли. Я повертела их в руках. Туфли были красивые и совершенно не ношеные, но при этом потертые, чтобы не бросалось в глаза, что они новые. Скажите на милость, откуда еврейская девушка в гетто могла взять новую пару кожаных туфель?
– Это мне за то, что я буду тайным агентом? – спросила я.
– Примеряй, – велел Ян.
Я обулась, туфли пришлись впору.
– Как раз. Очень удобные.
– Не жмут?
– Нет. А должны?
– Немного. Снимай.
Я протянула туфли Яну.
– Смотри.
Он отодрал стельку и внутреннюю прокладку. Под ними оказались три сложенных листа бумаги. Если в двух туфлях – всего шесть листов. Я видела, что они исписаны от руки, но их содержимого мне Ян не пересказывал.
– Ты не должна ни при каких обстоятельствах читать эти донесения, Лена. В них содержится информация о лагере и наших людях. Поэтому если тебя даже замучают до смерти, ты не сможешь рассказать, что же там написано.
– Звучит жизнеутверждающе, – заметила я.
Давид засмеялся. Я никогда не теряла чувства юмора. Ян даже не улыбнулся, но я не обиделась.
– Сегодня вечером ты должна будешь доставить шинели нашему связному, – проинструктировал меня Ян. – Когда останешься с ним наедине, отдашь бумаги из туфель. Если тебя остановят, могут обыскать, прощупать каждый шов, но не думаю, что они догадаются заглянуть в твои туфли.
– А где я должна взять эти шинели?
– Ты же работаешь в швейном цеху, – ответил Давид.
– Но мы шьем шинели для нацистов. – И тут меня осенило. – Мой связной – нацист? Кто-то из нацистов должен передать эти донесения Черчиллю?
– Тебя это беспокоит? – спросил Ян.
– Нет. По-моему, это ирония судьбы.
– Вот и отлично. Давид упакует шинели, погрузит на тачку, а ты повезешь их к нашему связному сегодня вечером.
– Сегодня вечером? Так быстро? И куда мне идти?
– Улица Костюшко, 1403. Красный кирпичный дом.
Я замерла как вкопанная.
– В чем дело? – заволновался Давид.
– Это мой дом.
– Вот и хорошо, – ответил Ян. – Значит, ты знаешь, как туда добраться. А поскольку ты когда-то училась в школе, скорее всего, тебе известны все неприметные обходные пути к дому. Очень удачно.
– И кто… кто та нацистская свинья, что теперь живет в моем доме?
Давид положил руку мне на плечо.
– Наш старый друг. Полковник Мюллер.
– Нацистский полковник, который живет в моем доме, и есть наш связной?
Давид кивнул:
– Полковник Мюллер – наш связной.
– Но когда я пряталась на чердаке, я слышала, что говорила его жена: «Я не притронусь к одежде еврейки. Нужно продезинфицировать туалеты». Она яростная антисемитка.
– Возможно, это была игра, – предположил Ян.
– Возможно? Возможно, это была игра?
– А может быть, и нет. Поэтому с женой не разговаривай, только с полковником Мюллером. А теперь готовься к вечеру. Он тебя ждет.
По сдержанному тону, которым Ян меня инструктировал, я поняла, что являюсь всего лишь еще одним солдатом, оружием войны, подвернувшимся под руку. Меня просто используют. Если меня пустят в расход, найдется кто-нибудь другой.
– Я готова, – отсалютовала я.
Кэтрин отложила блокнот и вздохнула:
– На сегодня достаточно. Вы же знаете, что завтра на утро назначено слушание по вашему делу. Я буду просить у суда время, чтобы представить наш ответ на иск Артура. И вечером мне надо подготовиться к слушанию.
– Вы думаете, что судья удовлетворит ваше ходатайство? Даст нам необходимое время?
Кэтрин кивнула:
– Разумеется. Это рутинная процедура. Уверена, что у нас будет время, но я не знаю, как много. Я просила тридцать дней. – Она проводила Лену до двери и сказала: – Простите, что усомнилась в вашей истории. Сегодня мне что-то не по себе.
Лена улыбнулась:
– Спишем все на боли в спине. Когда я ходила беременная Артуром, у меня часто болела поясница. – Она помолчала. – Да и после рождения он мне покоя не давал.
Глава двадцатая
На восемнадцатом этаже Центра Ричарда Джей Дейли в зале суда 1803 судья Уиллард Джи Петерсон занял свое место, чтобы начать утреннее слушание. Судья Петерсон твердой рукой решал дела о наследстве вот уже шестнадцать лет и в широких кругах был известен как справедливый судья, но на своем веку он много чего наслушался и терпеть не мог всякий вздор.
– Доброе утро, Ваша честь! – приветствовала его Кэтрин, передавая скрепленную степлером пачку документов. – Это ходатайство ответчицы Лены Вудвард, в котором она просит дать время ответить или иным образом оправдаться по иску, предъявленному ее сыном Артуром Вудвардом.
Справа от Кэтрин с натянутыми улыбками стояли Майк Ширли и Сьюзан Купер. Ни Артур, ни Лена на заседании не присутствовали.
Судья взглянул на всех поверх очков и погладил седую бородку.
– Я ознакомился с ходатайством. – Его низкий голос напоминал раскаты грома. – У истца есть возражения?
– Есть, Ваша честь, – несколько резко ответил Ширли. – Слушание по делу назначено на двадцать четвертое января, а это уже через четыре дня. Благополучие матери моего клиента под угрозой. Она страдает серьезным старческим слабоумием, и любое промедление лишь усугубит ее состояние, а возможно, в результате нанесет невосполнимый значительный ущерб ее финансовому благополучию. В иске все изложено предельно ясно. Для чего ответчику дополнительное время?
Судья поморщился и, пристально глядя на Ширли, подался вперед:
– Действительно, зачем миссис Локхарт время? Я уверен, что вы уже обнародовали все имеющиеся у вас документы, полный перечень свидетелей и представили их для дачи показаний в суде, правильно?
– Нет конечно же, Ваша честь, еще нет.
– Правильно. А заключение медицинского эксперта? А его отчет? Вы уже представили эти доказательства?
Ширли вздохнул:
– Нет.
– Следовательно, кого мы пытаемся обмануть, мистер Ширли?
– Ваша честь, я могу предоставить всех свидетелей со стороны истца и их показания в течение двух недель. Мы могли бы назначить слушание через три недели?
– Нет, мистер Ширли. Мы не можем. Я откладываю слушание на три месяца. На двадцать пятое апреля. Миссис Локхарт, вы можете ответить на иск в течение двадцати одного дня. Я, как и все сидящие в этом зале юристы, предполагаю, что вы подадите ходатайство с просьбой отклонить иск. Мы рассмотрим его. Я отклоню по крайней мере несколько пунктов иска, и мистер Ширли подаст встречное ходатайство, а вы подадите еще одно, и где-то ближе к осени мы таки вернемся к рассмотрению данного дела по сути. Я прав?
– Я намерена заявить ходатайство, Ваша честь, – заверила Кэтрин.
– Удивлен. Удивлен, – ответил судья Петерсон низким, скрипучим голосом.
В зале суда Лиам расплылся в довольной улыбке.
– Это моя девочка, – прошептал он сидящему рядом адвокату. – Сейчас наподдаст им.
– Одну секундочку, пожалуйста, – сказал Ширли. – Миссис Вудвард страдает старческой деменцией, состояние ее здоровья ухудшается с каждой минутой. Неужели суд не примет во внимание серьезность ее положения? Неужели в протоколе заседания суда будет отражено, что суд ничего не предпринял, чтобы защитить эту беззащитную женщину от финансовых хищников? Где-то ближе к осени уже нечего будет сохранять.
– Избавьте меня от вашего красноречия, мистер Ширли. Здесь нет присяжных.
– Но, Ваша честь, дело не терпит отлагательств, и суд обязан назначить промежуточное слушание, чтобы защитить интересы матери истца. Я не прошу вашего разрешения действовать на свое усмотрение. Закон дает нам абсолютное право. По крайней мере ей полагается назначить беспристрастного адвоката.
– Адвокат у нее уже есть, – заметила Кэтрин.
– Бог мой! – воскликнул Ширли, всплеснув руками. – Пустили козла в огород.
Судья Петерсон ударил деревянным молотком.
– Я требую уважения в зале суда, мистер Ширли. Не смейте оскорблять уважаемого коллегу! На каком основании вы делаете подобные критические заявления? И лучше бы этим основаниям быть весомыми!
– При всем уважении, Ваша честь, истец хочет защитить свою мать от гонораров и расходов на ничего общего с реальностью не имеющую нелепую авантюру, которой содействует и которую всячески поддерживает собственный адвокат ответчицы, выдающаяся миссис Локхарт. Именно миссис Локхарт с супругом являются людьми, которые представляют собой финансовую угрозу. Именно они злоупотребляют своими обязательствами перед миссис Вудвард и оказывают чрезмерное влияние на ответчицу ради собственной финансовой выгоды.
Кэтрин закатила глаза и пожалела, что отчеты Форрестера из социальной службы общественно доступны и по закону не являются конфиденциальными.
Судья Петерсон откинулся на спинку кресла, размышляя над услышанным.
– Вы выдвигаете дичайшие обвинения, мистер Ширли, но если это правда – миссис Локхарт ждет исключение из адвокатуры и лишение адвокатского звания. А если нет – я лично прослежу за тем, чтобы вы предстали перед дисциплинарной комиссией.
– Неужели вы думаете, что я не предвидел такого поворота, Ваша честь? Неужели полагаете, что я стал бы бросаться подобными обвинениями, не имея фактических доказательств? Я представляю своего клиента и, даже несмотря на то, что это может неблагоприятно сказаться на карьере миссис Локхарт, обязан поднять этот вопрос. Миссис Локхарт «высасывает» гонорары из миссис Вудвард, женщины, настолько серьезно страдающей старческим слабоумием, что она даже не понимает, что происходит вокруг, и не может себя защитить.
Судья поджал губы и втянул носом воздух.
– Миссис Локхарт, вы представляете эту женщину в другом деле?
– Да, Ваша честь.
– Поясните мне его суть.
– Не могу, Ваша честь. Это конфиденциальная информация. Я связана особыми отношениями «клиент – адвокат».
– Я не прошу разглашать, что сказала ваша клиентка и что сказали вы. Я только хочу знать, чего это дело касается. Почему предмет этого дела сам по себе является конфиденциальным?
– Потому что на данном этапе это дело всецело состоит из конфиденциальной информации и тайн. Ничего из сказанного нельзя обнародовать или публично приобщить к делу.
Судья угрюмо покачал головой:
– Я могу потребовать обнародовать суть дела. В суде заслушивается дело о благосостоянии этой женщины.
– При всем уважении, я вынуждена буду не выполнить ваше требование. То, что сказала моя клиентка, равно как и предмет наших разговоров, – конфиденциальная информация.
– Чепуха! – вспылил Ширли. – Она использует мать моего клиента и вытягивает из нее деньги. А у вас есть полномочия ее остановить. Суд должен приказать миссис Локхарт обнародовать подробности юридических взаимоотношений с миссис Вудвард, включая гонорары и оплаченные счета.
– Мистеру Ширли отлично известно, что подобное требование неправомерно. И Ваша честь не стал бы требовать подобного, а если бы все-таки потребовал, то я была бы вынуждена ослушаться.
Судья помолчал, раздумывая над тупиком, в который его загонял Ширли.
– У вас есть записи личных бесед?
Кэтрин кивнула:
– Есть.
– Я могу потребовать предъявить эти записи.
– Вынуждена буду ослушаться. Мои записи слов миссис Вудвард охраняются законом.
Судья Петерсон повысил голос. В его и без того недружелюбном тоне зазвучали суровые нотки.
– Подобную привилегию имеет ваша клиентка, миссис Локхарт. А. Не. Вы.
Кэтрин оставалась непоколебимой.
– Она не отказывалась от этого права, как и не уполномочила меня обнародовать ее откровения.
– Гм… Ясно. А теперь позвольте сообщить, что сделаю я. Я дам вам сорок восемь часов на то, чтобы вы представили мне полный отчет о том, что делали от имени миссис Вудвард, а также свои записи для ознакомления в кабинете. Если вы откажетесь или не выполните это требование, я обвиню вас в неуважении к суду. Отказ от права хранить молчание – это единственный выход, посему я советую вам поговорить с клиенткой и убедить ее отказаться от своего права прежде, чем вы вновь станете подавать ходатайство.
– Ох! – воскликнул Ширли. – В большинстве случаев это было бы приемлемо, но сын ответчицы утверждает, что миссис Вудвард недееспособна из-за ослабленного психического состояния, вызванного преклонным возрастом. Она одержима мыслями разыскать каких-то вымышленных детей из прошлого века на другом конце земли. И теперь эта бедная женщина из-за чрезмерного влияния и попустительства адвоката и детектива готова следовать своей прихоти. Они обогащаются благодаря этой воображаемой одиссее. У миссис Вудвард просто не хватает ума выступить против и отказаться от своего права.
Судья кивнул:
– Возможно. Скорее всего, я назначу временного опекуна. Я вынесу свое решение в следующий четверг в десять часов. Слушание откладывается.
* * *
– А что плохого в том, чтобы иметь временного опекуна в качестве еще одного помощника, чтобы представлять Лену в слушании по делу о наследстве? – удивился Лиам, который сидел в конце стола в конференц-зале Кэтрин. – Он поговорит с Леной и подтвердит, что она в добром здравии и при своем уме.
– Назначенного адвоката выбираю не я, – ответила Лена. – Именно этого и добивается Артур – свести на нет мою независимость. А я считаю, что я и только я должна выбирать адвоката, который будет меня представлять.
– Мне кажется, судья Петерсон в любом случае назначит адвоката, – заметила Кэтрин. – У него есть такое право. Он захочет иметь независимое мнение, чтобы отразить его в протоколе заседания, но только вам решать, что – если вы вообще этого захотите – говорить своему адвокату. Поднять вопрос о чрезмерном влиянии – умный ход со стороны Ширли. Может даже последовать ходатайство о дисквалификации меня как адвоката.
– А как насчет отказа от права хранить молчание? – поинтересовался Лиам. – Что ты намерена делать в четверг утром?
– Я не могу раскрывать то, что в приватной беседе рассказал клиент. Я представлю судье Петерсону официальный меморандум общения адвоката с клиентом, резюмирую все последние дела, рассмотренные в Иллинойсе, хотя, думаю, он и сам их прекрасно знает. Все, что потребовал представить Петерсон, – конфиденциальная информация, а я продолжу ссылаться на привилегию «клиент – адвокат».
– А что произойдет, если судья обвинит вас в неуважении к суду? – спросила Лена.
– У него широкие полномочия. Он может оштрафовать меня или взять под стражу, пока я не сниму с себя вину.
Лена взглянула на Кэтрин и положила руку ей на плечо:
– Я не хочу, чтобы у вас были неприятности с судьей. Если необходимо рассказать ему о том, что я говорила, или о том, чем мы занимаемся, я вам разрешаю.
– Стоп! – остановила ее Кэтрин. – Речь идет о том, чтобы вы добровольно и сознательно разрешили обнародовать содержание наших конфиденциальных встреч. По доброй воле! А не принудительно, из-за противозаконных угроз вашему адвокату. И не потому, что хотите меня защитить. Так правосудие не работает. Вы хотите, чтобы Артур узнал все, что вы уже рассказали или еще расскажете во время наших встреч?
Лена покачала головой:
– Неужели мы не можем представить судье общее содержание? Или рассказать ту часть истории, когда я работала в Цеху?
– Нет. Если мы скажем «а», то должны будем говорить и «б». Раскрывать все карты. У него появится право спрашивать вас обо всем, что касается доверенных вами тайн. Вы хотите, чтобы судья узнал все?
Лена покачала головой:
– Есть вещи, которые я не хочу, чтобы он знал. Ни при каких обстоятельствах. Никогда!
– В таком случае разговор окончен, – заявила Кэтрин. – Давайте вернемся в Хшанув, в Польшу. Расскажите о вашем тайном поручении.
– Кэт, – вмешался Лиам, – ты не можешь сесть в тюрьму. Ты на пятом месяце беременности, и беременность проходит не гладко. Врач велел следить за твоим состоянием. Скажи об этом Петерсону.
– Я не стану разыгрывать карту с беременностью. Он не имеет права требовать от меня раскрытия конфиденциальной информации. Точка. Разговор окончен.
– Кэтрин, – вмешалась Лена, – я не позволю вам сесть в тюрьму.
– Это мое право. Закон на моей стороне, и Петерсон об этом знает.
– Кэт… – не сдавался Лиам.
– Довольно! Разговор окончен!
Лиам встал. Лицо у него покраснело.
– А теперь послушай меня! Если ты намерена участвовать в этом безумном слушании, я тебя остановить не могу. Но тебя должен кто-то представлять. Тебе нужно нанять адвоката. Ты не можешь сама себя защищать.
Кэтрин кивнула:
– Я подумаю над этим. Наверное, ты прав. А теперь давайте продолжим историю.
Лена посмотрела на Лиама и пожала плечами:
– Хорошо. Вернемся в Хшанув, к моему первому поручению в качестве курьера.
* * *
В квартире Давида я обула новые туфли и надела пальто. Давид отвел меня в цех отгрузки и положил на четырехколесную тележку с десяток шинелей. Я коротко кивнула, он обнял меня на прощание, и я отправилась в ночь. Дом находился кварталах в восьми-девяти от фабрики, и мне пришлось пересечь пару оживленных перекрестков. Я миновала всего половину пути, когда меня остановили два эсэсовца в длинных кожаных плащах. Один из них красноречиво посмотрел на мою повязку на рукаве.
– Dokumente, bitte.
Я показала ему свои документы и разрешение из Цеха. Он поинтересовался, куда я направляюсь.
Я сказала адрес.
– Зачем ты везешь шинели в жилой дом?
– Мне так приказали.
Не успела я и глазом моргнуть, как он тыльной стороной правой руки ударил меня по лицу.
– Не смей мне дерзить! Я спросил, зачем ты везешь эти шинели.
– Простите, – ответила я, пошатнувшись от пощечины. – У меня приказ.
Я достала из кармана сложенную бумагу. Это была накладная, которой подтверждалась доставка двенадцати шинелей полковнику Мюллеру для дальнейшей передачи по инструкции.
Эсэсовец прочел бумаги и вернул их. А потом ущипнул меня за щеку так сильно, что, казалось, пальцами продавит мне в коже дыру.
– В следующий раз, когда немецкий офицер тебя о чем-то спросит, не заставляй его повторять дважды.
– Да, господин начальник.
Он поправил козырек фуражки, вытер руки о шинель, как будто прикоснулся к чему-то мерзкому, и пошел прочь. Я продолжила путь, пока не увидела огни своего дома.
Лена замолчала и закрыла глаза.
– Я остановилась на углу улицы и посмотрела на свой дом. На мгновение мне опять стало тринадцать. Я возвращалась домой из школы. Меня ждали папа и мама. Милош играл машинками посреди гостиной. Магда готовила обед, и в памяти всплыло воспоминание о запахе жареного мяса. Я могла бы войти в дверь, и последние три года показались бы не чем иным, как ужасным кошмаром, и все было бы так, как раньше… Я закрыла глаза и истово пожелала, чтобы все так и случилось. Я хотела, чтобы время повернуло вспять, но звук клаксона вернул меня к реальности. Стоял 1942 год, а я – еврейка в нацистской Германии. Я толкнула тележку вперед…
Я постучала в дверь, и мне открыла молодая, робко улыбающаяся девушка. В тепле, накормленная, в безопасности в моем доме. «Неужели это новая Лена?» – подумала я. Неужели ей предназначено занять место девушки, которая жила на улице Костюшко, 1403? Или это нанятые киностудией актеры, которые должны сыграть роль семьи, счастливо живущей на улице Костюшко, 1403?
– Я пришла к полковнику Мюллеру, – сказала я по-немецки.
– Минутку, – ответила девушка и скрылась в доме.
Через секунду в дверях появилась красивая женщина. У нее были белокурые, модно завитые и уложенные волосы, красные губы, румяна на щеках и длинные ресницы. Одета она была в платье длиной до середины икры с накладными плечами и глубоким декольте, украшенным изящной нитью жемчуга. Она посмотрела на меня, как на мусор.
– Что надо?
– Прошу прощения за беспокойство, мадам, но у меня груз для полковника Мюллера.
– Оставляй на крыльце и проваливай.
Я даже не пошевелилась.
– Не могу. Мне приказано передать ему лично в руки.
– Отлично, тогда жди. Его нет дома.
Она развернулась и захлопнула дверь. Я села на цементное крыльцо, надеясь, что полковник вернется домой до того, как проходящий мимо очередной эсэсовец станет меня донимать.
Было темно, стоял февраль. Я замерзла и начала ходить кругами, чтобы согреться. Примерно через час появились двое оживленно беседовавших немецких солдат в коричневых рубашках – они смеялись, хвастаясь историями своих завоеваний. Солдаты остановились, и один ткнул в меня пальцем. «О нет, – подумала я, – опять!» Но они только посмеялись и продолжили путь. Вскоре у обочины остановился черный «мерседес» и из него вышел полковник.
– Смотрите-ка, не маленькая ли это путешественница? Добрый вечер, мисс Шейнман! – Он коснулся козырька фуражки и засмеялся. – Значит, теперь вы осуществляете для меня доставку? Отлично, проходите.
Полковник Мюллер отпер входную дверь, взвалил на себя тюк шинелей с тележки и вошел в дом, кивком головы приказав следовать за собой. Я шагнула в прихожую и застыла. Не было классического польского декора, который так любили мои родители, из дорогого полированного дерева в традиционных польских тонах – карминном, голубом и золотом. Исчезли мягкие плюшевые диваны, обтянутые изысканными тканями, и роскошные, величавые высокие кресла. Исчезли написанные маслом в голубых и зеленых тонах картины импрессионистов в золотых резных рамах, которые украшали стену над мебельным гарнитуром.
Теперь мой дом был меблирован в Jugendstil – в немецком стиле модерн. Холодные современные свободные формы. Высокие стеклянные дверцы. Эмалированные вазы украшали столики из отбеленного резного дуба. Над обеденным столом из металла и матового стекла висела изогнутая бронзовая люстра. На стенах были вызывающе абстрактные рисунки чернилами в кроваво-оранжевых и коричневых хромовых рамках произвольной формы. Увиденное разбило мне сердце. В общем, дом мой было не узнать. Я стояла как громом пораженная.
– Одобряешь? – поинтересовалась сидевшая на диване блондинка. – Ты смотришь так, будто оцениваешь мой вкус в подборе обстановки. Он не совпадает с твоим? Видела бы ты хлам, который мне пришлось выбросить отсюда.
– Простите, мадам. Я всего лишь привезла шинели для полковника Мюллера. Я бы не отважилась ставить под вопрос ваш изысканный вкус.
– Ха-ха! – засмеялся полковник Мюллер, входя в комнату. – Эльза, устраиваешь девочке допрос?
Эльза скрестила руки на груди:
– Знаешь, она оценивающе осматривала мой дом. Или она из магазина, а не простая еврейская швея? – Она передернула плечами и сморщила нос. – Кто она такая, чтобы судить? Мне не нравится, как она смотрит на мои вещи. Ее взгляд их пачкает.
– Эльза, она всего лишь привезла шинели из Цеха. – Полковник повернулся ко мне со словами: – У меня документы на шинели в другой комнате. Иди за мной.
Пока я пересекала гостиную, Эльза провожала меня взглядом, как леопард, сидящий на огромном валуне.
Я вошла в кабинет отца, и меня словно ударили под дых. Здесь ничего не изменилось. Казалось, что этих двух лет не было. Все осталось на своих местах. Кожаное кресло моего отца. Мягкий красный персидский ковер с большим ворсом. Письменный стол с убирающейся крышкой орехового дерева с маленькими полочками, где он мог прятать мятные конфетки для Милоша и для меня. В углу бронзовая лампа с абажуром с бахромой – подарок моей бабушки, – которую мама называла «страшилище». Столько воспоминаний. Так тяжело смириться.
Книжный шкаф был тем же самым, только исчезли медали и военные документы отца, которые, конечно же, украл кто-то из этих презренных немцев. А еще не хватало фотографий моей семьи, особенно любимой фотографии отца – той, где мы с Милошем сидим у него на коленях. Она стояла на краю стола. Это было уже слишком. Я разрыдалась.
Полковник Мюллер покачал головой:
– Они не должны были тебя посылать. Я предупреждал.
– Не знаю, – плакала я. – Когда я соглашалась на это поручение, то не знала, куда меня пошлют.
– Теперь ты понимаешь. Передавать донесения можно только в этом доме. В другом месте нельзя. Скажи Давиду, что он должен подключить другого курьера.
Я покачала головой:
– Нет. Я справлюсь. Все будет хорошо. Это всего лишь шок.
Полковник покусал губы:
– А что с твоим лицом?
– СС. Эсэсовец ударил меня по лицу и ущипнул за щеку, чтобы продемонстрировать расовое превосходство. Вы все – чудовища! – гневно произнесла я и расплакалась.
– Не все. – Он минуту разглядывал меня, потом сказал: – Не хочу, чтобы Эльза видела тебя заплаканной. Она начнет выспрашивать, почему девушка-курьер плакала в моем доме. Мы должны держать ухо востро. Сейчас я на тебя накричу, чтобы все выглядело так, будто ты расстроилась из-за меня.
Я кивнула:
– Но сперва дело. Где донесения?
Я сняла туфли, отвернула стельку и отдала ему бумаги. Он просмотрел их, положил в металлическую коробку, запер ее и спрятал в выдвижной ящик стола.
– Готова?
Я закрыла глаза и кивнула.
Он приоткрыл дверь и заорал:
– Ты ленивая, тупая корова! На двух из шинелей разошлись стежки. Ты что, слепая? Как ты могла принести рваные шинели для моих солдат?!
Он выбросил меня за дверь и, толкая в спину, провел через гостиную. Эльза, скрестив ноги, с довольной улыбкой сидела на диване, потягивая коктейль. Я не сводила глаз с ее запястья, а точнее – с плетеного золотого браслета. Отец подарил его маме на десятую годовщину свадьбы. Полковник с силой толкнул меня в спину.
– Ступай назад и скажи, чтобы просматривали эти чертовы шинели, прежде чем отправлять! – орал он. – Я уже устал от их некомпетентности!
Он швырнул мне две шинели и вытолкал в прихожую. Я ударилась о дверь. Должна признаться, было больно, и я расплакалась – даже притворяться не пришлось. Я покинула дом, потирая ушибленный локоть.
Я положила шинели в тележку и, расплывшись в улыбке от уха до уха, повезла ее назад.
«Я сделала это! – мысленно ликовала я. – Я доставила свое первое донесение. Я, черт побери, настоящая польская разведчица!»
Не уверена, что получилось по-ирландски, но на углу улицы Костюшко я остановила тележку и станцевала джигу.
Я не могла дождаться, когда же вернусь в Цех и расскажу все Давиду.
У Лиама зазвонил сотовый телефон.
– Прошу прощения, я должен ответить на звонок. Вернусь через несколько минут. Еще раз извините.
Он вышел из конференц-зала и закрыл за собой дверь.
– Значит, вы вернулись в Цех и обо всем рассказали Давиду? – уточнила Кэтрин.
Лена так и засияла от воспоминаний.
– Я так гордилась собой! И хотела, чтобы Давид тоже мною гордился. Он ждал меня, и я видела, что он не шутку разнервничался. Я понимала, что он, конечно же, беспокоится об успешной передаче донесения, но втайне надеялась, что дело не только в этом. И я не ошиблась. По выражению его лица я видела, что он волновался обо мне, о том, чтобы я вернулась назад целой и невредимой. Уже давно перевалило за полночь. Он отвел меня в свой кабинет и закрыл дверь.
– Я отнесла бумаги, – похвасталась я. Меня распирало от радости. – Передала их Мюллеру. Я сделала это, Давид. Я сделала это! – Я даже подпрыгнула. – Я сделала это!
Он прижал палец к губам.
– Тсс… – Но потом улыбнулся и подхватил меня на руки. – Я не сомневался, – сказал он, – я знал, что ты сможешь.
Ту ночь я провела с Давидом. Она была просто изумительной.
Кэтрин улыбнулась и кивнула:
– Отлично. Потрясающий вечер!
– Да уж!
– Когда вы в следующий раз понесли донесение?
– Передавать отчеты из Освенцима было невероятно трудно, они приходили нерегулярно, без предупреждения. Давид обходил Цех, делал вид, что останавливается у моего рабочего места, чтобы проверить работу, наклонялся и говорил:
– Сегодня вечером у нас доставка.
Это означало, что я должна прийти к одиннадцати часам, на ночную смену. Туфли ждали меня в его кабинете.
Вторая передача донесения произошла через пару недель. Без сучка и задоринки. Когда я постучала в дверь, полковник Мюллер был дома и открыл мне. Эльзу я даже не видела, весь процесс передачи длился не более пяти минут. Я вернулась с одной шинелью, предположительно бракованной, что давало мне предлог войти в Цех после полуночи и провести ночь в кабинете Давида. Как обычно, Давид с тревогой ждал меня.
– Каким он был? – спросила Кэтрин.
– Добрым, нежным, но сильным, как Гибралтар. Постоянно погруженным в свои мысли. Однажды ночью мы лежали в ожидании рассвета. Давид, сцепив руки за головой, смотрел в потолок. Я спросила, о чем он думает.
– О том, что, когда все это закончится, какой тогда будет наша Польша?
– Если еще что-то от Польши останется.
– Никогда не говори так, Лена. Не верь в это даже на минуту. Потому что тогда нацисты победят. Они завоюют твой разум. И ты сдашься. Ты должна сопротивляться каждой мыслью. Мы никогда, ни на секунду, не должны верить, что битва проиграна. – Он смотрел на меня своими невероятно голубыми глазами. – Они никогда не выиграют. Я гарантирую. Нацистская Германия падет. Сгорит в огне. И такие люди, как мы с тобой, этому способствуют.
Глава двадцать первая
С самого утра, когда Кэтрин села за письменный стол готовить черновик меморандума, который собиралась представить судье Петерсону, раздался звонок.
– Кэт, ты велела мне переводить все твои звонки на себя, но на второй линии Уолтер Дженкинс.
Кэтрин потерла лоб:
– Уолтер Дженкинс? Он сказал, почему звонит?
– Нет.
– Хорошо, я отвечу. Соединяй. – Она взяла телефонную трубку. – Доброе утро, Уолтер. Чем обязана такой чести?
– Говорят, тебе нужен адвокат. – Кэтрин услышала, как собеседник засмеялся.
– Может быть. Откуда ты узнал?
– Черт, Кэтрин, об этом знают все в суде! Петерсон намерен показать тебе, кто здесь главный.
– Ерунда, тебе Лиам сказал.
– Быть может.
– Значит, ты позвонил, чтобы позлорадствовать…
– Нет, черт побери, я звоню, чтобы предложить представлять тебя в суде. Хочу быть твоим адвокатом.
– Спасибо, но я не могу себе позволить нанять выдающегося Уолтера Дженкинса или любого другого высокооплачиваемого адвоката.
– Брось, контора платит. Я всегда терпеть не мог Петерсона, а кроме того, я твой должник. Джек Соммерс. Ты спасла нас в деле на восемьдесят миллионов долларов.
– Спасибо, конечно, Уолтер, но…
– Никаких «но». По рукам? Загляни сегодня после обеда, и мы поработаем над твоим делом.
Кэтрин улыбнулась и кивнула, хотя Дженкинс этого видеть не мог.
– Хорошо, загляну. И спасибо, Уолтер. Мне действительно нужен адвокат. Очень любезно с твоей стороны предложить свои услуги. С кем ты хочешь, чтобы я встретилась?
– Как с кем? Со мной, с кем же еще? Я намерен лично заняться твоим делом. Встретимся в два часа.
Кэтрин положила телефонную трубку, размышляя над тем, что жизнь – штука непредсказуемая. Уолтер Дженкинс, ее начальник и явный враг номер один по состоянию на 2005 год – он уволил ее в то время, когда она защищала Бена Соломона. Уолтер Дженкинс, который без приглашения явился к Кэтрин в контору в 2012 году и умолял, чтобы она представляла его фирму, когда Виктор Келсен предъявил иск на восемьдесят миллионов долларов. А теперь они поменялись ролями. Ей нужен был Уолтер, и, похоже, он искренне готов вернуть долг.
Кэтрин позвонила Лиаму:
– Это ты метал бисер перед Уолтером?
– Я не хочу, чтобы ты села в тюрьму. Мне было бы очень одиноко. Ты завтра с ним встречаешься?
– Да, в два часа. Ты ведь не сказал ему, что я беременна, правда?
Молчание.
– Лиам!
Молчание.
– Черт, Лиам! Я не хочу, чтобы Уолтер Дженкинс знал обо всех моих делах.
– Я не хочу, чтобы ты села в тюрьму. А кроме того, все твои дела совершенно очевидны для любого, кто на тебя посмотрит.
– Что он ответил, когда ты рассказал ему о Петерсоне?
– По-моему, он уже обо всем знал. Слухами земля полнится. Мне кажется, в четверг утром от адвокатов в зале суда будет не протолкнуться. Придут посмотреть на спектакль.
– Боже, Лиам, это не очень хорошие новости. Если в зале суда будет полно народу, Петерсон может встать в позу. Он не станет отступать в присутствии адвокатов, которые занимаются юридической практикой.
– Ничего не попишешь, Кэт. Это открытое судебное заседание. Позвони, когда встретишься с Уолтером.
* * *
Кабинет Уолтера Дженкинса в конце коридора нисколько не изменился с тех пор, как Кэтрин работала здесь в 2005 году. На столе до сих пор стояла украшенная мозаикой шкатулка орехового дерева для сигар, хотя он уже давно не курил сигары. Короткая клюшка для гольфа, три мяча и стаканчик для воды лежали на зеленой беговой дорожке у стены. Несколько фотографий его внуков в разные годы знаменовали течение времени.
Кэтрин кратко изложила суть дела и откинулась на спинку кресла.
– Вот и вся история, Уолтер. Я не стану давать Артуру оружие, с помощью которого он мог бы остановить свою мать в поисках всей ее жизни. Если я скажу судье Петерсону, что встречаюсь с Леной относительно данного ею торжественного обещания найти детей Каролины, если они живы, Артур ни перед чем не остановится, чтобы помешать матери. Может быть, все дело в деньгах, может, в его надеждах на наследство, а возможно, в тотальном контроле – черт, может быть, он даже окажется прав! – но у меня такое чувство, что эти поиски – самое важное в жизни Лены, и я буду сражаться, как тигрица, чтобы дать ей возможность реализовать свои планы. Мое право – противостоять попыткам обнародовать доверенные клиентом тайны. И законное право Лены – чтобы сказанное ею конфиденциально таковым и оставалось.
Уолтер удивленно приподнял брови и улыбнулся.
– Как всегда, Кэтрин – белый рыцарь. Но в этот раз у Петерсона преимущество. Он ссылается на закон о психическом здоровье. У него есть право препятствовать тому, чтобы недееспособный человек предпринимал какие-либо шаги, наносящие непоправимый вред его финансовому положению. Как бы там ни было, Артуру уже известно о близнецах Каролины. Это отражено в его иске. Не понимаю, что ты скрываешь. Ты не обнародуешь ничего из того, чего он еще не знает. Какой вред в том, чтобы сказать Петерсону, что Лена наняла тебя, чтобы найти дочерей Каролины?
– Прежде всего, это противоречит самой сути преимущественного права – все, сказанное адвокату конфиденциально, не может быть обнародовано без предварительного согласия клиента. Закон о психическом здоровье не лишает человека этой привилегии. В необычных обстоятельствах право приостанавливается только в тех случаях, когда клиенту или кому-либо другому грозит неотвратимая опасность. Здесь речь об опасности не идет. Артур ссылается на риск финансовых потерь. Во-вторых, дело в вопросах, которые последуют после. Как только я обнародую суть дела, в котором представляю свою клиентку, судья станет просить меня предоставить факты существования близнецов. А потом он захочет знать, почему, черт побери, так важно для психически больной женщины ехать на другой конец света только для того, чтобы им что-то сказать. А потом он захочет знать, что именно. Лена не хочет, чтобы Артур узнал об этом. Тут кроется какая-то тайна, Уолтер. Я просто в этом уверена.
– Какая тайна?
– Я бы не открыла ее тебе, даже если бы знала, но я не знаю. Чтобы выполнить свой долг перед клиентом, я должна помешать Артуру совать нос в личные дела Лены. Если я уступлю Петерсону, я проиграю. Как только я отвечу на первый вопрос – я открою дверь и хлынет лавина. Я должна отстаивать свою позицию с первого же вопроса. Правда на моей стороне, и ты это знаешь.
– Правда? Да неужели, Кэтрин? Ты сейчас говоришь, как один из наших негодующих клиентов. Когда правда и реальные основания имели значение, если судья хочет проявить твердость? Ты ввязалась в конфликт с самым вздорным человеком в суде графства Кук. И кроме того, в данной ситуации этот мужчина больше печется о том, чтобы не потерять лицо, а не о своей правоте.
– Ну… а какой у тебя план?
– Это ты мне скажи, Кэтрин. Как ты хочешь обыграть это дело? Уверен, Петерсон с готовностью пойдет на компромисс, который позволит ему выйти из тупика и сохранить за собой репутацию непреклонного судьи.
– Например?
– Ты бы согласилась ответить на вопросы Петерсона с глазу на глаз, представить доказательства в кабинете судьи и пояснить, что тебе известно? В таком случае Петерсон будет удовлетворен, что благосостояние Лены вне опасности, а Артур не узнает, что ты сказала.
Кэтрин покачала головой:
– Я не смогу проконтролировать, как Петерсон распорядится полученной от меня информацией. А он может – и обязательно будет! – спрашивать обо всем, о чем пожелает. А если я расскажу и он решит, что это существенно, что тогда? У него есть право приказать повторить услышанное под протокол. Тогда, если я откажусь, мы возвращаемся к первому пункту – за исключением того, что я уже обнародовала тайны своей клиентки и теперь не могу гарантировать их сохранность. Не знаю, как выпутаться из этой ситуации.
Уолтер вздохнул:
– Я тоже не знаю. Тем не менее с его стороны необоснованно жестоко заключать под стражу беременную женщину по обвинению в неуважении к суду.
– Я не хочу, чтобы ты разыгрывал эту карту. Во-первых, не думаю, что она сработала бы. По-моему, Петерсону совершенно наплевать, беременна я или нет. Во-вторых, я не собираюсь стоять перед своими коллегами и молить судью о том, чтобы он не сажал меня в тюрьму, потому что я беременна. Я хочу, чтобы он признал, что привилегированное право «клиент – адвокат», нравится ему это или нет, дает мне возможность не отвечать на его вопросы. Я хочу защитить своего клиента.
Кэтрин достала из кейса-атташе папку.
– Я подготовила черновик меморандума, который содержит аргументы и пункты закона в поддержку моей позиции. Воспользуйся им, если это поможет.
Уолтер кивнул:
– Думаю, это хорошая идея – кратко изложить суть дела, даже если на слушании это и не сыграет никакой роли. Мы получим преимущества, когда придется подавать апелляцию против решения Петерсона. Я посажу за работу пару адвокатов, посмотрим, что они еще «нароют».
Кэтрин встала:
– Я очень ценю твою помощь, Уолтер. Ты хороший друг.
– Ты тоже. Увидимся завтра утром.
Глава двадцать вторая
Лиам с Уолтером попали прямо в точку: в четверг утром в зале суда, где председательствовал Петерсон, было не протолкнуться. Все, у кого нашлась минутка между слушаниями, заглянули в зал заседания, чтобы посмотреть, неужели Петерсон действительно обвинит Кэтрин Локхарт в неуважении к суду и засадит ее за решетку, если она не снимет с себя обвинение, ответив на его вопросы. Никто не сомневался в решимости Петерсона, как и не мог обвинить его в чрезмерной впечатлительности. Лиам устроился в заднем ряду.
– Встать, суд идет!
Молоток ударил три раза, и из боковой двери в зал суда вошел судья Петерсон. Он шагнул в зал, обвел взглядом переполненную комнату, презрительно усмехнулся, покачал головой и прорычал:
– Вам что, больше заняться нечем?
Потом взобрался по ступенькам, занял свое место и жестом разрешил всем сесть. Майк Ширли, Сьюзан Купер и Артур Вудвард заняли место за адвокатским столом слева от судьи. Кэтрин и Уолтер – справа. Лене Кэтрин велела не приходить. В зале повисла тишина.
Петерсон кивнул секретарю, который объявил слушание дела.
– Дело номер 13 Р 6268 «Иск об опеке над Леной Вудвард», отложенное слушанием по решению суда.
Ширли, Уолтер и Кэтрин подошли к судье.
– В протоколе отражено, – сказал судья Петерсон, – что слушание по делу отложено на сегодняшний день по вынесенному мною решению, поскольку миссис Локхарт было приказано обнародовать перед судом информацию, не защищенную законом о привилегированном праве, и она отказалась. Я продолжаю слушание по данному делу, оказывая любезность миссис Локхарт, чтобы она смогла осознать свою ошибку и должным образом выполнить мои требования. – Он взглянул поверх очков на стоящих перед ним адвокатов. – Судя по присутствию мистера Дженкинса, я так понимаю, что миссис Локхарт намерена оспорить мое решение. Я прав, мистер Дженкинс?
Уолтер Дженкинс в темно-синем в полоску костюме, идеально сидящем на его крупной (почти 190 см) фигуре, в белой рубашке с монограммой и галстуком от «Бриони» с изображением цветов, бывший президент ассоциации адвокатов и учредитель одной из ведущих юридических фирм в Чикаго царственно стоял у стола и прямо, не отводя взгляда, смотрел в глаза судье Петерсону.
– Совершенно верно, – высокопарно ответил Дженкинс. – Миссис Локхарт намерена следовать статье 1.6 Кодекса нашего штата, определяющей профессиональное поведение адвоката: «Адвокат не имеет права разглашать информацию, касающуюся клиента, если только сам клиент не дает обоснованного согласия». Миссис Вудвард своего согласия не давала, и миссис Локхарт справедливо отказывается обнародовать любую информацию, касающуюся ее клиентки, что включает и ответы на ваши настойчивые вопросы. Ваша честь отлично знает, что на привилегированном праве «клиент – адвокат» и построена вся система американского законодательства: никто не может пробить стену конфиденциальности, на которую рассчитывает каждый клиент, когда общается со своим адвокатом. Все, доверенное адвокату за закрытыми дверями кабинета, является строго личной и конфиденциальной информацией. И в этом случае миссис Локхарт просто не имеет права разглашать конфиденциальную информацию.
Петерсон постучал карандашом по столу и склонил голову к левому плечу.
– У вас есть что ответить, мистер Ширли?
– А разве тут нужно что-то отвечать? – фыркнул Ширли с характерным для штата Теннесси тягучим акцентом. – Вы вынесли судебное решение, миссис Локхарт отказывается его исполнять. Мистер Дженкинс может сколько угодно разливаться соловьем по всему центру Дели, но на факты это не повлияет. Артур утверждает, что его мать страдает от старческой деменции, а именно: у нее навязчивая мания, что некая воображаемая женщина по имени Каролина семьдесят лет назад родила воображаемых детей, которых – почему именно их? – миссис Вудвард хочет разыскать. Далее мой клиент утверждает, что даже если эта одержимость серьезно не сказывается на ее психическом здоровье, беспринципные адвокаты и детективы стремятся лишить ее значительной части сбережений, чтобы продолжать смехотворные поиски этих несуществующих детей.
Ширли начал мерить шагами зал судебных заседаний.
– Два дня назад, когда я уведомил Вашу честь, что миссис Локхарт, вероятнее всего, будет представлять миссис Вудвард в этом скандальном предприятии, и потребовал назначить независимого адвоката, Ваша честь совершенно справедливо поинтересовались у миссис Локхарт сутью дела, в котором она представляет свою клиентку, – не конфиденциальной, заметьте, информацией, а всего лишь сутью дела, которым она занимается. Такой вот простой вопрос. И как она поступила? Миссис Локхарт отказалась. Какое еще более очевидное признание вины вам нужно? Она намерена продолжать извлекать выгоду из этого мнимого дела до тех пор, пока у миссис Вудвард будут деньги. Но в этом она никогда не признается, поэтому говорит: «Это конфиденциальная информация». На самом деле это не так. Вы совершенно справедливо заметили, Ваша честь, что общение с клиентом не является сутью дела, а следовательно, суть дела не защищена законом о конфиденциальности. Таким образом, абсолютно законно не только ваше требование, но и необходимость защищать интересы бедной, недееспособной женщины. Своей упрямой несговорчивостью миссис Локхарт вопиющим образом попирает полномочия этого суда о наследстве. Она считает, что она выше закона, и мне кажется, что этот суд должен преподать ей урок. Никто не может быть над законом. Мы советуем вам заставить ее ответить на ваши законно поставленные вопросы, наказав за неуважение к суду, включая даже заключение под стражу, пока она не снимет с себя подозрения в неуважении к суду и не скажет правду.
Собравшиеся громко загудели, судье даже пришлось несколько раз ударить молотком.
– Мне очистить зал суда?
– Могу я, Ваша честь, ответить на замечания мистера Ширли? – спросил Дженкинс и глубоко вздохнул.
Петерсон замахал руками:
– Нет. Я услышал достаточно. – Он посмотрел на Кэтрин и бесстрастно продолжил: – Суд обеспокоен тем, что действия миссис Вудвард могут губительно отразиться как на ее здоровье, так и на финансовом благополучии. Это совершенно не означает, что я принимаю бездоказательные обвинения истца за истину, но они всерьез меня обеспокоили. Особенно когда привилегированное право «клиент – адвокат» используется как ширма, чтобы прикрыть соучастие адвоката в финансовой афере. Я не говорю, что верю в целом или частично обвинениям Артура Вудварда, речь идет только о том, что я отношусь к ним достаточно серьезно, чтобы воспользоваться своими правами как судьи по гражданским делам и провести дальнейшее расследование. Вы понимаете меня, миссис Локхарт?
– Да, сэр.
– Отлично. Двигаемся дальше. Вы готовы выполнить требования суда и сообщить суть дела, в котором вы представляете интересы миссис Вудвард?
– Нет, сэр.
– Еще раз задаю вопрос, миссис Локхарт: понимая, что я воспользуюсь данной мне властью и применю к вам санкции, вы готовы выполнить требования данного суда?
– Нет, сэр.
– К сожалению, миссис Локхарт, засим я оставляю вас под стражей шерифа графства Кук. Вас доставят в тюрьму графства Кук, где вы будете находиться, пока не окажетесь готовы выполнить требования судьи и не ответите на все вопросы.
Поскольку в зале суда раздались возмущенные восклицания, судья Петерсон был вынужден несколько раз ударить деревянным молотком.
– Тишина! – крикнул он. – Или миссис Локхарт отправится в тюрьму не одна.
Лиам опустил голову и закрыл глаза руками.
– С вашего позволения, мы подаем ходатайство, чтобы приостановить решение суда, – сказал Уолтер. – Мы намерены безотлагательно подать апелляцию для срочного рассмотрения. Мы просим, чтобы вы приостановили исполнение решения до вынесения решения апелляционным судом.
– Ходатайство отклонено.
Судебный пристав встал из-за стола, вытащил наручники и подошел к неподвижно стоящей Кэтрин. Судья Петерсон поднял указательный палец.
– Я не стану приостанавливать свое решение на неопределенное время, за которое апелляционный суд сподобится его рассмотреть. Но я приостановлю его исполнение до десяти утра понедельника – в это время я жду вас в зале суда. И я советую вам, миссис Локхарт, хорошенько обдумать свой отказ.
– При всем моем уважении, Ваша честь, – вмешался Ширли, – конечно же, я не вполне удовлетворен чрезмерно великодушной отсрочкой исполнения законного наказания за неуважение к суду, но во время этой отсрочки мы не могли бы решением суда оградить миссис Локхарт от встреч с миссис Вудвард, от общения с миссис Вудвард, от получения любых гонораров от миссис Вудвард?
– Возмутительно! – проревел Дженкинс. – Миссис Вудвард имеет право консультироваться с любым адвокатом по своему выбору в любое удобное для нее время. Этот суд не имеет права вмешиваться в их взаимоотношения. Подобное решение само по себе подлежит обжалованию.
– В таком случае обжалуйте его, мистер Дженкинс! – отрезал судья Петерсон, вставая и перегибаясь через стол. – Приступайте к его рассмотрению и посмотрим, что получится. Лично я бы с удовольствием сказал, что вы сможете сделать. Итак, что мы имеем? В данном судебном заседании прозвучали заявления о том, что миссис Локхарт неправильно истолковывает свою роль адвоката и ведет несчастную недееспособную женщину по непредсказуемой дороге ради собственной финансовой выгоды. Я не знаю, голословны эти утверждения или подкреплены фактами. Если они правдивы, возникают основания для лишения права адвокатской практики и уголовного преследования. Но они могут быть голословными, надуманными, и ради миссис Локхарт я надеюсь, что они таковыми и являются. Именно по этой причине я потребовал, чтобы миссис Локхарт со мной поговорила. Но она отказывается. Поэтому мое решение о взятии миссис Локхарт под стражу будет оставаться в силе, пока она не образумится. Исполнение решения суда откладывается до понедельника. А также я принимаю отдельное решение, запрещающее миссис Локхарт принимать любые гонорары или расходы, или обещания оплатить любые гонорары или расходы, во время отсрочки решения о неуважении к суду. Однако я не стану запрещать ей видеться или общаться с кем-либо.
Ширли вернулся на свое место, подмигнул и улыбнулся Артуру, который кивнул и сжал кулак.
– Ваша честь, – обратился к судье Уолтер. – Мы подготовили меморандум, в котором изложена наша позиция касательно ошибочной природы данного слушания и самой сути вашего решения. Я прошу, чтобы меморандум на этот раз был внесен в протокол и рассмотрен до утреннего слушания в понедельник.
– Меморандум принимается. Слушание откладывается.
В коридоре Уолтер отвел Кэтрин в сторону.
– Прости, что не все получилось. Но он дал тебе три дня на размышления. Тебе следует над этим подумать. Перед тем как прийти сюда, я точно не знал, как он поступит. Теперь нам это известно. Он, ни секунды не колеблясь, отправит тебя в тюрьму и будет там держать. А в тюрьме графства Кук тебе не место.
– А как же срочная апелляция?
– Все равно это растягивается на три-четыре недели, возможно больше. Сделай уступку – поговори с Леной об отказе от привилегированного права.
– Дело уже не в ней. Как я тебе говорила, если бы я попросила, Лена отказалась бы от этого права, но не потому, что хочет, чтобы информацию обнародовали. Она отказалась бы от привилегированного права, чтобы защитить меня. Одно я знаю точно: это дело очень личное, и Лена не хочет, чтобы его подробности стали известны Артуру, поэтому я не стану принуждать ее их раскрыть.
– Сегодня в глазах Петерсона я разглядел то, что не увидели остальные сидящие в зале суда, – сказал Уолтер. – Я увидел страх. Он ищет выход из этой ловушки. Никто из присутствующих в зале суда адвокатов не одобряет его поступок, и ему прекрасно об этом известно. Апелляционный суд не поддержит его решения, ему дадут по рукам, и он отлично это знает. Он, так или иначе, окажется по уши в дерьме. Мы оба должны подумать над тем, как бросить ему спасательный круг. Может, мы могли бы систематизировать исчерпывающее количество вопросов, ограниченный перечень, которые раскрывали бы информацию, и без того известную Артуру?
Кэтрин кивнула:
– Я подумаю об этом.
– Ты, по крайней мере, поговоришь с Леной, чтобы узнать ее главную тайну?
Кэтрин кивнула:
– Мы встречаемся в эти выходные, и я потороплю ее закончить свою историю. Если существует какая-то страшная тайна, она может мне ее раскрыть, но эта тайна останется со мной.
– Разумеется. Но это поможет нам определить перечень вопросов, которые бы не раскрывали ее тайны.
Глава двадцать третья
Мрачным, дождливым утром пятницы Лена приехала в контору Кэтрин с получасовым опозданием.
– Как вчера прошло слушание? – поинтересовалась она, стряхивая в прихожей капли дождя с зонтика.
Кэтрин в ответ на ее вопрос лишь пожала плечами:
– Не особенно успешно. Судья Петерсон продолжал настаивать на том, чтобы я выполнила его требование, но в конечном итоге отложил решение вопроса до утра понедельника. Уолтер абсолютно уверен в нашей правовой позиции, и мы надеемся, что данное дело будет рассмотрено в самый короткий срок. Мы полагаем, что могли бы составить перечень вопросов не личного характера, которые не нарушают ваши конфиденциальные признания. А тем временем я бы хотела воспользоваться предоставленной трехдневной отсрочкой, чтобы дослушать ваш рассказ. Давайте усиленно поработаем, чтобы получить всю исходную информацию и Лиам смог начать поиски девочек.
– Разумеется.
Лена передала Глэдис пальто и последовала за Кэтрин в конференц-зал.
Кэтрин достала из папки блокнот с отрывными листами, пролистала свои записи и улыбнулась, как будто ей в голову пришла удачная мысль.
– Вас что-то развеселило? – поинтересовалась Лена.
Кэтрин кивнула:
– Мы начинаем наши встречи, как десятисерийный телесериал. Как там… В предыдущих сериях «Жизни Лены Вудвард»…
– Лены Шейнман, – засмеялась Лена.
– Я дважды передала секретные донесения из Освенцима полковнику Мюллеру, второй раз – без сучка и задоринки. Близилась весна, но жизнь в гетто становилась все тяжелее. У старухи с косой большой арсенал: голод, болезни, разочарование, нехватка сил, потеря надежды. Многие старики или больные достигли уже той грани, когда не могли работать, даже добывать еду и самое необходимое. Они утратили волю, чтобы каждый день бороться за выживание. Подорванный иммунитет не мог противостоять бактериям и вирусам, которые так и кишели в гетто. Вши, крысы, переносящие заразу, кожные заболевания… Наши недоукомплектованные больницы, в которых к тому же не было медикаментов, не справлялись с потоком больных. Даже обычная простуда и грипп становились смертельными и невероятно заразными заболеваниями.
Отношения Каролины и Зигфрида продолжали развиваться, поэтому нам удавалось хорошо питаться. Давид тоже имел доступ к кладовым в Цеху, и время от времени я приносила домой дополнительную краюшку хлеба. Если смотреть с этой стороны, мы с Каролиной оказались среди привилегированных работниц и отлично это понимали. Выживали молодые и здоровые. Старые и больные угасали, или их отправляли умирать.
В конце марта Давид похлопал меня по плечу, давая знать, что сегодня ночью необходимо будет передать донесение. Когда я пришла к нему в кабинет, Ян уже был там.
– Сегодняшнее донесение чрезвычайной важности! – предупредил он. – Наверное, это самое важное послание, которое когда-либо посылал Арес. Будь крайне осторожна, передай его лично полковнику.
– Конечно!
Я надела туфли и направилась в цех отгрузки. Давид упаковал двенадцать шинелей в коричневую бумагу, привязал тюк к тележке и положил мне руки на плечи.
– Лена, когда информация попадет в Лондон, это станет настоящей «бомбой». В зависимости от того, как союзники ею распорядятся, можно будет спасти множество жизней – еврейских жизней. Береги это донесение как зеницу ока.
– Обещаю, Давид!
Он обнял меня, и я отправилась в путь. Март выдался на удивление теплым, поэтому на мне была юбка чуть ниже колен и хлопчатобумажная блузка. Благоухающая весенняя ночь привела на площадь множество людей – солдат вермахта, СС, гестапо в окружении смеющихся женщин. В уличных кафе и барах царило веселье. Можно было подумать, что мы в Берлине, на Тиргартен или Паризер-плац.
Путь мой лежал вдоль площади, и я, толкая тележку, привлекла несколько пристальных взглядов. Пару раз в меня тыкали пальцами. На углу площади эсэсовец, поманив меня пальцем, начал задавать вопросы и изучать документы. Удовлетворившись написанным, он кивнул и отпустил меня. Я не заметила солдата, который встал с места в баре на противоположном конце площади и пошел следом за мной в тонущий в темноте переулок.
Ввиду того, что уже давно наступил комендантский час, улицы, куда не доставали с площади огни, были тихими и пустынными. На огромных кустах, которые росли, словно живые изгороди, вокруг большинства домов, буйствовал цвет. В поздний час дорогу мне освещали только редкие огни, проблескивающие в окнах домов. Задолго до того, как я обернулась и увидела тушу капрала Рольфа, я услышала шаги и тяжелое дыхание. Он схватил меня за плечо и развернул к себе лицом.
– Маленькая сучка! Через час я должен быть на работе, заступать в эту чертову ночную смену, и тебе отлично известно почему, не так ли? Все из-за тебя! Ты выставила меня дураком перед начальством. И за что? За то, что никому нельзя прикасаться к твоему священному телу? Считаешь себя лучше меня? У меня для тебя новости. Ты чертова еврейка – низшее создание на земле.
Он схватил меня за волосы и принялся дергать из стороны в сторону.
– Оглянись, сучка. Здесь никого нет. Сегодня тебя никто не спасет. Здесь только ты и я.
– У меня поручение, – яростно запротестовала я. – Я должна немедленно доставить шинели полковнику Мюллеру. Он ждет. Отпустите меня, и я никому ничего не скажу.
– Я никому ничего не скажу… – передразнил он. – Я никому ничего не скажу… Ха-ха-ха! Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты немного опоздаешь. – Он потянул меня за волосы за кусты, второй рукой зажимая мне рот. – Сейчас ты дашь мне то, что я хотел от тебя несколько недель назад. Помнишь? Рольф всегда получает то, что хочет.
У меня душа ушла в пятки. И не только потому, что он был свирепым бегемотом, рычащим зверем, но он был вооружен: на одном бедре у него висела кобура с пистолетом, на втором – нож. Я поняла, что эту ночь не переживу.
Он достал нож из ножен и ткнул в мою юбку.
– Сама снимешь или разрезать?
Я стояла, не шелохнувшись. В другое время ему пришлось бы меня убить, прежде чем я позволила бы себя тронуть. Но сейчас в моих туфлях было спрятано донесение Ареса. Оно могло изменить ход войны. Я обязана доставить его полковнику Мюллеру! Не сводя глаз с обидчика, я сняла юбку. На его лице расплылась похотливая улыбка. Он повалил меня на землю и, широко расставив ноги, встал надо мной. Я следила за тем, как он расстегнул ремень и стал спускать штаны. Рольф тяжело задышал.
Когда он оседлал меня, взгляд мой упал на его пистолет, но дотянуться я еще не могла. Пришлось извернуться. Подвинуться в сторону. Подпустить его поближе. Я обхватила его руками и потянула на себя.
– Ага! – возликовал он. – Тебе нравится.
Дыхание Рольфа участилось. Я скользнула правой рукой ему за спину, по бедру, выхватила из кобуры пистолет и ткнула дулом ему под подбородок.
– Встать! – приказала я.
– Ха-ха! – засмеялся он. – Ни черта ты в пистолетах не понимаешь.
– Не стоит на это рассчитывать. Я же дочь Капитана.
Я нажала на спусковой крючок и проделала в его голове дыру.
Я тряслась как осиновый лист. Мои руки, лицо, блузка были в крови. Я столкнула с себя тело Рольфа и спрятала в кусты. Вытерла руки о траву, надела юбку.
Моя тележка так и стояла на улице. Я подбежала и начала поспешно толкать ее по улице за угол. Я должна была попасть к полковнику Мюллеру, но не могла войти к нему в дом вся в крови. Меня могла увидеть Эльза.
Через три квартала, по другую сторону железнодорожных путей, через город извивалась речка Хехло. Я прополоскала блузку и вымыла, как могла, лицо и руки в мутной воде. Я выглядела отвратительно, но, по крайней мере, бóльшую часть крови смыла.
Наконец я дошла до нужного дома и постучала в дверь. К счастью, открыл сам полковник. Он взглянул на меня и в ужасе отступил.
– Что, черт побери, с тобой произошло?
– На меня напали. – У меня кружилась голова. – Но я доставила донесение, господин начальник.
Он поспешно завел меня в кабинет и закрыл дверь. Я села в кожаное кресло, посмотрела на него мутным взглядом, и меня вырвало прямо на ковер.
– Господи! – воскликнул он. – Нужно немедленно все убрать. Нам повезло, что Эльзы нет дома.
Он вышел из кабинета, а я достала донесение и положила его на стол. Одна из бумаг развернулась. То, что я прочла, меня испугало. Безумие! Просто невероятно! Я и без того жила в кошмаре, но в донесениях Ареса описывались вещи намного более ужасные, чем можно было себе представить: камера в бункере № 2, куда заводили обнаженных узников и массово травили газом. В бумагах говорилось, что завод концерна ИГ Фарбен производит газ «Циклон Б» для дальнейшего истребления еврейской расы.
Далее описывался сам процесс отбора. Евреев, приезжающих в Освенцим, делили на мужчин и женщин. Затем эсэсовцы шли вдоль рядов и тех, кого считали пригодными для работы, сгоняли в одну сторону площадки. Остальных – женщин, детей до четырнадцати лет, стариков и инвалидов – уводили в бараки. Донесение также содержало план двух лагерей, расположение бараков и блоков.
Я даже не представляла, что прочитанное может так ужаснуть. Неудивительно, что Ян подчеркивал: это бумаги чрезвычайной важности. Когда я читала донесение, в кабинет вошел полковник. Я схватила бумаги и потрясла перед его лицом.
– Вы знаете об этом? Что же вы, немцы, творите? Чудовищно!
Он схватил меня за плечи:
– Тсс… Ни слова! Ты ничего не видела. Ты меня поняла? Это должно попасть в Лондон. Любая утечка информации… если гестапо прознает об этом… нас найдут. Они уничтожат сеть. Ты хотя бы на секунду представляешь, что будет, если нас обнаружат? Гестапо – самая совершенная контрразведка в мире. В начале года они обнаружили в Праге документы и раскрыли наших лучших секретных агентов-поляков. Они выследили их даже в Стамбуле. Если они узнают о донесениях Ареса, то рассекретят его и всех наших агентов, включая тебя, меня и Давида. Не следовало тебе вообще читать эти донесения.
– Обо мне не беспокойтесь. Я ни слова не пророню. Единственное, что меня волнует, – чтобы эта информация достигла остального мира.
Он кивнул:
– Расскажи, что сегодня с тобой произошло.
Я рассказала ему о нападении. Губы у меня дрожали, но не от страха. От злости. Ярости.
– А тело где? – спросил полковник. – Мы должны немедленно избавиться от него. Если СС и гестапо обнаружат убитого капрала вермахта, последуют массовые репрессии. Но сперва нужно тебя отмыть. Ты знаешь, где ванная. Прими душ и пойдем.
Странно было вновь принимать душ в собственном доме. Я стояла в своей ванной и смывала с себя кровь насильника-нациста. Все казалось нереальным. Ничего из этого не происходило на самом деле. Как в одном из этих странных снов, когда невероятные эпизоды связаны вместе и когда, просыпаясь, гадаешь: как же разум мог создать подобные причудливые вещи? Я закончила принимать душ и чуть не отправилась в свою спальню.
Полковник взял лопату, и мы вышли из дома. Мы везли тележку шесть-семь кварталов до того места, где на меня напали. Тело Рольфа – без значительной части черепа – так и лежало в кустах со спущенными штанами. Мы попытались затолкать его на тележку, но в нем было килограммов сто. Мертвого веса. Мы не смогли его поднять, поэтому наклонили тележку и вкатили на нее тело. Потом вырыли у реки неглубокую могилу и свалили в нее Рольфа. Туда же бросили его пистолет и фуражку. Я не дала полковнику натянуть на него штаны.
– Зароем так, как он умер, – заявила я. – Он не заслуживает уважения. Если кто-нибудь его найдет – поймет, почему его убили.
– А у тебя крутой нрав, – улыбнулся полковник Мюллер. – Я сразу это понял. Ладно, зароем его с приспущенным «флагом».
Мы забросали Рольфа землей, и полковник велел мне везти тележку к Давиду, а сам зашагал к себе домой. Следовало бы сказать «ко мне домой»… Он сделал шаг и обернулся:
– Отличная работа, дочь капитана Шейнмана! Отец гордился бы тобой.
Я доехала до Цеха и поставила тележку на место. Давид открыл дверь, впустил меня и сразу спросил:
– Что, черт побери, с тобой произошло?
Я разрыдалась и какое-то время не могла говорить, только сообщила, что донесение доставлено. Как обычно, на ночь я осталась у Давида. Он был таким добрым и понимающим. Ближе к утру я подробно рассказала ему, как все прошло, но так и не призналась, что на меня напали.
Он заверил, что гордится мною. Сказал, что я героиня Польши.
– Больше тебе не придется работать связной. Мы найдем другого человека. Ты уже внесла свою лепту, этого достаточно.
– Черта с два! Я читала сегодняшнее донесение, Давид, и знаю, что написал Арес. Это безумие! Я настаиваю на том, чтобы оставаться частью сети.
Услышав это, он поцеловал меня и сказал, что очень встревожен.
– И в ту ночь вы окончательно в него влюбились? – поинтересовалась Кэтрин.
– Я не говорила, что влюбилась в Давида.
– Я вам тоже не говорила, что беременна.
Лена улыбнулась:
– Знаете, отвечу вам так: если бы я до этого не влюбилась – точно влюбилась бы в ту ночь.
– Утро наступило слишком быстро.
Давид легонько толкнул меня локтем.
– Пересменка, – сказал он, – я должен спуститься вниз. А ты возьми выходной, отправляйся домой и поспи.
– Думаешь, я смогу заснуть?
– Тогда оставайся здесь. Я приду позже.
Я и осталась. Честно признаться, на целых три дня. Я была на седьмом небе от счастья.
– Любовь зарождается даже при самых ужасных обстоятельствах, – сказала Кэтрин. – Напоминает мне «Касабланку»[34] – базовые инстинкты действуют.
– Кэтрин! – урезонила ее Лена, правда, с улыбкой.
– Простите, но я верю в трогательные любовные истории. Особенно во время войны. У меня такое чувство, как будто я разговариваю с Ингрид Бергман.
– Ладно-ладно. Довольно. – Лена села прямо, скрестила ноги и поправила юбку. – В 1942 году немцы начали ликвидировать польские гетто в соответствии с принципами Ванзейской конференции и постановили очистить Хшанув уже к концу года. Как и бóльшая часть мира, мы понятия не имели о Ванзейской конференции.
– Расскажите о ней подробнее.
– В июле 1941 Герман Геринг назначил обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса». В январе 1942 года была созвана тайная конференция, на которой Гейдрих сообщил нацистским лидерам, что попытки Рейха избавить Европу от одиннадцати миллионов евреев путем иммиграции, истощения и иными способами оказались в значительной степени неудачными. Необходимо было принять «окончательное решение», что означало уничтожение европейских евреев.
Согласно Ванзейскому протоколу, трудоспособные евреи, разделенные по половому признаку, должны были быть отправлены в трудовые лагеря. Всех остальных евреев нужно было собрать и депортировать в перевалочные лагеря, а оттуда – в лагеря смерти, где путем массового истребления европейский континент будет избавлен от оставшихся десяти миллионов евреев. И в 1942 году немцы начали вывозить евреев из гетто Хшанува.
– Значит, массовое истребление евреев началось после Ванзейской конференции?
– Массовые убийства уже происходили по всей Польше и территории СССР. Были построены лагеря смерти, такие как Треблинка, и нацисты уже истребляли евреев. Еще до конференции был построен лагерь смерти Белжец. Суть Ванзейской конференции – сделать депортацию и транспортировку более эффективными, и никаких иллюзий относительно судьбы евреев в Европе не осталось. В результате, с одной стороны, были очищены от гетто польские города и села, с другой стороны, одновременно они становились Judenfrei[35].
В мае нацистское командование потребовало, чтобы юденрат Хшанува составил список из полутора тысяч фамилий для немедленной депортации, включая детей младше десяти лет и взрослых старше шестидесяти. Официальная причина, объявленная в юденрате: гетто слишком перенаселено и рабочих следует перевести в другое место. Старики не могут выполнять тяжелую работу на благо Германии, маленькие дети работать не могут вообще. Нацисты официально заявили, что младенцев и детей постарше отправят в детский концентрационный лагерь, где их будут обучать и переподготавливать, а стариков – в лагерь, где работа не такая тяжелая.
Этот приказ молниеносно разнесся по гетто. Родители не хотели отдавать своих детей. Матери цеплялись за малышей и умоляли юденрат что-то сделать. Кто-то пытался сбежать, но на дорогах стояли блокпосты, и все попытки побега потерпели крах. Нацисты поспешили сообщить нам, что всех беглецов схватили и расстреляли.
Юденрат тут же высказал протест против нацистского приказа: нельзя отрывать маленьких детей от родителей. Но немцы ответили, что в детских лагерях есть игровые площадки, больницы, медсестры и заведующие хозяйством; там они смогут ходить в школу, играть с другими детьми, там их обучат какому-нибудь ремеслу, полезному в жизни.
– В наших детских лагерях условия намного здоровее, чем в жилых кварталах вашего нищенского гетто, – уверяли они.
Многие родители отказывались верить нацистам и пытались спрятать детей, но солдаты прочесывали гетто и силой забирали малышей. Родителей, которые сопротивлялись, расстреливали. Кто-то из родителей умолял, чтобы их отправили вместе с детьми, но немцы сказали, что этот лагерь только для детей – родителям туда вход воспрещен. Они пообещали, что после войны родители воссоединятся со своими детьми. В итоге более тысячи двухсот детей собрали на железнодорожном вокзале в Хшануве. Во время посадки в поезд нацисты давали каждому ребенку кусочек хлеба с мармеладом, чтобы показать, как им будет хорошо. Дети махали на прощание плачущим родителям и доверчиво садились в вагоны. Они не выжили – никаких лагерей для детей не было.
В тот день я вернулась в нашу квартиру и увидела, что депортация детей произвела на Каролину особенно сильное впечатление. Никто не остался безучастным – все, у кого есть сердце, были безутешны, – но, казалось, для Каролины это личная трагедия. Она плакала ночами, и я наконец поняла почему. Мы мылись и стирали свою одежду в воде, которую набирали ведром в фонтане, когда Каролина замерла, увидев, что я не свожу глаз с ее обнаженного тела. Наши взгляды встретились.
– О черт, Каролина… И какой срок?
Она прикусила губу:
– Три месяца.
– Зигфрид?
– Я больше ни с кем не была, Лена! – возмутилась Каролина.
– А он знает?
– Не думаю. Когда мы вместе, уже довольно темно.
– А ты не собираешься ему сказать?
– Не знаю. Но если я не избавлюсь от ребенка, то дольше скрывать не смогу.
– А ты собираешься это сделать? Подумываешь прервать беременность?
Губы у Каролины задрожали, на глаза навернулись слезы. Она схватила меня за плечи и встряхнула.
– Я не знаю, Лена! Я не знаю! Я не хочу. Не знаю. Что мне делать?
– Что я могу сказать? Как вы относитесь друг к другу?
– Он уверяет, что любит меня. Постоянно это повторяет.
– Если ты веришь, что он тебя любит, – я имею в виду, по-настоящему любит, что это не просто слова в пылу страсти, – ты должна ему сказать. А если говорить ничего не собираешься, то вы должны прекратить отношения.
– Я не хочу рвать отношения с Зигфридом. Не хочу делать ему больно. Он не поймет. Мы уже вели разговор о совместной жизни после войны. У него есть дом в Баварии.
Для меня это звучало неправдоподобно.
– Он знает, что ты еврейка?
Она кивнула:
– Конечно. Он говорит, что ему все равно. Он любит меня. И уверяет, что его родители тоже меня полюбят.
Меня шокировала сама ситуация. Не то время, не то место, не тот человек – все не то…
– Ты его любишь, Каролина?
– Думаю, что люблю. Я хочу сказать, он хороший парень. Он добрый. Нежный. И очень хорошо ко мне относится. Но, черт побери, Лена, как это все разрешится? Ему запрещено вступать в отношения с еврейкой. Нас могут поймать в любой день. Его могут обвинить в преступлении. Сослать на фронт. Что будет?
У меня не было ответа на эти вопросы. Я понимала, что Каролине нужен совет, утешение, но была потрясена сложившейся ситуацией. Все, что мне оставалось, – это обнять ее. Так мы и стояли, рыдая.
– Я могла бы попросить доктора Голда сделать аборт. Я знаю, что он уже сделал несколько в клинике.
– А ты этого хочешь?
Она покачала головой:
– Нет.
А я думала о том, какая глупость с ее стороны – пытаться сохранить этого ребенка, ведь немцы только что отобрали у родителей тысячу двести детей. Даже если больше никого депортировать не будут, как она сможет в таких условиях воспитать его? А потом меня осенило: посреди кошмара войны Каролина нашла что-то прекрасное, что-то очень человечное. Что можно любить. За что можно цепляться.
– В больнице существует риск заражения во время операции, – твердо сказала я. – Я бы не рекомендовала тебе делать аборт. Лена Грюнберг после аборта умерла. В больнице нет лекарств. На твоем месте я бы оставила ребенка. Кроме того, в ближайшие полгода многое может измениться. Война может закончиться.
Она смахнула слезу с глаза:
– Спасибо, Лена.
Я погладила ее по животу:
– Уже немножко видно. Ты должна или порвать с Зигфридом, или все ему рассказать.
Она кивнула:
– Ты права. Я ему все расскажу.
Глава двадцать четвертая
За апрель и май мы видели несколько депортаций, но отдельно детей больше не высылали. Поскольку было приказано систематически выселять гетто, юденрату велели подавать дополнительные списки на «переселение». Если в список попадало твое имя, это означало, что вся семья должна явиться на рыночную площадь.
Официальное объяснение от нацистов было следующее: построены трудовые лагеря с прекрасным жильем и просторными комнатами для тех, кто хочет работать. Людям говорили, чтобы они взяли свою лучшую одежду и упаковали пожитки в один чемодан на человека. Они велели каждой семье указать свои имя и адрес на боку каждого чемодана. Это делалось для того, чтобы они могли найти свой багаж, когда попадут в лагерь, а если вещи потеряются, то их отправят владельцу.
В глубине души им никто не верил, но даже малюсенькой надежды было достаточно, чтобы заставить людей сложить вещи, выстроиться в очередь и безо всякого сопротивления сесть в вагоны, чтобы переселиться в другой лагерь.
Цех продолжал выпускать шинели и мундиры, и те, кто работал там, были защищены от депортации, но в июне пошли слухи, что к концу года Цех закроют. Не знаю, то ли кто-то из девушек подслушал такие разговоры, то ли объем работы стал уменьшаться, но страх того, что нас закроют, охватил всех. Это была единственная работа для евреев – и единственное, что спасало нас от переселения.
Я уже рассказывала о зимах в гетто, о том, какими они были суровыми и холодными. А лето приносило свои мучения. Представьте тысячи людей, втиснутых в крошечные помещения при одуряющих температурах, когда негде охладиться. Чистая вода – дефицит. Немцы развесили на столбах запрещение использования центрального фонтана и установили знак, что вода заражена тифом. Некоторые все равно ее пили, полагая, что это просто такая тактика, чтобы лишить нас воды. Мы с Каролиной нашли колодец у дома по ту сторону железнодорожных путей, за пределами гетто и глубокой ночью наполняли бутылки.
Насекомые – москиты, мухи, различного рода жуки – в летнюю жару размножались бессчетно. Тех, кто решался, спасаясь от жары, спать на улице, атаковали насекомые. Мелкие грызуны – крысы и мыши – кишмя кишели в гетто и в наших квартирах, особенно в общежитии. Цех с полутора тысячей работников был настоящей «душегубкой». Там установили несколько вентиляторов, чтоб поддерживать производительность, но они мало помогали.
– Минутку, Лена, – сказала Кэтрин. – Вы так и не рассказали, что ответил Зигфрид Каролине, когда она призналась, что беременная. Как он поступил?
– Я просто пытаюсь придерживаться хронологии.
Зигфрида послали отвозить готовые вещи в составе конвоя на север. Он уехал на несколько недель. В тот день, когда он вернулся, Каролина сидела на своем рабочем месте. Он подошел и сказал, что хочет ее видеть. Той ночью она ночевать домой так и не пришла.
На следующий день я увидела ее в перерыв. Каролина подмигнула мне. Поскольку вокруг были другие женщины, единственное, что она сказала:
– Все хорошо. Позже расскажу.
Несколько дней она не приходила ночевать, а когда вернулась, все мне рассказала. На обратном пути Зигфрид заехал домой и сообщил матери, что влюбился в немецкую девушку. И хочет поскорее жениться.
– Немецкую девушку? – уточнила Кэтрин.
– Ну, формально он говорил правду. Хшанув вместе с городами Верхней Силезии еще в 1939 году аннексировала Германия после блицкрига. Поэтому в 1942 году Каролина действительна была немецкой девушкой. И она умела говорить по-немецки. Он решил, что она справится.
– Она же еврейка, а не гражданка Германии.
– Это все мелочи, мелочи…
Зигфрид решил, что, судя по тому, как Германия продвигается вперед, война скоро закончится и он вернется в Баварию с Каролиной, с немецкой подружкой. Но Каролина была настроена менее оптимистично. И пересказала мне весь разговор.
– А твоя мама спрашивала о моем вероисповедании? – спросила Каролина.
Он мямлил и запинался, но потом ответил:
– Знаешь, она меня даже не спрашивала. Наверное, сама догадалась. Она только спросила, что ты за человек. И я ответил: красивая, привлекательная, добрая, восхитительная.
– А что она скажет, когда узнает, кто я на самом деле?
– Откуда она узнает? Кто ей расскажет?
– Зигфрид, мне кажется, что ты слишком наивен. Немцы отслеживают родословные до седьмого колена. Они захотят узнать, кто были мои родители, дедушки и бабушки.
– Не волнуйся, – ответил он. – Будем преодолевать трудности постепенно. После войны всем будет наплевать.
На том они и порешили. Будут жить сегодняшним днем. Они оба работают в Цеху, и Зигфрид позаботится о том, чтобы Каролина ни в чем не нуждалась: ни в еде, ни в одежде, ни в особом наблюдении.
– Довольно рискованно, если хотите знать мое мнение, – сказала Кэтрин. – А если бы Зигфрида перевели? Ведь шла война…
– А разве у нее был выбор? Мы были заключенными в гетто при самых ужасных обстоятельствах. Мы знали, что его должны были ликвидировать, а нас отослать в другое место. Что ждало нас в будущем? План Каролины, каким бы невероятным он ни казался, все-таки был планом. С тех пор я не задавала ей лишних вопросов. Я поняла, что она поступает так не из-за еды или каких-то привилегий. Она по-настоящему любила немецкого солдата. И не мне судить лучшую подругу.
Глава двадцать пятая
– Весну 1942 года мы с Каролиной провели как обычно. Каждый день ходили на работу в Цех. Время от времени я доставляла донесения полковнику, но уже намного реже. Каролина много времени проводила с Зигфридом, а я стала чаще бывать с Давидом. Но обыденность обманчива, она заставляет поверить в постоянство. В Хшануве единственное постоянство – непредсказуемость. Хшанув менялся. Все больше людей депортировали. Каждый день на столбах появлялось все больше имен.
Ценные рабочие были избавлены от депортации. Давид позаботился о том, чтобы мы с Каролиной значились среди лучших швей, поэтому мы были уверены, что в списки не попадем. Но на стене появилось новое объявление: гетто расселялось. Скоро в Хшануве не останется ни одного еврея.
В Цеху тоже многое менялось. Прибыли новые управляющие-немцы, и Давид учил молодых немецких солдат, передавая им часть своих полномочий. Как-то в мае мы лежали ночью у Давида в комнате и он рассказал мне, что слышал о новой швейной фабрике в концлагере Германии. Его пригласили участвовать во встрече, где обсуждалось обустройство лагеря.
– Меня могут направить туда запустить производство.
– Когда?
– Они не сказали. Если это и случится, то, вероятнее всего, в следующем году.
– Ты можешь забрать нас с собой?
– Ты имеешь в виду себя и Каролину?
– Разумеется.
Он немного подумал, потом сказал:
– Я мог бы выучить тебя на мастера и взять с собой. Но без Каролины.
Я кивнула:
– Ладно. О ней позаботится Зигфрид. Он собирается жениться и забрать ее к своим родителям на ферму в Баварии.
Давид покачал головой:
– Ты шутишь?
– Почему?
– Мы в войне. Зигфрид недавно мобилизован, он рядовой пехоты. Каким образом он собирается взять Каролину в жены и отправиться в Баварию? Он приписан здесь. Его могут послать куда угодно. У Германии почти четыре миллиона солдат воюют на Восточном фронте. Каждый пехотинец, с которым я общался, боится, что завтра его отправят на фронт. У Зигфрида нет ни звания, ни заслуг.
– Он пообещал, что, как только представится возможность, он отвезет ее к матери. Каролина поживет там, пока война не закончится.
– Я очень хочу, чтобы этот план сработал, но я настроен скептически. – Давид поцеловал меня. – Но ты… Я не хочу тебя терять. Я научу тебя и попытаюсь увезти с собой.
– А что делает мастер?
Он улыбнулся:
– Все, что я скажу.
– Что именно? Я же не знаю, понравится ли мне эта работа.
Лена замолчала, глубоко вздохнула:
– Смешно, но среди всех ужасов оккупации мы находили время быть счастливыми. Жизнь может быть прекрасной, а лежать рядом с Давидом – истинное блаженство. Я знала, что он пойдет на все, чтобы меня защитить. Я была уверена: мы выживем и будем вместе всегда.
– Но…
– Его отослали через неделю. Нежданно-негаданно. Я пришла на работу, и всем работникам представили нового управляющего – немецкого офицера. Зигфрид сказал Каролине, что Давида перевели куда-то вглубь Германии. Я была просто раздавлена. У нас даже не было возможности попрощаться.
– Должно быть, это было ужасно. Вы так сблизились…
– Этой ночью мы были вместе, а назавтра нас разлучили. Я не знала, увидимся ли мы снова. Куда бы ты ни повернулся, война бьет тебя по лицу. Мой защитник, мой любимый уехал, и я понятия не имела, что будет с моей ролью связной. Я решила повидаться с полковником.
У меня не было ни наряда на шинели, ни письменного разрешения покидать гетто. Я не могла взять, как раньше, тележку с шинелями. Если меня остановят по дороге, оправданий я не найду. Но я все равно пошла.
Я постучала. Открыла дочь полковника. Она обернулась и закричала:
– Папочка, опять пришла та девушка со швейной фабрики!
Вышел озадаченный полковник Мюллер. Мы стояли на крыльце.
– Ты что здесь делаешь?
– Давида отослали.
– Я знаю. Его перевели в Гросс-Розен. Там ткацкая фабрика.
– Когда он вернется?
Полковник покачал головой:
– Никто не планирует возвращать его назад.
– А как же Цех?
– Теперь там за главного майор Фальштайн. Уверен, ты его уже видела. Но это неважно. Через восемь месяцев фабрику закроют.
Меня как будто несколько раз ударили под дых. Один удар за другим.
– А как же сеть?
– Ты забыла, что тебе о ней ничего не известно?
У меня закружилась голова.
– Я хочу, чтобы меня перевели в Гросс-Розен. Вы можете это устроить?
Он покачал головой:
– Ты не можешь туда ехать, там концентрационный лагерь. Условия ужасные.
– Они ужасные и в Хшануве.
– В Гросс-Розен условия намного хуже. А теперь ступай домой, маленькая путешественница. Как можно дольше оставайся в Хшануве. Выживи. Делай все ради того, чтобы выжить.
Полковник Мюллер зашел в дом, принес мне разрешение для пребывания на улице в этот поздний час и велел больше сюда не приходить. Он не стал объяснять почему.
Глава двадцать шестая
Прошло лето, и вернулись морозные осенние ночи. Жизнь в Цеху продолжалась, но все вокруг в гетто постепенно сворачивалось. Каждую неделю на столбах вывешивали списки семей на депортацию. Им надлежало явиться на площадь с чемоданами. В назначенный день немецкие солдаты с собаками проводили перекличку и конвоировали собравшихся на вокзал для так называемого «переселения». Какие-то поезда ехали на север в трудовые лагеря в Маутхаузен и Гросс-Розен, но осенью все больше поездов отправлялись в Освенцим. Я с ужасом наблюдала, как отправляли семьи с маленькими детьми, из тайных донесений зная, что по приезде они будут разлучены и обречены на смерть. В Освенциме могли надеяться выжить только подростки старше четырнадцати лет.
К ноябрю Каролина стала толстой, как слониха. Майор Фальштайн смотрел на нее и качал головой. Зигфрид замолвил за нее словечко, уверяя, что она шьет намного лучше многих девушек. Прежде всего имела значение именно производительность: если у тебя высокая производительность, ты остаешься; если производительность падает, тебя депортируют. Из-за депортации количество швей значительно уменьшилось, и майору были просто необходимы хорошие работницы. Поэтому у Каролины была работа, пока она могла сидеть за швейной машинкой.
Без Давида новости о войне оставались на уровне разрозненных слухов, большей частью неправдивых: англичане заняли Францию, Берлин бомбят, Гитлер умер… В общем, всякая чушь. Благодаря Зигфриду мы слышали и нацистскую пропаганду: немецкие войска уже под Москвой, Америка сдалась на милость Японии, Лондон разбомбили до основания… В Хшануве, будучи отрезанными от остального мира, мы находились в информационном вакууме.
Один день плавно перетекал в другой. Мы продолжали заниматься обыденными делами, даже несмотря на то, что судьба гетто казалась предрешенной: всех евреев должны были переселить. К декабрю больше половины населения гетто уже упаковало вещи и отправилось на поездах в другие лагеря. Мне сказали, что через несколько недель закроется и Цех, а производство шинелей и военной формы будет перенесено в трудовые лагеря. В этом была логика. В Хшануве рабочие до сих пор получали зарплату, даже евреи. Но фабрика, на которой платили зарплату, не могла конкурировать с концентрационным лагерем, где использовалась рабская сила. Экономика производства 101.
В декабре вернулись зимние холода. Мы опять заткнули щели газетами. Спали в пальто. Но в этот раз нам с Каролиной было сложно спать под одним одеялом. Ей было настолько неудобно, что она никак не могла заснуть. Она просыпалась среди ночи и подкладывала под спину мяч. Ей приходилось потягиваться, чтобы глубоко вдохнуть, и она постоянно извинялась за свои охи и вздохи.
Когда стало очевидно, что конец гетто неминуем, Каролина решила поднять вопрос о том, чтобы жить с мамой Зигфрида в Баварии. Не лучше ли там родить ребенка? В тепле и чистоте? Когда они смогут туда отправиться? Но Зигфрид ответил, что время сейчас неудачное, он не может уехать домой и пока не придумал, как вытащить Каролину из гетто. Но волноваться не стоит.
– Этот мерзавец никогда и не собирался на ней жениться? – спросила Кэтрин.
– Ошибаетесь. Он очень ее любил. Я теперь точно это знаю. Мне кажется, что, учитывая время и обстоятельства, они были просто влюбленными глупцами. Она верила, что они создадут семью, а он по глупости полагал, что сможет осуществить это во время войны. Но он любил ее и продолжал приносить нам еду, фрукты, молоко, сыр и мясо. Мы были самыми здоровыми девушками в гетто.
Схватки у Каролины начались в первую неделю января. После работы мы попросили, чтобы к нам зашла Мюриэль Бернштейн. До войны Мюриэль училась на медсестру в Кракове и, слава Богу, до сих пор работала в больнице. Юденрату удалось оставить в больнице двух докторов и трех медсестер – вне списка на депортацию.
– У нее раскрытие, – сказала Мюриэль. – Уже скоро. Принесите чистые простыни и воду. Позовете меня, когда между схватками будет не более десяти минут.
В шесть утра я побежала в больницу.
– Где Мюриэль Бернштейн?
– Она еще не пришла. Наверное, до сих пор дома. Улица Сосновая, 14.
Я бежала что есть духу, но оказалось, что Мюриэль ушла в магазин, чтобы отстоять очередь за хлебом и булочками. У них еще и булочки были?! Я вновь помчалась по улицам, а когда добежала до булочной, то увидела Мюриэль в самом конце очереди.
– Она рожает, – выдохнула я, запыхавшись. – У нее схватки каждые три минуты.
– Три минуты? Я же сказала позвать меня, когда будет десять минут.
– Знаю, но я спала, а она не стала меня будить.
Мы вдвоем бросились к нам домой и обнаружили Каролину, которая лежала на спине, вцепившись в края матраса.
– Боже мой! Как же больно! – кричала она.
Мюриэль наклонилась, посмотрела и сказала:
– Господи, нельзя терять ни минуты! Уже показалась головка. – Она разостлала под Каролиной чистую простыню, вымыла руки. – Уже пора. Каролина, сейчас ты будешь рожать. Тужься. Сильнее, Каролина. Давай же, девочка!
Каролина закричала – и на свет появилась Рахиль, прекрасная девочка весом чуть меньше двух килограммов. Мюриэль передала мне ребенка.
– Подержи ее. Каролина еще не закончила. – Она опустилась на колени. – Каролина, еще один идет. Ты должна еще раз постараться. Давай, дорогая. Тужься сильнее.
Через две минуты родилась еще одна девочка. Ее назвали Лия. Мы сидели втроем, глядели на этих прекрасных малышек и плакали. Вот они и родились. Близнецы Каролины.
Я так ясно все вижу, как будто это произошло только сегодня. Каролина лежала в постели, на каждой руке по малышке. На ее лице была очаровательная улыбка. Мюриэль мыла руки. А я? Я стояла и плакала.
– Пусть Господь благословит вас троих, – сказала Мюриэль. – Да переживем мы все войны в здравии и любви!
Кэтрин отложила блокнот, встала и потянулась.
– Какая прелесть, Лена! Отличная история. Мы должны сделать перерыв. Уже поздно, вечер пятницы, и я устала. Давайте продолжим завтра с утра.
Глава двадцать седьмая
Лиам встретил Кэтрин у двери, помог ей снять куртку и поцеловал: «Добро пожаловать домой».
– Как все прошло сегодня?
– Помнишь, я говорила, что рассказ Лены не настолько трогает меня, как откровения Бена?
– Конечно. Ты сказала, что ее история не менее страшная, но ее проще переварить, потому что ты считаешь, что можешь ей помочь.
Кэтрин кивнула:
– Я могла ошибаться.
– В том, что можешь ей помочь?
– В том, что ее проще переварить. История выбивает из колеи. Потрясает до глубины души. Я зла как черт. Хочу отомстить. Хочу возмездия. Хочу выстроить в ряд всех этих нацистских чудовищ на последнюю перекличку и смотреть, как им вынесут приговор.
– Кэт, это было семьдесят лет назад. Они проиграли войну. Многие предстали перед военным трибуналом, многие оказались в тюрьме или были расстреляны. Германия выплатила миллиарды компенсации.
– А жизни, которые они забрали, Лиам? Матери, отцы дети… Они вернут им их жизни?
– Я понимаю. Как это переносит сама Лена? Переживая историю день за днем?
Кэтрин покачала головой:
– Хладнокровно. Время от времени она замолкает, делает глубокий вдох и продолжает. Иногда плачет, но полностью себя контролирует.
– У нее есть цель. Как далеко вы сегодня продвинулись?
– Каролина наконец родила. Рахиль и Лию. Такая чудесная, трогательная история. Мне хотелось аплодировать. Только эти дети никак не могли выжить.
– Лена думает иначе.
– Знаю. Меня подмывало просидеть с ней всю ночь, чтобы узнать, почему она полагает, что они выжили. Но внутреннее чутье подсказывает мне, что это невозможно. Зигфрид и не собирался увезти еврейских младенцев к своей матери вглубь Германии. Каролина по глупости в это верила. В Хшанув пришла зима, а дома не отапливались. Есть было нечего. Как может выжить новорожденный младенец? В конце концов, не забывай об «окончательном решении». Гетто расселяли, следуя приказу в течение нескольких месяцев избавить город от евреев. Здания должны быть снесены. Гетто сровняют с землей. Всех, кто остался, посадят в поезда и депортируют в другие лагеря, большинство отправится в Освенцим. Младенцев, детей до четырнадцати лет, инвалидов, стариков никто никуда не расселял. Их уничтожали сразу по приезду в лагерь. Шанс выжить был только у молодых и сильных. Известно, что были убиты почти все из трехмиллионного еврейского населения Польши.
– Но Лена верит, что близнецы выжили?
Кэтрин пожала плечами:
– По всей видимости, да.
– А ты до сих пор считаешь, что в этой истории есть еще что-то?
– Не сомневаюсь ни капли. Чутье адвоката подсказывает мне, что тут скрыта какая-то страшная тайна. Не знаю, захочет ли Лена ее раскрыть. Возможно, я пойму, в чем дело, но может быть, что и нет.
– Может, мания?
– Не думаю. Тогда у нее чертовски развито воображение, она повествует с такими подробностями… Сделай одолжение, проверь по архивным документам нацистской Германии, существовал ли некий полковник Мюллер. Если да, то был ли он командирован в Хшанув? И что с ним стало?
– Хорошо. Это я смогу. Но обязан предупредить: я за тебя волнуюсь. Понимаешь, в твоем положении… выслушивать такие подробности, одну за другой…
– В моем положении, да? В моем деликатном положении?
– Постой. Я не имел в виду…
– Да конечно! Не имел… Черта с два!
– Ты беременна, а слушаешь историю об умирающих детях, твое эмоциональное…
– Эмоциональное! Ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я оставалась равнодушной, бесчувственной и безучастной? Ты бы таким остался? Не думаю! Как будущего отца, просто как человека, тебя бы, как и меня, тронула эта история. Тронула – и разозлила.
– Успокойся, Кэт. Я не хотел тебя расстроить, я…
– Забудь об этом! – Она повернулась и вышла из комнаты.
Лиам несколько минут посидел на диване, потом пошел искать жену. Нашел ее в спальне, рыдающей в подушку. Он присел рядом и нежно погладил ее по спине.
– Прости меня, Кэт.
– Ты не виноват! Близнецы Каролины… они никак не могли выжить.
Глава двадцать восьмая
Субботнее утро. Кабинет Кэтрин. Кофейник с кофе. Пара круассанов. Задумчивая Лена. Она стояла у окна, потягивая кофе, и переводила взгляд с Лиама на Кэтрин.
– Тем январским утром… – негромко произнесла она. – Чудо рождения, наша вера в будущее… – Она повернулась к Кэтрин. – Какими же мы были наивными!
– Лена, у нас осталось всего два дня, чтобы закончить вашу историю. Я хочу знать абсолютно все, прежде чем в понедельник утром пойду в суд. Получится?
– Почему бы и нет? Не вижу причин. Я помню все, как будто это было только вчера.
Кэтрин взяла свой блокнот:
– Отлично. Тогда вперед!
– Они красавицы, правда, Лена? На кого они похожи? На отца? Мне кажется, немножко и на мою маму.
Каролина прижала малышек к груди.
– Мне еще никогда не доводилось видеть таких красивых детей, – отозвалась Мюриэль. – Они похожи на двух прекрасных польских ангелочков. Две здоровенькие еврейские девочки.
Мы дружно рассмеялись.
– Лена, когда сегодня пойдешь на работу, расскажи все Зигфриду, – попросила Каролина. – И Давиду напиши. Он обрадуется.
Я стояла, пытаясь осознать диссонанс происходящего. Теплый свет, исходящий от молодой матери, с радостью подарившей своих новорожденных малышек миру, никак не вязался с унылой окружающей обстановкой – местом в реконструированном заводском цехе, где твой угол и угол соседа разделяли пара коробок и свисающие простыни.
Январские морозы стояли суровые, дневного света мало. Я подоткнула под Каролину несколько одеял, поставила рядом воду и немного еды. Мы с Мюриэль сводили ее в туалет, обмыли, перепеленали малышек, но сидеть рядом не могли. Больница находилась всего в нескольких кварталах от нашего дома, и Мюриэль пообещала наведываться почаще. Я же до конца смены покинуть фабрику не могла.
Когда мы вышли из дома, Мюриэль сказала:
– Им нужно перебраться в теплое место. Малышки не выживут в таком холоде.
– Может быть, в больницу? – предложила я. – В больнице тепло.
Мюриэль покачала головой:
– Тиф. Дифтерия. Воспаление легких. Даже вши. Больница кишит заразой. Каролина должна найти другое место. А Зигфрид не может помочь? Он же немецкий офицер.
– Он не офицер, обычный рядовой. Но завтра я с ним поговорю.
В утренний перерыв я разыскала Зигфрида и отвела за угол, чтобы поговорить.
– Вчера родились девочки.
– Девочки?
– Да. Близнецы. Рахиль и Лия. Настоящие красавицы.
– Здорово! Я соберу сегодня побольше еды. Дай знать, если потребуется моя помощь.
– Она требуется прямо сейчас. Нужно найти теплое место, где могли бы находиться малышки. Там, где мы живем сейчас, холодно и свирепствуют болезни.
– А разве где-то в гетто иначе?
– Нет, везде одинаково. Но малышки не выживут, если мы не найдем для них отапливаемое помещение. Может быть, ты отправишь их к своей маме?
– Это невозможно. Я никак не могу отлучиться.
– Зигфрид!
– Сейчас я не могу их забрать. Но я постараюсь что-то придумать. Так Каролине и передай.
– Сам ей скажи. Почему бы тебе не заглянуть к нам после работы?
Он поспешно покачал головой:
– Нет-нет, я не могу. За всеми пристально следят. Мне нельзя появляться в гетто. Меня спросят, зачем я туда ходил.
– Ты же немец. И можешь гулять, где пожелаешь.
– Нет. – Он заметно нервничал. – Не сегодня. Сегодня расчет. Я должен там обязательно быть. Не сегодня.
– В таком случае я передам ей, что ты придешь завтра.
– Да-да, завтра. – Он поспешно закивал и оглянулся: никто ли не наблюдает?
В конце дня Зигфрид принес большой пакет к моему рабочему месту.
– Наверное, завтра я тоже не смогу, – признался он. – Но я найду способ с ней повидаться. Завтра поговорим.
Я была раздосадована таким поведением, но Каролина оставалась спокойной.
– Не волнуйся, Лена, – сказала она вечером, когда я вернулась с работы. – Зигфриду необходимо все тщательно обдумать. Он не может вот так просто сорваться и прийти. Уверена, он с кем-то договорится и отошлет меня к своей матери, но все должно оставаться в секрете. Он вынужден прятаться от начальства, понимаешь? Он очень нас любит. Посмотри, сколько вкусного он сегодня передал.
В этом с ней не поспоришь. В пакете был недельный запас молока, сыра, мяса, хлеба. И даже фрукты. Достаточно, чтобы в наказание отослать Зигфрида прямо на фронт. Вечером пришла Мюриэль. Она осмотрела роженицу и новорожденных и сказала, что все хорошо. У Каролины появилось молоко, а у малышек был здоровый аппетит.
Но меня Мюриэль отвела в сторону.
– Что Зигфрид сказал о том, чтобы их переселить?
Я покачала головой:
– Мы не можем на него рассчитывать. Сейчас он в Баварию не поедет. Я просила о теплом помещении, но безуспешно. Я пыталась убедить его навестить нас, но на этом разговор и закончился.
– Ты должна быть более настойчивой. Говори с ним без обиняков. Слишком, черт побери, холодно в этом продуваемом, неотапливаемом здании. Малышки январь не переживут.
– А как насчет других зданий? Многие семьи уехали. Неужели нет квартир с отоплением?
Мюриэль покачала головой:
– Насколько мне известно, в гетто топить нечем. И запрещено. Ни в одной квартире отопления нет. Помнишь прошлую зиму? Тех, кто замерз до смерти? Помнишь, сколько детей умерло?
– Помню. Я сама чуть не замерзла. – Я кивнула на Каролину. – Она спасла мне жизнь.
– У наших малышек появится шанс, если их перенести в отапливаемую комнату.
Я поняла, что должна делать.
– Я обо всем позабочусь, – пообещала я. – Завтра же поговорю с Зигфридом. Хочет он того или нет, но он нам поможет. Он любит Каролину.
Мюриэль поблагодарила меня и ушла. Той ночью мы вчетвером – Каролина, Рахиль, Лия и я – спали вместе под несколькими одеялами. Громко сказано – «спали». Несмотря на то что мы лежали все вместе, по-настоящему тепло не было. Я поняла: как-то этот вопрос нужно решать.
На следующее утро во время перерыва я отправилась к Зигфриду, но не смогла его найти. Во время обеденного перерыва один из его коллег-надсмотрщиков сообщил мне, что Зигфрид сегодня не придет. Он сказался больным.
И тогда меня осенило. Вечером я отвела Мюриэль в подвал Йосси.
– Здесь есть печь, и комната изолированная. Если все убрать, помыть, тут будет намного теплее, чем в продуваемом ветрами общежитии. А если мы раздобудем немного угля, здесь вполне можно будет жить.
Мюриэль огляделась и поморщилась:
– Но так грязно… Повсюду мышиные экскременты. Кроме того, где ты раздобудешь уголь? Во всем гетто и куска не найдешь.
– Предоставь это мне.
С самого утра я пришла на работу и разыскала Зигфрида.
– Мы нашли комнату с печью. С угольной печью.
Он прикусил губу и кивнул:
– Значит, Каролина хочет, чтобы я раздобыл уголь?
– Верно.
– Это строжайше запрещено! Издан письменный приказ. Если меня поймают, расстреляют на месте.
– Зигфрид, мы находимся в стране, где добывают уголь. Он здесь повсюду, куда ни посмотри. Мы замерзнем, если ты не раздобудешь немного угля. И он нужен нам прямо сейчас.
Зигфрид покачал головой:
– Очень опасно. И для тебя тоже. Если тебя поймают с углем, то накажут.
– Достань уголь! – рявкнула я.
Он потер лоб:
– Я попытаюсь.
– Попытаешься? Ты взял на себя ответственность. Взял на себя обязательства перед Каролиной. Она твоя невеста.
– Тсс… – Он прижал палец к губам. – Здесь нельзя такое говорить.
– Каролина хочет знать, когда ты заберешь ее с малышками к матери. Гетто отдали под снос.
Он задергался, напрягся, сжал кулаки.
– Я прямо сейчас не могу. Не могу прямо сейчас! Я делился с Каролиной планами на будущее, когда война закончится и все уладится.
– Она все истолковала по-своему.
– Как я отправлю ее в Баварию? А сам туда я поехать не могу.
– У тебя есть выход. Выход всегда есть. Ты же немец. Ты должен вывезти нас отсюда. Нас всех: Каролину, Мюриэль, меня, малышек.
– Не могу. И прекрати выдвигать требования. Вы должны справляться с насущными проблемами, как остальные евреи в гетто.
Его слова разозлили меня. Я сцепила зубы:
– Как остальные евреи? Послушай, Зигфрид, я не просто тебя прошу. Я требую! Ты должен достать ведро угля сегодня же вечером. Понял? В противном случае завтра утром я принесу малышек сюда, в Цех, чтобы они согрелись. И всем расскажу, что это ты разрешил.
– Я не разрешал.
– Неужели? Еще я всем расскажу, что это твои дети.
– Мои дети? Почему ты так поступишь? Меня тут же отправят на Восточный фронт. Ты с ума сошла!
– Может быть. Но эти малышки умрут, если мы не раздобудем угля. И Каролина тоже может умереть. Я этого не допущу! Поэтому сегодня вечером ты принесешь ведро угля, Зигфрид. Мы с тобой хотим одного и того же, я не ошибаюсь?
Он тяжело сглотнул:
– Ты явно сошла с ума. Нас всех убьют.
– Не хочу смотреть, как эти малышки замерзнут. Либо ты принесешь уголь, либо я завтра принесу их сюда – и помоги мне Господь!
Он вздохнул и кивнул:
– После работы принесу.
Не знаю, откуда у меня взялась смелость, но я ткнула пальцем ему в грудь.
– А еще ты найдешь способ отправить Каролину к матери. Я знаю, что она тебе небезразлична, – по крайней мере ты сам это говорил. Не понимаю, за что, но она тоже тебя любит, Зигфрид. Не разочаровывай ее.
Он кивнул:
– Я действительно ее люблю. То, что ты говоришь, нечестно. Сейчас война, а я солдат. Если меня поймают, для нас обоих это будет катастрофа. Я достану уголь и еду, чтобы ты отнесла Каролине. Но пока это все, что я могу сделать.
Тем же вечером мы с Мюриэль отскребли подвал Йосси и, как могли, продезинфицировали. Нашли в пустой квартире брошенный комод и превратили два выдвижных ящика в колыбельки. Зигфрид, как и обещал, после работы принес полное ведро угля и еще один пакет с едой. Всего пара кусков угля – и маленькая комнатка прогрелась. Позже ночью мы переселили Каролину с малышками и перенесли наши вещи в маленькую комнатку с печкой. Кровать, две люльки, комод, наши пожитки – и комната оказалась битком набита. Мы считали ее довольно уютной.
Каролину переполняли чувства, она не знала, как нас благодарить. Лежать в теплой комнатке со слезами радости на глазах, с малышкой на каждой руке – что еще было нужно? Мы сказали ей, что Зигфрид принес угля и еды с большим риском для себя и что он очень обрадовался новостям.
– А он не хочет посмотреть на девочек? – спросила она.
Я покачала головой:
– Он считает, что это очень рискованно, и не хочет подвергать твою жизнь опасности. Но он по-прежнему собирается отвезти тебя к матери.
Каролина улыбнулась.
– Ты не должна лгать ради меня, – мягко сказала она. – Я не ожидаю, что он выполнит свое обещание. Может быть, если бы время было другое, мы могли бы счастливо зажить вместе. Понимаешь, он не настоящий нацист. Его просто мобилизовали. Он простой деревенский парень. Он не знает, что такое вешать евреев на фонарном столбе.
Глава двадцать девятая
Новый управляющий Цехом, майор Фальштайн, был седым стариком в огромных круглых очках. Через несколько дней после рождения близнецов он подошел к моему рабочему месту и спросил, почему Каролина не является на работу.
– Она нужна мне, – заявил он. – Это одна из моих лучших швей.
Я не решилась рассказать ему о близнецах: семьи с малолетними детьми были первыми в списки на депортацию. Я была уверена, что он заметил беременность Каролины, только не знал, когда она должна родить.
– Немного приболела. Круп, – солгала я. – Но она уже поправляется, через пару дней появится на работе. – Хотя я даже не знала, собирается ли она вообще выходить на работу. Кто тогда будет сидеть с малышками? Кто будет их кормить?
Наступило время новой волны депортации, и еще тысяча четыреста евреев встали в колонну и пошли к эшелонам. В гетто почти не осталось детей. Семьи с маленькими детьми уже давно попали в списки и были высланы. К февралю единственными, кого не коснулась депортация, были члены юденрата, врачи и медсестры в больнице и самые быстрые швеи в цеху. Все остальные каждую неделю сверялись со списками, молясь о том, чтобы их фамилии там не было.
Зима 1942–1943 годов принесла в Хшанув большие перемены. Был получен приказ зачистить и снести гетто. В соответствии с воплощением в жизнь «окончательного решения» по распоряжению Рейнхарда Гейдриха сильных и здоровых евреев, живущих в гетто, отсылали в концлагеря, остальных – в один из шести лагерей смерти: Собибор, Хелмно, Белжец, Треблинка, Майданек, Освенцим-Биркенау. Депортация должна была начаться немедленно. Эшелоны отправлялись из Хшанува уже несколько месяцев, теперь же темп значительно возрос.
Зима 1942–1943 годов также повлияла на присутствие немцев в Хшануве. Осенью наш городок был просто наводнен немецкими солдатами, эсэсовцами, гестапо. Они гуляли на площадях, сидели в ресторанах и барах, подстерегали нас за каждым углом. Теперь немцев стало значительно меньше. Тогда мы не знали, но тому была причина – кровопролитные сражения на Восточном фронте.
Стратегия Гитлера по стремительному захвату СССР провалилась – большинство историков считают ее переломным моментом в войне. В 1941–1942 годах в неудачных попытках захватить Москву погибло более миллиона солдат вермахта. После того как армия отступила, Гитлер изменил стратегию и в 1942 году послал армию на юг – захватить Сталинград и богатый нефтью Кавказ.
Битва за Сталинград стала самым кровавым сражением этой войны. Погибло около миллиона советских граждан. Германия и ее сателлиты потеряли восемьсот пятьдесят тысяч убитыми, а остатки Шестой немецкой армии капитулировали. Сталинград разбомбили до основания. Общие потери во время сражения достигли двух миллионов человек. Когда новость о поражении Германии и капитуляции под Сталинградом разнеслась по миру, эффект она возымела колоссальный. Союзники убедились, что СССР – могучий союзник и Германия может потерпеть поражение. Для нацизма Сталинградская битва стала деморализующим фактором.
Для нас, пребывающих в информационном вакууме относительно хода войны, с зимой были связаны возросшая потребность в шинелях и резкое уменьшение количества немцев в Хшануве. Неделя за неделей мы наблюдали, как в Цеху молодых немецких солдат становится все меньше. Ходили слухи, что дела на Восточном фронте обстоят неважно, поэтому всех военнообязанных, особенно тех, кто работал в Цеху, переводили на другое место службы.
Поскольку шинели были крайне необходимы, майор Фальштайн получил разрешение оставить – не грузить в эшелоны – сто еврейских швей. Я подошла к нему и спросила, намерен ли он оставить нас с Каролиной.
– А где твоя Каролина? – спросил он. – Я ее оставлю, если она вернется на работу. Она одна из моих лучших швей. Но ее нет на работе почти месяц.
– Она вернется через недельку-другую.
– Не подходит. Или она выходит на работу в пятницу, или я подаю ее фамилию на депортацию.
Я попыталась было возражать, но он развернулся и пошел прочь.
До пятницы оставалось два дня. Каролина уже достаточно окрепла, но что будет с крошками? Она же не может оставить их одних. В гетто Хшанува не было яслей и нянек, и с 1940 года юденрат запрещал женщинам беременеть. Тем же вечером я пригласила Мюриэль к нам в подвал. У меня созрел план.
– Майор Фальштайн сказал, что оставит Каролину, только если она в пятницу приступит к работе, – сообщила я. – Мы все понимаем, что детей оставить одних нельзя. Единственное решение – поменяться сменами. Я могу остаться в дневной смене. Если удастся перевести Каролину в ночную, я могла бы присматривать за малышками, пока она не вернется.
– А как же пересменка? – спросила Каролина. – Целый час никого дома не будет.
Я посмотрела на Мюриэль. Она кивнула.
– Я прикрою вас в этот час.
На следующий день я сообщила майору Фальштайну, что Каролина выходит на работу и что она предпочла бы работать ночью. Он обрадовался: возвращалась одна из его лучших швей, к тому же сама просилась поставить ее в ночную смену.
Мюриэль нам сам Бог послал. Она не только помогала с малышками, но и нашла в заброшенных квартирах детские вещи. Принесла несколько распашонок, крошечные розовые трико, детские одеяльца, связанные вручную свитера и два пальтишка. Еще она нашла три детские бутылочки и несколько сосок, чтобы кормить детей, когда Каролина на работе.
– Где ты все это взяла?
Мюриэль улыбнулась, но как-то грустно.
– Люди оставили.
Каролина расплакалась:
– Как же я могу это взять? Их с любовью дарили другим маленьким детям. Детям, которых отправили на вокзал и усадили в эшелоны. Эти вещи принадлежат им.
– Детей здесь больше нет, – утешала ее Мюриэль. – Уверена, родители больше обрадовались бы тому, что ты их забрала, чем если бы нацисты их выбросили.
Каролина кивнула и прижала к себе одежки.
– Уверена, что ты права. Буду относиться к ним бережно, с любовью.
Когда мы дожили до марта, я почувствовала уверенность в сегодняшнем дне. В подвале тепло, у нас достаточно еды, питья, одежды и угля. И мы решили проблему с тем, как позаботиться о малышках днем. В конце концов, как сказал полковник Мюллер, все ради того, чтобы выжить. День за днем. Мы и представить не могли, что с нами случится в ближайший месяц.
Глава тридцатая
Дети Каролины были восхитительными малышками. Я не могла дождаться окончания смены, чтобы вернуться домой и взять на руки Рахиль и Лию. В середине марта им уже исполнилось два с половиной месяца, они быстро росли. Обе так мило улыбались и смотрели вокруг во все глаза. Они лежали на спинке и хватали ленточки, которыми я поигрывала в воздухе.
Я приходила после пересменки, а Мюриэль в это время забавлялась с малышками. Ей не хотелось уходить. Не раз она, свернувшись калачиком, ночевала у нас, только бы побыть рядом с малышками. Представьте, двое младенцев и три женщины в крошечной котельной. Но мы не роптали. Несмотря на весь ужас оккупации, в нашей комнатушке царила радость.
Эти дети были нашими общими детьми. Они принадлежали нам троим. Когда мы на них смотрели – мы видели будущее. И неважно, что происходило вокруг, мы не поддавались отчаянию. Эти близняшки были нашей надеждой, надеждой нашего народа, надеждой Польши. Они были нашими близнецами!
К этому моменту в гетто мало кто оставался. Больше не работали ни магазины для евреев, ни булочные, никто из горожан не заглядывал сюда с товарами с «черного рынка». Нас осталось мало. Не было и сотни швей, чтобы работать в Цеху. Днем на фабрике раздавали еду, но ее хватало не всем. И в рационе явно недоставало витаминов и белка. Недоедание не могло не сказаться на оставшихся в гетто.
Суровые морозы свирепствовали и в марте – безжалостные, неумолимые. На улицах лежал глубокий снег. У многих не было теплой одежды, и только у нас четверых отапливалось жилье. Мы чувствовали вину за то, что у нас есть печь, но того угля, который принес Зигфрид, едва хватало, чтобы отопить очень маленькое помещение. Люди умирали от холода. А если не от голода или холода, то от тифа. И конечно, этого и добивались нацисты.
Вы даже представить не можете, насколько важны были продукты, которые передавал Зигфрид, – этого было достаточно, чтобы противостоять болезням. У нас уже заканчивались запасы угля, но близился апрель, и мы вздохнули с облегчением, что пережили еще одну зиму.
Я возвращалась домой с работы, радуясь предстоящей встрече с близнецами, когда из темного переулка мне навстречу шагнул немецкий солдат.
– Фрау Шейнман, – негромко позвал он.
– Зигфрид! Ты пришел к нам в гости? Каролина сейчас на работе, но Мюриэль с малышками дома. Рахиль с Лией хотят поблагодарить тебя за молоко, еду и уголь.
Он оставался серьезен.
– Я только что получил приказ. Десять минут назад. Меня посылают в Украину. Поезд скоро отходит.
Он достал из кармана клочок бумаги:
– Вот адрес моей матери. Она живет на ферме в нескольких километрах от Регенсбурга в Баварии. Я уже написал ей, рассказал, что женился на Каролине. Написал, что моя жена приедет к ней, только не знаю когда. Написал, что мы хотим жить с ней на ферме. Надеюсь, что мое письмо дойдет, но война… Передайте Каролине, что если я погибну, то она должна поехать к моей матери и сказать, что мы поженились. Теперь они моя семья.
Он повернулся, чтобы уйти, но я положила руку ему на плечо.
– Зайди, попрощайся с Мюриэль и малышками, которые выжили благодаря тебе. Они такие красивые.
Зигфрид покачал головой:
– Не могу.
Я потянула его за рукав:
– Нет, можешь.
Мы вошли в гетто и спустились в подвал, где Мюриэль качала на руках малышек. Сначала Зигфрид смущался, но, когда Мюриэль передала ему дочек, ахнул, на глаза его навернулись слезы.
– Красавицы!
– Они живы только благодаря тебе, Зигфрид, – сказала Мюриэль. – Они красивые и здоровые только потому, что о них заботился немецкий солдат.
Он что-то пытался сказать, но из-за рыданий ничего расслышать было нельзя. Единственное, что я поняла: «Черт побери эту безбожную войну!» Он прижал к себе малышек и сел на кровать.
– Кто из них кто? – спросил он.
– Это – Рахиль, а это – Лия.
Зигфрид поцеловал дочек:
– Прощай, Рахиль. Прощай, Лия. Надеюсь, мы скоро увидимся.
Он передал детей Мюриэль и поспешно вышел из комнаты. Тогда я видела Зигфрида в последний раз.
Я спрятала бумажку с адресом его матери подальше в свой вещмешок.
Когда Каролина вернулась домой, мы рассказали, что приходил Зигфрид.
Она подошла, взглянула на своих спящих крошек.
– Я же говорила, что он нас любит. Говорила, что он заботится о нас. Он очень добрый, Лена. Он сделал все, что мог, чтобы мы выжили. Для него это было непросто.
Через две недели майор Фальштайн созвал собрание, на котором выступил перед работницами.
– Мы получили приказ закрыть цех пятнадцатого апреля. Все материалы будут перевезены на другие фабрики. Гетто на северо-востоке будет снесено, всех евреев переселят. Придут эшелоны, которые отвезут вас на другие предприятия. Каждой из вас я дам отличные рекомендации. – Он тяжело сглотнул. – Конечно, большими полномочиями я не обладаю, но все же попрошу, чтобы каждую из вас отправили в то место, где ваш талант швеи будет оценен по достоинству. Мне очень жаль. Искренне жаль…
Я могла думать только о детях. Как их защитить? Я уже знала, какая судьба уготована еврейским детям. Знала, что их ждет, когда они покинут эшелон. Той ночью мы собрались в подвале.
– У нас остались считаные дни, – сказала я. – Нужно найти дом для Рахили и Лии.
– Зачем искать им дом? – удивилась Каролина. – Я лучшая швея. Фальштайн даст мне рекомендации. Я заберу девочек с собой туда, куда меня пошлют. Ты тоже поедешь с нами, Лена, будем работать посменно, как здесь. Мы будем все вместе.
– В трудовом лагере тебе не позволят оставить детей.
– И что же мне с ними делать? – Голос ее сорвался.
В ответ я лишь покачала головой.
– О нет! Они не могут забрать моих детей. Я спрячусь с ними здесь, в гетто.
– Они вычистят все гетто. Ты же видела их на перекличке. Они обыщут каждый уголок.
– Подвал они никогда не обыскивали!
– Уверена, что в этот раз ни один уголок не останется без внимания. Кроме того, Каролина, они намерены разрушить гетто. Снести все здания бульдозером.
– Я не позволю им забрать детей! – горячо воскликнула Каролина.
Я достала из вещмешка сложенный лист бумаги.
– Это адрес матери Зигфрида. Он написал ей, чтобы она тебя ждала.
– И что нам с ним делать? Как мне добраться до Баварии?
Я вздохнула:
– У меня есть идея. Ты можешь довериться полковнику Мюллеру, чтобы он отправил тебя с близнецами к матери Зигфрида?
– Нацистскому полковнику? Разумеется, нет! Что за мысль? Нацисты убивают еврейских детей.
– Я полковнику Мюллеру доверяю.
– Почему ты ему доверяешь? Неужели ты думаешь, что он дослужился бы до полковника, если бы дружил с евреями?
– Я не могу сказать почему. Просто доверяю. И думаю, что ты можешь положиться на мое мнение.
Мюриэль подошла к Каролине и обняла ее:
– По-моему, выбор у нас невелик.
Потом мы стояли втроем, обнявшись. И я сказала:
– Завтра вечером я поговорю с полковником.
Глава тридцать первая
На следующий день после работы я оставила близнецов с Мюриэль и отправилась к полковнику Мюллеру. Вечер выдался на удивление теплым для весны – площадь повидала множество таких вечеров, когда здесь гуляли немцы. Но стоял апрель 1943 года, и в Хшануве царила тишина. Большинство немцев уехали. В гетто практически никого не осталось. По дороге к дому я не встретила ни души.
Когда я пришла, было уже девять вечера. В гостиной горел свет. Ах, если бы можно было повернуть время вспять! Если бы я могла открыть дверь и вновь оказаться в 1938 году! Я несколько минут постояла на пороге, потом постучала.
Дверь открыла Эльза и недоуменно уставилась на меня. Она держала бокал с мартини и была одета в длинное, в пол, расшитое блестками черное вечернее платье. Ее белокурые волосы были собраны сзади заколкой с жемчугом. Она посмотрела на меня и поморщилась, как будто наступила на слизняка.
– Как я понимаю, ты пришла к моему мужу?
– Да, пожалуйста, если не возражаете.
– Ох, как я рада, что мы возвращаемся из этой польской дыры в Берлин. Жди здесь. – Она развернулась и скрылась в доме, хлопнув дверью.
«Полковника переводят в Германию, – подумала я. – Очень хорошо. Он сможет найти способ отвезти детей в Регенсбург».
Полковник Мюллер вышел на крыльцо, одетый в парадный мундир с погонами и аксельбантами, с рядами медалей и орденов на груди. Он жестом отозвал меня в сторону.
– Ты что здесь делаешь? С ума сошла? Я же сказал тебе не приходить!
– Мне требуется помощь.
– Но я-то что могу?
Я рассказала ему о детях.
– Я думаю, что нас с Каролиной сошлют в трудовой лагерь, а девочки…
Он покачал головой:
– Они там не выживут.
– Именно поэтому необходимо отправить их в Баварию, в Регенсбург.
Он рассмеялся:
– И как я должен это сделать? Через десять дней я уезжаю в Берлин. По-твоему, я могу сделать крюк почти в тысячу километров до Регенсбурга? Может, ты подскажешь, как объяснить это Эльзе? Уверен, она с радостью бросится тебе помогать. Она очень любит еврейских детей.
– Вы наша единственная надежда.
– Прошу тебя… Этот разговор ни к чему не приведет.
– И что же нам делать с малышками?
– Забрать с собой в эшелон.
– Они умрут.
– Да, умрут.
– Если не можете отправить их в Регенсбург, помогите отвезти их к Тарновским.
– К герру фермеру? Хм… Тарновские давно уже выехали в неизвестном направлении. Думаю, они поступили мудро.
И тогда я вспомнила, как пан Тарновский признался мне, что у них есть план. И я могла бы поехать с ними. Но мой поезд давно ушел. Я посмотрела полковнику в глаза.
– Вы обязаны найти способ нам помочь. Я знаю, что вы хороший человек. Вы не такой, как другие немцы.
– Ошибаешься. Я полковник вермахта. Я остался в живых только благодаря тому, что знаю, что могу сделать, что нет. Если моя работа в подполье приближает окончание войны, спасает миллионы жизней, тогда риск оправдан. Мне очень жаль малышек, чьи шансы на выживание равны нулю, но я ничего не могу сделать. Спокойной ночи, маленькая путешественница.
Он повернулся и ушел в дом, а я осталась стоять на тротуаре.
Мюриэль с Каролиной с нетерпением ждали моего возвращения, но когда увидели выражение моего лица, Каролина расплакалась.
– Мы что-то придумаем, – пообещала я.
Все следующие дни мы обсуждали, что же делать. Несмотря на то, что фабрику закрывали, мы должны были являться на работу. Рекомендации майора Фальштайна могли сыграть решающую роль: либо тебя отправят в трудовой лагерь, либо в Освенцим. Поэтому я работала днем, Каролина по ночам, а Мюриэль сидела с близнецами.
В Цеху было жутко: всего кучка работниц, большинство из которых занимались тем, что упаковывали продукцию для транспортировки на север. Немецкие надсмотрщики уехали. Остались только майор Фальштайн и два охранника.
За два дня до объявленного закрытия майор сказал:
– Сегодня ночной смены не будет. Если вы знаете тех, кто работает в ночную смену, передайте им, что они нужны мне прямо сейчас.
Я пошла домой. Каролина играла с малышками, напевала им колыбельную. Она покачала головой.
– Я не пойду. Хочу побыть с девочками. Каждую оставшуюся минуточку.
– Но рекомендации майора Фальштайна… Ты же не хочешь, чтобы тебя вычеркнули из списка.
– Наплевать.
Разве я могла ее винить? Я вернулась на работу.
Майор Фальштайн сразу заметил, что Каролина так и не появилась.
Вечером после работы мы опять собрались вместе. У меня никаких идей не возникло. Жаль, что рядом нет Давида, он бы что-нибудь придумал. Как мне его не хватало!
– Давайте сбежим, – предложила Каролина. – Мне кажется, мы сможем выбраться за город, осталось не так много немцев. Мы найдем семью, которая спрячет нас, пока война не закончится.
– Мечтательница… – вздохнула я в ответ. – Во-первых, нам не удастся добраться до деревни, нас застрелят на выходе из города. Там до сих пор стоит охрана. Во-вторых, даже если мы и выберемся отсюда, где ты найдешь семью, готовую приютить трех евреек с двумя детьми?
– Мы должны попытаться. Может быть, они согласятся взять только малышек. Будем идти, пока кого-то не найдем. А какой у нас выбор, Лена? Отдать малышек нацистам?
– Она права, – поддержала подругу Мюриэль. – Что нам остается? Если мы сядем в эшелон с близнецами, их по прибытии сразу у нас отберут. И ты прекрасно знаешь, как с ними поступят. – Она обняла Каролину. – Не волнуйся, дорогая. Я пойду с тобой.
– Вы обе сошли с ума! – воскликнула я. – У нас есть все шансы попасть в трудовой лагерь. Будем шить одежду, переживем войну…
– Но не малышки.
Я кивнула.
– Но не малышки… – Я подошла и обняла их. – Я, должно быть, обезумела, как и вы, но можете на меня рассчитывать.
Глава тридцать вторая
– Полковник Карл Хайнц Мюллер, отличившийся в Галицийской битве в Первой мировой войне, был переведен в Хшанув в Верхнюю Силезию в 1941 году, – сообщил Лиам. – В 1943 году его перевели в Берлин, где он служил на Бендлерштрассе под началом генерала Фридриха Ольбрихта. Тогда же его представили подполковнику Клаусу Шенку фон Штауффенбергу. И Ольбрихт, и Штауффенберг были членами группы заговорщиков.
– Откуда мне знакома фамилия Штауффенберг? – спросила Кэтрин.
– Из истории о покушении на Гитлера в бункере.
– Точно. Неудавшееся покушение.
– Мюллер в действительности и сам уже несколько лет принимал участие в немецком Сопротивлении, но серьезным конспиратором он стал в 1944 году вместе с фон Штауффенбергом. Он лично присутствовал 20 июля 1944 года в ставке фюрера «Волчье логово», когда прогремел взрыв во время неудавшегося покушения на Гитлера. Фон Штауффенберга расстреляли 21 июля. Мюллера расстреляли за измену родине 1 августа.
– Значит, полковник Мюллер, который являлся членом группы немецких заговорщиков, существовал в действительности? Лена не обманывает и ничего не придумывает.
– Касательно полковника Мюллера – нет. Ее история о подполье очень правдоподобна. И о его равнодушии, когда речь зашла о том, чтобы спасти детей. Мое расследование показало, что многие из высшего немецкого командования, несмотря на то что презирали Гитлера и его амбиции, все равно оставались верноподданными Германии. Они сожалели, что Гитлер устроил геноцид, но сами были элитой Германии. Им нравилось ее политическое устройство, а также свой социальный статус и привилегии. Многие из них были фашистами. Возможно, Мюллер и был лидером движения Сопротивления и умер, пытаясь свергнуть Гитлера и власть нацистов, но он явно не был Томасом Джефферсоном. Справиться с диктатурой ему было не по силам.
Кэтрин убрала тарелки после завтрака.
– Хорошо, что история Лены подтверждается фактами. Спасибо за расследование.
– Но ты все равно подозреваешь, что она что-то скрывает?
Кэтрин кивнула:
– Ни капли в этом не сомневаюсь. Есть еще какая-то тайна, я просто не знаю какая. Не знаю почему, просто чувствую, что есть какая-то недосказанность в этой истории. Возможно, эту тайну мы никогда и не узнаем.
У Лиама зазвонил сотовый телефон. Он посмотрел на номер, удивленно приподнял брови и жестом подозвал Кэтрин.
– Лиам Таггарт. Здравствуйте, Артур. Сегодня утром? Не знаю, я должен обсудить это с миссис Локхарт. Я вам позже перезвоню. До свидания.
Кэтрин стояла, уперев руки в бока.
– Артур Вудвард? Что, черт побери, ему нужно?
– Он хочет, что я встретился с ним сегодня утром.
– Он сказал зачем?
– Нет.
– Великолепно! Ты собираешься с ним встретиться?
– Конечно. Почему бы и нет?
В одиннадцать часов Артур с личным секретарем Рико прибыли в контору Лиама. Детектив встретил их у двери, пожал Артуру руку.
– Может, оставим эту груду мышц за дверью?
– Конечно. – Артур повернулся к Рико. – Подожди меня в машине.
Лиам подошел к буфету:
– Я как раз варю кофе. Выпьете чашечку?
Артур кивнул:
– Просто черный.
– И что же вас ко мне привело?
– Не на диктофон, Лиам? Только между нами?
Лиам кивнул.
Артур сделал глоток кофе.
– Послушайте, я неплохой парень, что бы вы там ни думали. Возможно, я слишком опекаю свою мать, но ей уже восемьдесят девять, и я единственный родственник. Я наблюдал, как она из женщины, ведущей светский образ жизни, поглощенной общественными делами, заседающей в советах значимых благотворительных организаций, превратилась в женщину, помешанную на поиске двух девочек, в пользу существования которых нет и не было никаких доказательств. Понимаете меня? Она, как сэр Галахад в поисках Святого Грааля. На уме у нее только одно – эта Каролина с детьми. В комнате, где мы с отцом смотрели баскетбол, где он читал по вечерам и слушал музыку, она повсюду разложила карты Европы. Должно быть, у нее дома штук двадцать книг о событиях в Польше во время войны. Отец никогда не прочел ни одной, это все мамины книги. Десятки ксерокопий расписаний польских поездов времен 1940-х годов… Она осталась в минувшем веке. Это единственное, что ее волнует. Какими бы мотивами я, по-вашему, ни руководствовался, я всего лишь волнуюсь за мать. Я вовсе не хочу, чтобы ваша жена отправилась в тюрьму из-за неловкой попытки сохранить привилегированное право «клиент – адвокат». Я хочу отозвать иск.
– В обмен на что?
– На сущую мелочь. Я не прошу Кэтрин отказываться от дела. Пусть она занимается своей работой. Пусть берет гонорары – зарабатывает деньги. Понимаю, у нее маленькая контора и для нее моя мать – выгодный клиент. Понимаю. Не проблема.
Лиам встал:
– Что ж, Артур, большое спасибо. Я передам Кэтрин, что вы отзываете свой иск.
Артур поднял вверх указательный палец:
– Не так быстро. Я сказал, что не возражаю, чтобы Кэтрин представляла мою мать. Но при определенных условиях. Только между нами, хорошо? Я хочу точно знать, что происходит, о чем они говорят и что намерены делать. Так я могу быть уверен, что с мамой ничего плохого не случится. Хочу быть в курсе дела. Вы меня понимаете? Я всего лишь беспокоюсь о ней. Вам не обязательно рассказывать моей маме и Кэтрин о нашем договоре. Только время от времени дайте мне знать, что происходит. Что моя мать или Кэтрин сделали, что узнали. Вот и все. И я поверю вам на слово. Даже письменный договор заключать не будем.
– Артур, вы же не рассчитываете всерьез, что я приму ваше предложение, верно? Я к тому, что вы же не явились сюда из Гонзо, чтобы предложить мне подобную глупость: действовать за спиной у жены и нарушить привилегированное право «клиент – адвокат»? Что у вас на уме на самом деле?
Артур засмеялся:
– А вы крепкий орешек, Лиам. Ну хорошо, я скажу, что меня тревожит. Мне кажется, что кто-то на бывшей родине пытается воспользоваться моей мамой. Обобрать ее. Что-то происходит там, в Польше или Германии. Я имею в виду, почему она неожиданно вспомнила об этом в возрасте восьмидесяти девяти лет? У нее было семьдесят лет, чтобы разыскать детей Каролины. А теперь, ни с того ни с сего, она вознамерилась их найти. Когда они, скорее всего, уже умерли – если вообще существовали.
– Я так полагаю, она сказала бы, что это не ваше дело.
– Возможно, и сказала бы. Но я не намерен позволить какому-то мошеннику в Польше забрать все деньги моего отца. Этому не бывать! Послушайте, вы же великий детектив. Вы нашли хоть какие-то доказательства того, что Каролина Нойман вообще существовала? Вам удалось выяснить, рожала ли девушка с таким именем? Обнаружились ли какие-то свидетельства о рождении маленьких Нойманов? Все же понимают, что если бы они у вас были, то вы представили бы их судье и дело было бы закрыто.
– Я ничего не могу сообщить о своей работе по этому делу. И вам отлично об этом известно.
Артур кивнул:
– Ладно. Вы и так ответили на мой вопрос. Так я и думал. Позвольте вам напомнить, что в средствах я не стеснен. И могу все уладить. Как вы понимаете, я уже нанимал людей для поиска этой Каролины, и все они вернулись ни с чем. Абсолютно ни с чем! Следовательно, если за мои деньги никто не может раздобыть хотя бы какие-то доказательства, значит, этих доказательств не существует. И это факт. Поэтому предлагаю сделку: вы будете держать меня в курсе происходящего, каждый день вкратце сообщать, чем занята моя мать и о чем она рассказывает, а я отступлюсь. В противном случае я раздавлю тебя и твою жену, как жуков. Можешь не сомневаться.
– Ой, прекратите это ребячество! Эти угрозы…
Артур встал:
– Спасибо за кофе, Лиам. Подумайте над моими словами. Хотите, чтобы жена не села в тюрьму? Давайте сотрудничать. В воскресенье вечером дайте знать. Поддержите меня – мы навеки лучшие друзья. В противном случае… – Он сделал движение ногой, как будто раздавил сигарету.
– Черт, а я ведь думал, что мы уже лучшие друзья! Но похоже, я только что завел себе недруга. Убирайтесь к черту из моего кабинета!
У двери Артур остановился.
– Подумай хорошенько, весельчак! Это твоя жена!
Глава тридцать третья
– Мне кажется, он в отчаянии, – сказала Кэтрин, сидя в кресле за письменным столом и прижимая трубку к уху. – Но я никак не могу понять, почему он так яростно пытается помешать Лене разыскать этих девочек.
– Все дело в наследстве. А в чем же еще? Я уверен, он думает, что мать изменила завещание и решила отдать часть наследства дочерям Каролины, если они до сих пор живы. Если нет – возможно, их наследникам. Если же Лена не сможет найти близнецов, тогда все отходит Артуру.
– В этом есть логика. Лена будет здесь через пару минут. У меня остался еще один день перед слушанием, чтобы узнать всю историю. Мы идем параллельно. В ее истории остался всего один день, чтобы придумать, как спасти детей, и у меня всего один день, чтобы придумать, как не сесть в тюрьму. Ладно, позже поговорим.
– До встречи дома.
В этот момент Глэдис просунула голову в дверь и сообщила, что приехала Лена.
– Ну что ж, сегодня у нас много работы, – сказала Кэтрин. – Поэтому засучим рукава и вперед.
Лена села, гордо расправив плечи, высокая, статная, в серебристом свитере с высоким воротом, с ниткой искусственного жемчуга и улыбнулась.
– Мы с Каролиной и Мюриэль решились бежать из Хшанува, не дожидаясь, пока через пару дней прибудут эшелоны. Мы спеленали малышек, взяли с собой еду и молоко, сколько смогли унести, и отправились в апрельскую ночь искать спасение.
После своих ночных походов я знала, какие улицы самые темные, какие дома нежилые, какие дороги наиболее безопасные. Мы обошли площадь и направились на восток через железнодорожные пути, потом через поле. Наша цель – сельская дорога и ферма Тарновских. Я не могла с уверенностью сказать, говорил ли полковник правду, когда рассказывал о Тарновских. Может быть, они до сих пор там. А может, на ферме живет новая семья. Еще одна добрая сельская семья, которая захочет спасти наших малышек. Возможно, вернулся сын Тарновских.
Ночь выдалась теплой, звездной, судьба благоволила нам молодым месяцем. Мы держались подальше от людских глаз и достигли просеки на окраине Хшанува. Километра два мы продирались лесом, но в темноте это было слишком опасно. Ветки, поваленные деревья, ухабистая земля – слишком рискованно путешествовать с маленькими детьми. Пришлось возвращаться на дорогу.
Ферма Тарновских находилась в десяти километрах от Шленской улицы – очень долгий путь с близнецами на руках. Мы не прошли и полпути, как стало светать. Слева виднелась ясеневая роща, и мы решили сделать привал на несколько часов, чтобы отдохнуть и покормить детей. Ранняя апрельская листва была слишком редким и ненадежным укрытием, поэтому пришлось зайти вглубь леска, чтобы не быть замеченными с дороги.
Помню, как мы сидели на вещмешках, гордые тем, что удалось тайком выскользнуть из Хшанува, и уверенные, что нам действительно по силам избежать депортации. Когда малышки поели и заснули, мы отправились дальше.
Ярко светило утреннее солнце, мы шли по дороге вдоль пшеничного поля. Утомленные, блеклые остатки зимы постепенно уступали место зеленым, желтым и золотистым цветам, в которые скоро вновь оденется земля. Заросли распустившихся деревьев отвечали на весеннее пробуждение.
– Стойте! – неожиданно воскликнула Мюриэль. – Кто-то едет.
И точно. Вдалеке показалась черная легковая машина. Мы поспешно отступили в сторону и легли на пробивающуюся из-под снега траву. Пассажиры в машине не ожидали увидеть кого-то в полях, поэтому проехали мимо и скрылись из виду. Мы улыбнулись друг другу и продолжали путь. Слишком легко все удавалось. Вскоре показалась ферма Тарновских.
Рядом с домом стояла машина, и это был плохой знак. Я точно знала, что у Тарновских машины не было. Я знала, что нацисты конфисковали у жителей Хшанува все машины. Если стоит машина, это, скорее всего, означает, что в доме немцы. Мы решили идти дальше. Следующая ферма располагалась всего в нескольких километрах, и на закате мы подошли к ней. Здесь не было ни машин, ни телег, ни света в доме. Если повезет, то ферма окажется заброшенной. Но кто знает, как долго мы можем там оставаться?
Когда мы подошли к дому, из двери выглянула женщина.
– Что вам здесь надо? Это мой дом.
– Мы не хотим ничего дурного, пани. Мы просто идем по дороге. Решили, что, может, вы дадите нам воды или позволите провести ночь в сарае. Утром мы уйдем.
– Идите дальше, здесь вам делать нечего. Мы не хотим неприятностей, поэтому разворачивайтесь и уходите.
– Да, пани. Мы тоже не хотим неприятностей. Простите, что побеспокоили.
К тому времени мы преодолели уже двадцать километров с вещмешками и двумя младенцами. Нас уже ноги не держали, но мы вынуждены были идти. Солнце село, похолодало. Вдалеке мы увидели ферму и направились туда в надежде на ночлег.
Уже стемнело, когда мы дошли до нее. В окнах горел свет. Никаких машин, ни следа немцев.
– Постучим в дверь? – спросила Каролина.
– Предлагаю пойти в сарай, – не согласилась Мюриэль. – Может, нас до утра не найдут, мы отдохнем и покормим детей. Кроме того, становится холодно, а в сарае тепло.
Я кивнула, и мы тихонько приоткрыли дверь сарая. В конюшне стояла каурая лошадь и было много сена. Отличное место для сна! Каролина покормила малышек, спела им колыбельную, и мы заснули… Как бы это описать? Как дети. Но было ясно, что Рахиль и Лия проспят всего несколько часов, а потом начнут плакать, требуя еду.
На рассвете дверь сарая открылась. Вошел старик в синем комбинезоне и фланелевой рубашке, со спутанными седыми волосами и карабином в руках.
– Что вы делаете в моем сарае?
– Отдыхаем, – ответила я. – У нас двое младенцев, мы пытаемся остаться в живых.
– Бежите от нацистов?
– Да, пан, бежим.
– Они тут повсюду, надо быть осторожнее. Они схватят вас и убьют.
– Да, пан, мы знаем.
– Оставайтесь пока здесь, я принесу вам завтрак. А потом идите восвояси.
– Спасибо, пан. Да благословит вас Господь!
Старик и его жена, дородная женщина в цветастом халате и с широкой улыбкой, принесли нам омлет, сыр и три стакана молока.
– Позвольте посмотреть на малышек, – попросила она. – Я слышала, как они всю ночь плакали. – Каролина передала ей Лию, и женщина принялась баюкать малышку. – Бог мой, какая красавица! Совсем как моя Ева.
– Мы бы хотели, чтобы вы остались, – сказал фермер, – но немцы постоянно сюда наведываются и убьют нас, если мы вас приютим.
– Мы все понимаем и благодарим вас за щедрое угощение. Мы пойдем дальше.
Они собрали нам немного еды, и мы пошли своей дорогой, по-прежнему держась подальше от людских глаз. Через два-три километра мы набрели на еще одну ферму. Во дворе ходили куры, на выпасе – дойная корова. Худая женщина средних лет со всклокоченными рыжими волосами возделывала огород. Она поманила нас к себе.
– Куда идете?
– Сами не знаем. Подальше от Хшанува.
– Что ж, вы вот-вот дойдете до Олькуша. Уже рукой подать.
– А немцы?
Женщина покачала головой:
– Немного, но есть. Вы выглядите уставшими. Давно в пути?
– Да. Идем из самого Хшанува, – ответила Каролина.
– Вы завтракали?
– Да, спасибо. Ваши добрые соседи ниже по дороге позволили нам переночевать в сарае и покормили.
– Наверное, это Клоские. Ну что же, проходите, пусть ноги отдохнут.
Она завела нас в кухню, достала кувшин молока, печенье и сказала:
– Мне надо по делам сбегать. А вы чувствуйте себя как дома. Я скоро вернусь.
Она села в телегу, дернула поводья и уехала. Мы сидели в кухне и пили молоко, благодарные хозяйке за гостеприимство. Через четверть часа к дому подкатил грузовик с брезентовым верхом. Четверо солдат с оружием выскочили из него, вбежали в дом и закричали:
– Herauskommen, herauskommen![36]
Каролина расплакалась.
Когда нацисты выводили нас из дома, женщина расплылась в злой беззубой улыбке.
– Вас отправят туда, где вам место, чтоб вы и на километр к дому приличных людей не приближались. – Потом она крикнула солдатам: – И не забудьте забрать Клоских! Они помогали этим мерзавкам.
Нас затолкали в кузов. Мы были слишком подавлены и жалели, что доверились этой женщине. Каролина устроилась у одного борта машины с Рахилью на руках. Я – у другого с Лией. Мюриэль сидела рядом с невозмутимым нацистом, который держал оружие наизготовку. Он смотрел прямо перед собой, лицо его ничего не выражало, как будто солдат был сделан из пластмассы. Когда мы проезжали мимо Клоских, я заметила немецкий грузовик у дома. Доброта их погубила.
За час мы преодолели расстояние, которое прошли за два дня. Нас привезли в Хшанув, на городскую площадь, куда согнали всех оставшихся в городе евреев.
На площади царил хаос: там собралось больше тысячи человек. И все с вещами. Люди стояли, вцепившись в детей, чемоданы, коробки, кто-то даже принес свои пожитки завязанными в простыню. Вооруженные солдаты с грозно рычащими и лающими собаками подгоняли людей дубинками и прикладами. Были тут и эсэсовцы в длинных шинелях, а за всем происходящим наблюдали хладнокровные гестаповцы в кожаных плащах.
Прозвучал приказ по мегафону:
– Выстроиться в шеренгу по пять человек. Найдите свою фамилию в списке. Тем, кто указан в первом эшелоне, собраться в дальнем, южном конце площади. Тем, кто во втором, – в северном. Это последнее переселение из Хшанува. Вас повезут в новые трудовые лагеря. Там лучше и намного чище, чем в этом вонючем гетто, где вы жили. Всем будет дана возможность трудиться и заработать себе свободу. Все, кто будет трудиться, получат хорошее питание и уход, будут жить в достойных условиях. Сверяйтесь со списками, находите свою фамилию и стройтесь!
Приказ повторяли снова и снова.
Мы подошли к доске с объявлениями. Моя фамилия стояла в списке во второй эшелон. Я посмотрела в северный конец площади и узнала многих швей из Цеха. Этот эшелон явно направлялся на другую швейную фабрику. Но фамилии Каролины и Мюриэль значились в списке в первый эшелон. Я посмотрела в южный конец площади, увидела много стариков, детей и людей, выглядевших слабыми и больными, и сразу поняла, что первый эшелон отправится в Освенцим.
Я испугалась. Как мои подруги могли оказаться в первом эшелоне? Они же молодые и здоровые. Как они могут отправиться в Освенцим? Мы переглянулись, я расплакалась. Этого не должно было случиться!
Когда подошел длинный состав с товарными вагонами кирпичного цвета, солдаты начали строить собравшихся в ряд. Мегафоны приказывали тем, кто едет в первом эшелоне, выйти вперед.
– Это какая-то ошибка, – сказала я.
Мюриэль нежно, но печально улыбнулась. Она понимала, что происходит.
– Мы с Каролиной в первом эшелоне. А ты оставайся со своей группой. Не волнуйся за нас. Все будет хорошо.
– Нет-нет! – плакала я. – Майор Фальштайн обещал… Нужно кому-то сказать. Вы должны ехать на север. Вы не должны быть в этом эшелоне!
Каролина обняла меня:
– Мы, черт побери, хотя бы попытались, верно, Лена? Я искренне думала, что удастся сбежать. И нам это почти удалось. – Она задумчиво посмотрела на меня и улыбнулась. – Знаешь, когда мы сидели на кухне у этой женщины, все втроем и с нашими малышками, я подумала: «Как же мне повезло! Я нашла двух лучших подруг, и мы все останемся в живых после этого кошмара. С нами все будет хорошо». И это ощущение, Лена, ощущение свободы, пусть и на один день, того стоило! Моя душа ликовала. Спасибо, Лена. Спасибо за все. – Каролина поцеловала меня. – А сейчас тебе пора уходить. Нас будут сажать в вагоны.
Я запаниковала. Я обязана была что-то сделать. Я оглядела площадь и там, посреди царящего хаоса, увидела полковника Мюллера.
– Стойте здесь! – крикнула я. – Стойте здесь и держите малышек. Никуда не ходите пока.
И я бросилась к полковнику.
Он сделал вид, что не знает меня, схватил за руку и спросил:
– Ты в какой группе, женщина?
– Которая едет на север.
– Я отведу тебя туда, чтобы ты ничего не перепутала.
Когда мы отошли достаточно далеко, чтобы солдаты не услышали, он сказал:
– От тебя столько неприятностей, маленькая путешественница! Ты должна быть в северном конце площади, этот поезд идет в Гросс-Розен. Второй – в Освенцим.
Я едва сдерживалась.
– Каролина с Мюриэль… Они стоят вон там. Это какая-то ошибка! Их фамилии попали не в тот список. Вы должны их переписать. Пожалуйста, внесите их в список на второй эшелон!
– Не могу. Списки окончательные.
– Вы обязаны! Я рисковала жизнью, когда помогала вашей подпольной сети, и все, о чем я прошу: перенести фамилии двух женщин в другой список.
– С двумя детьми.
– Да. Пожалуйста, перенесите фамилии Каролины и Мюриэль в другой список!
Он покачал головой:
– Списки окончательные. Все знают, кто в каком эшелоне едет.
– Измените списки! Вы же можете. Вы же полковник.
– Полковник, который знает, как остаться в живых. Полковник, который знает, что стоит рисковать ради всеобщего блага, но не ради подружек.
Я не могла смириться с таким ответом и обвела глазами площадь.
– Если вы ничего не сделаете, я расскажу обо всем прямо сейчас! Обращусь к гестаповцам и расскажу, кто вы такой на самом деле.
Полковник Мюллер смеялся до слез.
– Я еще не встречал таких смелых девчонок. Ступай на северный конец площади, пока я тебя не застрелил.
– Пожалуйста, прошу вас! – умоляла я.
Наконец он кивнул:
– Стой здесь. Посмотрим, что можно сделать.
Выстроившись в колонны, мы часами ждали, пока начнется посадка в поезд. Наконец стали сажать тех, кто ехал в Освенцим. Солдаты грубо заталкивали людей в товарные вагоны, и я разрыдалась. Я уже готова была бежать в колонну, которая отправлялась в Освенцим, к своим подругам и малышкам – и будь что будет! – когда увидела полковника Мюллера. С одной стороны от него шла Каролина, с другой – Мюриэль. У каждой на руках по ребенку. Полковник Мюллер подмигнул мне:
– Прощай, маленькая путешественница. Увидимся, когда закончится война.
– Ничего себе! Он оказался крепким парнем!
– Да. Рисковал собственной жизнью. Его расстреляли за измену родине. Он был хорошим человеком, Кэтрин. И рисковал только ради всеобщего блага. Его группа едва не убила Гитлера в 1944.
– Значит, вы втроем сели на поезд до Гросс-Розена?
– Да, мы втроем и наши близнецы.
Глава тридцать четвертая
– Мы стояли в колонне несколько часов. Без воды, без еды. И наблюдали, как тех, кого отправляли в Освенцим, грузили в товарные вагоны. Столько людей в один вагон! Там негде было даже присесть – можно было ехать только стоя. Мы видели, как солдаты толкали несчастных, трамбовали, закрывали и запирали вагоны. Потом поезд дернулся, с шумом тронулся с места, медленно набрал скорость и скрылся из виду. Когда первый эшелон уехал, нас повели через площадь к платформе.
И опять мы ждали. Вечерело. Мы с Мюриэль прикрыли Каролину, чтобы она могла покормить близнецов. Малышки были единственными детьми в нашей группе, которая состояла в основном из молодых и крепких женщин. И хотя многие смотрели на Каролину с детьми по-доброму, были и такие, которые возмущались.
Наконец мы увидели поезд. Не товарняк, как тот, что ушел в Освенцим, а пассажирский поезд.
– Пассажирский поезд? – удивилась Кэтрин. – На всех снимках еврейских узников перевозили в товарных вагонах или вагонах для скота.
– Чаще всего так и было, но, когда надо, нацисты конфисковывали и вагоны для скота, открытые товарные платформы и даже пассажирские поезда.
Нас погрузили в пассажирский поезд с удобными сиденьями, окнами и даже туалетами. В сравнении с ужасными товарняками он был настоящей роскошью. Мест оказалось больше, чем пассажиров, и можно было открыть окна. В каждом вагоне находилась охрана, но они практически не обращали на нас внимания.
Посадка прошла без происшествий. Мы с Мюриэль сели рядом, Каролина с близнецами расположилась напротив. У меня в вещмешке еще оставалась еда, и нам даже удалось подкрепиться.
Гросс-Розен находился километрах в трехстах пятидесяти от Хшанува. Обычно дорога занимала часа четыре-пять. Но наш поезд перевозил депортированных, а потому подолгу простаивал на станциях и полустанках. Преимущество отдавалось перевозкам для нужд немецкой армии. Мы ехали медленно, нас отгоняли на запасные пути, когда по основному шел военный эшелон или поезд с продовольствием.
Мы по очереди баюкали малышек. Каролина нежно гладила их по головкам, пела колыбельные, время от времени плакала. Мы все плакали. Судьба близнецов была неизвестна, но мы опасались худшего. Однако мы уже столько пережили и до сих пор были вместе, так, может, нам удастся найти выход…
Поезд медленно шел дальше, ночь выдалась теплой. Многие опустили окна и легли спать. Похоже, немцы не боялись, что кто-то может выпрыгнуть через окно. В конце концов, мы были ценными работниками, которых ввиду высокой квалификации перевозили на другое место работы. Мы были нужны, и мы наверняка переживем войну. Когда нас загоняли на запасной путь и поезд останавливался, охрана спрыгивала на платформу, но стояла с оружием наизготовку – на случай если какой-то глупой девчонке придет в голову мысль о свободе.
Наступил еще один теплый, солнечный день. Наш поезд опять остановился на запасном пути. Каролина как раз кормила близнецов, когда пожилая женщина, худющая и нечесаная, остановилась рядом с нами и покачала головой.
– Я уже была в Гросс-Розене, – скрипучим голосом сказала она. – До того как меня перевели в Цех, я работала в Гросс-Розене. Там жизнь не малина, скажу я вам. С женщинами обращаются, как с рабами. Хуже, чем с рабами. Мы спали вчетвером на деревянном настиле, на который бросили немного соломы. Дважды в день – суп. Один раз давали хлеб. – Она ткнула пальцем в малышек. – Ты же понимаешь, что детей они не позволят оставить. Там нет детей.
– Довольно! – оборвала ее Мюриэль.
Но старуха и не думала останавливаться.
– СС… Как только ты приедешь, эсэсовцы отберут у тебя детей. Там ни у кого нет детей.
Мюриэль встала:
– Я сказала: довольно! Идите своей дорогой!
Старуха заговорила громче. Голос ее стал писклявым, высоким.
– Они убьют малюток. Я уже видела, как они убивали. Эти малышки уже мертвы.
Каролина уставилась на нее, схватила близнецов и прижала к груди.
Мюриэль шагнула в проход:
– Я же сказала: ступайте своей дорогой!
Старуха покачала головой и направилась в конец вагона, но, сделав несколько шагов, обернулась:
– Я видела их. СС. Я знаю. Эти малышки… Они уже мертвы.
– Не слушай ее, – прошептала я. – Это всего лишь безумная старуха. Мы не должны отчаиваться.
Каролина смотрела на своих крошек.
– Она права, – негромко сказала она и подняла на меня взгляд. – Она права. Они обречены. Они уже мертвы.
– Прекрати говорить ерунду!
Губы у Каролины задрожали, на глаза навернулись слезы, и она словно впала в ступор. Я взяла девочек у нее из рук и подозвала Мюриэль.
– Каролина, – громко сказала Мюриэль, – посмотри на меня. Мы должны заботиться о наших малышках. Не слушай эту старуху. Мы уже столько пережили, верно?
Каролина сидела, откинувшись на спинку, ни на что не реагировала, смотрела в окно и дрожала. Мюриэль присела рядом и обняла ее за плечи.
– Поговори со мной, Каролина.
Но та не отвечала.
Мюриэль посмотрела на меня и покачала головой.
– Дадим ей время. Она отойдет.
Поезд дернулся, мы вернулись на главный путь и со скоростью черепахи двинулись дальше по сельским районам Польши. Поля по обеим сторонам были испещрены зеленью и золотом – это пробивались новые стебельки, пуская ростки сквозь пожухлую прошлогоднюю траву. Изредка мы видели вдалеке деревеньку, а иногда медленно проезжали около нее. Каролина сидела словно в тумане, безучастная ко всему. Время от времени она что-то бормотала. Мне показалось, что я расслышала «Мадлен», и гадала, что заставило ее вспомнить в такой момент о своей собаке.
Часа через два-три, в полуденную жару, сразу после того, как мы вновь двинулись по основному пути, Каролина посмотрела на меня и потянулась за Лией. Мы сидели у окна лицом друг к другу. Я обрадовалась, что она хоть немного ожила.
– Наша радость! – передавая ей дочь, приговаривала я.
Рахиль осталась у меня, я продолжала баюкать малышку.
Каролина наклонилась ко мне:
– Я не позволю убить наших малышек! Я спасу их, Лена. Мне нужна твоя помощь.
Я забеспокоилась: у нее явно помутилось в голове.
– Что ты задумала?
– Где листок с адресом матери Зигфрида?
Я полезла в вещмешок.
– Вот он.
– Дай его мне. У тебя есть чем писать?
Я покачала головой. Она оторвала чистый клочок от бумажки, на которой писал Зигфрид, вытащила булавку из Лииного подгузника, проколола себе палец и кровью написала адрес на оторванном клочке.
– Держи, – велела она мне. – Приколи эту бумажку к подгузнику Рахиль.
Я развернула одеяльце, в которое мы запеленали малышку, и сделала, как было велено, а Каролина приколола адрес матери Зигфрида к Лииному подгузнику. И мы снова завернули близняшек в одеяльца. Я понятия не имела, что она надумала. Кто должен был отвезти малышек по указанному Зигфридом адресу? Я попробовала расспросить Каролину:
– А кто повезет близняшек…
– Тсс… – велела она.
Мы опять остановились на запасном пути. Мимо пронесся скорый, и наш поезд задрожал так, что зазвенели стекла. Каролина смотрела в окно, пока мы не вернулись с запасного пути на главный, потом неожиданно поднялась.
– Прости меня, Господи! – с надрывом выкрикнула она и бросила Лию через окно в поле. – Прощай, мое сокровище! – Потом посмотрела на меня. – Бросай Рахиль. Немедленно!
Я взглянула на малышку. Такие чистые, невинные глазки. Такая красивая. Доверчивая. В эту секунду мы встретились с Рахилью глазами и она улыбнулась. Сердце мое разрывалось.
– Нет, не могу.
– Мы не позволим им убить ее, Лена. Бросай Рахиль как можно дальше! Бросай!
– Не могу! Я… не могу!
Каролина, словно безумная, рванулась ко мне.
– Бросай ее! – что есть мочи закричала она. – Немедленно! Бросай Рахиль! Это ее единственный шанс!
Я вскочила и бросила Рахиль как можно дальше. Я видела, как ветер подхватил ее крошечное тельце и понес в поле. Потрясенная тем, что натворила, я села и разрыдалась. Каролина обняла меня и прижала к себе, до боли впившись ногтями мне в кожу.
– Они обязательно выживут, Лена. Они не умрут! Ты слышишь меня?
Я кивнула.
– Когда закончится война и нас освободят, мы вернемся и найдем их. Поняла?
Я кивнула. Я поверить не могла в то, что мы только что сделали. Наши красавицы малышки…
– Если у меня не получится, Лена, обещай, что ты вернешься и найдешь детей.
Я сглотнула стоявший в горле ком.
– Пообещай мне! – крикнула Каролина и встряхнула меня за плечи.
– Я обещаю. Господи, помоги мне! Я обещаю!
– Мы все им расскажем, Лена. Мы расскажем малышкам о нас, о том, как сильно мы их любили. Мы бы никогда их не оставили, если бы не надеялись сохранить таким образом им жизнь. Пообещай мне!
– Обещаю.
Каролина откинулась на спинку сиденья и не произнесла ни слова до тех пор, пока поезд не прибыл в концентрационный лагерь Гросс-Розен. Мюриэль, потрясенная случившимся, сидела не шелохнувшись и не сводя с нас глаз. Да и что тут скажешь?
Кэтрин отложила ручку. Встала, глубоко вдохнула, покачнулась и ухватилась за стол, чтобы не упасть.
– Простите, – всполошилась Лена, – с вами все в порядке?
Кэтрин покачала головой:
– Нет, честно говоря, не все. Сейчас – не все в порядке. – Она обняла Лену, и обе заплакали. – Я не знаю, что сказать.
– Я понимаю. Сама не представляю, откуда у нас взялись силы. Вы же знаете, в лагере они погибли бы. Я каждый день думаю об этом и не могу поверить! Каролина нашла в себе силы и решимость – это действительно был единственный способ спасти их. Но улыбка Рахиль, та улыбка, которую она подарила мне перед тем, как покинуть нас, навсегда осталась в моей памяти… Может быть, на сегодня хватит?
– Да. Думаю, что больше сегодня я не выдержу.
– Мне очень жаль. Вы все еще хотите быть моим адвокатом?
– Лена, для меня честь быть вашим адвокатом!
Глава тридцать пятая
Лиам вошел в прихожую, увидел на крючке куртку жены и посмотрел на часы. Половина четвертого. Он заглянул в гостиную, где Кэтрин лежала на диване.
– С тобой все в порядке? Я думал, ты весь день будешь работать. Нам не пора в больницу?
– Может, перестанешь паниковать всякий раз, когда у меня заболит голова или побежит из носа? Просто выдался тяжелый день.
– Лена?
Она кивнула:
– Ты даже не представляешь…
– Ты дослушала историю до конца?
– Узнала достаточно.
– Но ты ее остановила?
– Пришлось. И совсем не потому, что я беременна, хотя, уверена, это тоже сказалось. Лиам, они выбросили их через окно! Близнецов. Лена и Каролина выбросили их из идущего, черт побери, поезда. Они вышвырнули младенцев в окно!
Лиам тяжело опустился на диван.
– Господи! Какой ужас! Мне так искренне их всех жаль.
Он обнял плачущую Кэтрин.
– Лиам, они думали, что спасают малышкам жизнь. Они знали, что нацисты убьют детей, как только поезд прибудет в лагерь. Девочки умрут по прибытии. И они сделали единственное, что пришло им в голову. У кого бы еще хватило на это мужества? Только не у меня.
– И не у меня. Я не смог бы выбросить ребенка из поезда. Беззащитного малыша… Я бы с ума сошел!
– У меня такое подозрение, что или одна из них, или обе точно сошли с ума.
– И что это дает нашему расследованию? Мы намерены искать тех, кто умер еще во младенчестве семьдесят лет назад?
– По-видимому, Лена думает, что они выжили. Как бы там ни было, она хочет положить сомнениям конец. Неужели мы не можем этого для нее сделать? Она несет ответственность за судьбу одной из этих малышек. Она выбросила Рахиль в поле. Она любила этого ребенка. Черт, Лиам, по ее рассказу кажется, что это были и ее дети. Она даже называет их наши малышки.
– Я начинаю думать, что Артур, может быть, и прав. Возможно, Лена себя уговорила, заставила думать, что у малышек был шанс выжить, и эта вера снедает ее. Это можно назвать маниакальным поведением? Это иррационально? Черт, Кэт, не знаю…
– Брось, Лиам. Она не бредит. Она героиня. Каждое слово в ее истории пронизано правдой. Комар носа не подточит. Возможно ли, что после стольких лет она приукрашивает историю? Путает даты? Время? Не помнит, как разворачивались определенные события? Такое могло быть, но не в этом случае. Она помнит каждую подробность, и одно событие у нее четко следует за другим. Странно? Да. Но мы же говорим о холокосте. Что может быть более неправдоподобно, чем это?
– Более неправдоподобно? Что два разумных человека решили, будто можно выбросить из окна идущего поезда двух младенцев и рассчитывать при этом, что они выживут?
– Они сделали это, чтобы спасти близнецам жизнь. Это был единственный шанс, их бы убили через несколько часов. И все это отлично понимали. Мать прикрепила бумажку с адресом к пеленкам малышек и выбросила их в поле из медленно двигающегося поезда. У них был шанс выжить. Маленький, но шанс. Если бы их привезли в концентрационный лагерь, у них бы не было и его.
– Именно так Каролина поступила со своей собакой Мадлен. Позволила оставить ее в поле.
Кэтрин кивнула:
– Лучше так, чем отдать нацистам, чтобы ее убили. Ты прав. Лена рассказывала, что Каролина сидела словно в ступоре и бормотала «Мадлен» до того, как выбросить малышек. Ты все правильно понимаешь.
– Не знаю, понимаю ли я. Она не просто оставила их, она выбросила их через окно.
– Ты прекратишь это повторять?
– Нет, послушай меня. Каролина выбрасывает своих детей в окно поезда в 1943 году где-то посреди полей Польши. Какова бы ни была причина, Лена чувствует, что обязана найти их, но ждет целых семьдесят лет, прежде чем нанимает меня. Я все правильно излагаю?
– Нет. Лена сама выбросила одну из девочек. Она чувствует за собой вину. И она пообещала Каролине, что вернется, найдет близнецов и расскажет, как их любили и что их никто не бросал. Она поклялась.
– Где проезжал поезд, когда они выбрасывали детей?
Кэтрин покачала головой:
– Она не знает. Где-то между Хшанувом и Гросс-Розен, который теперь называется Рогозница, в Польше. Это километров триста пятьдесят.
Лиам воздел руки вверх:
– Километров триста пятьдесят! Но почему именно сейчас? Ведь Лена выжила. Она могла бы поискать их после окончания войны. И в любое время после. И что случилось с Каролиной?
– Я пока не знаю, что произошло с Каролиной, но думаю, что она этого не пережила. А что касается того, что Лена хочет разыскать их сейчас – это вопрос вопросов! Тому есть причина, Лиам. Это та нераскрытая тайна, о которой я постоянно твержу.
Лиам покачал головой:
– Без доказательств, что ее история – правда, ты чертовски долго будешь судиться с Артуром. Возможно, никакой манией она не страдает, но с уверенностью могу сказать, что у Лены все признаки навязчивой идеи. Разве врач не говорил тебе, что если идея заполняет всю жизнь человека, то это может быть симптомом психического расстройства?
Кэтрин кивнула:
– Говорил.
– И как ты намерена держаться завтра перед судьей Петерсоном? – поинтересовался Лиам.
– Стоять на своем. Он не имеет права заставлять раскрывать то, что сказал клиент адвокату.
– Лена не хочет отказываться от своего права?
– Я даже не стала ее просить. Она говорит правду, Лиам. Я точно это знаю.
Лиам закрыл глаза и покачал головой:
– Понятия не имею, как она хочет, чтобы я нашел этих детей. Даже если ее история чистая правда. Без доказательств это дело не выиграть. Оно может закончиться плачевно для Лены. И что еще хуже – тебя посадят в тюрьму.
– Я знаю, ты расстроен. Но не сдавайся. Пожалуйста! Посмотри, не сможешь ли раскопать что-нибудь о женщине по имени Мюриэль Бернштейн. Она училась в Кракове на медсестру в 1939 году и тоже ехала в Гросс-Розен. Она была вместе с подругами. А еще поищи семью по фамилии Шульц в Регенсбурге, Германия. Возможно, девочки оказались там. Это фамилия семьи Зигфрида. Любой из этих людей мог бы подтвердить историю Лены.
– Зигфрид? Как в опере? В Германии живет миллион Зигфридов! А Шульц?! Ты не могла назвать более распространенную фамилию? Это как выслеживать человека с фамилией Смит в Америке. Не говоря уже о том, что Бернштейн тоже довольно популярная фамилия.
– Слишком сложная задача для великого Таггарта?
– Я этого не говорил.
Глава тридцать шестая
Кэтрин крутилась и вертелась всю ночь и встала еще до рассвета. Лиам как раз варил кофе, когда она вошла в кухню.
– Прости, что разбудила, – извинилась она. – Никак не могла заснуть.
– Я заметил. Что это у тебя?
– Сумка, а в ней зубная щетка, туалетные принадлежности, лекарства.
– Ты шутишь? Кэт, я не могу этого допустить! Ты беременна, к тому же в группе риска. Ты же не собираешься провести ночь в камере тюрьмы графства Кук?!
– Во-первых, риск не так уж и высок. Во-вторых, не ты принимаешь решения. Я встречаюсь с Уолтером в половине восьмого. Он все еще верит, что Петерсон отступит. Уолтер не может припомнить, когда в последний раз адвоката отправляли за решетку за отказ обнародовать сказанное клиентом. Как бы там ни было, он уверен, что апелляционный суд не поддержит это решение.
– Апелляция может занять недели, даже месяцы.
– Лиам, для чего мы вообще это обсуждаем? Ничего нового ты мне не скажешь. Я понимаю, что ты беспокоишься, и прости, что заставляю тебя нервничать. Но я искренне верю в то, что делаю, и мне очень нужна твоя поддержка. – Она обняла его за шею. – Это, возможно, самое важное, что я сделаю в жизни. Такие, как Лена… Да во мне храбрости меньше, чем у них в мизинчике! Я отстаиваю свои убеждения. Я выполняю свою работу. И если, чтобы защитить Лену, я должна противостоять судье Петерсону – что ж, так тому и быть. Я не дам Артуру повода отобрать у матери независимость и поместить ее в дом престарелых. Ее нельзя снова лишить свободы.
* * *
В зале судебных заседаний, где председательствовал судья Петерсон, негде было яблоку упасть. Утром Кэтрин долго стояла перед шкафом, решая, что же надеть на слушание. В чем люди садятся в тюрьму? Наконец она выбрала синий костюм, белую блузку и красно-бело-голубой шелковый шарф. Очень по-американски. Никаких украшений.
С самого утра они встретились с Уолтером. Кэтрин запретила ему ссылаться на беременность. Она не хотела, чтобы ее жалели. Она жаждала справедливости.
– Сегодня утром нам следует вести себя безупречно, – заявил Уолтер. – Если мы намерены обращаться в апелляционный суд, необходимо все внести в протокол.
– Ты думаешь, он действительно отправит меня за решетку?
– Не сомневайся, отправит. Ширли ловко загнал Петерсона в угол. Он не будет колебаться ни секунды, пока ты не согласишься исполнить его приказ.
– Этого не случится. Идем.
Кэтрин с Уолтером заняли свои места за столом адвокатов. Напротив – Вудвард с Ширли. На лице Артура играла самодовольная улыбка, как будто говорившая: «Сейчас вы получите по заслугам». Он попытался встретиться с Кэтрин взглядом, но она не доставила ему такого удовольствия. Лиам сидел в первом ряду, жалея, что не смог разрешить этот спор, всыпав Артуру по первое число.
Дверь в углу открылась, толпа зашикала, и вошел судья Петерсон в сопровождении свиты – утка с утятами.
– Встать! Суд идет!
Кэтрин поднялась и уверенно выпрямила спину. Артур чуть развернулся, пытаясь поймать ее взгляд. Его лицо не покидала самодовольная улыбка.
– Слушается дело № 13 Р 6268 «Иск об опеке над Леной Вудвард», согласно решению суда слушание продолжается, – объявил секретарь.
Уолтер, Кэтрин, Ширли и Артур подошли к столу судьи. Председательствующий Петерсон жестом разрешил переполненному залу садиться и негромко произнес:
– Для протокола: данное дело слушается мною в третий раз. Миссис Локхарт в третий раз предлагается выполнить требование суда, которое она намеренно игнорирует. Поскольку здесь ее представляет адвокат, я обращаюсь к мистеру Дженкинсу. Миссис Локхарт понимает суть моего требования?
– Да, Ваша честь.
– У нее есть какие-либо вопросы, касающиеся требования, предъявляемого судом?
– Нет, Ваша честь.
Судья снял очки и наклонился вперед:
– Я не стремлюсь намеренно кого-то наказать, особенно такого известного адвоката, как миссис Локхарт, но у меня есть долг, ответственность как судьи по гражданским делам об опеке – защищать пожилых членов нашего общества, которые предстают перед этим судом. Миссис Локхарт это понимает?
– Она понимает, что вы считаете своим долгом.
– Следовательно, я поступаю совершенно непредвзято. Истец, Артур Вудвард, заявил под присягой, что его мать, Лена Вудвард, является нетрудоспособной по причине старческой деменции. Особо он указал, что ее психическое состояние ухудшилось настолько, что в настоящее время она страдает от маниакального расстройства психики и пытается разыскать людей, которых не существует и никогда не существовало. – Он повернулся к Ширли. – Суть иска изложена верно, мистер Ширли?
Артур закивал, встал перед адвокатом и вмешался в разговор:
– Все верно, Ваша честь. У нее появилась безумная идея, что некая женщина по имени Каролина родила во время войны двух девочек. А теперь мама должна их найти. Смешно! А адвокат Локхарт всячески ей потакает, пытаясь нагреть руки на деньгах моей матери.
Судья Петерсон ударил молотком:
– Я не к вам обращаюсь, сэр. Я обратился к вашему адвокату. Когда я захочу услышать ваше мнение, дам вам слово. А сейчас ступайте на место и сохраняйте молчание.
Артур вытянул шею, чтобы взглянуть на Кэтрин, широко улыбнулся и направился на свое место.
Ширли ответил на вопрос судьи:
– Ваша честь, вы совершенно точно изложили суть претензий истца. Мы обеспокоены двусмысленным положением, в которое миссис Локхарт себя поставила.
Судья кивнул:
– Я тоже обеспокоен. Мистер Дженкинс, миссис Локхарт заявила на открытом слушании, что она представляет вышеозначенную недееспособную особу по делу, не имеющему отношения к делу – и никоим образом с ним не связанному! – об опеке. Возможно, все происходит согласно букве закона. Но истец утверждает обратное. И мой долг как судьи провести расследование. По моему мнению, решившись представлять интересы миссис Вудвард в деле об опеке и заявив в открытом слушании, что она представляет миссис Вудвард в еще одном деле, миссис Локхарт оказалась в сложной ситуации. Если во втором деле в отношениях «клиент – адвокат» нет ничего противозаконного, пусть она расскажет мне, в чем суть, и положим конец этому слушанию.
Уолтер повернулся к Кэтрин, та покачала головой.
– Ваша честь, – ответил Уолтер, – разглашение информации, как вы того добиваетесь, потребует раскрыть секреты, которые доверила ей миссис Вудвард, правомерно руководствуясь тайной отношений «клиент – адвокат». Широко известно, что доверительные отношения между адвокатом и клиентом предполагают следующее: информация не будет передана третьим лицам, разве что суд или противоположная сторона попытаются заполучить ее легальным путем. Миссис Локхарт намерена твердо отстаивать свое мнение и абсолютно уверена, что апелляционный суд ее поддержит.
– Что ж, ей представится шанс это узнать. Миссис Локхарт, я спрашиваю в последний раз: вы намерены исполнить решение суда и посвятить меня в суть второго дела, в котором вы представляете интересы миссис Вудвард?
– Нет, Ваша честь.
– В таком случае вы не оставляете мне выбора. Руководствуясь ответственностью за миссис Вудвард, предполагаемо недееспособную, настоящим я подтверждаю прямое неповиновение суду и оставляю вас под стражей шерифа графства Кук, который отконвоирует вас в тюрьму графства Кук, где вы и будете пребывать день за днем, неделя за неделей, пока не будете готовы…
– Вы этого не сделаете! – закричал кто-то из глубины зала.
Высокая женщина с гневным взглядом и решительным выражением лица распахнула вращающиеся ворота и, опираясь на палку, уверенно зашагала к месту ответчика.
– Лена! – воскликнула Кэтрин.
– Кто эта женщина? – потребовал внести ясность судья Петерсон.
– Мама, что ты здесь делаешь? – удивился Артур, вскакивая с места.
Лена повернулась и ткнула пальцем в сына:
– Артур, сядь и заткнись.
Он послушно сел.
– По всей видимости, это и есть ответчица, Ваша честь, Лена Вудвард, – вмешался Ширли.
– Совершенно верно. Я Лена Шейнман-Вудвард, и обвинения моего безответственного сына – полная чушь!
Судья удивленно приподнял брови:
– Все, кто предстает перед судом, чтобы дать показания, должны поклясться говорить правду.
– Она не будет давать показания, – заявила Кэтрин. – Лена, вы не должны ничего говорить.
– Я не допущу, чтобы вас бросили в тюрьму. Это мой выбор, не ваш. Я отвечу на все вопросы, которые хочет задать суд. Мне скрывать нечего.
Судья Петерсон посмотрел на Кэтрин:
– По всей видимости, она вас переиграла.
Миссис Вудвард подняла руку и поклялась говорить правду и только правду.
– Кэтрин Локхарт ваш адвокат в деле об опеке?
– Да.
– Она также представляет ваши интересы в другом деле?
Лена помолчала. Потом покачала головой:
– Думаю, это технический вопрос. Я не заключала никаких договоров. Формально ее не нанимала. Не заплатила ей ни копейки. Но я считаю ее своим адвокатом. Я просидела несколько дней у Кэтрин Локхарт в кабинете и надоела ей своей болтовней. Она очень внимательный слушатель.
Судья скривился:
– Вы ей ничего не платили? А вообще об оплате договаривались?
Лена покачала головой:
– Нет, мы никогда не обсуждали гонорар, но даже если бы и обсуждали, вам не кажется, что это мое личное дело, а не моего сына? Я отняла у адвоката ее драгоценное время. С какой стати мне ожидать, что она будет работать бесплатно?
– Вы можете сказать, о чем были эти беседы? Не вдаваясь в подробности, вы можете сообщить в общих чертах, что являлось предметом ваших обсуждений? Но прежде чем вы начнете отвечать, я дам вам время посоветоваться с миссис Локхарт и мистером Дженкинсом.
– Мне не нужно время.
– Вы не обязаны отвечать на вопросы! – вмешалась Кэтрин. – И я советую вам этого не делать. Судья может задавать уточняющие вопросы. И, сказав «а», вы уже не сможете его остановить.
– Я это понимаю. Все нормально. Я горда тем, что делаю. – Лена посмотрела на судью. – В 1943 году из поезда, который направлялся в концентрационный лагерь Гросс-Розен, исчезли две маленькие девочки. Это было сделано намеренно. Я беру на себя ответственность за решение оставить их в попытке спасти от неминуемой смерти от рук нацистов. Тогда я торжественно пообещала вернуться и попытаться их найти. Может быть, их нет в живых, Ваша честь. Я это понимаю. Но они существовали, я держала этих малышек на руках. По прошествии времени у меня наконец-то хватило решимости выполнить это обещание. Но одной с этим не справиться, и я попросила Кэтрин Локхарт и ее мужа мне помочь. Неужели я поступила противозаконно?
Судья Петерсон благодарно вздохнул.
– Нет, мадам, ничего противозаконного. – Он откинулся назад. – Поскольку основное требование к миссис Локхарт было удовлетворено и я также удовлетворен тем, что финансовому состоянию миссис Вудвард ничего не угрожает, и, что самое важное, руководствуясь собственными наблюдениями за свидетелем сегодня утром, я объявляю слушание по делу о неуважении к суду закрытым. Миссис Локхарт, все решения о неуважении к суду будут вычеркнуты из протокола. Вы свободны.
– Одну минуточку! – вмешался Ширли. – У меня есть вопросы. Я хочу воспользоваться своим правом перекрестного допроса.
– Ходатайство отклонено.
– Но, Ваша честь, сегодня вы закрыли только дело о неуважении к суду. Но основное дело еще не решено. Мой клиент, Артур Вудвард, настаиваете на том, что его мать страдает от психического расстройства, что выражается в попытках найти неких детей. Мы хорошо подготовились и абсолютно уверены, что нет доказательств их существования и рождения вообще. То, что эта женщина является в суд, устраивает здесь представление и уверяет, что они были, не означает, что все сказанное правда. Иск мистера Вудварда ожидает решения по делу, и мы настаиваем на том, чтобы назначить слушание на двадцать пятое апреля.
Лена обернулась и строго посмотрела на Артура, который тут же опустил голову.
– Это так, мистер Вудвард? – уточнил судья Петерсон. – Вы настаиваете на том, чтобы продолжать слушание по делу о признании вашей матери недееспособной?
Артур кивнул:
– Да.
– Настаивает, определенно настаивает, – добавил Ширли.
– Отлично. Слушание по иску мистера Вудварда о признании миссис Вудвард недееспособной продолжится двадцать пятого апреля. Тогда же суд рассмотрит все доказательства по делу. Слушание откладывается.
Лена, Лиам и Кэтрин стояли вместе в оживленном коридоре.
– Это ты попросил Лену прийти? – спросила Кэтрин у Лиама.
– Тогда я разглашу тайну, разве нет?
– Я сделала это по собственному желанию, – сказала Лена. – Я сама позвонила Лиаму. Я не могла допустить, что за вашу преданность вас же и накажут. Простите, если вмешалась в ваши дела.
Ширли с Артуром вышли из зала суда, и Артур смущенно взглянул на Лену.
– Прости, мама, мне очень жаль, но я был вынужден поступить так, как поступил.
– Нисколько тебе не жаль. Нисколечко. Артур, мне стыдно за тебя! Твой иск продиктован только корыстью.
– Ты ошибаешься. Я поступаю так ради твоего же блага. Чтобы защитить тебя! Я просто не могу смотреть, как ты выбрасываешь папины деньги на какие-то абсурдные поиски двух польских девочек. Если эти дети вообще существовали. Вероятно, в глубине души ты веришь, что они – те дочери, которых ты всегда хотела иметь. Возможно такое, да? Наверное, тебе просто мало одного сына. Куда лучше искать воображаемых дочерей.
Со слезами на глазах Лена шагнула вперед и ударила Артура по лицу.
– Ты видел это? Видел? – воскликнул Артур, обращаясь к Ширли. – Разве я не говорил, что она не в себе?
Адвокат потянул его к лифту.
– Артур, идем, не устраивай сцен. Придет и твой день, это будет двадцать пятого апреля.
– Черт побери, обязательно придет!
Лена покачала головой и промокнула глаза платочком.
– Раньше он таким не был. До смерти мужа. Он никогда не простит мне того, что я продала бизнес. Он хотел сам им руководить. Правду сказать, я думала, что он не способен управлять делом отца, но на самом деле не это стало решающим: бизнес просто необходимо было продать, чтобы выплатить налоги на недвижимость. Такова была воля моего покойного мужа.
Глава тридцать седьмая
– Мы с Каролиной и Мюриэль приехали в концлагерь Гросс-Розен в состоянии полнейшего шока, – сказала Лена, начиная очередную беседу в кабинете Кэтрин. – Главный вход ничем не отличался от входа в Освенцим – огромный кирпичный фасад. В лагерь вели высокие арочные ворота, по обе стороны от которых, подобно крыльям, располагались два одноэтажных здания. «Arbeit macht frie» было написано над воротами. «Труд делает свободным» – самая жестокая шутка истории.
Мы вышли из вагона, и нас разделили на две колонны: отдельно женщины, отдельно мужчины. Я старалась держаться поближе к Каролине. Она все еще была в ступоре. Честно признаться, я чувствовала себя не лучше. Мы цеплялись друг за друга, потрясенные тем, что наделали, и гадали, как же сможем жить дальше. Всех женщин завели в какое-то помещение и приказали раздеться. Нас продезинфицировали: сказали, что у «грязных» евреев часто бывают вши и всякие болезни. Потом дали каждой крошечный кусочек мыла.
Мы вымылись в душе, после чего нас отвели в огромную пустую комнату. Полотенец не дали. Двери заперли, и несколько часов нас продержали там. Около сотни обнаженных женщин. Время от времени заглядывал охранник или двое. Иногда охранниками были женщины, иногда – мужчины, которые окидывали нас взглядом с головы до ног, тыкали пальцем и отпускали ехидные шуточки. Нам приказывали встать, потом пересчитывали. Называли наши фамилии – у них был список. Дважды нас обыскивали, заглядывали всюду, а то просто пристально рассматривали, обсуждая тех, кто выглядел покрепче и поздоровее. Спрашивали, чем мы занимались до того, как попали сюда. – Лена покачала головой. – На душе кошки скребли. Все, что я помню: в помещении было холодно и мы были голыми.
В конце концов вошли охранники и разделили нас. Половине выдали униформу и вывели из комнаты. Мы с Каролиной оказались среди тех, кто остался. Нам тоже выдали униформу и повели назад к железнодорожным путям. Нам сказали, что нашу группу перевозят в другой лагерь. К счастью, это был трудовой лагерь, а не концентрационный.
– Что-то я не очень понимаю, – сказала Кэтрин.
– В концентрационных лагерях тяжело работали. В каменоломнях, в шахтах. Возводили бомбоубежища, разбирали завалы, строили метро – многие работы производились под землей, как, например, производство шин и оружия. Заключенные, которые оказывались в концентрационных лагерях, жили недолго. Из-за недоедания и тяжелого труда они теряли мышечную массу, их иммунитет ослаблялся. Многие не выживали и полугода. В лагерях даже использовали термин Müselmanner[37], чтобы обозначить тех, кто потерял больше трети массы тела. На этом этапе тело начинало пожирать себя и психика давала сбой. Люди становились похожими на зомби, апатичными, и смерть была только делом времени.
Нашу группу повели назад к поезду. Мюриэль уже не было с нами. Наверное, потому, что она призналась, что медсестра, ее куда-то отослали. Моя группа направлялась на текстильную фабрику.
– Значит, вы в Гросс-Розене не остались?
– Гросс-Розен был огромным конгломератом, концентрационным лагерем с более чем сотней лагерей поменьше, разбросанных по всей Польше, Германии и Чехословакии. Гросс-Розен, бывало, насчитывал более ста тысяч узников. Кого-то посылали на подсобные работы в компанию «Бляупункт», кого-то – на фабрику ИГ Фарбен, кого-то – на «Мерседес-Бенц», другие работали на остальные немецкие корпорации, такие как «Бош», «Байер» и «Ауди». Наш поезд отправился на юг, в Паршнице, в лагерь на границе с Чехословакией.
Мы сели в тот же поезд, и нас повезли в основной лагерь. Когда Каролина увидела состав, ее начало трясти, а уже в вагоне она глубоко вздохнула и вдруг закричала:
– А-а-а!
Подбежали охранники, велели заткнуться, но она продолжала стонать. Один из них ударил Каролину прикладом. Щека тут же побагровела.
– Не надо, пожалуйста! – закричала я. – Я о ней позабочусь. С ней все будет в порядке. Пожалуйста, не бейте ее!
Я обняла подругу и зажала ей рот. Потом усадила на место и принялась уверять, что все будет хорошо. Говорила, что она должна оставаться сильной, что мы обязаны выжить, вернуться и найти девочек… Но я видела, что Каролина меня не слышит.
Поезд покинул Гросс-Розен и медленно пошел в сторону Паршниц Траутенавского района Судетской области. Каролина оставалась безучастной, в ней как будто что-то надломилось. Время от времени она шептала имена наших малышек, стонала, плакала, говорила, что жалеет о сделанном. Я изо всех сил пыталась ее успокоить.
Когда поезд прибыл в Паршнице, нас отвели в большие бараки с деревянными нарами и выдали новую униформу: спецовки до середины икры с короткими рукавами, с тремя или четырьмя пуговицами. Спецовки были сшиты из колючего материала – часть хлопка, часть льна. Еще каждой женщине выдали платок или шапку. Вскоре я узнала, что эту униформу шьют здесь же, в швейном цеху. Обувь нам разрешили оставить свою. У каждой был свой ящичек, где мы держали чашки, тарелки и недельный запас хлеба.
Я отвела Каролину на нары и всю ночь утешала и успокаивала ее. На следующее утро мы отправились на текстильную фабрику. Сотни женщин работали на ткацких машинах. Некоторые разгружали тюки с хлопком, другие работали на прядильном оборудовании, на машинах, которые тянули нити и сучили пряжу. Каролину усадили за огромную хлопкопрядильную машину. Она только смотрела перед собой и не шевелилась.
– За работу! Что с тобой? – закричала надсмотрщица, но Каролина не ответила. – Ты говорить умеешь? – орала надсмотрщица ей в лицо.
Я подбежала и объяснила, что Каролина была лучшей швеей в Хшануве, что она только что потеряла детей, но она справится, я за этим прослежу, и предложила присмотреть за ней, если ее пересадят за швейную машинку. Охранница оттолкнула меня и ткнула в Каролину дубинкой. Та не шелохнулась. Тогда надсмотрщица замахнулась и ударила ее по ребрам. Каролина свалилась на пол. Я загородила подругу собой и прикрыла ее голову руками.
– Пожалуйста, не надо! Скажи им, Каролина, скажи, что ты будешь работать!
Но Каролина застыла с отсутствующим взглядом.
– Я позабочусь о ней! – кричала я. – Пожалуйста!
Надсмотрщица с отвращением посмотрела на нас, лежащих на полу, покачала головой и ответила:
– Отведи ее к швейной машине. Но предупреждаю: если она не начнет работать, мое терпение закончится.
Я помогла подруге встать, отвела ее за швейную машинку рядом со своим рабочим местом и усадила.
– Пожалуйста, Каролина… Почему ты не хочешь работать? Тебя убьют, если не начнешь шить.
По щекам ее струились слезы.
– А мне плевать! Я больше не хочу жить, Лена. Я не вынесу!
– Нет, вынесешь! Конечно, вынесешь. Ты должна выжить. Если не ради себя, то ради малышек. Мы обязательно найдем наших крошек. Вместе. Ты и я. Пожалуйста, Каролина.
Она начала работать, но двигалась слишком медленно. Я понимала, что она ничего не сошьет, поэтому старалась за двоих и подложила готовые изделия ей на стол. К концу дня подошла надсмотрщица.
– Так не годится. Слишком мало. Завтра вы обе должны работать лучше.
Мы медленно возвращались в барак. Я видела, что Каролина морщится от боли в ребрах. На ужин дали суп, треть буханки хлеба и немного масла. Хлеба должно было хватить на три дня. Каролина ничего не ела.
Я попыталась ее уговорить:
– Ешь, Каролина.
Она лишь покачала головой:
– Съешь мою порцию.
Я умоляла, но тщетно. Каролина смотрела на меня потухшими глазами и наконец сказала:
– Я не могу! Не могу делать вид, что ничего не произошло, и шить форму для нацистов. Мне так не хватает наших малышек! Я хочу вернуть дочек! Мне нужно их обнять. Они нуждаются в нас, Лена, а мне нужны они. Я должна вернуться к ним!
– Мы обязательно вернемся, – ответила я. – Как только нас освободят, мы обязательно вернемся и найдем их. Где бы они ни находились.
Каролина не спала всю ночь. Каждый раз, взглянув на подругу, я видела, что она широко распахнутыми глазами таращится в пустоту, шевелит губами, и догадывалась, что Каролина что-то замышляет. У нее это было написано на лице.
На рассвете нас разбудили, приказали построиться и выйти во двор на перекличку. Когда перекличка закончилась, нас группами по пять человек повели через двор на фабрику. Неожиданно Каролина выбежала из строя и бросилась к воротам.
– Halt! [38] Halt!
Каролина мчалась что есть духу. Я бросилась за ней. Я была сильнее, бегала быстрее, я могла бы ее догнать.
– Каролина, остановись! Пожалуйста!
– Стоять!
– Nicht schießen![39] – кричала я по-немецки, размахивая руками. – Nicht schießen! Я ее остановлю. Не стреляйте!
Раздалась очередь выстрелов, и Каролина повалилась на землю. Я подбежала, обняла ее. Она едва дышала.
– Каролина, милая, зачем? Зачем?! Мы могли бы выжить. – Я крепко прижимала подругу к себе. – Черт, Каролина! Я так тебя люблю. Мы могли бы справиться!
Она закашлялась и едва заметно покачала головой.
– Я не борец, Лена. У меня никогда не было твоего мужества, – прошептала она. – Ты всегда была моей героиней. Ты выживешь и найдешь наших малышек. Я точно знаю, что найдешь. Передай им, что я их люблю. Найди их, Лена. Я люблю тебя.
Это были ее последние слова. Я закрыла Каролине глаза.
Лена прижала ладони к щекам.
– Она знала, что ее убьют, но очень хотела вырваться. Побежать к нашим малышкам. Жизнь стала для нее невыносимой. Я видела это, знала… И не смогла спасти ее от отчаяния!
– Мне очень жаль, – сказала Кэтрин.
– Меня тогда пинками отогнали от Каролины, вернули в строй и повели на фабрику. – Лена закрыла лицо руками и зарыдала. – Так я потеряла лучшую подругу.
Несколько секунд в кабинете висела тишина, потом Лена предложила:
– Мы могли бы прогуляться. Вы не против?
– Разумеется.
Кэтрин надела пальто, и женщины неспешно пошли по Вебстер-стрит к консерватории в Линкольн-парке. Стоял теплый весенний день. Они нашли скамейку у «спящего» цветочного сада перед зданием консерватории. Садовник готовил клумбу, чтобы посадить цветы. Через несколько недель сад будет пламенеть.
– Все эти годы я ни единому человеку не рассказывала, что произошло на самом деле. Даже мужу. Никто не знает подробностей. Как только закончилась война, я перевернула эту страницу. Закрыла, так сказать, дверь и заперла ее на замок. Но теперь, как бы это ни было больно, я должна ее открыть. И я благодарна судьбе, что нашла вас – ту, которая открывает эту дверь со мной.
– Спасибо, для меня это честь.
Глава тридцать восьмая
В ясный и, в общем-то, спокойный весенний день на берегу озера Мичиган дул прохладный ветерок, и Лена обмотала шею шарфом.
– После смерти Каролины у меня возникло ощущение, что больше ничего не осталось. Что еще могло произойти? Был ли вообще смысл жить дальше? Тем не менее я каждое утро вставала и шла дальше вместе с другими женщинами – рабынями на текстильной фабрике. Откуда-то я черпала внутренние силы, чтобы выжить.
Жизнь в Паршнице была трудной во всех смыслах. По утрам и вечерам суп. Хлеб дважды в неделю. Можно было съесть всю порцию сразу, можно растянуть на неделю – для голодного человека решение было очень непростым. На ночь нас загоняли в бараки, битком набитые людьми.
Несколько месяцев я страдала глубочайшей депрессией. Я потеряла всех: семью, Каролину, Мюриэль, малышек… Каждое утро я просыпалась, каждый вечер ложилась спать – дни тянулись тягостной чередой. Единственное разнообразие – в одежде, которую мы должны были шить. Иногда мы шили одежду для концлагерей, временами – форму для солдат вермахта, а бывало, что и гражданские рубашки, платья, юбки.
Лагерь был обнесен забором с колючей проволокой, через определенные промежутки стояли сторожевые вышки, но на Освенцим это совсем не было похоже. Мы могли свободно перемещаться по лагерю, даже гулять вдоль забора. Время от времени по дороге проходили местные жители, чехи. Иногда даже проезжали на велосипедах дети. Они останавливались и разговаривали с нами. Местные оказались очень добрыми людьми. Бывало, они приносили немного фруктов, головку сыра и бросали нам через забор.
У некоторых из нас оставалось немного денег. Я тоже приехала в лагерь с деньгами, которые спрятала в туфли под стельку. Когда надсмотрщики не видели, у детей, которые быстро освоили торговлю на «черном рынке», можно было купить даже кусочек мяса.
Кроме еды, местные делились с нами вестями с фронта. Они знали, что русские отразили нападение Германии. Знали, что немецкая армия потерпела поражение в Северной Африке. Но больше всего воодушевляли новости о том, что союзники бомбят Германию.
Когда кто-то из женщин получал от местных новости о ходе войны, слухи распространялись по лагерю, как рябь по озеру. Весь 1943 год союзники бомбили где-то далеко, поэтому сами мы ничего не слышали, тем не менее нам хватало и этого, чтобы не терять надежды.
У меня еще оставались рейхсмарки. Я уже рассказывала, что когда нацисты оккупировали и аннексировала Хшанув, то запретили нашу валюту, злотый, и потребовали обменять злотые на рейхсмарки. То же самое коснулось и Чехословакии. Крону запретили и заменили ее рейхсмарками. Поэтому у меня в туфлях была официальная валюта. Я быстро научилась торговаться на «черном рынке». Моим главным поставщиком стал Душан – долговязый шестнадцатилетний подросток на синем велосипеде.
Пока у меня оставались рейхсмарки, я могла хоть как-то заботиться о себе. Недоедание было опасно. Если твое состояние ухудшается, ты ослабеваешь и становишься восприимчив к болезням. А если ты слаб, снижается твоя производительность. А когда производительность снижается, тебя высылают в лагерь смерти. Душан приносил яйца. Маленькое, но богатое белком яйцо помогало сохранить здоровье.
На фабрике многие девушки пришили потайные карманы к своим спецовкам, и я тоже сделала это. Душан просовывал яйца через забор, а я прятала их в карманах.
А еще Душан был таким себе Эдвардом Мэроу[40] из Паршнице. Его семья, видимо, имела радио, и он с радостью делился со мной новостями о ходе войны. В июле он до поздней ночи отирался у забора, чтобы рассказать, что союзники бомбили Рим, а король Италии арестовал Муссолини.
– Если этот толстый дуче падет, туда же дорога и мошеннику-австрияку, – усмехнулся Душан.
Тем вечером он подарил мне три яйца. Я очень любила этого мальчишку.
Зима 1943–1944 года выдалась суровой, а морозные дни и ночи стали печальным напоминанием о тех ночах, которые я провела в обнимку с Каролиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что воспоминания о днях, проведенных в нашем подвальчике, где мы были втроем с малышками, стали для меня самыми сладкими и удивительными. Как же мне их не хватало!
У Душана были родственники в Украине, которые постоянно сообщали о продвижении Советской Армии в 1943 году. В апреле 1944 года советские войска дошли уже до Румынии и находились всего в каких-то семистах километрах от нашего лагеря.
Как сваренные вкрутую яйца, которые приносил Душан, питали мой организм, так новости, которыми он делился, питали мою душу.
В конце мая Душан остановился у забора и рассказал, что американская армия марширует по Италии, уже недолго осталось. В тот день мне так хотелось есть, что я попросила принести курятины. Он улыбнулся:
– Хочешь, чтобы я приготовил тебе курочку?
– Да. Сколько с меня?
– Две рейхсмарки.
– У меня столько нет. Деньги почти закончились.
– А сколько есть?
– Десять рейхспфеннигов.
– Десять рейхспфеннигов? Это же гроши. А пятьдесят?
– Честно, Душан. Десять рейхспфеннигов – все, что осталось.
– Ладно. Только для тебя, договорились? Завтра принесу.
На следующий день я стояла у забора, ожидая Душана, и вскоре заметила его велосипед. Он спешился, полез в рюкзак, достал пакет и уже собрался швырнуть его через забор, когда раздался окрик:
– Hör auf![41]
Два эсэсовца выпрыгнули из машины и схватили Душана. Я что духу побежала в барак и спряталась под одеяло. Через пару минут туда явились несколько надзирателей и велели всем построиться. Эсэсовец тут же узнал меня. На меня надели наручники, вывели из лагеря и усадили в кузов грузовика.
Я совершила преступление, поэтому меня привезли в Паршнице, в местную тюрьму и заперли в камере, где я ждала решения своей судьбы.
– Какой ужас! – воскликнула Кэтрин.
– Это вам так кажется. На самом деле условия в тюрьме были на несколько порядков лучше лагерных. В тюрьме был душ и туалет в помещении. В тюрьме кормили дважды в день, часто домашней едой. Марек, надзиратель, коренастый толстяк, с уважением относился к заключенным.
– А что стало с Душаном?
– Не знаю. Больше я никогда его не видела. В тюрьме я встретила удивительных людей. Двух мужчин и женщину, чехов, местная полиция арестовала за непристойное поведение в пьяном виде. Они просидели в тюрьме пару дней, но мы успели познакомиться. Они признались мне, что являются местными партизанами, членами чешского Сопротивления, и рассказали, что двумя неделями ранее, шестого июня, состоялась высадка союзников в Нормандии. Их движение тоже готовилось к началу операции.
– Падение Германии – уже вопрос времени, – уверяли они. – Продержишься еще полгода – вернешься домой.
Новости меня воодушевили. Жизнь в тюрьме оказалась вполне сносной. Казалось, что полгода – ерунда. Когда чехов освободили, они подмигнули мне и сказали:
– Не вешай нос! Крепись. Скоро Германия станет историей.
– Вы знаете что-нибудь относительно чешского Сопротивления? Они достигли успехов? – спросила Кэтрин.
Лена кивнула:
– Похоже, да. Они сражались с армией Германии, оказались серьезным противником и помогли русским продвинуться в Польше. Но если верить тому, что я читала, Советская Армия отказала им в помощи, и много чехов погибло. В критический момент Сталин вывел войска из Чехословакии и перебросил в Венгрию. Без поддержки советских войск Сопротивление было подавлено. Такая линия была характерна для Советского Союза.
Кэтрин кивнула:
– Это напоминает Варшавское восстание 1944 года.
– Вы совершенно правы. Оба восстания фашисты подавили. Восставшим не удалось добиться победы, потому что Советская Армия «умыла руки» и не поддержала Сопротивление. Под Варшавой русские остановились на восточном берегу Вислы и наблюдали, как немцы ровняют город с землей. В каждом из этих случаев отсутствие поддержки со стороны советских войск обрекло восстание на поражение. Это не было случайностью. Оба восстания произошли в конце войны, и Сталин намеренно медлил с помощью, чтобы ослабить польское и чешское Сопротивление, – так после войны Советскому Союзу было проще оккупировать эти страны.
– Пару недель я просидела в камере. Первого июля 1944 года, через несколько дней после того, как моих чешских друзей выпустили из тюрьмы, пришел Марек, надел на меня наручники и вывел на улицу. Мы шли по улицам небольшого городка, и я спросила:
– Почему вы за мной пришли? Куда мы идем?
– Я получил приказ посадить тебя в поезд.
Я решила, что меня отправляют назад в Гросс-Розен. Я была уверена, что на текстильной фабрике нужны швеи, и обрадовалась. Может быть, на этот раз я смогу воссоединиться с Давидом. Я часто о нем думала. Это была отличная возможность!
– А куда идет поезд? – поинтересовалась я.
– В Освенцим.
Я замерла на месте и расплакалась.
Марек посмотрел на меня и покачал головой:
– Почему ты плачешь? Ты же вышла из тюрьмы.
– Почему? Потому что Освенцим – лагерь смерти. Потому что я знаю, что там происходит. Знаю еще с 1942 года.
К чести Марека нужно сказать, что он искренне встревожился. Остановился, наклонился ко мне и заговорил шепотом:
– Не все умирают. Многих отправляют на работу. Ты молодая и сильная. Здоровая. Когда попадешь туда, тебя будут осматривать. Стой прямо, расправь плечи. Не смотри им в глаза, ни о чем не проси. Веди себя как сильная женщина, ведь ты такая и есть. Делай то, что тебе велят. Ты выживешь. – Он помолчал и добавил: – Я слышал, что советские войска уже близко. Может быть, в следующем году. Не лезь на рожон – и ты уцелеешь.
Подул сильный ветер. Лена передернула плечами:
– Что-то становится холодно сидеть на скамейке, Кэтрин. Озеро знает, что еще не лето. Вы не против, если мы вернемся в контору?
– Может быть, пообедаем вместе?
Лена кивнула:
– Я угощаю. Это будет считаться, что я вам заплатила? – Она засмеялась.
– Возможно. Похоже, мои услуги дешевеют.
Глава тридцать девятая
– Когда мы с Мареком прибыли на вокзал Паршнице, черный паровоз с одиннадцатью товарными вагонами кирпичного цвета готовился к отправлению. Первые девять вагонов были уже заперты, и немецкие солдаты как раз загружали десятый, заталкивая туда чехов и около пятидесяти семей, кутающихся в многослойные горские одеяния.
– Это ромы, цыгане, – прошептал Марек. – Из Карпат. – Он покачал головой. – Им пощады не будет. Все умрут. Я уже наблюдал такое. В Освенциме есть отдельный лагерь, куда помещают цыган.
Мы подошли ближе, и меня поразил шум: из первых вагонов доносились стоны и крики. Марек подошел к офицеру СС и протянул приказ на мою отправку в лагерь. Эсэсовец направил меня к группе женщин в дальнем конце платформы. С некоторыми из них я работала на фабрике в Паршнице.
Марек еще несколько минут поговорил с офицером и подошел ко мне.
– Ты поедешь в последнем вагоне с жителями Паршнице. Вас всего сорок человек. – Он указал на первые вагоны. – В тех вагонах венгерские евреи из Будапешта. От трех до четырех тысяч человек. Они в поезде уже много часов, а может, и несколько дней. Их никто не кормил. В поезде жарко и нет вентиляции. Подозреваю, что кое-кто уже умер. А возможно, и многие. Поэтому и слышны крики.
– Несколько дней?
– К сожалению. Но тебе нужно проехать всего восемьдесят километров в вагоне, где будет только сорок человек. И помни: когда приедешь, держись молодцом, покажи себя сильной и здоровой, не нарывайся на неприятности. Выжить! Главное – выжить!
– Так же говорил и полковник Мюллер, – заметила Кэтрин.
Лена приподняла брови и кивнула:
– Приходилось постоянно себе повторять: ты сможешь это преодолеть. Ты сможешь! Это стало моей мантрой. «Ты сможешь!» Цепляйся за жизнь, борись. Если сдашься, станешь очередной цифрой статистики.
Пришло время, и нашу группу загрузили в последний вагон. Пустой товарный вагон без окон. Внутри было только два ведра, которые забрал один из надзирателей. Все сорок человек сели в вагон, и надзиратель вернулся с ведрами. В одном была мутная вода и черпак, второе воняло испражнениями. Вылить-то испражнения вылили, но ведро никто и не думал мыть. Дверь заперли, оставив нас в темном, сыром вагоне.
Поезд дернулся и, покачиваясь, пошел вперед, отчего некоторые из нас упали, а питьевая вода расплескалась и тут же просочилась через трещины в полу. Ведро для нужд тоже перевернулось, но пока оно хоть было пустым. В вагоне дышать было нечем, и я быстро поняла, почему люди в первых вагонах так кричали.
Меньше чем за три часа мы доехали до Освенцима-Биркенау. К счастью, никому не пришлось пить остатки грязной воды или испражняться в ведро. В вагоне было достаточно места, чтобы мы могли сесть на пол. Никто из нас не умер, никто не бился в конвульсиях. По сравнению с пассажирами остальных вагонов поезда нас можно было считать счастливчиками. Мы ехали в темноте, тишине и относительном спокойствии. Но когда приехали в лагерь, спокойствию пришел конец.
Двери вагона распахнулись, и темноту сменил яркий солнечный свет, на время ослепив нас. Действо, которое разворачивалось на платформе, потрясало. На параллельных путях стояли два поезда, из которых одновременно выгружали пассажиров. Тысячи заключенных высаживались из десятков вагонов. Кричали солдаты, лаяли собаки… Люди, которых не держали ноги, потому что пришлось всю дорогу стоять, скорчившись, в вагоне, падали, и их тут же затаптывала толпа. Sonderkommandos[42], заключенные в сине-серой полосатой форме, которые прислуживали СС, размахивая палками и дубинками, строили людей в колонны.
– Raus![43] Raus! – кричали они, вытаскивая из вагонов живых и мертвых.
Десятки вооруженных надсмотрщиков – рядовые эсэсовцы – стояли по периметру с оружием наизготовку.
Женщин толкали в одну сторону, мужчин – в другую. Потерявшиеся дети бегали в поисках родителей. Женщины кричали, потому что их разлучали с сыновьями, мужчины – потому что их разделяли с женами. Я слышала столько имен!
– Зельма, где ты?
– Нина!
– Мориц!
Люди цеплялись за чемоданы и сумки, но зондеркоманда продолжала уверять, что весь багаж рассортируют и позже доставят владельцам.
– Не волнуйтесь о своих вещах, стройтесь в колонну, а позже мы принесем ваши вещи.
– Мужчины налево, женщины направо. По пять человек. Мужчины налево, женщины направо. Шагаем вперед. Прямо. Не останавливаемся.
Это был управляемый хаос. И даже если не обращать внимания на слепящее солнце, на бранящуюся зондеркоманду, на крики, на собак, с ног сбивала вонь. Этот ужасный, тошнотворный запах просто душил. Раньше я ничего подобного не встречала, мне даже сравнить его не с чем. Но воняло явно из четырех дымоходов.
Перед каждой колонной стояли эсэсовцы. Все в форме с иголочки. В начищенных до блеска сапогах, с сияющими бляхами на ремнях. На головах – фуражки. Они производили отбор. Смотрели на человека и указывали, куда идти: ты – сюда, а ты – туда. Ты идешь направо, а ты – налево. Безразличные, невозмутимые, спокойные, они даже шутили между собой. Такое себе времяпрепровождение, пока не окончится смена. Каждого прибывшего осматривали всего пару секунд – так покупатель в лавке зеленщика ищет в корзинке лучший пучок салата. Кивали налево, кивали направо. Без обсуждений. Никаких просьб. Они сортировали людей, как будто разбирали почту, и делали это столь же бесстрастно.
Пока мы продвигались вперед, идущая передо мною женщина – худая, болезненного вида – постоянно щипала себя за щеки. С силой щипала, пытаясь добиться, чтобы на них появился румянец. Когда до нее дошла очередь, женщина улыбнулась и выпятила грудь.
– Links![44] – рявкнул эсэсовец, потом взглянул на меня. – Rechts![45]
Группа справа была значительно меньше, большинство женщин шли налево. Мы пошли на юг, в женские бараки. Тех, кто стоял слева, повели к дымоходам. Почти всех венгров, которых привезли на этом поезде, отправили налево и тут же отвели к строениям, где, как я позже узнала, были газовые камеры.
Кэтрин была сбита с толку.
– Почти всех венгров?
– Венгрия, как известно, была союзницей Германии, но во время войны премьер-министр Венгрии отказался высылать евреев в лагеря. И только весной 1944 года, когда войска Германии оккупировали Венгрию, в Освенцим начали высылать тамошних евреев. На той же неделе, когда приехала я, прибыло восемнадцать составов с венгерскими евреями. Девять из десяти прибывших посылали прямиком на смерть. Их никто не записывал, им даже номера не присваивали. Их заводили в комнаты, где они раздевались, а оттуда шли в газовые камеры. За май-июнь 1944 года в газовых камерах погибло более четырехсот тысяч венгерских евреев.
Что же касается меня… Марек оказался прав: меня отобрали для работы и вместе с остальными женщинами отвели в барак, где каждой выдали карточку с номером. Потом отправили к брадобреям, где нас обстригли, побрили наголо, удалили все волосы с тела. Разумеется, безо всяких кремов для бритья. У всех были порезы от бритвы и царапины. Нас голыми отвели в душ, где обрызгали каким-то дезинфицирующим средством, которое нещадно пекло в местах, где прошлось лезвие бритвы. После нам выдали полосатую форму и платки. На моей, на левом кармане, был нашит желтый треугольник острием вниз, поверх него – красный треугольник острием вверх. Когда их наложили друг на друга, они стали похожи на звезду Давида. Желтый обозначал, что я еврейка, красный – политическая заключенная.
Потом нас повели фотографироваться. Спросили наши имена, адреса, ближайших родственников. Тут я не сдержалась, потому что пришлось отвечать, что у меня никого нет. После этого мы по очереди подходили к столу, где каждой на левой руке иглой и какой-то черной жидкостью набили татуировку. Было больно. С этой минуты я получила инвентарный номер – он значился у меня на предплечье – в немецкой описи. Я уже не была человеком, имевшим собственное имя. В форме с нашивками, с бритой головой и наколотым на предплечье номером я официально перестала считаться человеком.
Лена отвернула левый рукав. Там на внешней стороне предплечья было выбито: А18943. Кэтрин проглотила вставший в горле ком.
– После подобной «регистрации» нас отвели в бараки. Когда я сошла с поезда и взглянула на Освенцим-Биркенау, то заметила бесконечные ряды длинных деревянных бараков. Всюду, куда ни посмотри, бараки, бараки, бараки. Сборные бараки доставлялись из Германии – одинаковые, напоминающие конюшни. Внутри, вдоль каждой стены, деревянные полки – трехуровневые койки, на которых спали от семисот до восьмисот человек, по восемь на каждой. В Биркенау в разгар войны содержалось девяносто тысяч заключенных.
Но меня поселили не там. Слева располагались более древние строения – каменные бараки, известные как сектор В1. Туда меня и поселили. Внутри здание было поделено на шестьдесят секций, каждая трехуровневая, – в целом на сто восемьдесят мест. Больше похоже на норы. Каждая полтора метра шириной. В каждую такую секцию на один потрепанный соломенный матрас втиснули четырех женщин. Всего в этом каменном бараке поселили семьсот двадцать женщин. И один туалет на всех.
Я вошла в барак и огляделась в поисках свободного места – секции, где находились бы три женщины. Шагая по проходу, я ловила на себе неприветливые взгляды. Если я останавливалась там, где было всего три человека, они вызывающе неприязненно смотрели на меня и кивком отправляли дальше. Так я два или три раза прошла по одним и тем же рядам, никто не хотел меня приютить. Но я успокаивала себя: «Иди, ты сможешь!» Хотя уже готова была опустить руки. В конце концов я расплакалась. Довольно! Какие еще испытания приготовила мне судьба? Мой собственный народ отвернулся и не хочет меня принимать… Я была на грани, как вдруг какая-то женщина позвала меня:
– У нас есть для тебя место.
Я забралась на нижнюю койку – прямо на цементном полу – и постаралась сделаться как можно незаметнее.
– Я – Хая, – представилась молодая женщина. – Не думай, что все здесь злые, большинство из них очень приветливые люди. Просто лучше спать втроем на койке, чем вчетвером. Я познакомлю тебя с остальными.
Лена помолчала и вытерла слезу.
– Хая была красавицей.
Кэтрин сочувствующе улыбнулась и поставила на стол коробку с бумажными салфетками.
– Расскажите мне о Хае. Как ее полное имя? Как она выглядела?
– Ха! Как мы все выглядели? Бритые головы, кожа да кости, нездоровые бледные лица, покусанное насекомыми тело. У некоторых не хватало зубов, а оставшиеся пожелтели. Мы видели красоту в другом. Смотрели в глубину. Хая Аронович была красивым человеком.
Должна признаться, сперва я держалась нелюдимо. Не хотела сближаться с новой знакомой. Мне казалось, что я не смогу пережить очередную потерю. За последние три года я потеряла столько близких людей! Маму, отца, Милоша, Йосси, Каролину, Мюриэль, Давида, наших крошек… Мне казалось, что подобного я уже не переживу: когда сближаешься с кем-то, а потом его вырывают из твоей жизни. Больше я не смогу отдать частичку своего сердца. Но я ошибалась. Сердце имеет свойство восстанавливаться. Свято место пусто не бывает.
В Освенциме было страшно, а первый день просто ошеломил. Но Хая взяла меня под свое крыло и поддерживала, чтобы я смогла жить дальше. Она познакомила меня с женщинами в бараке. Как только я перестала посягать на их спальное место, они тут же подружились со мной.
Каждое утро в половине пятого нас будил гонг. Мы спешно становились в очередь в туалет, а потом бежали строиться во двор, где ждали, пока придет эсэсовец и нас пересчитает. Офицер появлялся к шести, но бывало и позже. После переклички капо, надзиратель из числа заключенных, приносил завтрак – чашку суррогатного кофе, больше ничего. Потом нас делили на бригады и разводили по рабочим местам. Я работала в кухне Биркенау, помогала готовить обед заключенным. Он чаще всего состоял из овощного супа, но время от времени там попадались и кусочки мяса. Суп развозили по лагерю в огромных бочках. На ужин я помогала нарезать хлеб, который давали с ломтиком мяса, маслом или вареньем. Калорийность всего съеденного не превышала тысячи калорий – нацисты скрупулезно рассчитали рацион, который приводил к недоеданию и, в конечном счете, к истощению. Ведь Биркенау изначально строился как лагерь смерти – чтобы убивать. Кухни кормили более семидесяти тысяч человек, но больше трех месяцев тут никто не выживал. К тому времени из-за недоедания, слабости, непосильного труда, переохлаждения и по другим причинам пребывание заключенного в Биркенау заканчивалось – он освобождал место следующему.
Кроме вселяющего ужас осознания того, что каждый день здесь убивают тысячи людей – прямо здесь, где ты живешь, ешь, спишь! – для нас было настоящей пыткой наблюдать проявления бессмысленной жестокости со стороны капо, блокфюреров и СС. И хотя обычно жертвами оказывались мужчины, и женщин часто избивали, пороли, унижали, а в некоторых случаях убивали. СС имели право применять любое, подходящее на их взгляд, наказание, включая и расстрел на месте. Все лето в лагерь прибывали эшелоны с людьми, которых вели прямо в газовые камеры. Крематории работали круглосуточно. Бывало, в час убивали по две тысячи человек.
Хая оказалась правоверной иудейкой. Она каждое утро молилась и даже призналась, что каждую неделю соблюдает шаббат. Она и меня убеждала молиться, но я в ответ только качала головой. Откуда ей вообще знать, что наступила пятница? В Освенциме один день походил на другой.
– Хая, как ты можешь верить в Бога, когда твой народ гниет в концентрационных лагерях? Где Он? Где Всемогущий? Покажи мне его. Где Бог в Освенциме?
– Он прямо здесь, Лена, – негромко отвечала она. – Ты всего лишь должна впустить его. И это самое главное. В самом ужасном месте на свете Бог – это истинная доброта, и я впустила Его сюда, в этот барак. Все женщины здесь – еврейки, а нацисты делают все, чтобы искоренить иудаизм. Но пока мы остаемся преданными своей вере – они проигрывают. Они могут забрать у меня все, но только не веру. Я останусь иудейкой. Поэтому даже в лагере смерти я бросаю им вызов. Я их побеждаю!
Я вспомнила Йосси.
– В Хшануве я знала одного человека, который бы наверняка тебе понравился.
– Завтра суббота, – сказала она. – Надеюсь, ты присоединишься.
Вечером, когда все легли спать, Хая встала и вышла на середину блока. Сделала вид, что зажигает свечи. Разумеется, никаких свечей у нее не было, и спичек тоже, но мы все мысленно их себе представляли. Она помолилась над кусочком хлеба, который припасла заранее. Выпила воды, как будто пригубила вино. Одна за другой поднялись еще женщины в бараке – не все, конечно, но многие встали рядом с ней и начали молиться. Хая передала по кругу крохи хлеба, который благословила. Потом все негромко запели «Lecha Dodi» – старинную богослужебную молитву в честь наступающей субботы. Это было так трогательно! Хая впустила Бога в лагерь, прямо в наш барак. И с тех пор каждую пятницу я присоединялась к ней.
Осенью все начало меняться. Мы стали замечать бомбежки. Американские самолеты, поднимающиеся со своих баз в Италии, уже долетали и до нас, ведь некоторые стратегические объекты и военные сооружения находились всего в нескольких километрах от Освенцима.
– Вас пугал звук бомбежки? – спросила Кэтрин. – Вы не боялись, что Освенцим тоже начнут бомбить?
– Мы бы этому обрадовались! Доходишь до такой черты, что уже больше не боишься смерти. Когда не хочешь умирать, но знаешь, что умереть можешь, поэтому не боишься смерти. Если бы союзники решились бомбить Освенцим, я бы возликовала. Что может обрадовать больше, чем бомба, которая упала бы на крематорий и газовые камеры и уничтожила все эти машины убийств? А если бы заодно погибли эсэсовцы с зондеркомандой, я бы посчитала, что отличный выдался денек.
– Даже несмотря на то, что и вы могли погибнуть?
– Да.
– До сих пор не утихают споры, не следовало ли союзникам бомбить Освенцим.
– Они решили не бомбить. Союзники знали об Освенциме, к ним поступали донесения и снимки с воздуха. Они колебались: бомбить – не бомбить. Кто-то утверждает, что в 1944 году самолеты были неспособны наносить точные удары: нельзя было с филигранной точностью разбомбить газовые камеры и крематории, не рискуя жизнями семидесяти тысяч человек. Другие возражали, что союзники намеренно во время воздушных налетов бомбили исключительно военные и стратегические объекты, не делая попыток спасти узников. В 1944 году командование американской авиации заявило, что их самолеты не смогут совершать налеты на район Освенцима без содействия советских войск. Это неправда, американцы уже бомбили окрестности Освенцима: завод Фарбен находился всего в восьми километрах от нас. Мне же более вероятным кажется такое объяснение: ни одно из военных подразделений не хотело брать на себя ответственность за убийство десятков тысяч евреев. В убийстве евреев виновата исключительно Германия. Это Германия строила лагеря смерти. Германия единолично будет отвечать за смерти миллионов мирного населения, а не кивать на бомбы самолетов союзников. В конце концов, к Освенциму уже подходили советские войска, к востоку от Люблина освободили лагерь смерти Майданек.
– Частота воздушных налетов увеличивалась, советские войска подходили все ближе, и нацисты стали сворачивать лагерь. Они планировали разрушить его и уничтожить все свидетельства геноцида. В сентябре и октябре спецкоманду, которая прислуживала нацистам, перенося тела из газовых камер в крематории, собрали в одном месте и расстреляли. Нацистам не нужны были свидетели, и они никого не щадили. Они рассчитывали, что все узники Освенцима-Биркенау умрут или их переведут в другие лагеря и они умрут там.
К концу года работали только один крематорий и одна газовая камера. Вместо эшелонов, которые прежде привозили все новых узников, мы видели, как теперь целыми бараками их грузили в поезда и увозили в другие лагеря вглубь Германии. К концу 1944 года здесь осталась половина его обитателей.
Каждый день и каждую ночь мы слышали разрывы бомб и звуки артобстрела. Для нас они были настоящей музыкой – ударные инструменты в оркестре вооруженных сил союзников. Бух-бух… Советские войска были всего в нескольких километрах от лагеря, мы слышали шум орудий. Бух… Немцы начали спешно разрушать то, что осталось от Освенцима-Биркенау, стараясь не оставить ни от лагеря, ни от происходящих здесь ужасов ни следа. Они подожгли деревянные бараки, сожгли все строения дотла, взорвали крематории. Но узников отпускать никто не собирался. С нами они еще не закончили.
18 января 1945 года наш барак подняли где-то в три ночи и велели строиться на перекличку. Шел снег. Было очень холодно, сугробы по колено. Мы стояли на улице в спецовках, тонких пальто с капюшоном и деревянных туфлях. Без носков. В конце концов нас пересчитали и приказали построиться в ряд по пять человек. Это был марш смерти Освенцима.
Мы должны были пройти пешком несколько деревушек до вокзала в Водзиславе, чтобы отправиться в Бухенвальд, Маутхаузен и другие лагеря в глубине Германии. Меньше чем за неделю планировалось преодолеть пятьдесят километров. Как ни сложно в это поверить, некоторые решили никуда не ходить и вернулись в бараки. Но нацисты прямо дали понять, что выбора у нас нет: тех, кто не мог идти или хотел остаться, расстреливали. Остальные через главные ворота пошли в студеную польскую ночь. Каждой узнице выдали по буханке хлеба, куску масла и велели растянуть это на всю дорогу.
Ноги утопали в снегу по колено, снег набирался в туфли. Мы с Хаей шли вместе, и я постоянно говорила себе: «Лена, ты сможешь. Ты выживешь. Ты сможешь!»
Так мы и шли. Многие не выдерживали таких лишений. Всех, кто падал, кто спотыкался, кто не мог держать строй, тут же расстреливали, а тела оставляли на обочине. Мы шли всю ночь, днем отдыхали. У эсэсовцев были теплые шинели – не то что наши обветшалые пальто! – но и они мерзли. После нескольких часов марша они старались найти сарай или пустое строение для себя и для нас, чтобы укрыться от снега и отдохнуть.
Мы шли уже второй день, где-то в Силезии, и снег валил не прекращаясь.
– Хая, иди, ты сможешь, – говорила я подруге, хотя сама ног уже не чувствовала. Они онемели, и казалось, что я ступаю по иглам.
А она точно так же подбадривала меня. Наконец эсэсовцы нашли пустой сарай и объявили, что у нас есть три часа на отдых. Мы с Хаей легли в уголке, укрывшись сеном и соломой, чтобы согреться.
Звуки выстрелов из пулеметов и танков становились все ближе. До советских войск было рукой подать. Сарай содрогался от орудийных залпов. Казалось, стены сейчас рухнут. Эсэсовцы засуетились.
– Raus, raus! Schnell! Macht schnell![46] – кричали они.
Узницы с трудом поднимались. Всех согнали в кучу и ударами стали выгонять из сарая. Только не меня. Я спряталась в сене с соломой. Накрылась с головой и затаилась.
Надзиратели продолжали кричать, пинками строили узников в ряд, а я старалась не дышать.
– Идем, идем, скорее! – кричали они. – Schnell! Macht schnell!
Но теперь голоса становились глуше, отдалялись. Они даже не стали всех пересчитывать. Никаких перекличек. Голоса звучали все тише. У меня ни один мускул не дрогнул. Надо мной ни одна соломинка не шевельнулась, ни одна травинка. Где-то через час я высунула голову, убрала с лица сено и огляделась. Никого. Все ушли. Даже Хая. И тут меня осенило: я свободна!
Я была свободна впервые за четыре года! Мои мучители в ужасе бежали и увели с собой узниц к товарным вагонам, которые отвезут их в другие концентрационные лагеря в Германии, где они будут голодать, сносить побои и работать не покладая рук, пока не умрут. Но я сбежала. Я – свободна! И первое, что я сделала, – это упала на колени и стала молиться об этих несчастных женщинах. Я просила за Хаю. Разве не смешно? Я никогда не молилась за себя. Никогда не верила в эти молитвы, никогда всерьез о них не думала. Но в ту минуту, когда я стояла одна в сарае – свободный человек! – я молилась, чтобы Бог защитил этих еврейских женщин, уничтожил нацистов и освободил несчастных. И я знала, что Бог существует, потому что я была свободна, и теперь я молила его, чтобы Он освободил остальных: «Прошу тебя, Господи!»
– Думаете, это сумасшествие?
– Вовсе нет.
Глава сороковая
– Есть какие-то успехи в поиске Каролины или ее детей? – поинтересовалась Кэтрин, входя в столовую.
Лиам сидел за столом, обложившись газетами, ноутбук открыт на странице с базой данных «Гросс-Розен в Рогознице», рядом на подносе бутылка пива «Гиннесс».
– Пока нет. В данный момент я пытаюсь найти записи о том, куда Лену отправили после того, как она попала в главный лагерь Гросс-Розен. Никакой базы данных лагеря в Паршнице я не нашел.
– Ты сомневаешься в ее словах?
– Нет, я просто пытаюсь связать воедино все даты, убедиться, что она ничего не перепутала. Мне хотелось бы, чтобы они совпадали со словами Мюриэль Бернштейн.
Кэтрин ушам своим не поверила.
– Ты нашел Мюриэль?
– Еще бы! Разумеется. Я хочу сказать, что нашел записи об ее пребывании в концлагере. Да, нашел.
– И она выжила? Мы можем с ней поговорить?
Лиам пожал плечами:
– Известно, что войну Мюриэль Бернштейн пережила, но что случилось с ней после войны – мне неведомо. Главный лагерь Гросс-Розен, где Мюриэль работала медсестрой, при приближении советских войск эвакуировали, а заключенных отправили в Берген-Бельзен, Бухенвальд, Маутхаузен и другие концлагеря.
– И что с Мюриэль?
– Мюриэль Бернштейн, если это наша Мюриэль Бернштейн (в списках их значилось несколько) в феврале 1945 года прибыла в концлагерь Маутхаузен. По воле случая это произошло практически в то же время, когда туда из Освенцима прибыл Симон Визенталь[47]. Наверное, туда же отправили бы и Лену, если бы ей не удалось сбежать. Пятого мая 1945 года 11 пехотная дивизия США освободила лагерь. Мюриэль значится в списке живых. Это пока все, что я узнал.
– Это же отлично! Если Мюриэль жива, она станет прекрасным свидетелем. Она знала Каролину и девочек. Она была там, когда малышки родились, когда их выбросили из поезда. Непосредственный свидетель. Поэтому продолжай искать.
– Знаю.
– А что ты нашел о Лене?
– Да понимаешь… Она была в списках тех, кто прибыл в Гросс-Розен с Мюриэль, но потом ее перевели в лагерь в Паршнице, а оттуда данных нет.
– Вообще никаких сведений о тюрьме в Паршнице?
– Можно об этом забыть.
– Первого июня Лену отправили в Освенцим.
– Я знаю, но многие записи из Освенцима были уничтожены.
– Я хочу, чтобы ты еще кое-кого поискал: Хая Аронович. Она была с Леной в Освенциме и восемнадцатого января 1945 года отправилась оттуда маршем смерти.
Лиам кивнул:
– А для чего она тебе?
– Хая в Хшануве не жила, она не знала Каролину, но последние полгода пребывания Лены в Освенциме они были близки. Возможно, Лена рассказывала ей о Каролине.
– И чем это нам поможет?
– Это можно подшить к делу о вменяемости Лены. О том, связаны ли эти воспоминания с возрастными изменениями. Если Лена обсуждала Каролину и девочек с Хаей еще в 1944 году, следовательно, ее сегодняшние убеждения не являются результатом ухудшения психического состояния. Она верила в их существование и семьдесят лет назад. В таком случае Мюриэль и Хая помогут опровергнуть утверждение, что так называемая маниакальная одержимость Лены вызвана старческой деменцией. Этого может оказаться достаточно, чтобы выиграть дело об опеке, даже если нам не удастся доказать, что дети Каролины выжили.
– Понятно. Я еще подал запрос в главную базу данных музея «Яд ва-Шем» – израильского национального мемориала Катастрофы[48] и Героизма. Там самая полная база данных погибших. Но ответа я пока не получил.
– Тогда поищи еще Хаю Аронович. В «Яд ва-Шеме» собирают информацию и отслеживают судьбы переживших Вторую мировую войну?
– Не всех. Но там хранятся миллионы страниц показаний, видео-и аудиовоспоминаний. Я созвонился с работницей архива, и она согласилась встретиться со мной на следующей неделе.
– На следующей неделе? Ты на следующей неделе летишь в Израиль?
– Да.
– Лиам, мне ты ничего не сказал.
– Ой, прости, я собирался, но забыл. Ты мне разрешаешь на следующей неделе поехать в Израиль, чтобы встретиться с работником архива «Яд ва-Шем»?
– И я хотела бы полететь!
– Тогда покупай билет.
– Лиам, ты же знаешь, я не полечу.
Он обнял жену:
– Честно говоря, тебе лучше остаться и закончить все дела с Леной. Я собирался выяснить все, что можно, в Израиле, а потом слетать в Польшу. Может, удастся «накопать» что-то полезное.
– Вот и хорошо. Отличная идея!
– На чем вы закончили с Леной?
Кэтрин посмотрела на Лиама:
– Боже, как бы мне хотелось выпить пива. Или чего-то покрепче. Сегодняшний рассказ Лены был не для слабонервных.
Лиам улыбнулся и положил руку на ее слегка выпирающий живот.
– Мой малыш пока не пьет.
Кэтрин накрыла ладонь мужа своею.
– Он толкается, чувствуешь?
– Значит, ты согласна, что это мальчик?
Кэтрин засмеялась:
– Ты действительно хочешь это знать?
– Нет.
Глава сорок первая
– И вы были свободны… – сказала Кэтрин. – После стольких лет рабства вы были свободны.
– Да. Я была свободна. Но свобода – понятие относительное. Эсэсовцы ушли, а я осталась, но одна, в сарае, в тюремной форме, в деревянных туфлях. Я целый день не ела. Не знала, где я и куда идти. У меня не было ни денег, ни семьи. Я до смерти боялась и немцев, и Советской Армии. Но вы правильно заметили: я была свободна. Я встала, отряхнула с себя сено, огляделась. Позвала: «Есть кто-нибудь? Хая!» Ответа не последовало.
– Мы можем на секунду остановиться? – спросила Кэтрин. – Вы встречались с Хаей после того, как расстались в сарае?
Лена покачала головой.
– А с Мюриэль?
– Нет, к сожалению. После войны, хочу вам признаться, все как-то закрутилось. В мире воцарилась неразбериха. Миллионы людей бродили по Европе, им некуда было возвращаться. Ни с кем нельзя было связаться. Лишь спустя несколько лет все как-то наладилось. Я была уже в Чикаго. Я не знаю, где оказались Мюриэль и Хая.
– Но, насколько я понимаю, есть база данных. Вы же представили свои показания в «Яд ва-Шем», верно?
Лена кивнула:
– Разумеется. Я прислала им видеозапись. Все, что я рассказала, задокументировано.
– Логично предположить, что Мюриэль и Хая, если они выжили, поступили бы так же. Или же кто-то другой рассказал о них в «Яд ва-Шем».
– Не знаю. Наверное.
– Я несколько удивлена… Почему вы не стали искать Мюриэль и Хаю? А Давида?
Лена пожала плечами:
– Жизнь – слишком сложная штука. Я просто хотела жить дальше. И больше не вспоминать холокост. Хотелось оставить прошлое позади.
– Ненавижу себя за профессиональную въедливость, но вы не совсем откровенны. Вы же добровольно записали для «Яд ва-Шем» видеопоказания уже после холокоста. Много лет вы принимали активное участие в деятельности различных организаций, созданных теми, кто пережил войну. Вы возглавили протест против планов неонацистов пройти маршем в Скоки, штат Иллинойс, в 1978 году, вышли на улицу с плакатом. Вы не просто стали жить дальше.
– Откуда вы узнали о Скоки?
– От Лиама. Он чертовски хороший детектив.
Лена, прикусив нижнюю губу, секунду молчала.
– Что ж, отвечу так: я не искала Мюриэль и Хаю.
– А Давида?
– Это совершенно другая история. Можно мне продолжить рассказ?
Кэтрин приготовилась записывать.
– Разумеется. Пожалуйста, продолжайте.
– Все ушли. Я выглянула из сарая. Вокруг ни души. В нескольких сотнях метров я увидела деревенский дом, но я уже стучалась в дома и уже обманывалась. Я больше не намерена была доверять незнакомым людям – не хотела снова оказаться в грузовике у нацистов. Я знала, куда отправилась колонна заключенных, – на восток, в Чехословакию, бежала от Советской Армии, которая наступала с запада. Я знала, где на карте располагался Освенцим. Почти все время на восток, до Хшанува оттуда было всего километров пятьдесят на северо-восток. Я не хотела и на пушечный выстрел приближаться к Освенциму, поэтому отправилась на север.
Дорога оказалась пустынной. Ни прохожих, ни телег – оно и понятно, ведь я находилась в самом центре сражения, и ни один мирный житель в здравом уме не стал бы тут околачиваться. На западе воздух разрезали пулеметные очереди. Я была уверена, что соседний городок Кобюр расположен всего в пяти километрах к северу, но дорога вела не в ту сторону. Она вела на запад, к нацистам. Между мною и Кобюром темнел густой лес. Ни следа тропинки, только свежий, нетронутый снег, но выбора у меня не было. Я пошла на север, в лес.
Я была измучена, умирала от голода и жажды. Я пыталась топить снег в руках, но было слишком холодно. Во многих местах сугробы доходили до колен, а под пальто и спецовкой ноги у меня были голые и совершенно окоченели.
Я обращалась к себе в третьем лице: «Лена, продолжай идти. Ты сможешь. Один шаг, второй. Продолжай идти, Лена. Еще шаг. Еще один шажок. Ты выживешь». Слова ободряли, но, по правде говоря, сил почти не оставалось.
Выйдя из лесу, я тут же наткнулась на воинскую часть. Прямо на меня смотрело дуло советского танка. Ноги у меня подкосились, и я потеряла сознание.
Очнулась я в булочной в Кобюре. Через окно я видела стоявший у обочины защитного цвета уазик с белой звездой на капоте. Надо мной склонились советский солдат и какая-то женщина в фартуке. Женщина пыталась напоить меня горячим чаем.
– Как вы себя чувствуете, милая?
– Как я сюда попала?
Советский солдат приподнял меня. Я села, сделала глоток чая и откусила кусочек печенья. Бог мой! Печенье! Сколько я уже не ела печенье?
– Вы были в лагере? В том, что на юге? – спросил солдат.
Я кивнула.
– Вы очень храбрая девушка, – сказал он. – Наши войска захватили лагерь и освободили тысячи заключенных. Подобное мы уже видели в Майданеке. И куда вы теперь?
Я пожала плечами:
– Наверное, в Хшанув. Там мой дом. Там еще остались нацисты?
Он покачал головой и улыбнулся:
– В Польше уже не осталось нацистов. Сбежали, как крысы.
– Спасибо, что привезли меня сюда. Мне казалось, что я больше и шага не ступлю. – Я попыталась встать. – Я лучше пойду.
Хозяйка булочной посмотрела на меня – кожа да кости! – и покачала головой:
– Сидите здесь, я принесу вам еды и сухую одежду.
Я не знала, что сказать. Целых четыре года я боролась, пыталась выжить в нечеловеческих условиях под игом невероятно жестоких, чудовищных садистов, каких только земля носила. Всем было наплевать, выживу я или умру. Они даже ждали, когда я умру. А теперь незнакомая женщина настаивает на том, чтобы я приняла от нее еду и теплую одежду. Я не сдержалась и расплакалась.
Я не знала, кого первого обнимать, – так давно никто мне не помогал. Наконец солдат, которого звали Юрий, сказал, что ему пора уходить. Хозяйка булочной, которую звали Алиция, принесла мне горячие пирожки и тушеные овощи. А еще она сказала, что над булочной есть комнатка и я могу оставаться там столько, сколько захочу. Как мне отплатить за такую доброту? Она ничего не требовала взамен. Просто сделала доброе дело. И ей было совершенно наплевать, что я еврейка. Я была человеком, который попал в беду.
В небольшой квартирке над булочной была даже ванная. Я четыре года не мылась в ванне. Алиция наполнила ее горячей водой, а потом дала мне свитер, длинную шерстяную юбку, теплые носки и сапоги. Той ночью я впервые с тех пор, как нацисты вломились в наш дом и забрали всю мою семью, спала на перине. Вы представить себе не можете, что это за чувство! Когда я утром проснулась, то не сразу поняла, что не умерла и не оказалась на небесах.
Я оделась и спустилась в булочную, где Алиция как раз готовила завтрак. Мой желудок ссохся от постоянного недоедания, поэтому съесть много я не смогла. Но завтрак был превосходный! Потом я выпила чашку кофе и решила прогуляться по рыночной площади. Светило солнце, сверкал недавно выпавший снег… Мир был таким ярким, что даже пришлось зажмуриться. Свежий воздух благоухал чистотой. Не было дымоходов, перекличек, маршей. Не было эсэсовцев и солдат с винтовками. Люди гуляли с детьми и шли, куда хотели.
Я осталась у Алиции, с благодарностью приняв ее заботу. На шестой день, немного набравшись сил, во время завтрака я сказала:
– Мне нужно возвращаться домой. Я бесконечно благодарна вам, но я должна узнать, может, кто-то выжил. Может быть, вернулся кто-то из моих друзей.
Может быть, Давид… Господи, как же мне хотелось увидеть Давида! Алиция договорилась с соседом, чтобы он отвез меня в Хшанув, подарила мне теплое пальто и вещмешок, куда положила булочки, фрукты, колбасу и бутылку молока. Я пообещала непременно навестить ее.
Сосед Алиции довез меня до городской площади. Я огляделась, пытаясь свыкнуться с настоящим. У меня на рукаве не было повязки, меня не за что было арестовывать – разительное отличие от того дня, когда я в последний раз стояла на этом месте! Никаких мегафонов, выкрикивающих приказы, никаких колонн, чтобы организованно идти к железнодорожным путям. Нацисты исчезли, как и больше половины моего городка. Но я была свободна – и я вернулась.
На площади стояла тишина, хотя пара магазинчиков уже открылась. Не знаю, как это объяснить, но я стояла, глядя на свой родной город, уже освобожденный от нацистов, и меня не переполняли воспоминания о счастливом, суетливом городке, каким раньше был Хшанув. Я не видела спешащих из школы домой одноклассников. Не вспоминала, как мы с друзьями гуляли по площади, а летом ели здесь мороженое. Не вспоминала ни родителей, ни Милоша, ни Каролину – ничего из своего детства. Перед глазами вставали картины того, как нацисты сидят в кафе и барах, громко смеются и выпивают, в то время как евреи, опустив головы, стараются проскользнуть незамеченными. Я вспомнила, как немцы останавливали стариков и издевались над ними, как я сама толкала нагруженную шинелями тележку.
Я неспешно пошла на северо-восток, где когда-то находилось гетто. Цех был заброшен. Большинство зданий разрушили и сровняли с землей – скорее всего, когда нацисты заметали следы в 1943 году. Я подошла к зданию, где был подвал Йосси. Половина его была уничтожена, скорее всего, выстрелом из танка, и воронка зияла, как открытая рана. Осталась лишь груда кирпичей и покореженного металла, но мне все-таки удалось разобрать часть завала, найти вход и спуститься в котельную. Там все еще стояли на полу два выдвижных ящика, которые мы использовали как колыбельки. А в ящиках до сих пор лежали мягкие шерстяные одеяльца. Я села на матрац, который раньше служил мне постелью, и расплакалась. Плакала, пока не выплакала всех слез.
Потом я встала, сунула руку за печку и вытащила туфлю Милоша, которую спрятала в 1943 году. Когда я полезла в вещмешок, то обнаружила, что Алиция положила туда не только еду и одежду. Она оказалась настолько щедра, что дала мне денег. Учитывая то, откуда я пришла, и то, что произошло, я все гадала: почему мне так везет? Я единственная, кто выжил. И уж точно я этого не заслуживала.
Стоял конец января, но день выдался солнечный и относительно теплый, поэтому я решила взглянуть, что же осталось от Хшанува. Естественно, ноги понесли меня на улицу Костюшко, 1403 – к родительскому дому.
В конференц-зал заглянула Глэдис:
– Кэт, твой здесь.
Кэтрин взглянула на Лену и пояснила:
– Глэдис отказывается называть Лиама моей знаменитой второй половиной или моим супругом. Для нее он просто «мой». Они вечно друг над другом подшучивают. Пришли его сюда, Глэдис.
В кабинет вошел Лиам, поцеловал жену, пожал руку Лене и пояснил:
– Решил заглянуть к вам по дороге в аэропорт. Хотел сказать, что нащупал ниточку Зигфрида Шульца. В армейских документах сохранился его адрес в Шармассинге, в Германии.
– Город вы назвали правильно, – подтвердила Лена. – Названия улицы не помню, но на листочках, которые мы прикололи к пеленкам девочек, был указан адрес матери Зигфрида в Шармассинге.
– Дорфштрассе – название улицы. Километров девяносто к северу от аэропорта в Мюнхене.
– Ты полетишь туда?
Лиам кивнул:
– После того, как вернусь из Иерусалима. Не думаю, что встречу там Зигфрида, но если девочки оказались в Германии, обнаружатся какие-то следы.
Лена покачала головой:
– Неудивительно, что Бен бредил вами.
– Только одно уточнение, – сказал Лиам. – Вы выбросили детей через окно на поле пшеницы по дороге из Хшанува в Гросс-Розен, верно?
Лена кивнула:
– И насколько я понимаю, поезд ехал очень медленно, верно?
Лена снова кивнула:
– Очень медленно. Мы как раз выехали с запасного пути и только начали движение.
– Вы не могли бы приблизительно сказать, как далеко вы отъехали от Хшанува? Вы были ближе к Гросс-Розен?
Лена покачала головой:
– Боюсь, что не могу сказать.
– Лена, подумайте хорошенько. Вы проехали половину пути? Меньше?
– Больше, чем полпути. Мы ехали целый день и ночь. Состоялся неприятный разговор с той женщиной, потом Каролина еще долго сидела, глядя перед собой, а после мы перепеленали малышек… Наверное, две трети пути.
– Отлично! Молодец! Увидимся через пару дней.
Лиам вышел, закрыв за собой дверь.
– Как вы думаете, он их отыщет? – заволновалась Лена.
– Он чертовски хороший детектив! Лучшего не найти.
Глава сорок вторая
– Я направилась к своему дому на улицу Костюшко. Когда я была маленькой, большинство магазинов в городке принадлежали евреям. У нас тоже был свой магазин. Когда пришли нацисты, они все отобрали и отдали неевреям. Сейчас, когда я шла по рыночной площади, многие из этих магазинов были заколочены ставнями.
Идя по жилым кварталам, я заметила, что многие дома пустуют. Складывалось впечатление, что Хшанув разграбили. Наверное, так оно и было. Отсюда вывезли и уничтожили шестнадцать тысяч евреев. Больше половины жителей покинули город. Нацисты, которые конфисковали наши дома, как, например, полковник Мюллер, тоже уехали.
Я стояла перед родным домом, гадая, хочу ли заходить внутрь. Еще раньше, когда приносила донесения полковнику, я расстроилась, увидев, как изменился наш дом. Мне не хотелось вспоминать, как Эльза сидела на диване с маминым браслетом на руке. Мне хотелось помнить дом таким, каким он был, когда я жила в нем.
Тем не менее я подошла к двери. И тут меня осенило: в последний раз я стояла здесь, когда просила полковника спасти наших девочек. Как давно это было! Что-то толкало меня просто распахнуть дверь и войти. Если дом пустой, я могу в нем поселиться. Могу опять здесь жить.
Я попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта. Я постучала. Никто не открыл. Я обошла дом к запасному входу. Там тоже было заперто. Я поискала открытое окно, но на дворе стояла зима, и все окна были закрыты. Я позаглядывала в окна гостиной и уже собралась уходить, когда входная дверь распахнулась и какой-то мужчина сердито спросил:
– Что ты здесь забыла?
– Это я должна спросить, что вы здесь забыли. Это мой дом.
– Черта с два! Я его купил. И заплатил хорошие деньги. Убирайся отсюда.
– И кому же вы заплатили? Никто не имел права продавать мой дом. Этот дом принадлежит моему отцу, капитану Шейнману.
Мужчина с воинственным видом шагнул во двор:
– А теперь он мой. У евреев конфисковали всю собственность. По закону Германии. А поскольку мы были частью Германии, все законно. Я купил его – значит, он мой. А теперь уходи, или я буду стрелять.
Но я стояла на своем:
– У вас нет оружия, его забрали нацисты. У евреев имущество отобрали незаконно. И я не верю, что вы кому-то платили. Вы самовольно сюда вселились.
– Послушайте, пани, кем бы вы ни были, но сейчас в этом доме живет моя семья, жена и трое детей. И мы никуда не будем съезжать. Я не отдам тебе дом. Ты же явно еврейка, так что ты забыла в Хшануве? Здесь больше нет евреев.
– По крайней мере теперь одна есть.
Он в ответ лишь покачал головой:
– Убирайся! Я не буду никуда съезжать. И никакая польская власть не заставит меня переехать.
Он скрылся в доме и запер дверь. Наверное, он был прав. Что мне оставалось?
Ближе к площади оказалось несколько заброшенных домов. Я очень замерзла и вошла в один из них, чтобы отдохнуть и перекусить. В доме осталась вся мебель, но никого не было. Я предположила, что здесь жил какой-то эсэсовец или рядовой солдат вермахта, но, когда пришли советские войска, дом в спешке покинули. Только что я ругала человека за то, что он незаконно занял мой дом, а сама собиралась поступить точно так же, с одним исключением: если бы появился настоящий хозяин, я бы с радостью освободила его дом. К сожалению, очень мало евреев из Хшанува вернулись домой. Такова была неутешительная правда.
Я поела колбасу, которую дала мне с собой Алиция, выпила молока. Потом отправилась на площадь узнать, не вернулся ли кто-нибудь из моих приятелей. Перед булочной я встретила Франека Вольчинского, одноклассника-католика, с которым я познакомилась во время недолгого обучения в старших классах гимназии. Он рассказал мне, что видел, как вернулись несколько евреев, в том числе Ева Фишман. Она была на два года старше меня, с ней я тоже познакомилась в Краковской гимназии. Франек предложил угостить меня пивом, и мы пошли в пивную.
Он спросил, где я была все эти четыре года, в ответ я лишь покачала головой:
– Я не могу рассказать. И сомневаюсь, что ты захочешь слушать.
Он кивнул:
– До меня доходили кое-какие слухи. Но я надеялся, что это неправда. Послушай, каждый вечер в десять в баре «Крыйовка»[49] собирается молодежь. Придешь сегодня? Я угощаю.
Я с радостью приняла приглашение.
Я спросила, не слышал ли он о Давиде или других студентах-евреях. Он покачал головой: только о Еве. Франек дал мне ее адрес, и мы договорились встретиться вечером в «Крыйовке».
Днем я разыскала Еву. Она была когда-то плотной девочкой, но сейчас сильно исхудала, и платье болталось на ней, как на вешалке. Мы вкратце рассказали друг другу свои истории. Она тоже попала в один из лагерей Гросс-Розен, в подземный лагерь на севере Польши, где изготавливали оружие. Там она тоже встречала кого-то из земляков, но потом почти всех замучили до смерти или убили. И разрыдалась. О Давиде она ничего не слышала. Я еще какое-то время побыла с Евой, а потом вернулась в свое новое жилище.
Пришел февраль, и, несмотря на то что в Хшануве не стреляли, война, как ни крути, еще не закончилась. Каждый день мы видели, как над городком пролетают самолеты. Нацисты ушли с нашей земли, но притаились в Германии, надеясь на изобретение Гитлером супероружия. На западе продолжали рваться советские бомбы. Советская Армия пойдет через Хшанув, наступая на Германию. Иногда советские солдаты оказывались добрыми и сердечными людьми, но мы встречали среди них и горластых, грубых и даже жестоких.
Русским было плевать, кто мы – евреи, христиане, – они просто на несколько дней оккупировали город, запугали всех вокруг, а потом продолжили наступление на Германию. С одной стороны, их наглое поведение не могло не злить, с другой стороны, это были наши освободители. Но все равно среди женщин ходили слухи об изнасилованиях, поэтому по одной мы не ходили, только группками.
Я попыталась найти работу, но в Хшануве работы не было. Я очень экономно расходовала еду и деньги, и пока у меня дела шли неплохо. В марте-апреле из лагерей стали возвращаться счастливчики, каждый со своей историей, которые никто не хотел рассказывать и никто не хотел слышать. Потихоньку еврейское население увеличивалось, но совсем чуть-чуть.
В конце апреля меня пригласили на свадьбу. Сара Штернберг выходила замуж за парня, с которым познакомилась в лагере в Плашове, в окрестностях Кракова. Его били по голове, и в результате он оглох. Церемонию и само торжество проводили в одной из синагог Хшанува. Во время оккупации нацисты использовали синагогу как склад оружия. Хотя все здесь было разрушено и разграблено, синагогу восстановили – и около сотни евреев, вернувшихся в Хшанув, теперь пытались восстановить еврейскую общину.
Из Кракова приехал раввин, а семьи соорудили хупу – балдахин, под которым совершаются свадебные обряды, – и украсили ее весенними цветами. Наша маленькая община собралась на первую еврейскую церемонию со времен нацистской оккупации. Было приятно открыто отпраздновать такое радостное и торжественное событие. Я пришла с группой девушек и стояла с бокалом вина, когда кто-то хлопнул меня по плечу и сказал:
– Привет, смелая!
Я резко обернулась – вот он стоит. Давид Вудвард. Я поверить не могла своим глазам, бросилась к нему на шею и расплакалась как ребенок.
– Вы сказали Вудвард?
– Разумеется. Неужели вы не знали? Мы с Давидом поженились.
Кэтрин была ошарашена, даже ручку уронила.
– Нет, не знала. Вы никогда не говорили, что вашего мужа звали Давид. Уж поверьте, такое бы я запомнила. А ваше предприятие… оно называлось «Д. Моррис Вудвард Инвестментс»?
– Все верно. Давид Моррис Вудвард. Давид назвал компанию «Д. Моррис Вудвард», потому что ему нравилось, как звучит название, а Морицем звали его отца.
Кэтрин покачала головой:
– Никогда бы не подумала. Вы полны сюрпризов.
Лена озорно улыбнулась:
– Еще бы!
– Мы с Давидом встретились на свадьбе Сары Штернберг. Он похудел, как и все мы, на лице появились морщинки. Левая рука была изуродована – его били. Как и у многих из нас, у него были видимые шрамы на теле и невидимые – в душе.
За годы он возмужал, но остался таким же решительным. А еще годы не смогли украсть его улыбку. И глаза остались такими же голубыми и добрыми. Он стоял в синагоге в темно-синей спортивной куртке, белой сорочке с расстегнутым воротом и новых серых наглаженных штанах. И я, как всегда, была им очарована. Может быть, даже еще больше.
– Ты выжила, – сказал он. – Я всегда знал, что ты выживешь.
– Боже мой, я всех расспрашивала о тебе! Где бы ни была… Полковник Мюллер сказал, что тебя перевели в Гросс-Розен, и когда меня туда отослали, то я подумала, что мы сможем встретиться, но меня тут же перевели в Паршнице. Я работала на швейной фабрике, думала, ты тоже там, но нигде тебя не встречала, и никто о тебе ничего не слышал. Ты был в Чехословакии?
Давид покачал головой:
– Я был в лагере в Нова-Суль в западной Польше, управлял швейной фабрикой. Я надеялся, что и тебя туда отправят, но Нова-Суль оказалась ужасным местом.
– Давай не будем вспоминать лагеря. Будем говорить только о будущем.
На глаза у Давида навернулись слезы, и он сказал:
– Все эти месяцы, все эти годы я мечтал о том, как мы снова встретимся, как будем обсуждать наше будущее. – Давид обнял меня, поднял бокал и громко произнес: – Пани и панове, позвольте пригласить вас на нашу свадьбу. Через месяц в этой же синагоге. Если Бог захочет, мы с Леной Шейнман поженимся.
Я смутилась. Собравшиеся хлопали и поздравляли. Я посмотрела на Давида и сказала:
– Ты не просил моей руки, а я не ответила тебе «да».
– Лена Шейнман, ты выйдешь за меня замуж?
– Да! Да!
Свадьбу назначили на субботу, тринадцатого мая 1945 года. До этого седьмого мая Германия капитулировала, и война официально закончилась.
– Вот так совпадение! – воскликнула Кэтрин. – Это моя предполагаемая дата родов. Тринадцатое мая.
– Уже скоро, да?
Кэтрин с улыбкой кивнула:
– Он активный малыш. Значит, вы с Давидом поженились тринадцатого мая?
– В Хшануве целый май праздновали, включая и свадьбу пани и пана Давида Вудварда. Присутствовали все, кому удалось выжить и вернуться в городок. Даже Алиция из Кобюра приехала. Стоял теплый майский вечер, и свадьбу отмечали на улице под звездами. В этот вечер мы впервые забыли о холокосте.
Мы поселились в маленьком домике, который я заняла изначально, и попытались с помощью остальных евреев восстановить нашу еврейскую общину. Но не получилось. Как ни печально, но немцы уничтожили евреев Хшанува. Ликвидировали. Те же, кто выжил и вернулся, не узнавали город. От некогда живого Хшанува осталась горстка потрепанных, искалеченных войной горожан. Экономику Хшанува тоже уничтожили. Теперь в город вошли советские войска и установили свои порядки. Назначили администрацию. Польшу превратили в коммунистическую страну.
Кэтрин закрыла блокнот:
– На сегодня достаточно, Лена. Продолжим на следующей неделе?
– Кэтрин, позвольте пригласить вас в гости во вторник. Я хотела бы кое-что вам показать.
Глава сорок третья
Кэтрин сидела в спальне, подняв ноги, и правой рукой втирала в живот лосьон с витамином Е, а левой прижимала к уху телефон. Из Израиля звонил Лиам.
– Кэт, я сегодня встречался с Руфью Аврамс. Она хранитель музея «Яд ва-Шем». Там много документальных свидетельств о Лене. Ты же знаешь, что она передала примерно часовую видеозапись, на которой довольно подробно описывает довоенный Хшанув и свое пребывание в лагерях. Но она ни словом не упоминает о Каролине и ее детях. Полностью опущен этот эпизод. Это тебя не настораживает?
– Немного, но я могу понять ее мотивы. С чего бы ей хотеть пережить еще раз историю с близнецами? И навсегда записать, как она выбросила их в окно? Она раньше никогда никому о них не рассказывала. Она сказала мне, что после войны перевернула этот лист. Она рассказывала о Милоше? О том, как пряталась на чердаке?
– Да-да. И как жила на ферме у Тарновских. По всей видимости, за часы, проведенные с тобой, она поведала более подробную историю, чем во время часовой видеозаписи. Но хронология та же. Она вспоминает о том, как работала в Цеху, как жила в концлагере в Паршнице, как ее перевезли в Освенцим. Она рассказывает о том, как сбежала во время марша смерти, как вернулась в Хшанув. Она даже упомянула о том, что, когда работала в Цеху, жила в котельной в гетто. Но она полностью опускает историю с Каролиной и близнецами.
– Не вижу никаких противоречий. Просто очень болезненно для нее.
– А еще я разыскал Каролину Нойман. Она есть в списке жертв, убита в лагере в Паршнице. Родилась в 1922 году, скончалась в 1943. Никаких родственников.
– И ни единого упоминания о близнецах?
– Ни одного.
– Тогда думай, Лиам, думай. Кто еще мог знать о близнецах?
– Ты шутишь? Лена знала. Она могла стать тем самым свидетелем, который рассказал бы о Каролине в музее. Но она нигде не упоминала о близнецах.
– И тебя это тревожит?
– Да, если признаться.
– А Мюриэль с Хаей разыскать не удалось?
– Хаи больше нет на свете. Умерла в 1945 году. Вероятнее всего, во время марша смерти. Но Мюриэль повезло больше, она до сих пор жива. Мне дали ее адрес в Нью-Йорке. Надеюсь, она и сейчас там проживает. Я пытался до нее дозвониться, но пока безуспешно.
– И что теперь?
– Сперва я полечу в Германию, в Шармассинг. Попытаюсь разыскать семью Шульц. Разумно именно оттуда начать поиски близнецов. Если они выжили после того, как их выбросили из поезда в поле, а кто-то нашел их и спас, то наверняка увидел адрес. Сперва отправлюсь туда.
– Согласна. Вполне логично.
– Как поживает мой малыш? Быстро растет?
– Всю ночь не давал спать, постоянно лягался.
– Тогда, скорее всего, это мальчик, и с такими ногами… на него явно захотят посмотреть из футбольного клуба «Чикаго Беарз».
– Знаешь, а это может быть и девочка.
– Тогда она будет наподдавать всем в зале суда, как мама.
– Хочешь знать пол?
– Нет.
– Когда ты вылетаешь в Германию?
– Завтра. Сегодня вечером я ужинаю с Кайлой Каммингс.
– Кайлой? Шутишь? Мне опять стóит волноваться из-за вас двоих?
– Опять? Что это значит – опять?
– А это значит, что я уже волновалась из-за вашей парочки. Сейчас же скажи, что не собираешься ужинать с ней в Хевроне. Ты же знаешь, какая она безрассудная авантюристка. Она и раньше втягивала тебя в заварушки.
– Неужели я слышу, что Кэт опять ревнует?
– Нет. Может быть, в прошлом году я и ревновала, когда ты столько времени проводил с этой эффектной Мата Хари на гавайских пляжах, когда разыскивал Софи Соммерс.
– На гавайских пляжах? А мне казалось, что на гавайских пляжах я валялся с ужасной ревнивицей по имени Кэтрин, чьи подозрения оказались беспочвенными. И кроме того, мы шли по следу Арифа аз-Захани, палестинского террориста.
– Вот именно. В Хевроне! В самом опасном городе в мире. Скажи ей, что ты не можешь подвергать себя опасности, потому что скоро станешь отцом.
– Обязательно скажу, не сомневайся.
– Ладно. Передавай Кайле привет. Я рада, что у нее все хорошо.
– Обязательно передам.
– И не забудь сказать, что Лиам Таггарт теперь женатый мужчина. И что у него есть семья.
– Ха-ха! Скажу. Я люблю тебя. Пока.
Глава сорок четвертая
Лиам приземлился в аэропорту Мюнхена, арендовал машину и поехал на север к Регенсбургу по холмистым полям Баварии, по зелено-желтому ковру. В Регенсбург он приехал ближе к вечеру, снял комнату в гостинице «Мюнхенский двор», на главной площади с видом на Дунай. Поужинал шницелем, выпил пару бутылочек светлого пива «Эрдингер», прогулялся по городу и лег спать.
После завтрака Лиам поехал на юг в небольшую деревушку Шармассинг по 155-й дороге по последнему известному адресу Зигфрида Шульца. Белый кирпичный аккуратный двухэтажный домик с красной черепичной крышей. Лиам с немецко-английским словарем в руке позвонил в дверь. Ему открыл старик в серых штанах и голубой рубашке, застегнутой до самого ворота.
– Ja, was wollen Sie?[50]
– Sprechen Sie Englisch?[51]
– Ja. Немного. – Он большим и указательным пальцами показал, насколько плохо говорит по-английски.
– Спасибо. Меня зовут Лиам Таггарт, я разыскиваю семью Зигфрида Шульца.
– Зигфрида Шульца? – Он покачал головой. – Я не знаю никакого Зигфрида Шульца.
– Он жил здесь когда-то. В 1941 году.
– В 1941 году? Ого! Это же семьдесят лет назад. – Старик пожал плечами. – Я живу здесь только сорок. А до меня здесь жил Бургер. Не Шульц.
– Зигфрид Шульц был немецким солдатом. Здесь жила его мать. Я предполагаю, что она могла в 1943 году поселить у себя двух малышек.
– Двух малышек?
Лиам кивнул.
– А почему вы спрашиваете?
– Эти малышки потерялись во время войны. Меня наняла их мать, которая их потеряла.
Старик пожал плечами:
– Я переехал сюда из Пфаффенберга в 1963 году. Ничего о детях не знаю.
Лиам повернулся, чтобы уже уходить, как старик его окликнул:
– Простите, пожалуйста, герр Таггарт. Здесь живет фрау Штраус, ей уже восемьдесят шесть, но она знает всех в Шармассинге. Ступайте к ней. Розенштрассе, 22 в Оберхофен. Это дальше по улице. Передайте, что вас послал Вернер. – Он улыбнулся и кивнул. – Она говорит по-английски, ja.
– Danke[52], – поблагодарил Лиам.
Дом фрау Штраус находился всего в паре километров. Она открыла дверь в бесформенном розово-голубом халате и розовых, отороченных мехом мокасинах. Ее седые волосы были собраны в пучок. Она, прищурившись, смотрела на Лиама.
– Фрау Штраус, меня к вам прислал Вернер.
– Вернер Хоффман?
– Наверное. Живет на Дорфштрассе.
Фрау Штраус поджала губы, минуту подумала и отступила от двери:
– Входите.
Она прошла в гостиную и жестом пригласила Лиама следовать за ней.
– Садитесь.
Гостиная была меблирована большими мягкими креслами и диваном с цветочным узором. И украшена белыми салфеточками. Салфеточки лежали на столе, на подлокотниках кресел, на спинке дивана. Лиам осторожно присел на краешек дивана.
– Я ищу семью Зигфрида Шульца. Раньше он жил на Дорфштрассе, 155.
– Да, разумеется. Хельга Шульц.
Лиам широко улыбнулся:
– Чудесно. А у Хельги кроме Зигфрида были еще дети? Не появлялись у нее две маленькие девочки?
Фрау Штраус склонила голову к плечу и, прищурившись, посмотрела на Лиама:
– А почему вы спрашиваете? Это законно?
Лиам засмеялся:
– Абсолютно законно. Я детектив, расследую историю о двух девочках, которые потерялись во время войны. Я предполагаю, что их могли принести фрау Шульц. В действительности, скорее всего, это были дочери ее сына Зигфрида. Я работаю на подругу их матери, которая теперь живет в Америке.
– Гм… Хельга никогда не говорила, что у Зигфрида есть дети. Она бы, конечно, их забрала. Она очень хотела внуков. У меня своих внуков нет, и Хельга обязательно бы похвасталась. Не сомневайтесь, обязательно бы похвасталась. – Старушка покачала головой. – Знаете, Зигфрид погиб на войне. В Украине.
– Наверное, Зигфрид хотел рассказать матери о внуках лично.
– Ja, наверное. Но с фронта он так и не вернулся.
– А дети? Фрау Шульц никто не приносил детей?
Фрау Штраус покачала головой:
– Нет. Детей не было. Зигфрид был единственным сыном Хельги. Она бы с радостью приняла двух малышек. И уж конечно бы мне сказала. Когда Зигфрид погиб, Хельга не смогла содержать ферму. В 1950 году она продала дом и переехала в город. В 1974 году она умерла. Особых богатств Хельга не нажила и все свое имущество оставила церкви. Никого из родственников не осталось.
Лиам поднялся:
– Спасибо, что уделили мне время, фрау Штраус.
– Жаль, что не смогла помочь в вашем расследовании.
– Откровенно говоря, вы мне помогли: вы исключили одно предположение из перечня возможных. Еще раз спасибо.
Лиам позвонил Кэтрин из аэропорта Мюнхена и доложил о своих успехах.
– Ты летишь домой? – спросила Кэтрин.
– Пока нет. Через час я вылетаю в Краков. Наведу справки и попробую проехаться маршрутом поезда. Может, что-то и нарисуется.
– Лиам, у нас мало времени. Дата слушания все ближе, а у нас нет никаких доказательств существования Каролины или близнецов. Мне придется несладко: нечего противопоставить утверждению Артура, что девочек не существует.
– Времени маловато. Возможно, кто-то вспомнит, что у железнодорожных путей нашли двух малышек, или объявится Мюриэль Бернштейн и подтвердит рассказ Лены, но нам нужно время. Мне кажется, стоит просить отсрочку хотя бы на пару месяцев.
– Не думаю, что Петерсон ее даст. Ты же знаешь, я у него не в фаворе.
– Но попытаться стоит. Черт, всего-то шестьдесят дней! Ну почему такая спешка?
– Ты же слышал Петерсона: он стремится защитить бедную старушку, которая, к счастью, оказалась под его крылом в этом деле об опеке.
– Лена не выглядела такой уж несчастной в суде. А вот Артур испугался до дрожи в коленях.
– Да, испугался. Я подам ходатайство. Может быть, суд и даст нам шестьдесят дней. Удачи тебе в Польше.
Глава сорок пятая
Утром в понедельник Кэтрин приехала к Лене в гости на Пирсон-стрит. Она вошла в квартиру, сняла пальто и подошла к окну, чтобы взглянуть на озеро Мичиган. Ветер гулял по нему, поднимая двухметровые волны с белыми шапками пены, разбивая их о волнорезы, разбрызгивая воду на набережную.
– Я бы хотела, чтобы вы взглянули на одну важную для меня вещь, – сказала Лена.
Она подошла к буфету, открыла стеклянную дверцу и указала на одиноко стоявшую на полке маленькую подставку. Самый ценный предмет в серванте.
– Вы видите? Знаете, что это?
Кэтрин кивнула:
– Знаю. Это туфля Милоша.
– Артур считает меня глупой, потому что я выставила ее. Поношенная детская туфля, которую я поставила на самое видное место, когда могла бы выставить тончайший китайский фарфор и столовое серебро. Но это единственное, что осталось от моей семьи в Хшануве. Единственное доказательство того, что они когда-то существовали. Если со мной что-то случится, Кэтрин, или когда придет мой срок, я бы хотела, чтобы ее забрали вы.
Кэтрин тяжело сглотнула:
– Ох, нет! Я не могу. Она принадлежит вашей семье.
Лена улыбнулась и обняла ее:
– Я вас считаю почти родной. Для Артура она ничего не значит.
– Для меня она многое значит, Лена. Я с гордостью буду хранить эту туфлю.
– Отлично. Тогда позвольте мне закончить историю, и вместе мы попытаемся разыскать близнецов.
– Я должна вас предупредить, что пока Лиаму не повезло. Близняшек не отвезли к матери Зигфрида. Она умерла, и близких родственников не осталось. Лиам собирается навести справку по ходу поезда. В «Яд ва-Шеме» сведений о близнецах тоже нет.
– Знаю, но никто в «Яд ва-Шеме» не знал бы их настоящих имен. Мы не стали писать их, боясь, что так сразу же распознают евреек. Я ездила в Музей холокоста, когда рассказывала свою историю, и спрашивала, не сообщал ли кто-то из поляков о том, что возле железнодорожных путей нашли двух девочек-близняшек. В наших местах о подобном никто не сообщал. Мне сказали, что многих сирот спасли союзники, когда вошли на территорию Германии и Польши, но большинство детей оказались в лагерях или приютах.
– Но вы ничего не рассказали в «Яд ва-Шеме» о Рахили и Лии, так ведь?
Лена покачала головой:
– Я не рассказала. Не смогла.
– Близнецы наверняка могли бы оказаться среди спасенных детей, Лена. От осознания этого вам должно было стать намного легче. Даже если мы не сможем их найти, вполне вероятно, что их спасли.
– Хотелось бы в это верить. Но если Лиаму не повезет, я никогда этого не узнаю. Я так рада, что именно он ведет расследование.
– Я должна быть с вами честной: если мы не добудем доказательств существования близнецов Каролины, нам будет нелегко противостоять Артуру. Он станет рассказывать, что вы просто помешались на этих детях – все эти карты, поиски, расписания поездов… Это будет доказательством того, что поиски заняли слишком большое место в вашей жизни. Он попытается создать презумпцию.
– Презумпцию чего?
– Что вы просто одержимая. И если у нас не будет доказательств их рождения или существования, он докажет, что все это мания.
– И как скажется на нас эта презумпция?
– Это означает, что все бремя доказательств ляжет на нас. Артур утверждает, что все это выдумки – и Каролина, и ее дети, – и уже мы будем обязаны предоставлять доказательства того, что они существовали. Пока Лиаму не удалось ничего найти. Если нам не удастся опровергнуть презумпцию, суд придет к выводу, что ваши маниакальные поиски этих детей – результат психического расстройства.
Лена кивнула.
– Но судья Петерсон не обязательно придет к этому выводу. Он рассмотрит все доказательства, включая ваши показания, и решит, что вы здоровы. Мне кажется, вы будете очень хорошим свидетелем. Вы вели себя великолепно, когда последний раз выступали в суде.
– Но может и прийти, да? Он может признать меня одержимой бредом и заключить в сумасшедший дом?
Кэтрин пожала плечами:
– Может. Но мы будем бороться изо всех сил, чтобы подобного не случилось. И не сбрасывайте Лиама со счетов.
– Спасибо.
– Ну что же, давайте вернемся к вашей истории.
– Как я уже говорила, мы с Давидом поженились и поселились в домике, который я заняла самовольно. Давид даже попытался открыть на площади швейную мастерскую. Каким-то чудом ему удалось раздобыть швейную машинку. Он расчистил витрину, повесил вывеску, мы раздали рекламу, но успеха не добились.
– Странно. Он был хорошим портным. Он руководил швейным цехом, ткацкой фабрикой в Гросс-Розен. Почему же у него не получилось?
– Я могла бы ответить, что виной всему послевоенная экономика, но это была бы не чистая правда. Наша община, сорок процентов Хшанува, с которой я выросла, исчезла. Как и во всех небольших польских городках, еврейскую коммуну вырвали с корнем. Депортировали. Отправили в лагеря. Многие годы нацисты вели пропаганду, уверяя всех, будто евреи против Христа. Людей убеждали, что не следует иметь с ними дело. На плакатах их изображали мерзкими, хитрыми, грязными чудовищами, которые разносят болезни.
Те немногие из нас, кто вернулся после войны, столкнулись лицом к лицу с городом, в котором более десяти лет насаждали и поддерживали нацистскую пропаганду. Многие винили в развязывании войны евреев. Они даже считали, что война – это попытка Гитлера избавить Европу от еврейской чумы. Пропагандистская машина Геббельса работала очень эффективно. Я не утверждаю, что так думали все, конечно, были исключения, но чаще всего жители польских городов неприязненно относились к выжившим после войны узникам. И мне, и Давиду было ясно, что нам здесь не рады и что мы не сможем влиться в жизнь нееврейского Хшанува.
У Давида была мастерская, но он не мог конкурировать с ателье на противоположном конце площади, которым владел католик. Денег не хватало. Не знаю, как он их зарабатывал, – наверное, я и не хотела знать. Давид стал заниматься контрабандой сигарет.
– Шутите? Он был контрабандистом?
Лена засмеялась и, забавно смутившись, зажала рот рукой.
– Да. Мой муж был пиратом. Он уходил глубокой ночью, встречался с кем-то, а возвращался с пачками сигарет. Потом продавал их русским и по всему городу. Он зарабатывал достаточно, чтобы мы не нуждались, но мы оба понимали, что в Хшануве для нас жизни нет.
Польша стала сателлитом СССР, страной за «железным занавесом», и Сталин назначил министров в правительство. Они тоже на дух не выносили евреев. Коммунизм и антисемитизм, который скрывался под этой личиной, заставили нас задуматься над эмиграцией в другую страну. Брат Давида еще до войны эмигрировал в Нью-Йорк, а сейчас жил в Чикаго. Мы решили ехать к нему, но нужна была виза, а в 1945 году получить ее было невозможно.
В течение нескольких лет западные страны установили строгие квоты на эмиграцию, особенно для евреев. После войны Великобритания, Канада и США продолжали устанавливать эмиграционные квоты для беженцев из Европы и не спешили их пересматривать. Давид решил, что самый быстрый способ попасть в Америку – оказаться в лагере перемещенных лиц, а уже потом получать визу.
– Поверить не могу, что вы захотели попасть в очередной лагерь!
– Так мы и попали в Америку. Если бы мы остались в Хшануве, мы бы застряли в недружелюбном городе за «железным занавесом». Выбора у нас не было. К такому же выводу пришло еще двести пятьдесят тысяч евреев.
В конце войны в мае 1945 по всей Европе бродило от семи до восьми миллионов перемещенных лиц. Полтора миллиона из них – немецкие солдаты. К июлю число перемещенных лиц сократилось до четырех миллионов. К сентябрю остался только миллион тех, кто не вернулся на родину. Но из этого миллиона – двести пятьдесят тысяч были евреи, которым некуда было идти, по тем самым причинам, которые я только что объяснила. Мы не подлежали репатриации. Мы называли себя Sh’erit ha-Pletah – «уцелевшие».
Чтобы уладить проблему беженцев, страны-союзники создали в оккупированных ими странах – Германии, Австрии и Италии – лагеря. Строились небольшие города, общины, где мы могли бы пожить, пока не найдем дом. Существовали британские, французские и американские лагеря. Давид навел справки и решил, что нам следует ехать в Форенвальд в американскую зону. Лагерь находился к югу от Мюнхена, у подножия Австрийских Альп. Мы поездом собирались добраться до Вены, потом поехать в Мюнхен, оттуда в Форенвальд, но перед отъездом у меня оставалось еще одно важное дело.
Я попросила Давида найти мне лошадь с телегой, чтобы съездить в Освенцим.
– Ты с ума сошла! – воскликнул он. – Зачем возвращаться в этот ад?
– Отвези меня в Освенцим. Я хочу взглянуть на него глазами свободного человека.
Стоял октябрь, уже листья желтели. Мы проехали двадцать километров до Освенцима. Холмы Силезии утопали в оранжевом, желтом, красном и коричневом. Ехать среди холмов, не боясь, что тебя схватят или убьют… Тяжело было поверить, что этот пасторальный пейзаж всего девять месяцев назад был театром войны. Мы въехали в буферную зону Освенцима. Забор с колючей проволокой был на месте, и мы проследовали вдоль железнодорожного полотна прямо до главных ворот. Жуткая надпись «Arbeit macht frei» продолжала оставаться над входом.
Я соскочила с телеги и вошла в пустой лагерь. Все казалось каким-то нереальным. Больше я не испытывала здесь страха. Во многих смыслах было достаточно знать, что немцы разбиты, а их жестокому правлению положен конец. Божья благодать… Я медленно прошлась по Освенциму, потом направилась в Биркенау. Сейчас места зверств были пусты. Из огромного количества пыточных камер уцелели только четыре кирпичных дымохода, напоминая о том зле, которое здесь когда-то царило. Я показала Давиду барак, где подружилась с Хаей. Показала кухню, где я работала. Я попрощалась с прошлым. Закрыла эту книгу и больше туда не возвращалась.
На следующий же день мы собрали чемоданы и уехали в Форенвальд.
Глава сорок шестая
Лиам сел в Хшануве в поезд и отправился в Рогозницу – тем же путем, которым ехали Каролина с Леной, Мюриэль и малышками. Он сел справа, возле окна, точно как Лена с Каролиной. На коленях у него лежал планшет, где указывались точные координаты, когда поезд двигался на север. Рядом с Лиамом сидела двадцатилетняя студентка Агнесса с длинными каштановыми волосами, в клетчатой рубашке и синих джинсах – она рассказывала о деревушках, мимо которых они проезжали. Лиам нанял Агнессу в Кракове в качестве переводчика. Он понимал, что будет ездить по сельской местности, где далеко не каждый житель говорит по-английски, и к тому же быстро признал собственную несостоятельность: польский был слишком трудным языком, чтобы общаться с помощью карманного словаря.
Лиам старательно выискивал запасные пути. Лена сказала, что они выбросили детей вскоре после того, как съехали с запасного пути. Предполагалось, что за семьдесят лет железнодорожная ветка могла измениться, но Лиам был уверен, что сумеет разглядеть подходящие места. К счастью, коммунисты не хотели тратиться на инфраструктуру, и оказалось, что железная дорога мало изменилась.
Они проехали где-то километров двести тридцать, и путешествие заняло три часа – в отличие от поездки Каролины, которая длилась несколько дней. Лиаму пришлось проявить внимательность: увидев запасной путь, он всякий раз отмечал его координаты.
Прибыв в Рогозницу, они с Агнессой арендовали машину и поехали обратно, останавливаясь в отмеченных местах, чтобы осмотреться. Значительную часть пути вокруг них были леса. Лиам точно знал, что детей выбросили не в лес, поэтому запасные пути в этих местах тут же были вычеркнуты из списка.
В итоге количество запасных путей в полях, похожих на те, о которых рассказывала Лена, где могли быть оставлены дети, сократилось до четырех. Лишь четыре места, в которых люди могли бы обнаружить брошенного ребенка. В каждом из четырех мест Лиам с Агнессой останавливались, стучались в двери и задавали вопросы. Как долго тут живет ваша семья? А вы знаете фамилию тех, кто жил здесь в 1943 году? Вы когда-нибудь слышали историю о том, что в поле у железнодорожного полотна был найден ребенок? Остался кто-нибудь, кто знает, что происходило тут в 1943 году?
В Доманюве, сельском административном округе, который назывался гмина Доманюв, они попали прямо в яблочко. Один старик, начальник местной почты, закивал головой.
– Были две маленькие девочки, а не одна. Первую нашли вон там. – Он указал на юг, на рельсы. – Вторую во-он там. – Он указал на север.
Сердце Лиама бешено колотилось в груди.
– Малышки… они были живы?
Старик кивнул:
– Да, обе. Никто не знал, откуда они, но мы решили, что они выпали из поезда. Во время войны случались ужасные вещи. – Он чуть подался вперед. – Особенно с евреями, как вам известно.
Лиам кивнул. Он прекрасно это знал.
– Они были аккуратно завернуты в теплые одеяльца. К подгузникам даже был приколот адрес – это где-то в середине Германии. Никто во время войны не собирался везти детей за сотни километров в Германию. Нет, пан.
– И что произошло? Кто вырастил детей?
– Детей нашла Эня Волчик, но она не стала их оставлять. Возраст не позволял. Она поспрашивала вокруг, но была война… трудно было найти семью, которая взяла бы на себя ответственность воспитывать двух малышек.
– И как Эня поступила с детьми?
– Точно не знаю. Помню одно, что в Доманюве они не остались.
Лиам вздохнул:
– А как же нам узнать, что с ними стало?
Старик пожал плечами:
– Эня уже давно упокоилась. И дочь ее умерла. Не знаю.
– Если я напишу небольшое объявление с просьбой, если кто-то располагает информацией о двух малышках, которых в 1943 году нашла Эня Волчик, позвонить по указанному телефону, вы позволите повесить его на почте?
– Разумеется. С радостью помогу.
Лиам повернулся к Агнессе:
– Вы не могли бы написать такое объявление? А внизу прикрепите пару моих карточек.
Позже он передал старику объявление со словами:
– Я высоко ценю вашу помощь. Вы даже представить не можете, как обрадуется одна женщина в Чикаго. Этих малышек родила ее близкая подруга, девушка по имени Каролина. Она вздохнет с облегчением, узнав, что малышки выжили.
– Каролина? Я рад помочь. Если кто-то что-либо вспомнит, я обязательно с вами свяжусь.
– И еще одно. Поблизости нет сиротского приюта?
Старик кивнул:
– Кажется, есть один. При церкви во Вроцлаве. Примерно час на машине на восток. А мысль неплохая. Очень здравая мысль.
* * *
В одном из помещений двухсотлетней готической церкви сестра Мария показала картотеку и кипы блокнотов.
– Во время войны многих еврейских детей прятали в сиротских приютах, – пояснила она на свободном английском. – Наш не исключение. И должна добавить, что сестры церкви Святого Франциска рисковали головой. Время от времени сюда врывались эсэсовцы и требовали документы. Они хотели знать родителей всех наших воспитанников. Мы подделывали документы, подделывали свидетельства о рождении для каждого еврейского ребенка, которого здесь приютили. Подросшим детям давали христианское имя и велели никогда и никому не называть свое еврейское. Иногда нам удавалось отдать детей в польскую семью. В конце войны оставшихся еврейских детей отослали в лагерь переселенных лиц. Записи за 1943 год у меня вот здесь.
Она полистала учетные карточки и покачала головой:
– Не вижу, чтобы принимали близнецов. Были девочки, особенно в 1942 и 1943 годах, когда расселяли гетто, но нигде ни слова о близнецах. Разумеется, я тогда здесь не работала, поэтому не знаю всех историй. И хотя нас учили никогда не лгать, – она подмигнула, – в учетных карточках не всегда написана правда.
– Это случилось в середине апреля, – уточнил Лиам. – Скорее всего, их привезла сюда Эня Волчик из Доманюва. Она не еврейка.
Сестра Мария кивнула и вновь пролистала карточки.
– Да, были две девочки. Их принесли в апреле 1943 года. Здесь записано, что принесла их не мать.
– Точно они! – воскликнул Лиам.
Сестра Мария покачала головой:
– Они не близнецы.
– Откуда вы знаете?
– Одной было пять месяцев, второй – всего три.
– У вас указано, кто удочерил девочек?
– Разумеется.
– Я могу узнать их имена?
– Конечно же нет! Это запрещено правилами усыновления и польским законом об усыновлении.
Лиам чуть наклонился вперед, сложил руки на столе, как поступал во время бесед, и спросил:
– Сестра, я могу рассказать вам историю женщины, которая меня наняла? – Когда он закончил рассказ о Лене, то добавил: – Я нутром чую, что эти малышки – действительно близнецы, и когда церковь выдавала им фальшивые удостоверения, то записали, что они из разных семей и разного возраста. Лена Шейнман пообещала их матери найти девочек. Что случится, если мы немножко нарушим правила? Маловероятно, что Лена как-то повлияет на их воспитание или навредит отношениям с их приемными родителями. Если эти женщины живы – им сейчас по семьдесят два года.
– Боюсь, это невозможно. Учитывая обстоятельства, я не могу добровольно открыть информацию, которую защищает закон. – Сестра Мария посмотрела Лиаму в глаза. – Вы меня понимаете?
– Отлично понимаю.
– Прекрасно. Я запишу ваше имя и номер телефона и дам знать, если что-то всплывет. Прошу прощения, я на минутку – нужно проверить, когда сегодня служба.
С этими словами сестра Мария положила две карточки на стол и вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Лиам быстро скопировал данные с карточек и вернул их на стол.
* * *
– Кэт, они выжили! Близнецы! Они выжили, их спасла одна женщина из гмины Доманюв, это в Польше.
– Лиам, поверить не могу! И они живы?
– Не знаю. Признаться, я еще многого не знаю, но уже продвинулся в своем расследовании. Если Эня Волчик отвезла их в сиротский приют во Вроцлаве в апреле 1943 года, тогда я знаю их фамилии.
– Не понимаю.
– Эня Волчик, ныне уже давно покойная, жила в Доманюве. Она нашла двух малышек в пшеничном поле, возле путей. Она не смогла бы их воспитать, поэтому не стала оставлять у себя. Никто в Доманюве не знает, как она с ними поступила. Я предположил, что она могла отнести их в приют, поэтому поехал в церковь Святого Креста в близлежащий городок. Во время войны сестры, конечно же, организовали здесь приют. Сохранились документы, что в апреле 1943 года они приняли двух девочек, но в карточках указано, что они разного возраста. По документам одной было три месяца, второй – пять. Таким образом, скорее всего, они хотели обмануть нацистов. Как бы там ни было, у меня есть фамилии семей, которые после войны удочерили малышек, и их адреса.
– Как тебе удалось их раздобыть? Агентства по усыновлению не разглашают подобную информацию.
– Все благодаря моему ирландскому обаянию.
– Я тебя умоляю! И что мы предпринимаем дальше? У нас осталось мало времени. Как насчет Мюриэль Бернштейн?
– У меня есть две семьи и два адреса. Хотя адреса указаны еще в сороковых годах, я все равно буду искать. А Мюриэль пока мне не перезвонила. Попытаюсь до нее дозвониться.
– Лена невероятно обрадуется, когда узнает о твоих находках. Как думаешь, стоит сообщить ей радостную новость, в которой мы сами пока не уверены?
– Почему не уверены? Уверены! Близнецы Каролины выжили. Их выбросили в окно движущегося поезда две отчаявшиеся женщины, но малышки выжили. Почтальон в Доманюве даже сообщил мне, что, когда девочек нашли, к пеленкам были приколоты адреса. Я еще не знаю, что стало с ними дальше, но готов поспорить, что они попали в приют, и за эту ниточку я намерен потянуть. Но, Кэт, на это нужно время. Моим сведениям уже семьдесят лет. Ты должна добиться отсрочки.
– Я уже подала ходатайство. Завтра утром слушание.
– Удачи. Я тебя люблю. Береги будущего малыша.
Глава сорок седьмая
Судья Петерсон знакомился с ходатайством, а Кэтрин с Ширли молча стояли перед судейским столом.
– Зачем вам еще шестьдесят дней? – поинтересовался он, глядя на адвоката поверх очков.
– Потому что наше расследование установило факт существования близнецов и доказательство того, что они выжили во время войны, – ответила Кэтрин. – В настоящее время наш детектив в Польше пытается выйти с ними на связь.
– А какое мне дело до этого?
– Мы собрались в этом зале, поскольку истец обвиняет Лену Вудвард в том, что она страдает маниакальной одержимостью, пытаясь разыскать двух несуществующих девочек. Но теперь мы точно знаем, что девочки существовали и в 1943 году были живы.
– Разве мне как судье, рассматривающему дело об опеке, это каким-то образом дает ответы на вопросы, указанные в иске? Мистер Вудвард утверждает, что имеет место психическое расстройство в результате старческой деменции. Он уверяет, что ответчица полностью поглощена навязчивым желанием разыскать двоих детей, реально существующих или выдуманных, и такая зацикленность свидетельствует о психическом расстройстве в силу возраста ответчицы, ведь так?
– Да, ваша честь, но подобные утверждения лишены оснований, потому что…
– Лишены оснований, миссис Локхарт? Мы сейчас обсуждаем то, что происходит в зале суда? Я имею в виду, что одна сторона представляет факты, потом другая сторона представляет свои, а потом некий судья, в данном случае я, решает, какие из представленных фактов перевесят. Я верно описал процедуру суда, миссис Локхарт?
– Но мистер Вудвард фактически полностью основывает свой иск на утверждении, что близнецы вымышленные и их никогда не существовало, чего он не сможет доказать…
– В таком случае он проиграет дело, не так ли?
– Но, Ваша честь, мне всего лишь необходимо еще шестьдесят дней, чтобы обеспечить себя доказательной базой.
Судья Петерсон поджал губы:
– Я уже устал от вас. Ходатайство отклонено.
– Могли бы вы дать две недели? Всего две недели!
– Хорошо, – раздраженно ответил Петерсон. – Две недели. И точка. Слушание назначается на девятое мая. И я отложу его только в одном случае: в случае смерти. Вашей смерти. Следующее дело.
* * *
– Прежде чем мы начнем, у меня для вас потрясающие новости. Но вам лучше присесть.
– Судья удовлетворил наше ходатайство? Отложил слушание? – спросила Лена, присаживаясь.
– Да, на две недели. Но не эти новости я хотела сообщить. Вы сегодня уже приняли сердечные капли?
Лена притворно нахмурилась:
– Я не принимаю сердечные капли! С моим сердцем и мозгами все в порядке!
– Лиам выяснил, что малышки выжили. Одна женщина из Доманюва нашла их в поле, прямо у железнодорожных путей. К подгузникам был приколот адрес Зигфрида.
Лена откинулась на спинку кресла, одной рукой прикрыла глаза, второй зажала рот. И громко зарыдала. Кэтрин бросилась к ней.
– Лена, с вами все в порядке?
– Каролина была права. Она оказалась права. Ценой собственного рассудка и жизни она спасла детей. Мы выбросили их из поезда, чтобы спасти от неминуемой смерти, и она оказалась права! Они выжили. Каролина, где бы ты сейчас ни была, знай: наши малышки выжили. Слава Богу! – Лена взглянула на Кэтрин, в глазах которой тоже стояли слезы: – Спасибо вам и, конечно же, Лиаму!
– С вами все в порядке?
Она кивнула.
– Я не знаю, как это передать, но камень, который я все эти годы носила в душе, наконец-то упал. – Она покачала головой. – Вы даже представить себе не можете, каково это – думать, что вышвырнул в окно любимое дитя и оно разбилось! Если бы я знала это пятьдесят, шестьдесят лет назад, я бы… Неважно. Не имеет значения.
– Лиам считает, что девочек отнесли в приют. У него есть имена, которые им дали при удочерении. Если кто и способен отыскать их след, так это Лиам. Он уверяет, что уже есть ниточка. К сожалению, большего я пока сообщить не могу.
– Вы сказали, что они выжили, и теперь я знаю, что мы с Каролиной спасли им жизнь. Вы должны понять, что это означает. Они были детьми, которым не следовало родиться. Юденрат, друзья – все предупреждали женщин, чтобы они не беременели: нельзя было рожать детей в таком неспокойном мире. Если же они оказывались настолько опрометчивыми и безрассудными, что все-таки рожали, эти дети были обречены – обречены на голод, мучения и смерть. Вы только представьте, какие противоречивые чувства владели женщинами, которые рожали во время холокоста! Радость, чувство вины, страх, любовь… – Лена всхлипнула и вытерла слезы. – Но мы спасли наших малышек. Наши девочки выжили.
Кэтрин дождалась, пока она возьмет себя в руки.
– Вы хотите продолжить рассказ? Или перенесем его на другой день?
– Нет-нет, со мной все в порядке. Даже больше. Давайте заканчивать. Осталось совсем чуть-чуть.
– Мы с Давидом отправились в Форенвальд – большой лагерь, организованный США. Целая армия в жилом комплексе, где ранее жили рабочие концерна ИГ Фарбен. Жилье было довольно приличным, одним из самых приличных в лагерях для перемещенных лиц. Квартирки были небольшими, но с водопроводом, кухонькой и центральным отоплением.
В Форенвальде быстро открылись школы и больницы. Когда мы приехали, там уже было более четырех тысяч жителей. Организация по оказанию чрезвычайной помощи ООН снабжала людей едой, лекарствами, одеждой и занималась их обучением для получения работы.
В целом лагерь оказался вполне пригодным для проживания, но все-таки временным решением проблемы. Все семьи подали заявления на визы и ждали, когда придут эмиграционные документы. Большинство хотели бы переехать в Израиль, но в 1945 году Израиля как государства еще не было. Это была британская подмандатная территория на Ближнем Востоке[53]. Там продолжали действовать довоенные строгие квоты Невилля Чемберлена, и арабы отчаянно сопротивлялись еврейской иммиграции. Это движение возглавил муфтий Иерусалима, Амин аль-Хуссейни, позиция которого была предельно четкой: все евреи, которые в настоящее время живут в Палестине, должны оттуда выехать. Конечно, в 1948 году, когда Израиль стал государством, ситуация изменилась.
Честно признаться, 1948 год стал значимым и для нас. В Конгрессе Соединенных Штатов был принят «Закон о перемещенных лицах», который позволял переселить в США до двухсот тысяч военных беженцев. Тем не менее иммигрировать в Штаты оказалось непросто, особенно для евреев. Нужно было найти там человека, готового поддержать тебя материально, и иметь возможность зарабатывать на жизнь. Нам повезло: брат Давида уже жил на западе Чикаго, он и дал нам денег. Мы получили визы и в 1949 году, в январе, переехали в Америку.
* * *
У Кэтрин зазвонил телефон, и она сняла трубку. Глэдис сообщила:
– Кэт, на другой линии Лиам. Он хочет поговорить с тобой, но так, чтобы Лена при этом не присутствовала.
Кэтрин встала.
– Лена, прошу меня простить, это всего на пару минут. Я должна ответить на очень важный звонок. Зовите Глэдис, если захотите кофе или еще чего-нибудь.
Закрыв дверь кабинета, она ответила на звонок мужа.
– В чем дело? Скажи, ты разыскал близнецов?
– Пока нет. Правда, одну почти нашел, но звоню я не поэтому. Я только что разговаривал с Мюриэль Бернштейн. Давай я дам послушать тебе запись разговора.
– Ты записал ваш разговор?
– Да.
– Лиам, а у тебя есть разрешение записывать разговоры?
– Ох, это как-то вылетело у меня из головы. Ты можешь просто послушать его?
– Ладно.
– Здравствуйте, это Мюриэль.
– Мюриэль, меня зовут Лиам Таггарт. Я частный детектив, меня наняла Лена Шейнман.
– Лена? Боже мой! Она жива? Я не видела ее со времен войны. Как она?
– С ней все хорошо. Даже более того, она жива и здорова, насколько можно быть здоровой, учитывая ее возраст. Теперь ее зовут Лена Вудвард.
– Вудвард? Она вышла замуж за Давида Вудварда?
– Да, и они счастливо прожили вместе более шестидесяти лет. Давид скончался два года назад.
– Вы и представить себе не можете, какая это радость для меня! Я бы с удовольствием встретилась с Леной. Где она живет?
– В Чикаго. От вас всего два часа лету. Я мог бы организовать вашу встречу. Вы позволите мне озвучить цель этого звонка?
– Разумеется. Чем я могу вам помочь?
– Во время войны – уверен, что вы это прекрасно помните, – Лена торжественно поклялась Каролине, что вернется и найдет ее близнецов.
– Близнецов Каролины?
– Верно.
– Каролины Нойман?
– Да, конечно.
Повисло молчание.
– Мюриэль…
– Мистер Таггарт, что именно рассказала вам Лена?
– Вы не помните это ее обещание?
– Почему бы вам не освежить мне память?
– Когда вы ехали в поезде в Гросс-Розен, вы сидели втроем, верно?
– Да. Нас усадили в поезд в Хшануве. Это был настоящий пассажирский вагон.
– Совершенно верно. Каролина держала на руках своих малышек, когда мимо проходила какая-то женщина и сказала, что нацисты убьют детей, как только они прибудут в лагерь. И тогда Каролина вышвырнула одну малышку в окно, а Лена выбросила вторую. Они поклялись вернуться и найти дочерей Каролины.
Опять молчание.
– Мюриэль?
– Что вы хотите от меня, мистер Таггарт?
– Несколько месяцев назад Лена наняла меня, чтобы я разыскал детей Каролины, и я уже близок к выполнению задания. С удовольствием сообщаю вам, что обе девочки выжили, их отправили в ближайший приют. Но сын Лены подал иск о признании матери недееспособной, чтобы помешать ей выполнить обещание, данное Каролине. Он заявил в суде, что детей Каролины никогда не существовало, а их мать – выдумка.
– Какой ужас! Боже мой, ее собственный сын! Но вы так и не ответили на мой вопрос, мистер Таггарт: чего вы от меня хотите?
– Если у вас есть возможность, я бы хотел, чтобы вы приехали в Чикаго и засвидетельствовали в суде, что Каролина родила близнецов, а Лена обещала вернуться и разыскать их. Благодаря вашим показаниям сын Лены проиграет суд.
– А как же Каролина? Вам известно, что стало с Каролиной Нойман?
– К сожалению, она умерла в Паршнице, в концентрационном лагере. Со слов Лены, Каролина настолько обезумела от потери девочек, что попыталась сбежать и ее застрелили надзиратели.
– Как печально! Знаете, я больше не езжу на такие расстояния. Боюсь, я не смогу приехать в Чикаго.
– Ничего страшного, Мюриэль. Адвокат Лены может приехать к вам и записать ваши показания на видео в Нью-Йорке. Мы сами можем к вам приехать.
– Вы не захотите это делать, мистер Таггарт.
– Нет, захотим. Я пока не нашел девочек, но без вашего участия Лена, скорее всего, проиграет суд.
– Мои показания Лене не помогут.
– Почему? Вы же были той медсестрой, которая приняла близнецов в гетто Хшанува, разве нет?
– Да, была.
– Лене необходимо доказать, что близнецы Каролины реально существовали. Почему вам так тяжело это сделать?
– Поговорите с Леной. До свидания.
Лиам нажал отбой.
– Кэт, ты это слышала? Можешь поверить, что она не станет давать показания?
– Не станет. И кажется, я знаю почему.
– Я весь внимание.
– Каролина Нойман никогда не рожала детей. У нее их не было. Мюриэль не станет записывать видеопоказания, чтобы подтвердить историю Лены, потому что это неправда. Да, Мюриэль приняла роды, но не у Каролины. Близнецы – дети Лены. Это Лена родила близнецов.
– Черт побери! А вся эта история о Каролине и ее детях…
– Всего лишь прикрытие. Лена Шейнман полюбила Давида Вудварда, они вместе проводили ночи в его комнатке. Лена забеременела. Через несколько недель Давида отправили в другой лагерь, и он так ничего и не узнал. Близняшки – дочери Давида.
– Боже мой!
– У меня давно уже зародились некоторые подозрения, но когда ты рассказал о фрау Штраус, о том, что она сказала о Хильде Шульц, я задумалась всерьез. Помнишь, я не раз говорила, что есть в этой истории какая-то страшная, тщательно скрываемая тайна. За последние несколько дней я просмотрела свои записи, вот картинка-загадка и сложилась. А теперь, когда ты рассказал о Мюриэль, я абсолютно уверена: когда Лена описывала рождение детей, она говорила о себе. Если поменять Лену с Каролиной местами, их отношения, историю – все сходится.
– А как же разговор в душе, когда Лена впервые заметила, что Каролина беременна? – спросил Лиам. – Когда они обсуждали возможность аборта?
– Поменяй местами действующих лиц.
– А как же Зигфрид? Лена спрашивала Каролину, сможет ли она жить в Баварии в качестве жены Зигфрида. Разве они не обсуждали возможность растить еврейских детей в Германии?
– Нет. Весь разговор сводился к тому, смогут ли Каролина и Зигфрид построить совместную жизнь в Германии. Он написал матери, что влюбился в девушку-немку. О детях не было сказано ни слова. Даже когда Зигфрид написал свой адрес, он сделал это для того, чтобы Каролина могла уехать к его матери. В письме к матери не было даже намека на детей. Сам подумай. Фрау Штраус сказала тебе, что никогда не слышала, чтобы у Зигфрида были дети, а она обязательно узнала бы о них, потому что Хельга Шульц наверняка похвасталась бы внуками.
– Когда им нужен был от Зигфрида уголь, они вывернули ему руки, пригрозив, что принесут детей в Цех и всем расскажут, что это его дети. Вспомни, как Лена это описывала. Зигфрид был ошарашен: «Мои дети? Почему ты так поступишь?» Он был в шоке, потому что дети были не его.
– Девяносто процентов рассказанного Леной – правда. У Каролины была связь с Зигфридом. Она спала с ним, чтобы спасти Лене жизнь, но Каролина не беременела, не рожала близнецов, и Мюриэль практически прямо об этом сказала. Это Лена родила девочек. Каролина, Мюриэль и Лена жили в подвале Йосси с дочерьми Лены. И по очереди присматривали за малышками. История об участии Лены в Сопротивлении – правда: в результате твоего расследования подтвердились личности полковника Мюллера и Витольда Пилецкого. Уверена, правда и то, что полковник устроил так, чтобы Лену отослали в Гросс-Розен, а не в Освенцим. Я также уверена, что женщина в поезде, предупредив их о том, что сделают с детьми нацисты, лишь подтвердила то, что они и так знали: нацисты отберут у нее детей, как только они приедут в лагерь. История о том, как малышек выбросили в окно, – чистая правда, и ты сам это проверил. Чья была идея, Каролины или Лены, я не знаю, но склоняюсь к тому, что эта мысль пришла в голову Каролине – она явно оказалась сильнее и решительнее Лены, вернее, так было, пока они не приехали в Гросс-Розен. Но на самом деле это не имеет никакого значения. Семьдесят лет Лена скрывала правду о том, что она – мать этих близняшек. Вот и все ответы на вопросы, Лиам. Я просто их не разглядела. Она постоянно говорила «наши дети». Вспомни даже последние слова Каролины: «Ты выживешь и разыщешь наших детей». Не моих детей. И это логично, Лиам. Лена ждала все эти годы, чтобы начать поиски, поскольку не могла признаться Давиду, что убила их дочерей. Она говорила, что многие годы отказывалась обсуждать холокост и все, что касается войны, и с Давидом, и с кем бы то ни было еще. Давид так и не узнал, что у него родились дочери. Помнишь, как она рассказывала, что Давид хотел дочь? Помнишь, как Артур высмеял ее в суде, сказав, что она всегда хотела иметь дочь, а не сына? Она не могла поступить иначе, Лиам. Не могла сказать Давиду, что у него все-таки родились дочери, а она выбросила их в окно поезда и, скорее всего, убила. Лену съедало чувство вины, но она боялась разыскивать детей, пока Давид был жив. Она все хранила в себе, а несколько лет назад просто не выдержала. Ей идет девятый десяток, и если она хочет выполнить свое обещание, то пора это сделать сейчас. Поэтому она и выдумала эту историю о Каролине и захотела вернуться в Польшу, якобы узнать, что произошло с близнецами Каролины. Это было всего лишь прикрытием. Когда я поделилась с ней новостью, что малышки выжили, с ней случилась настоящая истерика. Я такого еще не видела. Она отреагировала так, как могла отреагировать только настоящая мать. А теперь и Мюриэль подтвердила наши догадки. По какой еще причине Мюриэль отказалась бы помочь своей подруге? Подумай об этом. Потому что тогда ей придется открыть правду, и она испугалась, что, сказав правду, может навредить Лене.
– Ты будешь говорить Лене, что все знаешь?
– Не сейчас. Зачем? Она так ранима и чувствительна, что может случиться приступ. Пока будем говорить только, что ты выяснил: близнецы Каролины выжили.
– И как ты намерена выиграть суд?
– Вопрос хороший. Пока еще не решила. Петерсон дал всего две недели, придется поторопиться. Я вызвала в суд врача Лены, он будет хорошим свидетелем. У меня есть ее медицинская карта. Я пригласила в качестве свидетеля мистера Форрестера, агента из Иллинойского департамента по делам пожилых людей. Выложусь по полной. Насколько ты близок к тому, чтобы узнать хоть что-нибудь о детях?
– Одну практически разыскал. Вторая ниточка оборвалась – изначально семья жила во Вроцлаве, но в начале пятидесятых переехала, не оставив адреса. По крайней мере мне его найти не удалось. Не забывай, что Польша долго находилась за «железным занавесом», была коммунистической марионеткой и вся официальная информация была закрыта. Только последние двадцать лет ее рассекретили. Невозможно перерыть все архивы.
– Но одну из девочек ты практически нашел, да? Если найдешь хотя бы одну – большего нам и не нужно.
– Возможно, ее удастся найти. Если она до сих пор жива, если захочет с нами сотрудничать, если согласится давать показания, если вообще знает, что ее удочерили, если знает, что ее выбросили из поезда, если возраст у нее подходящий, если ДНК совпадет… Слишком много «если». Я пытаюсь тянуть за ниточку, но ты даешь мне слишком мало времени.
– Даю столько, сколько есть у меня самой.
– Ладно. Позже поговорим. Я тебя люблю.
Кэтрин вернулась в конференц-зал, где Лена и Глэдис оживленно беседовали.
– Лена, вы готовы закончить историю?
– Я уже почти все рассказала. Почти все, что знала. Когда мы переехали в Чикаго, Давид открыл ателье. А что оставалось делать? Как я вам уже говорила, Давид был прирожденным предпринимателем.
– Только не говорите, что он снова занялся контрабандой сигарет.
Лена засмеялась:
– Нет. Но он купил пару небольших бакалейных лавок неподалеку. И мудро вложил деньги. Мы вместе изучали финансовые рынки и довольно ловко разбирались в происходящем там. Вместе мы основали «Д. Моррис Вудвард Инвестментс». Шестьдесят два года назад у нас родился Артур.
Кэтрин подняла руку:
– Позвольте вас на секунду перебить. Когда вы впервые заговорили с Давидом о близнецах Каролины?
– А какое это имеет значение?
Кэтрин пожала плечами:
– Этот вопрос может возникнуть во время слушания.
– Наверное, года четыре назад.
– А раньше никогда не заговаривали? Вы хотите сказать, что никогда не рассказывали Давиду о девочках? Впервые только четыре года назад?
– Верно. Я уже говорила вам, что хотела жить дальше, а не вспоминать то, что случилось во время войны. Это правда, что я рассказала свою историю в «Яд ва-Шем» и принимала участие в организациях тех, кто пережил войну, но никогда не рассказывала о своих личных переживаниях, пока не обратилась к вам. Мы с Давидом не обсуждали войну. Для нас обоих эта тема была слишком болезненной. Слишком личной. Давид так никогда и не узнал, что произошло у меня с Рольфом. И так и не узнал, как я жила в Освенциме.
– Но четыре года назад вы заговорили о Каролине.
– Я только сказала, что моя подруга Каролина родила девочек-близнецов. Когда она рожала, Давида не было. Он спросил, что с ними стало, и я сказала, что Каролина оставила их в поле. Ни слова о поезде. И призналась, что пообещала подруге попытаться их разыскать, но это казалось невозможным, поэтому я даже не пробовала. Это все, что он знал.
– Когда мы только начали наши встречи, вы сказали, что именно Давид побудил вас сдержать обещание найти близнецов Каролины.
– Я такое говорила?
– Да, это есть в моих записях.
– Но разве такие мелочи имеют какое-то значение? Я ничего не предпринимала целых шестьдесят лет, потому что не было сил. Слишком тяжело. Я не могла заставить себя искать ребенка, которого сама же выбросила в окно. Не могла без содрогания вспоминать о Каролине. Вы уж точно сможете это понять. – Она смахнула слезу кончиками пальцев.
Кэтрин положила руку Лене на плечо:
– Конечно, я понимаю. Простите мою въедливость. Наверное, всему виной моя натура адвоката.
Лена встала, чтобы уйти.
– Узнать о том, что дети не умерли, что они пережили весь этот ужас, что их удочерили, – большего мне и не надо. На большее я и не надеялась. Знаете, мне на самом деле наплевать на то, что через две недели произойдет в суде. Больше это не имеет ни малейшего значения. Вы с Лиамом выполнили мое обещание. Дети выжили. Мы с Каролиной приняли правильное решение, когда выбросили их в поле.
– А кто принимал это решение, Лена? Вы или Каролина?
– Решение приняла Каролина. В конце концов, это же были ее дети.
Глава сорок восьмая
Вернувшись в Чикаго, Лиам получил сообщение от Артура: «Прошу вас о встрече до начала слушания. Только вы и я. Без адвокатов».
– Как думаешь, что ему надо? – удивилась Кэтрин.
– Понятия не имею. Возможно, хочет заключить сделку.
– Единственная сделка, на которую согласна Лена, – если он отзовет свой иск.
– Думаю, если бы Артур хотел именно этого, у него не было бы нужды встречаться со мной. Скорее всего, он хочет получить контроль над всеми деньгами, поэтому назначает встречу в качестве опекуна Лены.
Кэтрин кивнула:
– Может быть. Ты согласился на встречу?
– Нет, хотел сначала поговорить с тобой.
– Соглашайся. Посмотрим, чего он хочет.
* * *
В кафе в Уикер-парке Артур, обхватив двумя руками чашку с капучино, сидел за столиком один. Завидев Лиама, он привстал с места и сказал:
– Спасибо, что пришли. Между нами возникло множество недоразумений, но я надеюсь, что мы обсудим все спорные вопросы и выкурим трубку мира, если вы понимаете, о чем я. Честно признаюсь, я не хочу обижать мать.
– Серьезно? Возможно, вы никогда серьезно не читали законов, но подача иска с требованием признать свою мать недееспособной явно не принесет вам звание «Сын года».
– Трубка мира, Лиам.
– Что вы задумали, Артур?
– У нас никогда не было проблем, за исключением последних нескольких лет. Пока не возникла эта тема с Каролиной, мы, можно сказать, были близки… Насколько можно быть близким с человеком, который пережил столько, сколько моя мать. Я знаю, что она рассказывает Кэтрин историю своей жизни, причем гораздо подробнее и откровеннее, чем мне. Но у любого человека, который страдал так, как страдала моя мать, в голове роится множество страхов. Она никогда не говорила со мной о холокосте. Никогда. В нашем доме никогда не обсуждалась тема лишений и испытаний, выпавших на ее долю. Но я знаю: она так и не смогла о них забыть. Всякий человек, чьи родные пережили войну, это знает. За пару лет до смерти отца она заговорила о своей подруге детства, Каролине. Ни с того ни с сего. По неизвестной причине она стала говорить, что обязана сдержать обещание, данное семьдесят лет назад. Отец… он очень любил мать и согласился с ней. Он даже поддержал ее, но до смерти отца дальше разговоров дело не пошло. А теперь моя мать хочет найти этих детей. Вне зависимости от того, чего это будет ей стоить – и денег, и эмоциональных усилий. История с Каролиной стала ее навязчивой идеей. Манией. Я разговаривал с психиатрами. Они уверяют, что существует серьезный риск повреждения рассудка, когда навязчивая идея оборачивается пшиком. И поверьте мне, эта ее идея – просто пшик. Она живет своей одержимостью. А что произойдет, когда она узнает, что это всего лишь выдумки? Вы об этом подумали? Как это скажется на ней?
– И дело совершенно не в деньгах? Ваше наследство здесь ни при чем?
– Черт побери, нет! Не нужно мне ее наследство. Я забочусь лишь о ее здоровье. Но при этом не желаю, чтобы она потратила все отцовские деньги или отдала их аферистам.
– Это уж точно!
– Знаете, хотите верьте, хотите нет – для меня это не имеет никакого значения. Но деньги, безрассудно потраченные на адвокатов и детективов, которые ездят по свету, собирают сплетни и выслушивают сказочки, – это финансовая катастрофа. А без денег она не сможет воплощать свою сумасбродную идею. Если я буду контролировать ее деньги… Ну, вы понимаете.
– И что вы предлагаете?
– Если меня назначат окончательным опекуном ее имущества, отдадут управление ее финансами – в остальном я отступлюсь, не стану помещать ее в специализированное заведение.
Лиам покачал головой и встал, чтобы уйти.
– Какой же ты ублюдок!
Артур взглянул на счет, швырнул на стол двадцать долларов.
– Подумайте над моим предложением. Через пару дней у нас слушание.
* * *
– Лиам, вероятнее всего, Лена согласится на его условия. Мне кажется, она больше не хочет бороться. Она узнала, что дети выжили, а это для нее самое главное. Она понимает, что суд станет для нее слишком тяжелым испытанием. Она не хочет рассказывать свою историю широкой публике. Я единственная, кому она когда-либо доверилась. Боюсь, что она вообще откажется давать показания. Я даже не представляю, как вызову ее на место свидетеля и вместе с Майком Ширли подвергну перекрестному допросу. И на сегодняшний день у нас пока нет доказательств существования близнецов. Что скажешь?
– Я понимаю, что есть смысл согласиться на предложение Артура, но я бы повременил. Я сильно рискую, но кое-что придумал. Я почти уверен в удаче, и Лене даже не придется давать показания.
– Ты о чем?
– Расскажу, когда вернусь домой. Я еще над этим работаю. Доверься мне. У нас осталось несколько дней.
– Хорошо.
– Ты лучшая из адвокатов. Верь в свои силы. Думаю, ты сможешь выиграть это дело даже без моей помощи и свидетельских показаний Лены.
– Ты пьян? Что ты пил?
Глава сорок девятая
Судья Петерсон занял свое место на возвышении и кивнул секретарю, которая трижды ударила деревянным молотком и объявила:
– Слушается дело номер 13 Р 6268 «Иск об опеке над Леной Вудвард». Объявляется начало слушания.
– Стороны готовы к слушанию? – уточнил судья Петерсон.
Ширли вскочил с места:
– Истец готов, Ваша честь.
– А ответчик готов?
Кэтрин встала и нервно огляделась. Посмотрела на часы. Потом перевела взгляд на дверь.
– Ответчик подает ходатайство о небольшой отсрочке.
– Ходатайство отклонено. Ответчик готов к слушанию?
– Очень короткой отсрочке. Мы можем начать слушание завтра?
– Нет.
– А сегодня после обеда?
– Нет.
Кэтрин неохотно кивнула:
– В таком случае ответчик готов.
Она постоянно оглядывалась на дверь. Лиам обещал приехать до начала судебного заседания, но вынужден был задержаться и велел оттянуть начало слушания.
– Ваша честь, – сказала Кэтрин. – Прежде чем мы начнем слушать показания, мы бы хотели обсудить полученное от истца предложение. Мы не могли бы объявить часовой перерыв, чтобы его обговорить?
– Нет. Все обсуждения закончились. У вас было несколько месяцев для обсуждений. Мистер Ширли, вызывайте своего первого свидетеля.
Кэтрин продолжала стоять.
– Ваша честь, мы можем объявить короткий перерыв, мне нужно в дамскую комнату. Как вы видите, я на последних месяцах беременности. – Она улыбнулась судье.
Петерсон громко вздохнул:
– Пять минут. И мы начинаем.
Лена наклонилась к Кэтрин и прошептала:
– Кэтрин, что происходит?
– Скоро узнаете. Я надеюсь…
Через десять минут Кэтрин вернулась в зал суда и заняла свое место. Лиама до сих пор не было. Судья Петерсон произнес:
– Наконец-то! Мистер Ширли, вызывайте своего первого свидетеля.
– Сторона истца вызывает свидетеля мистера Артура Вудварда.
Артур встал, посмотрел на Кэтрин, на Лену, покачал головой и пошел к свидетельской трибуне. Он поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и с уверенным видом, расправив плечи, занял место свидетеля. Ширли вкратце расспросил его о детстве и отношениях с родителями, а спустя пятнадцать минут приступил к сути дела.
– Все началось четыре года назад, – сказал Артур. – У мамы появились видения о некой подруге по имени Каролина. Раньше я никогда о ней не слышал. Мама постоянно плакала. Она говорила отцу, что дети Каролины потерялись, что кто-то должен их разыскать. Она неустанно повторяла: «Мне нужно поехать в Польшу, найти малышек Каролины». Малышек, Ваша честь, которым сейчас исполнилось бы по семьдесят лет, если бы они были до сих пор живы… и если они вообще существовали. Но она продолжала называть их малышками. После смерти отца эта идея полностью овладела мамой. Она раскладывала повсюду карты Польши, путеводители, расписания поездов. Делала запросы о поездах, которые ходили в 1940-х годах. Полки шкафов ломились от фотографий из навигаторов с изображением сельской местности и железнодорожных путей. Казалось, ее больше ничего не заботит – только эта навязчивая идея…
Из глаз Лены текли слезы, она промокала их носовым платком.
– Я не могу это слушать, – прошептала она.
– По вечерам я приходил повидаться с мамой, а она сидела, уставившись в компьютер, пытаясь что-то узнать о людях из маленьких польских и немецких городов. Она искала в онлайн-архивах, распечатывала вырезки, датированные концом сороковых, из местных газет небольших городков. Я советовал ей бросить поиски. Жить дальше. Часто доходило до ссоры, когда она говорила мне, чтобы я не лез не в свое дело. Я отвечал ей: «Это мое дело! Знаешь, как глупо ты выглядишь, когда пытаешься с помощью компьютера найти несуществующих людей, которые…»
– Довольно! – воскликнула Лена, вскакивая с места и ударяя кулаком по столу. – Прекратите это слушание! Немедленно! Я сдаюсь. Отдайте ему все, что он хочет. Больше я не могу этого слышать.
Кэтрин встала, обняла ее за плечи и попыталась успокоить.
– Не делайте этого, Лена, – прошептала она. – Потерпите. Лиам велел ждать. Кроме того, у нас еще будет возможность рассказать свою версию истории. Если до этого дойдет, думаю, мы выиграем дело.
– Кэтрин, хватит. Я больше не могу бороться. Я этого не вынесу, не смогу давать показания. Не хочу занимать место свидетеля.
– Ваша честь, мы можем объявить небольшой перерыв? Сами видите, моя клиентка очень расстроена.
– Ходатайство отклонено. Миссис Вудвард признает все, что указано в иске? И согласна, чтобы суд принял решение в пользу истца?
– Не согласна! – выкрикнул из глубины зала Лиам. – Лена, не говорите больше ни слова. Кэтрин, мне необходимо немедленно с тобой поговорить.
Кэтрин повернулась к судье:
– Сожалею, Ваша честь, но только что мой детектив прибыл с информацией, которая имеет непосредственное отношение к данному слушанию. Мне нужно всего несколько минут, пожалуйста.
Судья Петерсон покачал головой:
– Идет допрос свидетеля. Ваша клиентка только что признала исковые требования…
– Ваша честь, всего минуточку, пожалуйста! Пусть в протоколе будет указано, что вы справедливый судья. Если сведения моего детектива окажутся «пустышкой», я не стану стоять у Лены на пути и дело будет закрыто. Но у меня такое чувство, что мистер Таггарт узнал для нас что-то очень важное, что может изменить ход всего слушания.
– Я категорически возражаю, – сказал Ширли.
– Я уже устал от всего этого цирка, миссис Локхарт, – сказал судья Петерсон. – Лучше бы новости были стоящие. Суд объявляет пятнадцатиминутный перерыв.
Лиам повернулся и вышел из зала суда.
– Что, черт побери, происходит? – взвился Артур. – Очередная театральная интрига, миссис Локхарт? Чтобы отсрочить неотвратимое? Вы слышали, что сказала моя мать. Она умывает руки.
Кэтрин наклонилась и прошептала Лене на ухо:
– Лена, пойдемте со мной.
Слезы катились у старушки из глаз и падали на стол. Она покачала головой:
– Пусть все это поскорее закончится.
– Пока рано. Пойдемте со мной.
Кэтрин протянула Лене трость, помогла встать, и они медленно направились к двери зала судебных заседаний.
– Пятнадцать минут! – закричал Артур. – После этого я беру слово. Больше никаких Локхартов. Никаких Каролин.
Лена и Кэтрин шли по коридору к Лиаму, который стоял с двумя женщинами у окна. Кэтрин взглянула на них и широко улыбнулась. Женщины были высокими, стройными, стильно одетыми и тепло улыбались Лене. Кэтрин подтолкнула ее вперед.
– Пойдемте.
Но Лена застыла как вкопанная, и Лиам подвел этих женщин к ней.
– Позвольте представить вам Софию Сташевич и Анелю Лерскую, – сказал он, – которых вы знаете под именами Рахиль и Лия.
Лицо Лены покраснело, губы задрожали, руки затряслись. Кэтрин обняла ее за плечи, чтобы она не упала. Лена взглянула ей в глаза.
– Каролина… – прошептала она. – Это ее дочери-близняшки.
– Нет, – мягко улыбнулась Кэтрин. – Скажите им правду, Лена. Все в порядке.
Старушка глубоко вздохнула и тяжело сглотнула:
– Не могу.
– Нет, можете. Они все знают.
Лена разрыдалась и кинулась обнимать своих дочерей:
– Мне так жаль…
– Жаль? Ты подарила нам жизнь, – сказала София. – Как бы там ни было, но у тебя хватило смелости спасти нас. Спасибо, мама.
Несколько минут они так и стояли, втроем, заключив друг друга в теплые объятия.
Обнимая Анелю, Лена сказала:
– Когда я держала тебя на руках последний раз, ты смотрела на меня ясными глазками и улыбалась. Каждый день с 1943 года у меня перед глазами стояла твоя улыбка. Она и сейчас такая же.
Лиам прошептал Кэтрин на ухо:
– Прости, что не смог приехать раньше, самолет опоздал.
– Мы столько всего должны тебе рассказать, – сказала Анеля. – Как мы жили все эти годы… Лиам обо всем позаботился, и мы пробудем здесь целую неделю.
– Мы хотим знать все-все о наших настоящих родителях, – добавила София.
– Жаль, что я не могу познакомить вас с отцом, – ответила Лена. – Давид был чудесным человеком, он бы с радостью принял дочерей. Если бы я была смелее, то разыскала бы вас много лет назад и тогда вы знали бы своего отца. Но мне не хватило духу. Зато у меня осталось много его фотографий.
Ширли распахнул дверь зала суда, высунул голову в коридор и сообщил:
– Миссис Локхарт, судья вернулся.
Они все впятером вошли в зал суда и заняли место за столом.
– Ваша честь, – сказала Кэтрин, – я хотела бы представить вам двух дочерей-близнецов миссис Вудвард. Они только что прилетели из Европы.
– Что? – вскочил Артур. – Это правда? Вся эта безумная история – правда? Они на самом деле близнецы? И они не дети Каролины? Ты хочешь сказать, что это мои сестры?
Заплаканная Лена кивнула, счастливо улыбнулась и снова кивнула.
– Вы все – дети Лены и Давида Вудвардов. Артур, прости, что обманывала тебя. И очень жаль, что мне не хватило смелости рассказать обо всем отцу. Это моя вина. А эти прекрасные женщины – твои родные сестры.
Артур взглянул на Ширли:
– Ты же говорил, что у тебя есть доказательства! Уверял, что можешь доказать, будто моя мать слабоумная. И что никто в этом не сможет усомниться. А как же доктор Саливан, эксперт, который намерен был предстать перед судом и дать заключение, что моя мать страдает от бредового расстройства, вызванного старческой деменцией?
Ширли сидел с равнодушным видом, постукивая ручкой по блокноту.
– Это было самое лучшее заключение, какое только можно купить за деньги.
Артур повернулся к матери:
– Поверить не могу. Это настоящее потрясение!
– Хотите дождаться анализа ДНК? – поинтересовался Лиам.
Артур покачал головой:
– Нет. Нет смысла. – Он с отвращением посмотрел на своего адвоката, потом взглянул на Лену. – Что тут скажешь? Это все меняет. Я всегда думал…
– Все неважно, – ответила Лена. – Неважно, что ты всегда думал или что делал. Наплевать, потому что ты – мой сын.
Артур схватил свой портфель, надел пальто и распорядился:
– Отзывай иск, Майк.
– Но, Артур, – возразил Ширли, – она не выдержит дачи показаний. Она боится давать показания. Я могу выиграть это дело с закрытыми глазами.
– Отзывай иск.
Он направился к двери, когда его окликнула Лена:
– Не хочешь познакомиться с сестрами?
Он остановился, на минуту задумался и сказал:
– А ты уверена, что они хотят познакомиться со мной?
Лена кивнула:
– Подойди к сестрам. Они так долго этого ждали!
Лиам повернулся к Кэтрин:
– Так трогательно!
– Как же ты их разыскал?
– Я нашел Софию, у меня был ее варшавский адрес. Но я понятия не имел, где Анеля. Когда я встретился с Софией, она рассказала, что уже лет сорок, как знает, что они с Анелей сестры. Они очень близки.
– Откуда они узнали?
– Родители сообщили девочкам, что их усыновили из приюта Святого Креста. Все монашки знали историю двух малышек, которых нашли у железнодорожного полотна: девочек закутали в одеяльца и выбросили из окна поезда во время войны. Монашки поняли, что они близняшки, когда девочек принесли в приют, но сделали им поддельные документы. Когда София приехала в Святой Крест и принялась расспрашивать об их удочерении, монашки связались с Анелей… Когда я нашел Софию и рассказал о Лене, она ответила: «Вы должны познакомиться с моей сестрой. Она живет в Париже». Мы вместе вылетели туда. Уверен, они тебе обо всем расскажут. Обе сделали блестящую карьеру: София – педиатр, Анеля – издатель модного французского журнала. Они с готовностью откликнулись на просьбу приехать к Чикаго, познакомиться со своей настоящей матерью и выступить в ее защиту в этом деле. И вчера вечером вылетели сюда.
Судья Петерсон, который сидел, откинувшись на спинку кресла, и наблюдал за происходящим, сказал:
– Мистер Ширли! Мы будем отзывать иск?
– Похоже, что так. Этого хочет мой клиент.
Судья Петерсон стукнул молотком:
– Иск отозван.
Глава пятидесятая
В отдельном кабинете в ресторане «Стритервилль» за большим круглым столом сидели Лена, София, Анеля в компании Кэтрин и Лиама и отмечали великое воссоединение семьи. Им нужно было столько сказать друг другу, так хотелось поделиться своими чувствами, что не удавалось произнести предложение до конца, чтобы тебя не перебили. Семьдесят лет – слишком большой срок, сразу всего не рассказать.
На стол выложили фотографии четырех внуков и десяти правнуков Лены. София указала на них:
– Они – твое продолжение.
– Я хочу познакомиться со всеми! – воскликнула Лена.
И тут дверь в кабинет открылась, вошел Артур. Кэтрин взглянула на Лену.
– Это я настояла, чтобы он пришел, – сказала та. – Я намерена восстановить оборванные семейные узы.
– А Артур? Он тоже намерен это сделать?
Она пожала плечами:
– Ну… раз уж он пришел.
Артур присел за стол, заказал мартини и кивнул матери:
– Спасибо, что пригласила меня.
– Спасибо, что велел адвокату отозвать иск, – ответила Лена.
– Не перехваливай меня, это не было благородным жестом. Ты оказалась права, я ошибался.
– Но я не стала бы свидетельствовать. Ты мог выиграть.
– Это было бы неправильно.
Анеля достала из сумочки мятый клочок бумаги:
– У меня кое-что есть. Хранила все эти годы. Не знаю зачем. Когда меня нашли в поле, эта бумажка была приколота к подгузнику. Тут адрес в Шармассинге, в Германии. Уже став взрослой, я принялась разыскивать Хельгу Шульц, думая, что она может быть моей мамой, но к тому времени она уже умерла, а жители городка сказали, что дочерей у нее не было. В конце концов мы решили, что кто-то хотел, чтобы нас спрятали там во время войны, и, скорее всего, Хельга Шульц согласилась нас принять.
– Это Каролина придумала – приколоть адрес к вашим подгузникам, – сказала Лена.
– У нас обеих был приколот один и тот же адрес, так в приюте и узнали, что мы близнецы.
Лена закрыла лицо руками, едва сдерживая слезы.
– Что случилось, мама? – всполошилась София.
– Я столько лет вас даже не искала… Какая жалость! Как жаль, что Давид вас не увидел. Я могла бы начать поиски, но не стала. Я даже Давиду ничего не сказала. И Артуру ничего не говорила. Никто не знал, что я родила этих прекрасных малышек. Вы были за закрытыми дверями, глубоко-глубоко у меня внутри. Я не могла преодолеть стыд из-за того, что выбросила собственных детей в окно.
– Мама, у тебя не было выбора, – ответила Анеля. – У скольких бы матерей хватило смелости? Нас никто не выбрасывал, нас упаковали для доставки в безопасное место. Мы здесь только потому, что ты отказалась быть жертвенной овечкой.
– И все же… я сожалею, что не стала искать вас раньше.
– Сомневаюсь, что вы смогли бы раньше их найти, – успокоил ее Лиам. – Более пятидесяти лет Польша находилась за «железным занавесом». Любые поиски были бы бесполезны.
Артур поднял бокал:
– Если позволите… Я поднимаю бокал за свою маму, за нашу маму, за самую решительную в мире женщину. Она никогда не сдается! – Он взглянул на сестер и кивнул им.
Лена улыбнулась:
– Спасибо, Артур.
– А когда у нас настоящий день рождения, мама? – спросила Анеля.
– Пятнадцатого января. Я помню этот день, как будто он был вчера. С помощью Мюриэль и Каролины я привела вас в мир с надеждой на светлое будущее. Мюриэль и Каролина, две сильные женщины, очень любили вас обеих. Они готовы были ради вас на все. – Она покачала головой и вытерла слезинку. – Ни одна из нас без них бы не справилась.
Официант принес бутылку шампанского. Лиам поднял бутылку.
– Эта бутылка шампанского – подарок от необыкновенного человека. К ней прилагается электронное письмо. – Он достал из кармана лист бумаги. – Тут написано: «Моей дорогой подружке Лене и всей семье Вудвардов. К сожалению, не смогла приехать, чтобы отпраздновать с вами такое событие. Я мысленно рядом. Желаю вам всего самого лучшего. Лена, благослови тебя Господь. Ты сдержала свое слово. С любовью, Мюриэль Бернштейн».
Праздник затянулся до глубокого вечера. Вскоре после полуночи Кэтрин внезапно схватила Лиама за руку и сжала ее. Больно сжала.
– Лиам! Лиам!
– Что? Что!!!
Она согнулась и схватилась за живот.
– Лиам!
– О боже мой! Боже мой! Уже… Черт побери! Мне пора. Нам пора. Черт, Кэтрин, мы без машины!
Артур встал.
– У меня на улице машина. Рико вас отвезет.
– Рико? Спасибо огромное, но мы возьмем такси.
– Лиам, – простонала Кэтрин сквозь сжатые зубы. – Пусть. Ведет. Рико.
– Ладно, ладно, поехали. Рико поведет! С вами было весело, Вудварды. Мы позже вас догоним.
Лена стиснула руку Кэтрин.
– Благослови вас Господь! – прошептала она. Потом понимающе улыбнулась. – Мальчик будет, верно?
Кэтрин приложила к губам палец и подмигнула ей.
Примечания
1
Жизнерадостностью (фр.). – (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – погром (серия скоординированных атак) против евреев во всей нацистской Германии и части Австрии 9—10 ноября 1938 г., осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. (Примеч. ред.)
(обратно)3
Рош Ха-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь).
(обратно)4
Да здравствует победа! (нем.)
(обратно)5
Евреям вход воспрещен (нем.).
(обратно)6
Продовольственные карточки (нем.).
(обратно)7
Звезда Давида – древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды, с XIX в. считается еврейским символом.
(обратно)8
Для евреев (нем.).
(обратно)9
Юденрат – в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления, который по инициативе германских оккупационных властей в принудительном порядке учреждался в каждом гетто для обеспечения исполнения нацистских приказов, касавшихся евреев.
(обратно)10
Всем евреям явиться на городскую площадь! Быстро! Очень быстро! (нем.)
(обратно)11
Праведники народов мира – верующие неиудейского исповедания, спасавшие евреев во время холокоста.
(обратно)12
Открыть дверь! (нем.)
(обратно)13
Герр Шейнман, вы пойдете с нами! (нем.)
(обратно)14
Поторапливайтесь! (нем.)
(обратно)15
Нет. Нет. Все (нем.).
(обратно)16
Я сказал: все! (нем.)
(обратно)17
Довольно! (нем.)
(обратно)18
Ступайте (нем.).
(обратно)19
Никого здесь нет (нем.).
(обратно)20
Кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому истреблению евреев и цыган в Польше.
(обратно)21
Жизненном пространстве (нем.).
(обратно)22
Да (нем.).
(обратно)23
Документы, пожалуйста (нем.).
(обратно)24
Нацистский концентрационный лагерь, существовавший в 1940–1945 годах в районе деревни Гросс-Розен в Нижней Силезии (ныне Рогозница, Польша).
(обратно)25
Нет, нет (нем.).
(обратно)26
В иудаизме кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения и ряда религиозных церемоний.
(обратно)27
Талит – молитвенное облачение в иудаизме, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.
(обратно)28
Симхат-Тора – праздник в иудаизме, завершающий годичный цикл чтения Торы.
(обратно)29
Бабýшка – принятое в США название головного платка в русском стиле.
(обратно)30
Массовое производство первого антибиотика (пенициллина) в Европе началось только в 1943 г., к тому же он использовался в виде инъекций. Видимо, имеется в виду сульфидин – лекарственный препарат сродни стрептоциду, эффективное средство против крупозного воспаления легких.
(обратно)31
Окончательное решение еврейского вопроса – политика правительства Третьего рейха в отношении евреев. Под эвфемизмом «окончательное решение» подразумевалось массовое уничтожение еврейского населения Европы.
(обратно)32
Витольд Пилецкий (13 мая 1901—25 мая 1948) – ротмистр Войска Польского, деятель подполья, организатор движения Сопротивления в концентрационном лагере Освенцим.
(обратно)33
Варшавское восстание – восстание против нацистских оккупантов в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой и представительством польского правительства в изгнании.
(обратно)34
«Касабланка» – голливудская романтическая кинодрама 1942 года. Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между долгом и чувством, между любимой женщиной и необходимостью помочь ей и ее мужу, лидеру движения Сопротивления, бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.
(обратно)35
Свободные от евреев (нем.).
(обратно)36
На выход, на выход! (нем.)
(обратно)37
Доходяги (нем.).
(обратно)38
Стоять! (нем.)
(обратно)39
Не стреляйте! (нем.)
(обратно)40
Известный американский теле-и радиожурналист.
(обратно)41
Стоять! (нем.)
(обратно)42
Зондеркоманда (букв. «специальный отряд») – название ряда различных формирований специального назначения в нацистской Германии.
(обратно)43
На выход! (нем.)
(обратно)44
Налево! (нем.)
(обратно)45
Направо! (нем.)
(обратно)46
На выход, на выход! Быстро! Быстро! (нем.)
(обратно)47
Симон Визенталь – архитектор и общественный деятель, «охотник за нацистами».
(обратно)48
Уничтожение евреев в годы Второй мировой войны во многих языках получило название «холокост». В иврите, однако, существует другой термин – Шоа (бедствие, катастрофа).
(обратно)49
«Укрытие» (пол.).
(обратно)50
Да, что вы хотели? (нем.)
(обратно)51
Вы говорите по-английски? (нем.)
(обратно)52
Спасибо (нем.).
(обратно)53
Британский мандат в Палестине (1922—15 мая 1948 г.) – период, в течение которого на части территории распавшейся Османской империи на Ближнем Востоке был установлен режим управления Великобритании по мандату Лиги Наций.
(обратно)
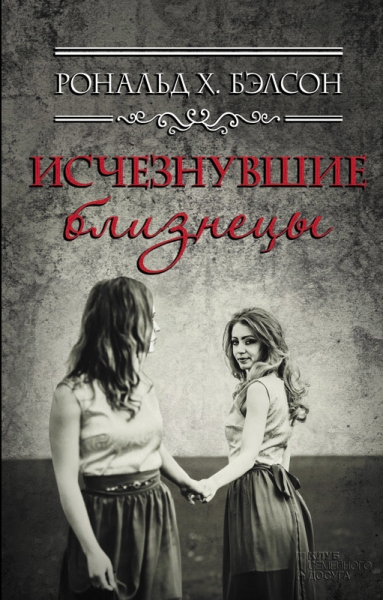





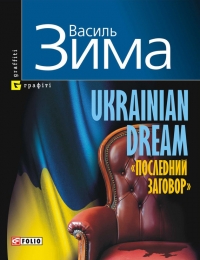

Комментарии к книге «Исчезнувшие близнецы», Рональд Х. Бэлсон
Всего 0 комментариев