Альберто Моравиа Рассказы
Облеченный властью
Он сидит передо мной, по ту сторону огромного, не меньше четырех метров в длину, стола; стол старинный, резной, орехового дерева. Стены его просторного кабинета обиты красным дамаском, сводчатый потолок расписан. Письменный стол, кресло и стул, на котором сижу я, — вот и вся обстановка. Я смотрю на него: он в темном костюме, темном галстуке, белой сорочке, в нем есть что-то от военного в штатском. На столе — все необходимое для письма: кожаная папка, авторучка, набор карандашей, стопка бумаги, пресс-папье, но все новенькое, словно этим никогда не пользовались. Рядом стоят два телефона и диктофон. В кабинете лишь одна дверь — та, в которую я вошел. Значит, он заставил меня ждать почти полчаса по какой-то особой, неведомой мне причине, а отнюдь не потому, что, скажем, писал или принимал посетителей.
Со стола мой взгляд переходит на него. Я впервые замечаю, что у него орлиный нос и пухлые щеки. Странно, я всегда считал, что нос у него прямой и щеки как щеки. Орлиный нос, с узкими ноздрями, с аристократической горбинкой посередине, является признаком властности и жажды повелевать, пухлые щеки — признак тщеславия. Вдруг я вспоминаю, что когда я вошел, он принял меня стоя за своим столом, но не подал мне руки. Я говорю:
— Я тут проездом и подумал, что не худо бы заглянуть к тебе. Я решил, что ты будешь рад повидаться со старым другом.
Он некоторое время молча глядит на меня своими странно тусклыми и неподвижными глазами и наконец произносит:
— Разумеется, рад, я всегда рад видеть тебя. А вот что касается твоей идеи пожаловать ко мне сюда, — и он подчеркивает слово «сюда» паузой, — это другой вопрос. Ты хорошо сделал, если пришел в качестве просителя или с каким-либо предложением, но сделал плохо, если пришел лишь затем, чтобы поздороваться со мной.
Он говорит медленно, через силу, делая ударение на каждом слове, как будто желает показать, что беседует со мной исключительно из любезности. Я недоумеваю:
— Что-то я тебя не пойму.
— А тут и понимать нечего: это — место моей работы, и я не могу позволить себе роскошь принимать здесь друзей просто так, чтобы только поболтать с ними.
— Понимаю, ты очень занят.
Он начинает смеяться, и смех у него какой-то странный, полувежливый-полуиронический, но взгляд при этом остается совершенно неподвижным.
— Нет, я не очень занят. Более того, у меня нет абсолютно никаких дел — во всяком случае в данную минуту. Но в некотором роде можно все же сказать, что я в высшей степени занят.
— Так занят ты или нет?
Рассудительный, назидательный тон его ответа вдруг напоминает об одном из его главных былых достоинств: глубокой осознанности собственных поступков и умении четко обосновать любой из них.
— Если говорить о делах, связанных с должностью, на которую меня пригласили, то я свободен, ибо в данную минуту, как я уже сказал, делать мне особенно нечего. А вот если говорить о стремлении соответствовать своему положению, то я действительно занят, в высшей степени занят.
— Извини, но я опять не совсем тебя понимаю.
Он пристально глядит на меня, словно решая, стоит ли продолжать этот разговор, и потом объясняет:
— А ведь это не так уж сложно: здесь от меня требуется, во-первых, выполнение того, что называется моей работой, и, во-вторых, что гораздо важнее, осуществление власти.
— Осуществление власти? Кажется, начинаю понимать...
— Давно пора. Итак, почему осуществление власти значительно важнее, чем работа? По той простой причине, что моя работа ничем не отличается от любой другой чиновничьей работы и, в сущности, не имеет ко мне ни малейшего отношения, тем более что она по плечу кому угодно; а вот осуществление власти — это действительно мое дело, имеющее ко мне непосредственное отношение, коль скоро я уверен, что оно требует определенного призвания и особых качеств.
— И конечно, тебе не занимать ни того, ни другого, не так ли?
Он смотрит на меня, некоторое время колеблется, но потом, зачарованный, словно миражем, сознанием собственной значительности, вновь отдается порыву чуть ли не наивной искренности:
— Я не думал, что это так. Напротив, я был убежден, что вовсе не создан для власти. Разумеется, я знал, что власть существует, но из соображений морального порядка исключал для себя факт ее существования, не видя в ней практического смысла. Я считал, что ее не следует принимать в расчет, особенно человеку творческому. Но потом, очутившись в этой комнате и усевшись в это кресло, я открыл в себе призвание и качества, о которых и не подозревал. А главное: я все понял.
— Что же ты понял?
— Я понял, что на определенном уровне и при определенных обстоятельствах работа ровно ничего не значит, становится всего лишь одним из аспектов — и притом отнюдь не самым важным — осуществления власти. И что, напротив, именно это-то осуществление власти, даже если оно не сопровождается работой, как таковой, является само по себе делом, профессией.
Оживившись, он улыбается мне самодовольно, с видом победителя, словно иллюзионист, объясняющий технику фокусов.
Я замечаю не совсем уверенно:
— Да уж известно, власть — это власть.
— Тавтология, но абсолютно верно, — комментирует он улыбаясь. — Власть — это власть. Однако давай уточним. Что такое власть в данном случае?
Я растерянно гляжу на него и повторяю как попугай:
— В самом деле, что же это такое?
— Власть, — начинает он тихо, вкрадчиво, назидательно, — это прежде всего темный костюм, темный галстук, белая сорочка. Помнишь мои прежние немыслимые брюки и спортивные куртки? С ними покончено.
— Ясно. Власть — это манера одеваться. Пожалуй, что и так.
— Именно так. Власть — это также кабинет, в котором я сижу шесть часов в день. Обрати, пожалуйста, внимание на ковер, обивку стен, роспись на потолке, посмотри на стол, кресло, стул — все это власть.
Я с готовностью соглашаюсь:
— Конечно.
— Распорядок моего дня — тоже власть. Мой приход, что называется, вселяет душу в неподвижное, безжизненное тело. Я — душа этой части здания. Душа приемной, где сидит впустивший тебя курьер, душа соседней комнаты, которую занимает секретарша. Моя душа, то есть моя власть, простирается до архива в одну сторону, до конца коридора — в другую. Когда меня нет, все замирает в ожидании, когда я здесь — все приходит в действие. Вот что такое власть.
На минуту он умолкает, и мне кажется, что он задыхается от какого-то вдруг овладевшего им странного возбуждения. Потом он продолжает:
— Власть для попавших сюда — это два телефона, по которым можно говорить одновременно. Одна трубка в руке, другая — прижата к уху плечом. Это диктофон, при помощи которого я могу связаться с курьером и секретаршей. Это — папка, чернильница, стопка бумаги. Правда, я не звоню по телефону, не пользуюсь диктофоном и ничего не пишу, но в моей власти все это делать. Обрати внимание, я употребляю именно выражение «в моей власти», чтобы указать на возможности, которые открывают передо мной все эти предметы.
Я говорю:
— Это все, так сказать, признаки власти, ее важные атрибуты. Но что же все-таки такое власть как профессия?
Он смеется и отвечает:
— Власть как профессия — это преобразование любого вида деятельности, в том числе и работы, в проявления власти.
— Объясни, пожалуйста, что это значит.
— Ну, например, я выхожу из кабинета и направляюсь в туалет, чтобы удовлетворить естественную надобность. Я иду с высоко поднятой головой, выпятив грудь, энергично размахивая руками, глядя прямо перед собой. Завидев меня, курьер вскакивает с места. Вот тебе одно из самых обычных, повседневных действий, которое становится проявлением власти.
На этот раз смеюсь и я:
— Ничего не скажешь, власть властью, а чувство юмора у тебя все же сохранилось.
Он тоже смеется.
— А вот тебе еще один пример — возьмем собственно работу. Ты знаешь, чем занимается учреждение, дирекция которого размещается в этом здании. В сущности, всю работу, в истинном значении этого слова, выполняют здесь мелкие служащие. Чем выше по служебной лестнице, тем все больше работа становится лишь предлогом, поводом для проявления власти, и в конце концов на самых высоких ступенях она распыляется, исчезает совсем — остается лишь власть, власть как самоцель.
— А более конкретно?
— Право, не знаю. Допустим, надо решить, открывать ли нам отделение за границей. Нужно ли нам это отделение, выгодно ли оно, оправдает ли себя? Ни на один из этих вопросов я не могу дать ответ, зато я твердо знаю, что создание филиала откроет новые возможности для осуществления власти.
— Каким образом?
— Очень просто: я составляю подробнейшую докладную, но не выражаю в ней своей точки зрения. Затем даю ее отпечатать на машинке и прошу председателя Правления принять меня. Он меня принимает, я вхожу, излагаю суть дела, прошу прочесть докладную. Он ее читает, комментирует, я ему отвечаю, мы долго обсуждаем этот вопрос. Теперь посуди сам, что важнее в этом деле — работать или осуществлять власть. Я считаю — осуществлять власть. Вот, скажем, председатель Правления решает создать новое отделение. Он проявляет власть. Председатель Правления решает не создавать нового отделения. Он опять проявляет власть. Возьмем еще один вариант: председатель колеблется, не говорит ни да, ни нет. Тем самым он в третий раз проявляет власть.
Он смотрит на меня, довольный собой, торжествующе и иронически улыбаясь.
— Все это верно, — говорю я, — но не сводится же деятельность вашего учреждения лишь к этому своего рода ритуалу. Дает же она — во всяком случае должна давать — какие-то практические результаты...
— Безусловно дает, но, как я уже говорил, на более низких ступенях служебной деятельности, поскольку на более высоких происходит то, что ты называешь ритуалом власти. Возьмем, к примеру, заседание, которое Правление ежегодно проводит в большом актовом зале на первом этаже. В это Правление входят различные видные деятели, которые, в сущности, ничем не управляют. И в то же время управляют. Точно так же, как я: ничего не делаю и вместе с тем ужасно занят. Они управляют, потому что без их имен, без их престижа нельзя достичь никаких практических результатов. Когда-то я, как и ты, думал, что подобное Правление, носящее лишь представительский характер, совершенно ни к чему. Но после того, как я побывал однажды на ежегодном заседании и выслушал речи нескольких членов Правления, речи — я подчеркиваю— чисто формальные, я изменил свое мнение, ибо открыл для себя нечто такое, о чем я до тех пор и не подозревал.
Он становится серьезным. Я тоже становлюсь серьезным и спрашиваю:
— Что же ты открыл?
Он отвечает многозначительно:
— Я открыл для себя сферу того волшебного, таинственного, загадочного явления, которое именуется властью. Безграничную сферу, где действия и поступки теряют свой обычный общепринятый смысл и приобретают иное, не свойственное им значение именно потому, что они связаны в той или иной степени с осуществлением власти. Должен тебе сказать, что, сам того не желая, ты попал как раз в точку. Дело именно в ритуале.
Здесь я его прервал:
— Но ведь есть какая-то разница между тобой и, например, председателем Правления. Ты как бы исполняешь отведенную тебе роль в пьесе, отлично понимая истинный смысл спектакля. Но председатель-то ничего этого не знает. Он просто верит в силу власти — и все тут.
Мой приятель хохочет, его смех, вполне дружеский, почему-то действует мне на нервы.
— Еще одна ошибка, еще одно наивное заблуждение! Председатель Правления все прекрасно понимает — так же, как моя секретарша, так же, как курьер. В том-то и суть: человек всегда знает, что делает, даже тогда, когда может показаться, что он этого не знает.
Я поднимаюсь:
— Ясно. В таком случае мне остается лишь уйти. Это место ритуалов и церемоний, пожалуй, совсем не подходит для болтовни с проезжими друзьями.
Он тоже встает, смотрит на меня и вдруг разражается веселым, прямо-таки детским смехом.
— Иди-иди, я тебя не задерживаю. Но имей в виду: только что ты сам мог убедиться в способности власти изменять суть вещей. Да еще как изменять! Мы вот с тобой здесь немного поболтали, а наша неделовая беседа, именно потому, что она происходила в этом кабинете и со мной, тоже послужила для проявления власти.
— Чьей власти?
— Да моей, черт побери!
Механические слуги
Телефон прозвонил один раз, потом другой, я бросился вниз по лестнице, но, поднеся трубку к уху, услышал лишь обычное металлическое потрескивание и вспомнил, что аппарат уже два дня как испорчен. Первый этаж был погружен в темноту, я щелкнул выключателем, но тьма не рассеялась: накануне вечером — еще одно неожиданное воспоминание! — из-за короткого замыкания погасло электричество. Ощупью, натыкаясь на какие-то загадочные предметы, я добрался до кухни и распахнул дверь, но и там меня ожидал сюрприз: девчонки, которая каждое утро приходила помочь по хозяйству, не было. Я вернулся в переднюю, открыл входную дверь и на секунду застыл на пороге, ослепленный белизною усыпанной галькой дорожки, казавшейся особенно белой под серым небом, какое бывает в те дни, когда дует сирокко.
У крыльца в чахлом садике моей жалкой загородной дачки стояла моя машина — разбитый, запыленный темно-зеленый драндулет. Я подумал, что, пожалуй, съезжу-ка я на машине позавтракать в Марино — это всего в пяти километрах, а потом вернусь домой и сразу же засяду за работу.
Я пошел к воротам, распахнул их, вернулся к машине, сел за руль, включил зажигание, нажал педаль. Но мотор оставался нем — полная тишина, абсолютная неподвижность. Я попытался еще раз: вновь тишина и неподвижность. Я стиснул зубы, борясь с охватившей меня яростью. Немного успокоившись, я вылез из машины, откинул капот, заглянул в мотор. И тут меня вдруг поразила та вполне очевидная истина, что автомобиль — это механизм. Как ни странно, но эта мысль никогда не приходила мне в голову. Ведь это же механизм, я управляю им, и он мне подчиняется. Меня поразило и другое: такой сложный мотор, а служит для совсем простой вещи — чтобы человек мог передвигаться. Вот также и телефон, подумал я, еще один чудодейственный механизм, служит для другой совсем простой вещи — чтобы человек мог говорить. А электрическая проводка, такая мудреная, — еще для одной не менее элементарной вещи: чтобы человек мог видеть. А я в тот момент не мог ни передвигаться, ни говорить, ни видеть, потому что сложные механизмы, которыми я пользовался, вышли из строя.
Несколько минут я глядел на мотор, говоря себе, что ничего в нем не понимаю и для того, чтобы починить его, нужен механик, точно так же, как нужен телефонный мастер, чтобы исправить телефон, и электромонтер — для ремонта проводки. Потом я подумал: механик, телефонный мастер и электромонтер — в сущности, не что иное, как инструменты, к помощи которых мне надо прибегнуть, то есть и они, если хорошенько вникнуть, это механизмы в человеческом облике, используемые для ремонта. Эта мысль меня несколько утешила. Я бросил машину с поднятым капотом и пошел закрыть ворота. Здесь я увидел, что в почтовом ящике лежит письмо.
Я закрыл ворота, взял письмо, распечатал. Письмо было «срочное» из редакции иллюстрированного журнала, в котором я сотрудничал. В письме сообщалось, что, поскольку номер сдают в набор не в среду, а во вторник, я должен представить свою статью в восемь часов утра в понедельник. Некоторое время я стоял с письмом в руках в полной растерянности. Ведь в понедельник утром я и так уже должен сдать два материала — рассказ для женского еженедельника и обзорную статейку для журнала мод, значит, вместе со статьей для моего иллюстрированного журнала получается целых три штуки. Таким образом, ко всем бедам неожиданно прибавилась еще одна: поскольку день был воскресный, я не мог починить ни телефона, ни электричества, ни автомобиля, служанка не пришла, и вдобавок ко всему до утра понедельника остаются лишь сутки, в течение которых я должен написать три статьи.
Я вошел в дом, размышляя о том, как же быть, и начал медленно подниматься по лестнице. Совершенно ясно, что надо сейчас же разбудить Джованну, велеть ей приготовить завтрак, потом засадить ее за пишущую машинку и диктовать ей до ночи, не прерываясь ни на минуту. Я понимал, что воскресенье предстоит не из веселых, но другого выхода не было. Пока я обо всем этом раздумывал, меня вдруг словно чем-то ударило по голове: острая, нестерпимая боль стрелой пронзила затылок. Я обеими руками ухватился за перила, чтобы не скатиться с лестницы. Потом резкая боль прошла, но в мускулах шеи, плеч и рук осталась какая-то неприятная слабость. Я сказал себе: «Ты устал, у тебя полное нервное истощение, надо сегодня же пойти к врачу и начать лечиться». Но эту мысль тотчас вытеснила другая: «Нет, сегодня ты не пойдешь ни к какому врачу, так же как не вызовешь ни электромонтера, ни механика, ни телефонного мастера, потому что сегодня воскресенье».
Немного оправившись, я добрался до верха лестницы, вошел в спальню и, путаясь в разбросанных по полу чулках, туфлях, комбинациях и прочих предметах женского туалета, направился к окну и поднял штору. Белесый свет дня — одного из тех, когда дует сирокко, — наполнил комнату, я увидел двуспальную кровать, покрытую розовым одеялом, бесформенно взгорбившимся посередине, и торчащую из-под него длинную прядь черных волос. Я подошел к постели, положил руку на розовый горб и начал трясти его, приговаривая:
— Джованна, проснись, пора вставать!
В ответ раздался лишь жалобный стон. Я снова потряс горб и вновь услышал стон, но более слабый: жена опять уснула. Тогда я нагнулся, схватил одеяло за края и резко сдернул его. При этом — кто знает почему— мне вспомнился стоящий внизу автомобиль: вот так же я несколько раз пытался разбудить мотор, а потом, поскольку он не просыпался, поднял капот, чтобы выяснить причину поломки, — иными словами, тоже сдернул одеяло. Теперь Джованна была передо мной вся на виду, как недавно мотор моей малолитражки: она свернулась клубочком в своей узкой коротенькой пижамке, туго обтягивавшей ее молодое, полное тело. Я смотрел, как она, притворяясь, будто спит, обиженно и вместе с тем томно сжалась в еще более плотный комочек. А потом, словно в кино, когда одно изображение накладывается на другое, мне вдруг показалось, что вместо нее, такой пышной и яркой, на постели лежит мотор моей малолитражки со всеми его черными, блестящими от смазки частями, и я наклоняюсь, чтобы осмотреть его и выяснить, почему же он не работает и где поломка. Это продолжалось всего мгновение; я покачал головой и сказал себе: «Чтобы починить .мотор, нужен механик. Но Джованна ведь как-никак человек: она все поймет и поможет мне».
Поэтому, помолчав минутку, я сказал:
— Джованна, сейчас восемь часов, а завтра, в понедельник, в восемь утра я должен сдать три статьи. Тебе придется встать и приготовить завтрак. Потом ты сядешь за машинку, а я подиктую тебе, и если мы целый день будем работать не отрываясь, то, надеюсь, успеем все кончить.
Она ничего не ответила, казалось, размышляя над моими словами. Потом спросила тоном, не предвещавшим ничего хорошего:
— Который, ты говоришь, час?
— Восемь.
— А прислуги нет?
— Нет, сегодня воскресенье.
На некоторое время она вновь замерла, потом вдруг я увидел, как она судорожно дернулась всем телом, не открывая глаз, и, вся трясясь, закричала:
— Вот они, твои обещания, вот та жизнь, о которой ты мне говорил, когда я была твоей невестой! Зачем ты взял меня от родителей, где мне было так хорошо? Скажи, зачем?
— Чтобы жениться на тебе, чтобы ты стала моей женой...
— Нет, не для того, а чтобы иметь подле себя прислугу, повариху, секретаршу, стенографистку, машинистку, рассыльную. Вот для чего. И мне это надоело, надоело, надоело! А теперь ты мне не даешь даже спокойно поспать. Ты ведь знаешь, что сон для меня важнее всего, что я страдаю бессонницей, что мне никогда не удается заснуть раньше четырех. И несмотря на это ты будишь меня, чтобы заставить с утра пораньше работать на тебя — быть прислугой, поварихой, секретаршей, стенографисткой, машинисткой, рассыльной. Разве не так, скажи мне, разве не так?
В растерянности, чувствуя, как боль — результат нервного истощения — вновь начинает сжимать мне затылок, я долго стоял и смотрел на нее, а она, не раскрывая глаз, сжавшись в комок посреди широкой постели, продолжала изливать свои жалобы. А в мозгу у меня, пока я так стоял, все время вертелась мысль: «Джованна, как и мотор автомашины, как телефон, как электричество, не желает больше служить мне. Значит, надо, так сказать, починить ее, хотя бы кое-как, чтобы заставить действовать по крайней мере ближайшие сутки. Для ремонта телефона, электричества, автомобиля имеются специалисты. Но как же быть с Джованной?»
А она, по-прежнему не открывая глаз, продолжала:
— Насколько лучше мне было до замужества, когда я жила с родителями. Я могла спать, видеться с подругами, гулять, ходить в кино. Ты же упрятал меня в эту дыру, чтобы я обслуживала тебя, как служанка, и печатала на машинке глупости, которые ты пишешь. А теперь даже и в воскресенье ты не даешь мне жить спокойно. Даже в воскресенье!
На мгновение разум мой помутился, я почувствовал искушение, какое охватывает тебя, когда долго не заводится мотор автомобиля: хочется схватить молоток и несколькими яростными и точными ударами разбить его вдребезги. Я повернулся к ней спиной, подошел к окну и подумал: «Сейчас я убью ее, потом убью себя и покончу со всем этим раз и навсегда!» Но пока я смотрел на затянутое облаками небо, стиснув зубы от душившей меня злости, я постепенно успокоился. Прекрасно: Джованна — это механизм, который не желает работать. Уничтожить его — не выход. Надо, наоборот, заставить его действовать и добиться этого добром. Это и будет ремонт — ведь именно так поступают специалисты, имея дело с вышедшим из строя прибором: они его не уничтожают, а терпеливо ищут причину поломки. Но вот как устранить неисправность Джованны? Совершенно ясно: при помощи любви, ласки.
Я подошел к ней, прилег рядом на постели, обнял ее. Она попыталась высвободиться, но не слишком энергично. Я начал ласкать ее, целовать, шепча при этом:
— Любовь моя, ты же знаешь, что я люблю тебя, ты для меня — вся жизнь, что бы я делал без тебя... — И так далее в том же роде, это были те же слова, что я часто твердил ей и раньше, но никогда еще я не произносил их так холодно и лицемерно.
И в самом деле, Джованна перестала меня отталкивать, потом прижалась ко мне, тоже обняла и начала осыпать мое лицо градом легких, коротких поцелуев. Одним словом, я нашел поврежденный провод или подвернул ослабевшую гайку, и Джованна, совсем как закапризничавший мотор, вновь заработала. Я поласкал ее еще немного и произнес еще несколько нежных слов и наконец с мрачным удовлетворением констатировал, что она поднимается с постели и говорит мне:
— Ну ладно, пойду приготовлю тебе завтрак, а ты сразу же садись за работу.
Потом, комичная и трогательная в своей слишком узкой пижаме, она скрылась в ванной. Вот тут я вздохнул с облегчением: я добился своего.
Но несколько минут спустя, войдя в кабинет, я пошатнулся и вынужден был прислониться к двери, чтобы не упасть. Письменный стол, стоящий среди комнаты с белыми оштукатуренными стенами, заваленный книгами и бумагами, начал вдруг двоиться, расти, плясать у меня перед глазами, потом закачался, поплыл к окну, вернулся к двери, стал удаляться, делаясь все меньше и меньше, и вдруг, огромный и тяжелый, надвинулся на меня. Так мне открылась еще одна — последняя — истина: я тоже не что иное, как механизм, и, по-видимому, из всех машин и приборов, имеющихся в этом доме, больше всего нуждаюсь в ремонте. Впрочем, подумал я затем, в этом нет ничего странного: я пользуюсь телефоном, электрическим освещением, автомобилем и Джованной, а редакция иллюстрированного журнала, в котором я сотрудничаю, пользуется, в свою очередь, мной. По всей вероятности, кто-то использует для своей выгоды этот журнал, а кто-то еще использует того, кому служит журнал, — и так далее, вплоть до бесконечности. Или, по крайней мере, вплоть до первопричины, сформулировать которую мне в том состоянии, в каком я находился, было в высшей степени трудно.
Я вздрогнул, услышав голос Джованны, произнесший:
— Ну, что ты стоишь? Садись за работу, будь умницей, а я пока пойду на кухню и приготовлю завтрак.
И я подумал, что машина вновь завертелась. Вот и прекрасно... Теперь стол больше не плясал и не менял очертаний. Я уселся за него и пошел строчить...
Перевод с итальянского Г. БогемскогоСерединка на половинку
В новой квартире я акклиматизировался сразу. Квартира была трехкомнатная, на третьем этаже дома современной постройки, на окраине, в тихом и приличном районе. И вот что самое главное: я был уверен, что это не квартира, каких много, а квартира моя, созданная для меня и только для меня, тем более что я склонен считать, что в мире нет двух одинаковых людей, что каждый человек — уникум.
Месяца два я посвятил обстановке, тщательнейшим образом подбирая каждый предмет, каждую безделушку. Следующие два месяца я предавался созерцанию этой обстановки с тем бесконечно приятным чувством, с каким мне доводилось подчас любоваться в зеркале собственной — и потому уникальной — внешностью.
Мне нравилась не только квартира, но и дом, не слишком старый и не слишком новый, типичный дом средних буржуа, построенный не в слишком определенном стиле, а также улица, с ее цветущими олеандрами, большими современными витринами на первых этажах и броскими вывесками — табачной лавки, парикмахерской, парфюмерного и писчебумажного магазинов, колбасной, булочной. Прямо под моими окнами, в доме напротив, помещался цветочный магазин. За стеклом витрины видны были цветы, высокие стройные вазоны, декоративный фонтанчик. Цветочнице, красивой молодой брюнетке, рослой, с пышными формами, с неторопливыми спокойными движениями, на вид было лет двадцать пять, не больше. Она торговала одна, появлялась утром, поднимала жалюзи, некоторое время расхаживала взад-вперед по своему магазинчику, приводя в порядок цветы, потом ждала покупателей. Большую часть дня она просиживала за прилавком, читая комиксы. Но нередко она выходила на порог и подолгу смотрела на улицу, где, впрочем, смотреть было не на что и где никогда ничего не происходило.
Только что начался сентябрь, все мои друзья были еще в отпуске, и я почти безвыходно сидел дома, вот почему я не только сразу же заприметил хорошенькую цветочницу, но и стал уделять ей вскоре довольно много времени.
Мне нужно было написать производственный отчет, но каждые десять минут я поднимался из-за стола, чтобы взглянуть на цветочный магазин. Брюнетка была на месте. Она сидела за прилавком в глубине магазина, уткнувшись в комикс. Или стояла в дверях, прислонясь к косяку. Некоторое время я смотрел на нее, потом снова принимался за работу.
В один прекрасный день меня осенило: а что, если я, чтобы привлечь внимание девушки, возьму зеркало и наведу на нее солнечный «зайчик»? Идея показалась мне оригинальной, новой-преновой. И вот я, вооружившись карманным зеркальцем, направил солнечный «зайчик» на цветочный магазин. Сначала отражение метнулось по витрине, потом прошлось по вывеске и наконец, подобно нитке, которая после долгих усилий попадает в игольное ушко, проскользнуло в дверной проем и легко, будто ласковая рука, легло на склоненную голову девушки. Я задержал лучик на волосах, затем направил вниз по обнаженной руке и, нащупав страницу комикса, принялся чуть поводить зеркальцем. Девушка продолжала читать, но вот она подняла голову и взглянула в сторону двери. Словно испугавшись собственной дерзости, я отпрянул в глубину комнаты.
Но через секунду я снова поднялся и вернулся к окну. Цветочница стояла в дверях и смотрела на улицу. Я поймал луч солнца и навел на нее, солнечный «зайчик» медленно вскарабкался по ногам девушки, потом еще выше и замер у нее на груди. Оттуда, неожиданно для себя, я перевел его на ее лицо. На этот раз она подняла глаза, увидела меня и улыбнулась. Я тоже улыбнулся, сопровождая улыбку жестом, как бы говорившим: «Милости прошу, заходите в гости». Поколебавшись, девушка знаками ответила: «Хорошо, только попозже». Я не надеялся на столь быстрый успех и, чувствуя себя на верху блаженства, показал на часы и спросил: «Когда?» Девушка начертила в воздухе: «В половине первого». Было одиннадцать часов. Я помахал ей, вернулся в комнату, сделал пируэт, потирая руки, оглядел себя в зеркале и чмокнул свое отражение.
Работалось мне плохо, каждые пять минут я вставал и подходил к окну: девушка была на месте, сидела за прилавком, уткнувшись в комикс. Заняв в очередной раз свой наблюдательный пост, я увидел, как она выбирает розы для покупательницы: ее красивое тело подалось вперед, сильная голая рука осторожно погрузилась в цветы, взяла одну розу, отложила, снова потянулась к цветам. И я подумал, что девушка и впрямь очень привлекательна и что в том, с какой загадочной легкостью она приняла мое приглашение, есть что-то волнующее.
В двадцать пять минут первого я в последний раз подошел к окну: не торопясь, спокойно и величественно, девушка расхаживала по магазину, поправляя в вазах цветы. Затем она вышла и не спеша, в три приема, опустила жалюзи. Я видел, как она пересекла улицу и скрылась в подъезде.
Волнуясь, я поспешил в коридор и остановился у двери. Я с удовольствием отметил, что большой фикус, который я приобрел накануне, прекрасно смотрится в углу между двумя дверями. Только что я окинул взглядом гостиную, обставленную исключительно модерном в шведском стиле. Квартира выглядела нарядно и своеобразно, я был уверен, что она произведет хорошее впечатление на девушку.
Наконец я услышал, как щелкнул лифт, остановившись на первом этаже, потом звук открывающейся и закрывающейся двери кабины и стук каблуков. Непродолжительная тишина и затем трель звонка. Чтобы девушка не догадалась, что я стою за дверью, я на цыпочках прокрался в гостиную, тут же вернулся, стараясь шуметь как можно больше, и открыл дверь.
Брюнетка несколько разочаровала меня. Издали я принял ее за красавицу; при ближайшем рассмотрении она оказалась лишь молоденькой и соблазнительной. У нее было немного одутловатое лицо, крупный рот, орлиный нос, большие черные воловьи глаза. Входя, она сказала добродушно, с местным акцентом:
— Не следовало бы мне заходить к вам. Но знаете, я заглянула, чтобы поздороваться. Мы ведь соседи, вот я и решила, что нам не мешает познакомиться.
Я ответил:
— Простите, но я не представляю себе, как бы мы познакомились, не приди мне в голову идея с зеркалом.
Она слегка пожала плечами:
— Поначалу я подумала, что это инженер. А потом увидела, что это вы.
— Какой инженер?
— Ну, инженер, который жил тут до вас. Он тоже так начал — ослепил меня зеркалом. Но, может, он-то и научил вас этой шутке, чтобы привлечь мое внимание?
— Нет, я его не знаю.
— Извините, но ведь сами понимаете, бывают такие совпадения.
Она шла впереди, непринужденно болтая, но на пороге комнаты остановилась:
— Я вижу, здесь все осталось, как было. Вы сняли квартиру с обстановкой, да?
На этот раз я призадумался, прежде чем ответить. Казалось, между мной и девушкой вдруг встало что-то постороннее, какая-то унизительная помеха, которой я не мог пока найти название. Наконец я произнес:
— Нет, квартира была пустая. Я обставил ее сам.
— Ну надо же, какое совпадение: здесь, в коридоре, раньше стоял такой же в точности фикус. Это ведь фикус, я не ошибаюсь?
— Да, фикус.
— Инженер носился с ним как с писаной торбой. Он говорил мне, что поливает его два раза в неделю.
Тут я спросил себя, стал ли бы я говорить ей об этом, если бы она отметила красоту моего фикуса, определенного ответа я не нашел: не исключалось, что так бы оно и было. Девушка продолжала:
— Ну надо же, как интересно! Такая же в точности картина висела у инженера.
— Произведения абстрактного искусства только кажутся все на одно лицо, в действительности же это не так, — ответил я с досадой.
Войдя в гостиную, девушка радостно хлопнула в ладоши:
— Да и гостиную от инженеровой не отличить. Та же самая мебель. Может, только расставлена чуточку иначе.
На сей раз я промолчал. Девушка уселась на диван, закинув ногу на ногу, и расстегнула жакет на пышной груди; казалось, она была весьма всем довольна и явно ждала от меня новых знаков внимания. Я направился было к проигрывателю, чтобы завести что-нибудь, но одумался и повернул к буфету, где заранее приготовил на подносе бутылку аперитива и бокалы. Однако и тут я передумал и, присев напротив девушки, спросил:
— Вы позволите задать вам несколько вопросов?
— Сколько угодно.
— Когда вы были здесь в первый раз, инженер заводил пластинки?
— Да, кажется, заводил.
— А потом угощал вас чем-нибудь, например, аперитивом?
— Ага, он налил мне вермута.
— После чего тут же подсел к вам на диван, не так ли?
— Да, подсел. А что?..
— Постойте. И начал ухаживать за вами?
Этот вопрос немного сконфузил ее. Она спросила:
— Извините, но почему вы спрашиваете такие вещи?
— Не беспокойтесь, — продолжал я, — я не стану задавать вам нескромных вопросов. Меня интересуют лишь, как говорится, побочные детали. Итак, он начал ухаживать за вами. Сознайтесь, — тут я на секунду задумался, — а для того чтобы вплотную приступить к делу и в то же время не смущать вас, он не предлагал погадать вам по руке?
Девушка рассмеялась:
— Вот именно, что предлагал. Но как вы угадали? Уж не колдун ли вы часом?
Я хотел было ответить: «Это как раз то, что собирался проделать и я», — но у меня не хватило смелости на такое признание. Я смотрел на девушку, и теперь мне казалось, что ее окружает невидимая черта, которую опасно переступить, как опасно приближаться к столбам, несущим провода высокого напряжения. В самом деле, я не мог ни сказать, ни сделать ничего, что не было сказано или сделано при тех же обстоятельствах инженером. И этот инженер, в свою очередь, был не чем иным, как первым зеркалом в бесконечном ряду зеркал парикмахерской, в которых, насколько хватает глаз, я не увидел бы ничего, кроме себя самого. Наконец я спросил:
— Скажите, инженер был похож на меня?
— В каком смысле?
— Внешне.
Прежде чем ответить, она долго меня разглядывала.
— Ага. Чем-то вы с ним схожи. Оба — серединка на половинку.
— Серединка на половинку?
— Ага. Ну не уроды, что ли, и не красавцы, не высокие — не малорослые, не молодые — не старые: серединка на половинку.
Я ничего не сказал, только посмотрел на нее, думая с бессильной яростью, что приключение можно считать оконченным: цветочница превратилась для меня в некое табу, и единственное, что мне еще предстояло сделать, это найти благовидный предлог, чтобы выставить ее за дверь.
Девушка заметила происшедшую во мне перемену и спросила с некоторой настороженностью:
— Что это с вами? Что-нибудь не так?
Сделав над собой усилие, я поинтересовался:
— А что, по-вашему, много таких мужчин, как я и инженер?
— Ага. Вы, как бы это сказать, ну, массовое явление, что ли.
Тут меня передернуло, и девушка вдруг все поняла.
— Ага, догадываюсь, — воскликнула она, — вы обиделись за то, что я назвала вас серединкой на половинку, сказала, что таких много. Правда?
— Не то чтобы обиделся, — ответил я, — а, скажем, у меня опустились руки.
— Это почему же?
— Так. Мне кажется, что я делаю то же самое, что делают другие, вот я и предпочитаю ничего не делать.
Девушка попыталась меня утешить:
— Со мной у вас не должны опускаться руки. И потом, клянусь вам, мне больше нравятся такие мужчины, как вы, самые обыкновенные, чтоб ничем не отличались от других, ведь про таких с самого начала знаешь, что они скажут и что сделают.
— Ну, вот мы и познакомились, — объявил я, вставая. — А теперь прошу прощения — у меня срочная работа.
Мы вышли в коридор. Не скажу, чтобы у девушки был убитый вид. Она улыбалась.
— Не нужно так злиться. Не то вы и впрямь совсем как инженер.
— А что еще сделал инженер?
— Поскольку я сказала ему однажды, что он мужчина, каких полным-полно, распространенный тип, что ли, он разозлился, ну точь-в-точь, как вы, и выставил меня за дверь.
Перевод с итальянского Евг. СолоновичаПриказывай: я подчиняюсь
Когда меня уволили по сокращению штатов и я потерял место курьера в банке, в первый момент я совсем растерялся. Я привык повиноваться: звонки начальства, красные и зеленые сигналы на световом табло, требования посетителей, разные распоряжения и поручения — я откликался на все. И вдруг все это кончилось: я сижу на диване, закинув ногу на ногу, скрестив руки, уставившись в пустоту. Но только поймите меня правильно. Мне нечего больше делать не потому, что я стал безработным, а потому, что теперь я ни от кого не получал приказов. Быть может, некоторые и не увидят между этим разницы, но разница есть, и притом весьма существенная. Во всяком случае, для меня.
Сейчас объясню. Несколько дней я тщетно искал работу. И вот как-то утром, когда я еще лежал в постели и пытался уверить себя, что сплю, я подскочил от голоса жены. В голосе этом звучало раздражение:
— Интересно знать, почему ты так долго валяешься? И тебе не стыдно? Хоть постарался бы помочь. Ну-ка, встань и умойся и, пока я одеваюсь, приготовь завтрак.
Слова, казалось бы, самые обычные, но на меня они возымели совершенно особое действие. Сжавшись в комок под одеялом, я лежал и думал: «Встань, оденься, приготовь завтрак... Да ведь это же приказания, самые настоящие приказания, не менее категоричные и четкие, чем те, что я получал в банке. Это приказания!» И в ту же минуту я почувствовал, как мой мозг, получив приказание, передал команду ногам: резко откинув одеяло, я вскочил и пошел в ванную — открыл дверь, повернул кран душа... одним словом, начал выполнять приказ.
Несколько позже, хлопоча по хозяйству, я обнаружил, что эти столь простые приказания влекут за собой множество других — как бы это выразиться — второстепенных и третьестепенных команд. Вот, например, самая простая фраза: приготовь завтрак. Она означает: 1) пойди на кухню, 2) зажги газ, 3) поставь кофейник, предварительно насыпь в него кофе и налей воды, 4) нарежь хлеба, 5) заложи ломтики хлеба в тостер, 6) приготовь поднос с чашкой, сахарницей и блюдечком для масла, 7) поставь на поднос кофейник и поджаренный хлеб, 8) отнеси поднос в спальню жены. Как видите, это целый ряд действий, и, если бы я точно не зафиксировал приказания, отданного женой, мне было бы довольно трудно их выполнить. В то же время эти второстепенные команды, в свою очередь, влекут за собой, как я уже говорил, другие — третьестепенные. К примеру, «положить масло на блюдечко» означает вынуть масло из холодильника, развернуть, отрезать от него несколько ломтиков, положить их на блюдце — и так далее и тому подобное. Что я хочу этим сказать? А то, что я почувствовал, как мало-помалу возвращаюсь к жизни, то есть постепенно начинаю вновь функционировать после многих дней бездействия, последовавшего за моим увольнением из банка. Там ведь у меня были определенные функции. И вот теперь я опять действую, извините за повтор, вновь функционирую.
Жена у меня машинистка-стенографистка, и она каждый день ходит на работу в свое учреждение. В то утро она не дала мне других распоряжений, а только крикнула, убегая:
— Прошу тебя, если мне будут звонить, запиши, кто звонил.
Это было как раз то, что требовалось: я сел в гостиной на диван и стал ждать. Чего я ждал? Я ждал телефонных звонков, о которых говорила жена. Благодаря этим звонкам из двух часов полного бездействия я все-таки двадцать, сорок, может, шестьдесят секунд жил настоящей жизнью, то есть функционировал, а это, по-моему, уже не так мало. Если бы телефонных звонков было больше, мое существование вообще стало бы более размеренным и устойчивым. Поразмышляв об этом, я поднял глаза и увидел прямо перед собой в оконной нише на маленьком столике пишущую машинку: на ней жена прирабатывала по вечерам. Глядя на клавиатуру, буквально задыхающуюся от обилия слов и, однако, сейчас такую немую и неподвижную, я вдруг ощутил некое сродство с машинкой, ведь и я так же бездеятелен, как она, когда жены нет дома, и так же оживаю, когда приходит жена. Мы с машинкой, подумал я, как брат и сестра, причем у нее, пожалуй, даже больше человеческого, чем у меня: у нее, к примеру, есть голос, резкий и отчетливый, тогда как я почти все время молчу.
Во всяком случае, в тот день дело не ограничилось телефонными звонками: я обнаружил, что можно получить команду в любой момент — достаточно быть только внимательным. Раздается звонок у входной двери: это команда встать, пойти открыть, спросить, кто там. Внизу, во дворе ссорятся и кричат две женщины: это команда высунуться в окно и посмотреть, что случилось. В кухне из крана капает вода: это команда отправиться в кухню и потуже завернуть кран. И так далее.
За неимением лучшего я, разумеется, довольствовался этим, превращая необходимость во благо. Человек не может существовать, выполняя одну-единственную функцию, — скажем, закручивая до конца кран, ему необходимо нечто более важное или, вернее, более систематическое, ну хотя бы закручивать сто кранов, по крану через каждые десять минут. Однако и то, что я делал, было уже кое-что — все же лучше, чем участь пишущей машинки: она стояла немая и неподвижная, обреченная пребывать в таком состоянии до тех пор, пока жена не вернется.
А жена словно догадалась, что теперь заняла в моей жизни место директора банка, и с того дня приказания посыпались одно за другим — четкие и непрерывные: подмети пол, вымой тарелки, погладь рубашки, сходи на рынок, сготовь обед, прибери в квартире. «Ты ни на что не годен, ты хронический безработный, дармоед и тунеядец, хоть был бы от тебя какой-нибудь прок...» — и так далее и так далее. Она уволила приходящую прислугу; засыпая меня приказаниями, она словно мстила мне за неспособность найти работу и приносить домой деньги. И не замечала, что наоборот: только доставляет мне этим удовольствие.
Да что я говорю — удовольствие. Она давала мне возможность выполнять определенные функции, то есть существовать. Утром я фиксировал все распоряжения, которые она мне оставляла, прежде чем уйти на работу, а потом целый день их выполнял, механически, но тщательно. В редкие свободные минуты я думал о том, что жизнедеятельность моего организма с каждым днем все больше зависит от жены: она, только она одна может заставить меня приводить в движение ноги, руки, пальцы... И при этой мысли я испытывал к ней чувство глубокой любви, смешанной с благодарностью и доверием.
Так мы прожили, наверно, с год. Потом по многим признакам я заметил, что наши отношения, столь превосходные и целенаправленные, стали ухудшаться. Если прежде это были отношения (повторю уже сделанное сравнение) между машинисткой и пишущей машинкой, то теперь с каждым днем они все больше превращались в отношения между этой машинкой и сборщиком железного лома. Жена, наверно, поняла, что, заваливая меня распоряжениями, она меня не наказывает, а, наоборот, помогает мне жить, а возможно, просто нашла кого-то, кто фиксировал и выполнял ее приказания лучше меня. Дело в том, что она стала забывать по утрам, уходя на службу, завести меня, то есть дать мне задания на день. И поэтому все чаще мне случалось сидеть, застыв на диване в гостиной, закинув ногу на ногу, скрестив руки и уставившись в пустоту, — ни дать ни взять механическая кукла, у которой в спине ключ для завода, а в груди пружинка. Жену мою, казалось, охватила какая-то лихорадочная и презрительная торопливость: не проронив ни слова, она одевалась, приготавливала себе кофе и убегала, даже не сказав мне «до свиданья». Она не бывала дома целыми днями, иногда даже не ночевала. Телефонные звонки между тем прекратились, никто не звонил и у двери; поскольку жена не оставляла мне распоряжений, уборки я не делал, а что касается еды, то, подчиняясь редким и вялым импульсам желудка — единственной команде, которую я теперь получал, — я обходился консервами.
Квартира наша с каждым днем становилась все тоскливее и запущеннее: тусклые полы, кое-как расставленная мебель, в кухне — грязные тарелки и стаканы, в углах — скомканная бумага, на стульях — разбросанная одежда, незастланные постели. Жена, надо думать, все видела, но ее это, по-моему, не раздражало: быть может, посредством этого ужасного беспорядка она хотела внушить мне какой-то приказ, однако мне не удавалось его расшифровать. По воскресеньям она час-другой оставалась дома и тогда на скорую руку убирала и кое-как приводила в порядок нашу двухкомнатную квартирку.
Проснувшись однажды утром, я увидел, что жена, уже одетая, молча складывает вещи в стоящий на постели чемодан. Я долго смотрел, как она ходит от шкафа к чемодану, пока в конце концов не почувствовал, что эти ее сборы действуют на меня как приказ, мучительный, тягостный приказ, повелевающий задать ей вопрос, узнать, в чем дело. Что-то внутри меня сработало, язык шевельнулся, и губы мои произнесли:
— Что ты делаешь?
Она обернулась, поглядела на меня, потом села на постель и сказала:
— Туллио, нам пора расстаться. Я всячески пыталась дать тебе это понять, но ты делал вид, что ничего не замечаешь, и поэтому я вынуждена теперь это сказать. Наша супружеская жизнь кончена. Я встретила человека, который меня любит, и я его люблю. Вот уже два месяца, как я с ним живу, я не могу здесь больше оставаться. Ты, наверно, не замечал, но в этом доме почти ничего нет моего, кроме этих жалких тряпок и пишущей машинки. Теперь будь, как всегда, милым и услужливым. Человек, к которому я ухожу, ждет меня на улице. Прошу тебя, возьми машинку, снеси ее вниз и положи в его автомобиль. Вот и все, что мне от тебя нужно.
Я почувствовал нестерпимую боль, именно боль, и подумал, что такая сильная боль не может не родить импульса, приказания. Я сказал:
— Но я без тебя жить не могу.
Это была правда: без ее приказаний я не мог существовать. Она же истолковала мои слова по-своему:
— А вот я, к сожалению, прекрасно могу обойтись без тебя. Это верно, ты стараешься быть полезным. Но в супружеской жизни этого мало, нужно стать необходимыми друг другу. Ты же не нужен мне. Я могу заменить тебя пылесосом, электрической стиральной машиной, автоматическим телефонным секретарем...
Я проговорил, по-прежнему подчиняясь приказанию, рожденному болью:
— Но я тебе не позволю уйти.
Она решительно ответила:
— Перестань валять дурака. Оденься, возьми пишущую машинку, стащи ее вниз и положи в автомобиль. Чемодан я снесу сама.
Впервые с тех пор, как мы жили вместе, я оказался перед лицом двух приказаний, некоторым образом противоречивших друг другу: с одной стороны, досада и боль повелевали мне помешать жене уйти, с другой — она велела снести вниз пишущую машинку. Одеваясь, как приказала жена, я обдумывал, что же мне делать. Она расхаживала по квартире, наконец захлопнула чемодан и, подойдя к зеркалу, повернулась ко мне спиной. Здесь сработал сигнал. Я набросился на нее и с криком: «Ты не можешь оставить меня!» — схватил ее за горло. Все произошло очень легко и просто, совершенно автоматически. Почувствовав, что тело ее обмякло и она вдруг осела, так что я чуть было не потерял равновесия, я подтащил ее к постели и положил на спину.
Теперь надо было побыстрее выполнить второй приказ. Я положил пишущую машинку в футляр, вышел из квартиры, спустился на лифте. Автомобиль действительно стоял у подъезда, но ветровое стекло отсвечивало, и мне не удалось разглядеть, кто сидел за рулем. Я обошел автомобиль, открыл багажник и поставил в него пишущую машинку. Потом вернулся домой, сел на диван в гостиной, закинул ногу на ногу, скрестил руки — и уставился в пустоту, ожидая приказаний.
Перевод с итальянского Г. Богемского■
Из рубрики "Авторы этого номера"АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.).
Перу видного итальянского писателя А. Моравиа принадлежат романы: «Равнодушные» («Gli indifferenti», 1929), «Римлянка» («La Romana», 1947), «Приспособленец» («Il conformista», 1951), несколько cбopников рассказов и другие произведения.
Читателю нашего журнала это имя знакомо по опубликованным у нас романам: «Презрение» («Il disprezzo», 1957, см. №№ 9—10, 1963 г), «Чочара» («Ciociara», 1957, см. №№ 1—3, 1958 г ) и рассказам, печатавшимся как в нашем журнале, так и в других советских периодических изданиях.
Рассказы, публикуемые в номере, вошли в сборник «Вещь это вещь» («Una cosa е una cosa», 1967).

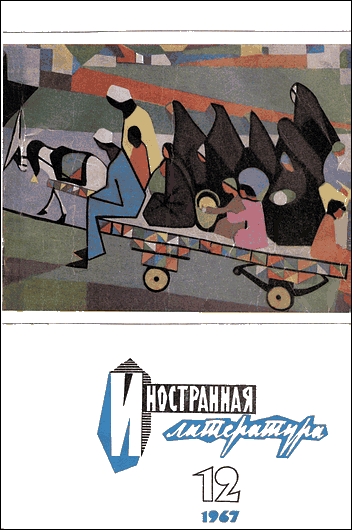




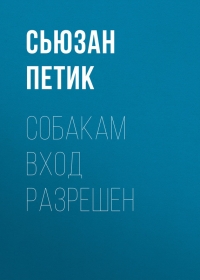
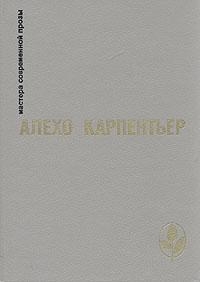

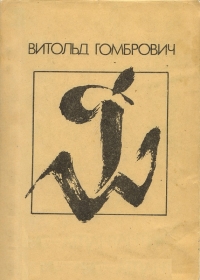




Комментарии к книге «Рассказы», Альберто Моравиа
Всего 0 комментариев