В чистом поле: очерки, рассказы, стихи
Техническая страница
О ТЮМЕНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ И НЕ ТОЛЬКО О НИХ
ББК Х4 Р7-4
ДЗЗ
Денисов Н. В. В чистом поле: очерки, рассказы, стихи, фотоиллюстрации. Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадрииский Дом Печати», 2012. 244 с.
«В чистом поле» – новая книга поэта и прозаика Николая Денисова – лауреата Международной литературной премии «Имперская культура». Это строки о друзьях-товарищах по литературному цеху, их жизненном и творческом пути. Автор прослеживает наиболее ёмкие «вехи» в истории организации тюменских писателей – на фоне событий советской и постсоветской эпохи – через личное восприятие разнообразных моментов бытия.
Книга издается к 50-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России.
ISBN 978-5-7142-1390-8
© Н.В. Денисов, 2012
И ВЕТЕР ВЕКА – В НАШИ ПАРУСА
Прошлое смотрит на нас…
Леонид ЛеоновХорошее, светлое, значительное – происходит у нас чаще всего весной. В марте либо в апреле. В преддверии весны – в февральские, просиненные необычайно высоким и безоблачным небом, деньки – тоже может произойти. Февраль – после ядреных январских стуж, за просторный безоблачный горизонт, за синеву небесную, сахарно чистые снега, прозывают весной света!
И вот март. За ним апрель. Пора солнечных звонких капелей. Пора творений!
У меня, вчерашнего курсанта механизаторского училища, пишутся стихи. Еще безусо юношеские, с огрехами, как и у всякого начинающего, немножко «припахивающие» Есениным:
Под солнышком люд ликует, Гудит, как пчелиный рой! Распахнут раймаг, торгует Весеннею мишурой. В раймаге – товар хороший: Бери, запасайся впрок! Вот с алым нутром галоши, Берет на весну дедок. Весна! Хорошо сплясать бы, Отметить златые дни! И, глянь, уж собачьи свадьбы – Сигают через плетни! Зенит золотист и розов, И, чувствуя благодать, На сером бугре березы Торопятся воскресать.А год назад, в день 12-й апреля, радуясь весенней ростепели, прилету скворцов, мы азартно «бились» на училищном дворе в снежки. Набрякшие влагой, осевшие голышмановские поселковые сугробы крупитчато и ярко искрились на солнце. И вдруг, оттуда, с высоченных небес, из синевы, долетела до землян, до районного поселка, до нашей «капустной», тракторной и комбайновой училищной обители тоже, еще одна радость: «Человек в космосе! Гагарин! Наш русский, советский!»
Восторгам, гордости за НАШЕ – не было предела!
И вот опять весна! 1962-го года весна. В мое редакционное окно стучит, изготовившаяся подчиниться подступающему теплу, ветка сирени. Скоро, скоро она вберет в себя эту земную благодать, чтоб развернуть листву, затем одарить всех нас фиолетовыми букетами.
Мои подружки, поселковые девчата, которые недавно бегали на танцы к нам, в клуб механизаторского училища, теперь, стуча каблучками по дощатому тротуару, и тоже принимая весну, «давят косяка» в мои «газетные» окошки. Для них, девчат с местного льнозавода, кажется, удивительным мое перевоплощение: недавно я был обычным парнем-«капустником» – из соседнего Бердюжского района, на форменной пряжке поясного ремня которого значилось сочетание из двух букв «ТР» – трудовые резервы.
Так что случилось… нет, не с подружками, со мной? С выходцем из деревни, как про подобных говорят в народе? Слово-то какое – выходец! Почти – проходимец. Но не по мою душу это словечко. Даже хозяйка «курсантской» квартиры, у которой я по- прежнему обитаю, она недавно никак не отличала меня от других постояльцев-капустников, теперь называет меня по имени- отчеству. Неловко от сего внимания… А я успел уже в свои восемнадцать лет с хвостиком пройти разнообразную закалку трудом: сено косить умею, зароды метать – тоже, поймать ондатру и обработать снятую со зверька шкурку, умею поле трактором вспахать, стрежевой иртышский невод заводить на тоню, зимние невода, полные карасей или совсем порожние, тянуть из-под озерного льда, баржи разгружать, вздымая на спину тяжеленные ящики, нести по шаткому пристанскому трапу…
Да, кое-что испробовал за свой пока еще короткий век. И вот приглашен на работу в газету, поскольку пишу. И – в тайной, не до конца осознанной цели – хочу писать не только репортажи, заметки, а и более весомое: настоящие стихи, поэмы, рассказы, а, может быть, может быть…
Первое, написанное в рифму, помню. Во втором классе дело было. Первую прозаическую заметку – тоже не забыл. Она называлась «11ора бороться с крысами». Писал уже в шестом классе – на тему серьезную. Крысы уничтожали зерно на колхозном складе, плодясь там тучами, и душа, ищущая справедливости, не выдержала. Написал в районную газету. Напечатали. Прислали три рубля гонорара, их мы с друзьями потратили на конфеты, пряники и кино.
С колокольни 2010-го года, когда пишутся эти строки, надобно заметить, что районные газеты в ту пору много печатали критического. Самыми популярными в народе были басни и сатирические рассказы, острые заметки о нерадивых начальниках, печатавшиеся под рубриками – «Острым пером» или «Вилы – в бок!»
Опять же с высоты нынешних лет надобно отметить, что подобных газетных материалов нынче и представить невозможно. Повывелись «острые перья», оставшиеся районные «писарчуки», превратились в обслуживающий персонал плодящегося уже не в тысячах, как крысы на окунёвском зерноскладе, а в миллионах множащегося в стране чиновничества, превратившегося в «офисный планктон», точнее, в отдельный «класс», каковым классики марксизма-ленинизма именовали паразитический класс эксплуататоров.
«Пора бороться с крысами!» Что? И думать не моги!
Третья напечатанная статейка той давней поры была и вовсе по жизненному практическому поводу: привезли в наше Окунёво на замену мужицких вил – новенький стогометатель, который нерасторопный управляющий фермой бросил на гниение возле сельской кузницы. На этот раз узнал я, что за «писанину» можно получать не только на конфеты и пряники! А и хорошие оплеухи, что достались мне однажды вечером от скараулившего меня хмельного тридцатилетнего мужика-управляющего…
И все же «занятия» сего не бросил. Не выбили его из меня и суровые мужицкие кулаки!
Умения писать пока маловато. О том же мне говорит и поэзия Есенина, которого недавно читал практически впервые, ведь в школе «не проходили». И так очаровался, что буквально заболел Есениным – душевностью, красотой его образных пронзительных строк.
Песенный Исаковский подбросил пищи для раздумий: попалась в книжном магазине его тоненькая брошюрка «О поэтическом мастерстве». Пристально изучаю. И то, как держать размер строки, как подыскивать полнозвучную рифму, как расслышать в себе мелодию, присущую твоему голосу, а больше – никому. И еще поэт говорит о «практическом» кругозоре, попросту – о трудовом опыте.
И помня недавнее, морозное, еще доучилищное – рыбацкие свои разведочные походы к урманным озерам в окрестностях Тобольска, складываю я в ночной подлунной тишине:
…Вот мы идем тропой угрюмой Без рыбы вновь – в который раз. Скрипит, тревожа наши думы, Под броднями некрепкий наст. Надежны шубы меховые, Но мы мечтаем о тепле, Где печь в углу, дрова сухие И соль в тряпичке на столе. И вот он – рай! Трещит осина. Печурка балует чайком. Уже давно без керосина Ослеп фонарь под потолком. Погас огонь, закончив дело, На нары сон свалил людей. Идет мороз по крыше белой, По мокрым спинам лошадей. И к нам в охотничью сторожку, Наверно, радуясь теплу, Ввалился лунный диск в окошко И покатился по столу…Весна! Добрая помощница сочинителям!
Вдруг в поселок, в эту весеннюю синь, приезжает писатель. Из областной нашей столицы, из Тюмени. С книгами. С именем, которое и мне известно: Константин Лагунов. Наши редакционные говорят о нем просто – Костя. Мол, приехал в Голышманово «собирать материал», пишет роман о военной тыловой поре. Роман! Уже и название его «гуляет» в нашей редакции: «Так было».
Лагунов из местных, из голышмановских. В прошлом, в войну, еще семнадцатилетним мальчишкой, был здесь директором детдома, первым секретарем райкома комсомола. А поскольку редакционные тогда тоже были юными комсомольцами, то их ровесник, конечно же, и теперь просто – Костя.
И, надо ж так, в искренней заботе о молодом сотруднике и «натравили» они тридцатисемилетнего писателя на меня. Заходит в мой сельхозотдел, спрашивает о пустяшном, видимо, для приличия – надо же что-то сказать, коль зашел. А я ему, ничуть не смущаясь, подсовываю несколько листков «стишат». В том числе и эти строки:
Палисадники с астрами рдяными Да болотных низин – камыши. «Дорогое мое Голышманово!» – Говорю я от чистой души. Дорогие мои переулочки, Говорливый и светлый вокзал, Где в буфете хорошие булочки, Я вкусней их нигде не едал. Тополя в небе ветви упрятали, Там незлобно грохочут грома. Словно замки стоят, элеваторы, Полновесных пудов – закрома. И друзья у меня здесь фартовые, Работяги – не шушера-сброд. Вот и домик под крышей тесовою, И девчонка моя – у ворот. Здесь я с нею целуюсь под лунами. Как на крыльях, сюда я лечу. Своенравная, гордая, юная… А другой я и сам не хочу.Читает. Вежливо кивает. Не хвалит. А так – ровно советует: продолжай, мол, а там посмотрим! И то ладно. И запомнилось. И пронес я эту мимолетную встречу через года. И, вроде, знаковой стала встреча эта, коль сейчас вспоминаю о ней, как о существенной.
Еще существенное – на исключительно деревенской Тюменщине – разбуженный север. На картах области не успевают обозначать открытия геологоразведчиков. И физические карты являют -огромное, расцвеченное в зеленое-полевое и лесное – пространство. Но уже кипит оно, пенится незнакомой, оттого таинственной и притягательной, новой жизнью. Конечно, с младшей школьной поры помнится Березово. И при нем – черный «газовый» значок на большой школьной карте, что висела на полстены в нашем классе. Значок «оповещал», что в 1953-м из пробуренной Березовской скважины внезапно вырвался под небеса газовый фонтан. Укротили! И на географической карте отметили!
Новые фонтаны из потревоженных недр прозвучали не столь скоро. И потому недавним десятиклассником, сочинял я: «Край родной мой – просторы тюменские, где вокзалы и те деревенские, где знамена алеют над чумами, а в тайге еще ханство Кучумово!»
Таким он, мой край, виделся мне из южной Бердюжской моей глубинки! Деревенские вокзалы знал воочию, а про север – представления, фантазии. И не зря один критик-знаток сказал недавно про эти «знамена»: «Где видел?»
Не видел. Но это ж в образном смысле, ханство Кучумово тоже!
Север, север! Есть уже промышленное месторождение нефти – Шаимское! Оттуда нефть скоро станут вывозить железными баржами на Омский нефтеперерабатывающий завод. Заработает загадочная для меня река Конда, заработает славный песенный Иртыш! Газеты печатают уже восторженные новости о крупных открытиях в недрах Приобъя. Гудят разведочные буровые вокруг ямальского Уренгоя. Вот-вот грянет на всю страну, на весь удивленный всепланетный мир – гигантский нефтяной Самотлор!
Тюмень! Тюменщина! Родина моя сибирская!
Пишу о ней еще по привычке вчерашней – деревенское, пахотное, сенокосное. А собратья-сочинители, что постарше, что торят северные таежные тропы, полнятся новой темой – первопроходства!
Это здорово – правда? – Очутиться в Тюмени Вот в такой же весенний Ослепительный день, И почувствовать заново Запах сирени, И увидеть Сиренево-синюю тень… Это здорово – правда? – После серых, как скука, И холодных, как смерть, Заполярных снегов Вдруг на землю упасть И послушать: «А ну-ка, Как ты дышишь, земля, Ты здорова? И я, Я чертовски здоров! Чуешь, Как от меня Пахнет дымом и потом И ноги блаженно Гудят в сапогах? Им досталось шагать По тюменским болотам: Как-никак, а всю зиму, земля, На ногах!…» Это здорово – правда? – Шагать по асфальту В остроносых ботинках, Легко – как босой!.. Так и хочется сделать На улице сальто Или просто пройтись По земле колесом! …В сквере возле вокзала Звонкогорлое пенье – Здесь скворцы начинают Раньше прежнего петь. Это здорово – правда? – Очутиться в Тюмени, А потом до весны Вновь в тайгу улететь.И правда – здорово!? И я посылал искренний сердечный привет незнакомому мне автору – Виктору Козлову, что напечатал эти строки в тоненьком коллективном сборнике местных стихотворцев. Рядом с «нейтральными» лирическими стихами Петра Амелина, Федора Чурсина, Бориса Полочкина, баснями Георгия Первышина – звучат они на местном поэтическом чистом еще поле ново, ритмически непривычно, будоража душу, как и всякая новизна.
Утверждаются на этом же литературном пространстве и имена местных прозаиков – Петра Горбунова, Станислава Мальцева, Павла Кодочигова. Со школы знаю их книжки Тюменского издательства, рассказы, напечатанные в альманахе «Сибирские просторы».
Эти книжечки на «простой» некачественной бумаге, эти нечастые выпуски местного литературного альманаха вот-вот станут вчерашним днем. И отыскать их можно будет разве что в глубинных архивных хранилищах или на домашних полках пристальных собирателях «старины».
Вместе с таежными открытиями первопроходцев-романтиков приспевало на Тюменщине главное литературное событие начала шестидесятых. К нему я и подступаюсь. Через град Тюмень подступаюсь. Областная столица – пока еще малолюдный город, еще не обласканный вниманием столичных газет и радио, но уже взбодренный прибывающими сюда со всего СССР ватагами добровольцев, завтрашних северян. Для них Тюмень – перевалочная «база». Все маршруты отсюда- на север. На север!
Тюмень, в которой я бываю то на спортивных соревнованиях, то просто по любопытству (билеты на железной дороге стоят копейки!), сама по себе – кудрявый от зелени в июне, заснеженный в декабре, не очень ухоженный и обустроенный город. Дивит лишь огромным стадионом в центре, обилием речной и озерной рыбы в базарных рядах да емкими тазами с черной осетровой икрой в приземистом гастрономе на углу Первомайской и Республики. Икру покупают, как в нашем сельмаге привычно берут пшенку или перловку. Продавщицы в халатах, обтягивающих их безразмерные талии, кладут этот пока еще ходовой, пока еще недорогой товар на весы, черпая его из тазиков и бочонков поварешками, напоминающими полпудовки с колхозного зернового склада.
А заглянувший на тюменский огонек поэт-песенник Лев Ошанин очаровался здесь вкусными сибирскими пельменями, которые так легко рифмуются с Тюменью. И написал Ошанин звонкую песню с этими пельменями. Зазвучала по московскому радио, прославляя пока не очень прославленный наш таежный и морозный край.
И вот он, в начале метельный, а затем, к средине своей, синий- синий февраль 1963-го. Стартовый год и месяц рождения Тюменской областной писательской организации, о которой, в основном, и стану говорить на последующих страницах этой книжки.
По воле судьбы, точней – по «исполнению воинского долга», я на эту пору оказываюсь далеко от родных весей. На военной службе. Потому извиняюсь сейчас за длинную цитату по теме этого литературного события. Цитату беру из статьи «В ворота памяти стучусь», написанную по моей редакторской просьбе для 50-го номера газеты «Тюмень литературная» Константином Яковлевичем Лагуновым в ноябре 1998 года. И пусть сам стиль и пафос лагуновский отличен от моего негромкого повествования, здесь он уместен:
«…В шестьдесят третьем в Тюмени не было дворцов культуры, не было и филармонии, и Дома политического просвещения с их просторными многоместными залами. В городе имелся всего один большой, современно оборудованный зал заседаний в помещении областного комитета партии. В том зале проходили все наиболее значимые совещания, заседания, конференции, пленумы. Поэтому, вероятно, никого не удивило, что в тог студеный февральский вечер к обкому шли люди. И шли они в основном не по одному, а веселыми говорливыми стайками – так идут на всенародный праздник.
К означенному в приглашениях часу зал заседания был переполнен. Припоздавшие стояли либо сидели в проходах на невесть откуда раздобытых стульях.
Непривычным оказался и состав президиума этого собрания. Вместе с областной «верхушкой», возглавляемой первым секретарем Тюменского обкома партии Борисом Евдокимовичем Щербиной, за длинным широким столом президиума восседал секретарь Правления Союза писателей РСФСР, известный детский писатель Сергей Баруздин и шестеро именинников – членов Союза писателей СССР, из которых и состояла только что родившаяся Тюменская областная писательская организация. Её рождению и посвящено было столь представительное и многолюдное собрание общественности города Тюмени.
Собрание открыл Щербина. Человек высокообразованный, эрудит, прекрасный оратор. По своей природе, складу ума, духовному настрою Щербина был идеологом. Его всегда занимала и глубоко волновала духовная жизнь всего советского общества, и, конечно же, своего края. Именно он сыграл решающую роль в создании областной писательской организации. Щербине во многом обязана она своим стремительным взлетом, превращением в одну из авторитетнейших писательских организаций Советского Союза.
Присутствующие в зале тюменцы овацией встретили весть о рождении организации. И щедрыми аплодисментами наградили каждого писателя.
За вычетом моей персоны, их было пятеро. Великолепная пятерка!
Иван Истомин. Человек – легенда. Прозаик и поэт. Публицист и драматург. Всю жизнь не расстававшийся с костылями. Человек могучий духом, постоянно преодолевавший жесткие наскоки немилосердной судьбы…
Вторым память высветила Михаила Лесного (Зверева). Это добродушный, изысканно вежливый, гостеприимный ишимец. Он жил тихо и неприметно в своем ишимском «поместье». Сочинял книжки для детей – о родной сибирской природе, о наших четвероногих друзьях…
Далее – Майя Сырова. Смуглолицая болгарка. С ослепительной улыбкой и искристым взглядом. 11оэтесса. Вскоре уехала в Москву. Умерла там от сердечного приступа в реанимационном отделении больницы…
Четвертый – самостийно неукротимый, размашистый и голосистый Иван Ермаков. Крупный плечистый мужик. С лицом грубым, будто наспех, одним топором вытесанным. Большенос. Крупные ядреные губы. Лохматые брови. В глазах – озорное лукавство. Он пришел в Союз писателей с большой книгой самобытных, ярких, звонких сказов, которые, уверен, будут жить долго-долго…
Замыкает великолепную пятерку Василий Еловских. Худощавый, очень проворный и энергичный человек. Принимали его в Союз писателей по книгам, вышедшим в Москве. А это что-нибудь да значит…
После торжественного публичного крещения новорожденной Тюменской областной писательской организации, нас пригласили в малый зал заседаний бюро обкома партии. Зеркально отполированные столы накрыты белыми салфетками. На них закуски и напитки. Так новорожденную омыли «русской горькой».
Чтоб в зале заседаний бюро обкома партии пили водку, курили, и во всю мощь голосовых связок базарили кто во что горазд, а захмелевший Иван Ермаков хриплым баритоном распевал самодельные частушки – такое и присниться в ту пору никому не могло. Но жизнь изобретательней и фантастичней снов…
Штатных работников в писательской организации было всего двое: я (ответственный секретарь) и Зинаида Алексеевна Белова- Черкасова. Она была бухгалтером и кассиром, техсекретарем и машинисткой, делопроизводителем и завхозом. И еще литератором: её рассказы и очерки постоянно появлялись в местных газетах, передавались по областному радио.
Зинаида Алексеевна в своей очень нужной должности была одна. Но вокруг писательской организации было много деятельных, талантливых людей, беззаветно преданных литературе, одержимых творчеством.
Если попытаться выстроить эту ватагу в одну длиннющую шеренгу, то на правом фланге, наверное, окажется Лазарь Вульфович Полонский. Литературовед, критик. Язвительный и царапучий. Добрый советник и помощник, много сделавший для пропаганды творчества региональных писателей, для возвышения авторитета областной писательской организации.
Ну а левый фланг представят два юных друга – Владимир Нечволода и Николай Денисов. Внешне они мало схожи. Владимир круглолик, яркогуб и по-детски наивен. Николай – приметно крепче телом и духом, с крутой мужицкой суровинкой в лице и прицельно цепким взглядом.
Позже оба окончили Литературный институт при Союзе писателей СССР, стали профессиональными поэтами. Однако время показало, что талант Николая Денисова разносторонней и ядреней. Он проявил себя и как незаурядный прозаик, и как огненный публицист, и как отменный организатор литературного процесса, много лет редактируя газету-альманах «Тюмень литературная», сделал издание широко известным не только в России, но и за её рубежами.
Между право- и левофланговыми несколько десятков превосходных литераторов. О каждом из них можно было бы рассказывать много интересного, поучительного и забавного, смешного и грустного, но непременно оригинального…
Вот «поперёшный», задиристый и ершистый поэт Владимир Фалей, которого «мама в капусте нашла», когда его «шлепали по попке лопухи». Решительный и отважный и в жизни, и в стихах, Володя обладал редким качеством притяжения, и вокруг него всегда кучковались жаждущие подвига и славы…
А вот рафинированный интеллигент, философ, тонкий лирик Анатолий Кукарский. Однажды встретив на улице женщину, которая силой волокла на поводке упирающуюся, рвущуюся в кусты собаку, Анатолий заступил незнакомке путь. И так красочно, так взволнованно, так убедительно живописал страдания подмятого неволей вольнолюбивого веселого пса, что женщина отстегнула поводок, дав волю ошалевшей от радости собаке…
Или вот комиссар нашей писательской организации – так заглазно называли мы бессменного парторга Виталия Клепикова. Критик и публицист, блистательный знаток современной литературы, Виталий был душой писательской молодежи.
Во время подготовки к Дням советской литературы в Тюменской области Клепиков отвечал за выпуск серии небольших по объему поэтических буклетов. И среди известных имен оказался буклет …никому неизвестного северянина. Охотника, значилось в биографической справке. И в стихах – север, олени, тундра… Кто автор? Где он, покажите! – требовали мы. Дознались! Оказалось, что Клепиков придумал этого поэта и… написал «за него» стихи!
Вот такие талантливые, смышленые, а порой и озорные мужики были в нашем активе. Из него пришли в Союз писателей Зот Тоболкин и Геннадий Сазонов, Анатолий Васильев и Сергей Шумский, Станислав Мальцев и Юрий Надточий, Николай Смирнов и Андрей Тарханов, Маргарита Анисимкова и Раиса Лыкосова, и другие, ныне здравствующие и активно работающие – прозаики, поэты, публицисты…
Так писал о рождении писательской организации Константин Лагунов, избранный в 1963-м её первым руководителем. Здесь бы и поставить мне точку – в главке о нашем начале, о рождении профессиональной организации тюменских писателей, в составе которой автор данных строк прошел немалый путь.
Но напрашивается существенное дополнение о том, что коллеги мои, которые составили первый и последующий эшелоны нашего писательского содружества, были разными и по возрастным «параметрам», и по происхождению, и по судьбам человеческим. Двое из старших успели повоевать на Великой Отечественной Иван Ермаков и Евгений Ананьев-Шерман, другие детством своим иль отрочеством захватили военное лихолетье, далее – дети войны, родившиеся в пору четырех огненных военных лет, либо в первые послевоенные, но столь же пронзительные на события и мироощущения года. Все это, как говорят, «накладывало отпечаток».
Какие мы были – по духу, по характеру, по отношению к стране, к Родине, Отчизне? Это важно. И об этом надо знать идущим за нами литературным новобранцам.
Жили и сложно, и трудно. Но и вдохновенно. Были и остались патриотами Отечества. И в писаниях своих о том же подчеркивали. Незатейливо, просто сказал о времени, о поколении нашем один из нас – геолог и поэт Виктор Николаевич Козлов: «…Боже! Как же мы любили Свою страну… свою страну! Свою – от ночи до рассвета, В снегах, в слезах – СВОЮ! Не «эту».
В романтичных, задорных шестидесятых мы еще не знали об «этой стране», когда во главе её укоренятся выдвиженцы фарцы, тряпичничества, беззастенчиво тусовавшиеся тогда у подъездов гостиниц, клянча у иностранных туристов что-нибудь забугорное – с нашлепкой на «американском языке». Впоследствии они покажут нам «кузькину мать», которую хотел показать в нашу юную пору американским империалистам Хрущев, стуча снятым с ноги ботинком о трибуну ООН. Они поделят нас на богатых и бедных, вымаривая со свету белого, особливо русских людей, по миллиону в год…
Шестидесятые. Мы юные и молодые. Задор и радость в душе от свершений и устремлений, которые царят в обществе, особенно в нашем Тюменском крае. Эпоха первооткрывателей и первопроходцев. Как раз в эту пору выходит книгой поэма первого в стране поэта Александра Твардовского – «За далью даль». О ней говорит весь литературный мир. Она созвучна нашим мироощущениям и, как говорится, «целям и задачам». А эти строки становятся компасом в нашей жизни, в свершениях великой нашей Родины – СССР:
За годом – год, за вехой – веха. За полосою – полоса. Нелегок путь. Но ветер века - Он в наши дует паруса.В ЧИСТОМ ПОЛЕ – ВОЗЛЕ ОЗЕРКА
Когда думаю об Иване Михайловиче Ермакове, видится поле, чистые, просветленные березовые колки, духмяно пахнущие в июльскую пору разнотравья, слышится шелест осоки болотистых низин, а где-то возле озерка, возле речки, солончаковой прелью поскотин шибает. И текут по вольной лесостепи многочисленные коровьи стада, издалёка доносится тракторный гул, отчетливый колесный стук фургона или стукоток бензинового моторчика мехдойки. В небе, чуть пошевеливая крылами, висит коршун. Мелодично заливается жаворонок. И пылит полевой дорогой машина с белыми молочными флягами в кузове. Всадник вдали мелькнет, нет – не половецкий воин, не коварный степной лазутчик, а наш, приишимский, в выжженном солнцем, заскорузлом от пыли и пота картузе, сельский пастух.
И тишина, покой. И чудится, так было и так будет всегда!
Все эти картины, всё это земное действо сельчан, изображенное писателем не просто зримо, живописно, метким и сочным словом, а с неповторимым лиризмом, с метафоричностью, с любовью к литературным героям, к людям, так изображено, что порой кажется – нет подобного на земле. Но, отринув мимолетный скептицизм, прислушаешься к тем, еще детским своим представлениям о мире – и поймешь: никуда они не делись, они в нас, только поглубже скрыты в душе от суровой взрослости, от задерганного быта, от грозящих катаклизмов в природе, в обществе.
Произведения Ермакова – его сказы, документальные очерки, не отличимые по стилистике, по языку от художественных сказов, надо читать, перечитывать. Они – особый для души лекарь.
В пору их создания и выхода в свет, будь напечатаны они в местной прессе или в толстом иногороднем журнале, становились литературным событием в Тюмени и в области. Впрочем, как любая книжка той поры – сборник стихов или прозы того или иного автора. Выходили они и трудно, и не часто, будоража и без того возвышенную литературную атмосферу, царившую в родном отечестве повсеместно. Как говорится, было – «время такое было!»
Но ведь ни «время» благодатное, никакие университеты, научные степени, звания не помогут взявшемуся за перо человеку, если не дана ему от природы, от Бога – живая искра таланта. Ивану Михайловичу не довелось закончить вуз. Что у него было за плечами, когда он сотворил свои выдающиеся произведения? Сельская семилетка, ускоренные курсы младших лейтенантов в начале Великой Отечественной войны, окопные «университеты» пехотного взводного, культпросветучилище – это уже после войны, когда работал он артистом-кукольником в Омске, потом заведующим сельским клубом на родине, в Приишимье.
Почему никто из земляков-тюменцев, из образованных людей с вузовскими дипломами, не сумел живописать так, как Ермаков? А ведь Ермакову подражало немалое число местных газетчиков, пытавшихся стать писателями, беря на «вооружение» тональность и стилистику его сказов? Получалось у них откровенно заёмное, лобовое, зависимое. Автор, буквально, попадал под очарование и под «пресс» ермаковского таланта и не умел выбраться из него к самостоятельности.
Ермаков и сам в какой-то мере «вышел» из сказов Павла Бажова, но оставил тому сказочную придумку, фольклорность, сам изображал в действиях персонажи из живой жизни, в тематической основе его произведений была сибирская деревня, солдатский быт, а затем и наш, тюменский, разбуженный первопроходцами – север.
Мне все хочется цитировать Ермакова. Прикосновение к его образному слову вызывает радость, ответное тепло в душе. Вот и я видел эти картины, этих людей. Ермаков родился и вырос в соседнем от моего Бердюжского – Казанском районе. Оба района граничат с Северным Казахстаном, вернее, с бывшей территорией Южной Сибири, природа у нас одна, травы также пахучи, меньшие братья – те же. Но как он в отличие от нас сумел, например, так ярко и яро написать о «простом» петухе:
«Бородавчатый толстый гребень напружинен задором и кровью. Из-под назревше-малиновой плоти пробился изжелта-воронёный, могучий, будто бивень, клюв. С опаской смотришь и на веселый, задорный бдительный глаз. Огненная бородка постоянно, как пламень, жива. Перо выхоленное, семирадужное, боевые токи в нем текут. Шея, по самую грудную дужку и ниже, жарким золотом горит-полыхает. По крылам – частью чернь, частью тоже расписано золотцем. Темный хвост на распаде пера сизой зеленью излучается. Шпоры так остры, так отточены – кондиционная свинья обходит его стороной. Генерал – петух!»
А как писал о кузнецах, пастухах, доярках! Надо читать и перечитывать. Особенно – литератору.
Если говорить о влиянии литературного произведения на читателей, припомню, как это было со мной. С первым произведением Ермакова, а это был сказ с поэтическим названием «Зорька на яблочке», я познакомился в газете «Ишимская правда» в 1961 году. В неполных восемнадцать я начинал работать в ту пору на тракторе, в голове, конечно, было полно разнообразной романтики. Что- то хотелось необыкновенного сделать. Землю пахал, дело привычное. Но тогда всё больше доярок прославляли, хороших тружениц, рекордисток по надоям молока. И тут – ермаковский сказ об этих «молочных феях», который, сея восторги, вручили мне сотрудники из редакции ближнего от нас города, куда прикатив однажды, решился показать свои вирши «знающим людям».
И вот прочитал сказ – прямо-таки за душу взяло!
Дома, в селе, подошел к нашему бригадиру-полеводу Григорию Тимофеевичу Киселёву: переведи меня, говорю, на ферму дояром! Он аж ошалел: «Сдурел, что ли, дояр мне нашелся!..» Ладно хоть он никому не сказал об этом моем «патриотизме»!
Вот такое во мне сказ Ермакова пробудил! Да многих, повторюсь, всколыхнул Ермаков в ту пору. Народ сочиняющий, пишущий.
Перед призывом на службу, я несколько месяцев трудился в газетах Голышмановского и Омутинского районов. Следил за литературными публикациями. А в областной прессе стали появляться рассказы и очерки, явно подражающие ермаковской образности. Что ж, хоть никому не удалось обскакать самобытного писателя, ценить слово, работать над ним он многих тогда учил. Помню, и я всё больше расписывал в репортажах и корреспонденциях «закаты-рассветы». Ответственный секретарь газеты, принимая мои материалы, ворчал: «Ты мне расскажи, как в совхозе высоких надоев молока добиваются, а не о том, как травы пахнут, воробьи чирикают!»
Слышал как-то от Константина Лагунова, что Ермаков трудно проходил в коллегии по приёму в члены Союза писателей СССР. Сложно это понять и принять. Ну если это так и было, то сие просто говорит о том, какой в прежние времена был строгий отбор в «профессионалы». Да и по собственному опыту, по опыту друзей- поэтов знаю: строг. Это нынче – издал человек свои несовершенные вирши на собственные иль спонсорские деньги, он едва ль не требует, чтоб его тут же и приняли в писательский Союз!
А состоять в организации с такими писателями, как Ермаков, честь была немалая. Ведь не случайно, уже известный на ту пору, Виктор Петрович Астафьев, живший в большой промышленной Перми, имел намерение поселиться и работать в Тюмени – не только за «тихость» сибирского городка, каковой впоследствии стала для него Вологда.
В начале он посетил Тюмень. Было это 9-10 мая 1965 года.
Страна впервые широко и звонко отмечала День Победы. В честь её двадцатилетия была отлита медаль, которая от имени Верховного Совета СССР вручалась фронтовикам, партизанам и – всем другим воинам, кто на данный момент служил в Вооруженных Силах.
Командир нашей части, приехав в морской батальон охраны Главного штаба Военно-Морского флота СССР, буквально, из мешка доставал эти награды и вручал всем нам, как отличникам ВМФ, так и не очень радивым бойцам, вчера еще сидевшим на «губе».
Но таков был статус медали – всем!
А далеко, далеко от меня, в майский этот победный день на берегу полноводной Туры, устроившись на зеленой лужайке, вели разговоры Ермаков и Астафьев, вспоминали дни и битвы, где вместе сражались они. Но не было печали меж бывших фронтовиков, больше звучало веселых фронтовых историй. Астафьева и Ермакова сопровождали Владислав Николаев и Виктор Козлов – прозаик и поэт. Сидели на полянке рядом, слушали бывалых. А когда часа через три все вдруг засобирались «разбегаться», кончилось курево, едва поднялись: брюшные прессы были надорваны от смеха!
Побывав на следующий день на беседе в обкоме партии у одного из секретарей, Виктор Астафьев, больше ни с кем не встретившись, уехал. Как там протекал разговор в обкоме, никто не знает. Но Ермаков долго еще вспоминал о встрече с Астафьевым. Как говорят, хорошо сошлись эти два таланта, сблизились сердцем и душой. И прими в этом сближении участие Первый секретарь обкома Щербина, который на тот день был занят или находился в отъезде, приди на встречу руководитель организации тюменских писателей Лагунов, не пришел из некой «боязни» или «ревности», могло статься, что мы бы сейчас называли Астафьева земляком.
Да, потом, много позднее, с развалом и уничтожением СССР, придут иные времена, талант заменит «рыночный успех», смертную казнь за преступления заменят ипотекой, творческая среда также погрузится в смуту и противостояния. Виктор Астафьев неожиданно для нас прислонится к ельциноидам, не погнушается их подачками, и будет беспощадно осужден даже своими учениками, которые любили его прежде горячо, искренно. А известный поэт и главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев опубликует статью об Астафьеве с говорящим названием «Погиб казак».
Многое чего непотребного случится в пору российской смуты 90-х.
Ермаков уйдет от нас много раньше.
Когда я, вернувшись со службы, пометавшись с устройством в гражданской жизни там и там, приехал окончательно в Тюмень, мои ишимские друзья, обосновавшиеся в областном центре, порой затягивали меня на «ермаковский огонёк». В литературной компании, чаще на квартире талантливой очеркистки Людмилы Дмитриевны Славолюбовой, можно было встретить литераторов и журналистов той поры – Евгения Ананьева-Шермана, Геннадия Рябко, Костю Яковлева, Анатолия Кукарского, Геннадия Сазонова, Володю Нечволоду, Юрия Зимина…
Интеллигентная и музыкальная Славолюбова обычно садилась за рояль, играла, пела романсы. А разговоры – о литературе. Иногда просили и меня: «Коля, прочти про деревню!» Но обычно я больше помалкивал, младшой был в компании, слушал, что старшие говорят, а Ермакова всегда слушать было интересно. То вдруг принимался он говорить о новом сказе, над которым работал, то сельские иль солдатские бывальщины «баял». И многое из того, что слышал я в устном действе, в этой компании иль в другие вечера на литературных выступлениях Ермакова перед публикой, всплывало в его произведениях. Писатель как бы проверял воздействие его слова на людях. Если повторялся, то знакомый эпизод обрастал новыми деталями, подробностями.
Выдумщик, к тому ж, был отменный. До слез смешил рассказом про ненца – участника ноябрьского Парада в Москве сорок первого года. Ветер, вьюга, а ему, бойцу-ненцу, замечательному снайперу, белке только в глаз попадавшему, ну чтоб шкурку не портить, было доверено нести красное полковое знамя. Пока стоял в парадном строю, слушал речь Сталина, продрог порядочно, но в дальнейшем справился с задачей. Помогли, поддержали, погодившиеся на этот морозный случай, Буденный с Ворошиловым, которые, как наркомы, сидели в хорошем чуме возле кремлевской стены, согревались отменным спиртом, ну и строганиной из нельмы да муксуна закусывали. Тундрового человека приметили, конечно, не поскупились, уважили, налили граненый стакан для сугреву! С тем и по площади прошел тундровик, и в бой на фашиста ринулся!
О таланте Ермакова, об его книгах немало сказано. Но, кажется, никто не подчеркивал того, что Ермаков был не просто народным, а глубоко советским писателем и человеком. В этом есть некий парадокс. Власть как раз, особенно партийная, не всегда жаловала писателя. «Виновата» тут и прямолинейность Ермакова, ершистый его характер. Лицо его тяжеловатое, с крупными чертами, немножко старило его, придавало солидность и строгость человеку. И он мог с дополнительной напускной суровостью, а то и с иронией-ехидцей, не глядя на чины и ранги, влепить прямо в лоб любому начальнику, что он думает о нем. Ну и – конфликт возникал. Хоть малый. И кто-нибудь да обрисовывал его нехорошими придумками: известный же человек! Обывателю дай только возможность зацепить талантливую личность, попытаться опустить талант до собственного ничтожества. Мол, а вот он тоже тако-ой!
Не из этого ли ряда «выросли ноги», поздних во времени, демократских сочинений: будто бы и притесняли-то Ермакова при коммуняках. И умер-то он едва ль не под забором от худой жизни, а то и вовсе в канаве, как последний бомж. Усердствовал в этом деле бывший красный репортер, быстро перекрасившийся в лихих 90-х в «жертву сталинизма и тоталитаризма», прежний мой приятель Борис Галязимов, печатая эти несусветные выдумки в демократических «Тюменских известиях».
Да ничего подобного. Умер наш Иван Михайлович от сердечного приступа на даче. Помочь вовремя было некому. Какие «скорые помощи» в чистом поле?! Повалился, как боец, как воин, на траву. И затих на руках его верной супруги Антонины Пантелеевны…
Еще месяц назад ездили мы в пригородный совхоз «Успенский», выступали со стихами и рассказами – прямо на рабочих местах. В совхозе садили картошку. Так что слушали нас – Ивана Ермакова, Геннадия Сазонова и меня – прямо в поле. Сопровождала нас команда с телевидения – режиссер Любовь Переплёткина, редактор Татьяна Лагунова и оператор Виктор (фамилию запамятовал). На телестудии долго хранили пленку с записью наших встреч. Не уцелела, говорят, размагнитилась – от долгого времени…
Рассказывали, как Ермаков, будучи уже известным сказителем, «выхаживал» себе тюменскую квартиру в обкоме партии. В ту пору писателей, членов Союза, обеспечивали жильем в первую очередь, наравне с профессорами и приглашенными в область нужными специалистами. Но все равно похлопотать, пообивать пороги – требовалось. После хождений по чиновникам, попал Ермаков на прием к первому секретарю Борису Евдокимовичу Щербине. Тот будто бы и сказал: «Да мне, Иван Михайлович, раз плюнуть дать тебе квартиру!» – «Ну так плюньте!» – парировал Ермаков.
Квартиру он вскоре получил, молва ходила, что Щербина тут же, при разговоре, вручил ему ключ, достав из ящика первосекретарского стола! Возможно…
Через два года после кончины (всего-то пятидесятилетнего) писателя – в 1976 году я начал работать руководителем бюро пропаганды писательской организации, в первую командировку поехал в Казанский район, чтоб организовать мероприятия памяти Ермакова, как-то и увековечить, именем его улицу или библиотеку назвать. К первому секретарю райкома присоветовали мне не ходить, того он крепко разобидел одно время. Пошел я к секретарю по идеологии Аржиловскому. Василий Сергеевич сказал об Иване Михайловиче много доброго, а уж талант земляка, книги его оценил и того выше. Вот так и появилась табличка на районной библиотеке с именем Ермакова. Затем были встречи в его память в райцентре, в родном селе Михайловке земляки учредили совхозную литературную премию, на пятистеннике, где жил когда-то писатель, установили памятную доску.
Эти строки написаны мной в ту пору – после вечера памяти Ивана Ермакова:
Вечер памяти… Вечер, вечер – Теплый дружеский ритуал. Жил, как праздновал, человече, Книги солнечные писал. Поклонялся родному полю, Добрый вырастил урожай. Слышу давнее: «Пишешь, Коля? Если взялся, не оплошай!» Слышу во поле завируху, Завивает – не разобрать. В этом поле, хватило б духу, Будем яростнее стоять! Не о том ли шумят в застолье Сотоварищи и друзья? Только слышится: «Пишешь, Коля? Оплошать нам никак нельзя!»Натура широкая, страстная во многих проявлениях, Ермаков мог надолго закрыться в своем домашнем кабинете и, что называется, до упаду работать. Нет где-то Ивана Михайловича? Работает! Это уж точно. Зато уж потом, поставив точку в новом сказе, он мог широко и просторно устроить себе праздник, по-русски: «А ну, раздайся, народ, князь сибирский идёт!» Милиция в пору таких хмельных праздников, а она знала Ермакова в лицо, его не брала, а доставляла на патрульной машине домой, по месту жительства.
Ишимцы и казанцы рассказывали один характерный и забавный эпизод из жизни писателя. В 1956 году, во время англо-израильской агрессии против Египта, когда правительство СССР заявило агрессорам, что готово послать советских добровольцев на помощь египтянам, тридцатидвухлетний Ермаков явился в райвоенкомат с заявлением – пойти на эту войну! Стояла зима, был он в добротном овчинном полушубке и один мужичок из райцентра, на войну не идущий, убедил добровольца продать ему эту дефицитную в ту пору «лопатину», мол, в жаркой стране Египте бараний полушубок будет лишним, там – «вообще воюют в одних трусах…»
Военный комиссар, подполковник, похвалил добровольцев за патриотический порыв, но война на Ближнем Востоке быстро окончилась. И мужикам-добровольцам пришлось разъезжаться по своим деревенским дворам. В Михайловку, домой, Ермаков вернулся в одолженной по морозной погоде, в какой-то затрапезной старой телогрейке-маломерке – к своему и ближних родственников неудовольствию…
Отсюда, считай, и «растут ноги» ермаковского сказа «Костя- египтянин», где нашлось место данному эпизоду, поданному писателем в живописных красках и юморном тоне.
Иду как-то мимо одной нашей литературной издательской конторы. Слышу знакомые боевые голоса. Захожу. Главные действующие лица – Ермаков и поэт Толя Кукарский. За столом при телефоне литчиновник сидит, сушки грызет, чайком пахучим прихлебывает. Но все равно литчиновник недоволен: хмельные, мешаете, мол, процессу работы! А Ермаков этак язвительно, с издёвочкой, лепит тому в лицо, в бороденку: «Травки пьешь, Сережа, корешки жуешь, долго проживешь, всех нас похоронишь!»
Литчиновник, а такие тоже нужны при писательской организации, надо кому-то быть и на подхвате: что-то отнести-принести, билеты на самолет иногородним гостям купить, врученную на празднике хлеб-соль с пользой определить, чтоб не засыхала задаром, -так вот, со словами «сейчас я вас сдам в милицию», набирает это самое 02. И тут в руках поэта Кукарского соколом взлетает откуда-то взявшаяся балалайка – Толя игрывал на ней бывало! – и опускается на спину обидчика. И – вдребезги!
Ушли мы.
Вскоре не стало на земле Ермакова, а через четыре года и Кукарского – забубённых витязей. А тот литчиновник, действительно, еще очень долго здравствовал, мороча головы литературной и прочей публике, жуя целебные травки и корешки, многих пережил.
Да, жизнь наша…
Хоронили Ермакова в жаркий июльский день 1974 года. Писательская организация готовилась к приему многочисленных гостей – участников Всесоюзных Дней литературы в Тюменской области. Приезжали и прилетали они через неделю. Ответственный секретарь организации Константин Лагунов был занят по горло. Гак что все хлопоты по похоронам пали, в основном, на литературный актив. Кто-то взаимодействовал с семьей, кто-то с ритуальной конторой. У меня был на выходе номер «Тюмени литературной», готовился запустить его в типографию. И я пришел к парторгу и критику Виталию Клепикову, мы вместе написали некролог «Памяти товарища», успев поставить его в номер.
Еще Борис Галязимов связался с идеологическим отделом обкома партии, спросил: «Как хоронить будем Ивана Михайловича Ермакова?» Там ответили: «Похоронить как всех трудящихся хоронят!» Нас этот ответ немало покоробил: «Разве ж так можно, знаменитый же писатель!» Да. И такое печальное событие в организации – со дня её создания – было первым…
«Как всех трудящихся?» То есть, из квартиры, из дома? С четвертого этажа, над магазином «Родничок». Там ведь и не развернуться с гробом на узких и крутых лестничных пролетах. И поскольку ритуальных залов в Тюмени еще не было, хоронить решили – из старенького двухэтажного дома, где по улице Ванцетти располагалось писательское бюро пропаганды.
Прощалась с писателем масса народа. Литераторы, журналисты, казанские земляки и родственники, незнакомые простые люди.
Над кленами и тополями летали стрекозы. Куры из хозяйских двориков ходили с разинутыми клювами. Жаркий день сморил и петушиное племя, молчали, словно тоже блюли траур по хорошему человеку.
Вся травяная, малоезженая улочка была заполнена народом. Из обкома (заступник тюменских писателей Щербина работал уже в Москве) пришел один только инструктор отдела пропаганды Лисовский…
Позднее горькое, печальное – вылилось у меня в строки:
…А умру, вы в обком не ходите, Оградите от лишних помех, В чистом поле меня схороните, Где хоронят трудящихся всех. Там и лягу в глухой обороне, Там додумаю думу свою – Ту, что я на земле проворонил, А порою топил во хмелю. А подступят бесовские хари, С ними я разочтусь как-нибудь. В одиночку, вслепую нашарю В небеса предназначенный путь. Снова будут дороги крутые, И в конце, как простой пилигрим, Постучусь во врата золотые: «Слава Богу, добрался к своим…»И все же закончу воспоминание-повествование о Ермакове его победоносными, жизнеутверждающими строчками из сказа: «Проснешься в рассветный, предутренний час, и сразу же завладевает слухом твоим исполненная победительного благовеста, жизнерадостной жажды битвы, разбойная, дерзновенная петушиная песнь.
Ох и поют кумовья! Под звезды. В миры!»
САЗОНОВ И ПАРОВОЗ ЧЕРЕПАНОВЫХ
Геннадий Сазонов был человек и писатель уникальный, от природы одаренный всячески, но сосредоточенный на своем, хорошо освоенном. По профессии он был геолог-рудник. И она, профессия геолога, была его жизнью, сутью и мерилом человеческих качеств. Он мог увлекательно рассказывать «непросвещенным» геологические истории, байки, были и небылицы. Отдал он своему звонкому делу около двух десятков лет, ежегодно, по весне, отправляясь начальником геологической партии в поле, то есть в горы Полярного и Приполярного Урала. В Тюмень возвращался поздней осенью, при камушках в рюкзаке для исследовательской лаборатории, полный впечатлений, литературных замыслов, с записями в блокнотах, сделанными у походных костров, посвежевший, бодрый, нацеленный на зимний литературный труд.
В последние годы жизни, когда Сазонов перешел на «вольные хлеба», появилась в нем осанистость, житейская основательность, унаследованная от крестьянских родовых корней. Он по происхождению был волгарем, из Саратовских краев. Там же окончил университет, приехал по распределению в Тюмень – еще на заре ее будущей нефтяной славы. Я порой, часто общаясь с Геннадием Кузьмичом, открыто и скрыто сожалел, что он оставил геологию, которая в те уже далекие годы окрашивала его ореолом романтизма и некоей исключительности.
Мне всегда нравились люди пристрастные и увлеченные не только «голой» литературой, а и тем делом, которое становилось для пишущего его основой, жизненной твердью.
Вот и сейчас видится мне ранний зимний вечерок. В молочном свете редких фонарей тюменской улицы Республики нежно падают снежные хлопья, какие-то мягкие, ласковые. И сам вечер, не то декабрьский, не то январский, стоит приветливый, раздумчивый. Мы неторопливо идем с поэтом Володей Нечволодой, болтаем о разном, в основе – о стихотворном. Редкие прохожие. И вот из полумглы, облепленный, как и мы, снегом, в демисезонном пальтеце, в меховой шапке, при бородке возникает бодро шагающий человек. «Это Гена Сазонов! – толкает меня легонько в бок Володя. – Помнишь, я тебе говорил, что он талантливую книжку издал «Привет, старина!»
Мы знакомимся. Геннадий тянет нас обоих «куда-то пойти, посидеть за рюмкой чая», заходим в «неудачное» кафе, потом, отоварившись тем и тем в продмаге, оказываемся в полупустой однокомнатной квартире-хрущевке Сазонова, на улице Энергетиков, где единственная примечательность, имущество – книги. Много книг на самодельных стеллажах…
Летом, как сказано, Сазонов исчезал из поля зрения, уходя в свое геологическое поле. Партия его базировалась в далеком Саранпауле. В его окрестностях в навигацию 1967 года я ходил матросом на речном пассажирском теплоходе «Петр Шлеев», курсировавшем, в основном, по Северной Сосьве, и я рассчитывал после зимнего знакомства на встречу с Сазоновым. Причаливали иногда и в этом поселке, беря на борт пассажиров. На береговом песочке можно было отыскать камешки граненого природой хрусталя, но люди-поисковики бродили далеко в синих и отдаленных горах, обитая в палатках, согреваясь у походных жарких костров…
Другие моменты общений с Сазоновым из поры, когда он уже стал членом Союза писателей и бессменно председательствовал на семинарах молодых прозаиков. Начинающие и уже начавшие запросто приходили к нему и домой, приносили рукописи, просили «поглядеть». Свои отзывы он писал мелким разборчивым почерком, подробно анализировал, давал советы, отмечал наиболее удачные места в рукописи. Зачастую сама рецензия-отзыв получалась у него едва ль не в полтора-два раза объемнее анализируемого. Я как-то заметил ему об этом, он остро глянул на меня, усмехнулся в черную бородку, ничего не сказал.
Показывал ему и я свою повесть об арктическом морском перегоне плавучей электростанции «Северное сияние-04», в котором участвовал в качестве корабельного кока. «Дело» было производственное и живое, как говорится, а повесть «Арктический экзамен» я делал художественную, чтоб «развязать себе руки» для вымысла и фантазии.
«Вот ты смотри, – говорил Сазонов, – ваше судно стоит на якоре, штормит, ветер заполошный… Ты упоминаешь про чаек, что с трудом летят навстречу шторму. А ты посади хоть одну уставшую чайку на мачту или на рею. Расскажи и покажи, как она садится, голову в перья втягивает, словом, дай картину!» В чем-то соглашался я, в чем-то возражал, мол, излишняя подробность, цветистость – не мой стиль и тому подобное. Так-то оно так, но и я понимал, что Геннадий говорил про поэтическую деталь, которой и сам он мастерски пользовался и знал в ней толк…
Еще мы ездили на выступления по командировкам бюро пропаганды. Как многие из пишущих, кто владел и устным словом. Это был, конечно, неплохой приварок к тому небольшому гонорару, что получали за изданные книги, за журнальные и газетные публикации.
Однажды по приглашению Свердловского бюро мы оказались на литературных гастролях в Нижнем Тагиле. Деятельная организаторша наших встреч с читателями проявила такую бешеную активность (зарабатывала она на выступлениях писателей), взяла нас в такой оборот, что буквально не было продыха, чтоб не только познакомиться с новым для нас городом, но и нормально перекусить. К последним встречам Сазонов, страдающий астмой и при этом безбожно смолящий свой «Беломор», почти совсем потерял голос, охрип. Я уж и в шутку и всерьез говорил ему: мол, я твое выступление знаю наизусть, ты уж только представься и сиди помалкивай, я за двоих отработаю! Сазонов не соглашался и как-то сам «выплывал», пусть кратко, но сам…
Заключительное выступление проходило в холодном большом зале лесного санатория. Мы оба явно красовались, что вот мы живем и трудимся в знаменитой на весь мир Тюмени, рассказывали о ней всякие подробности – о покорителях Севера, о героях- первопроходцах, читали соответствующие стихи и прозу. Под конец мы попали в плотное кольцо наших слушателей, большая половина которых оказались отдыхающими от трудов тюменскими нефтяниками и геологами, даже несколько человек были хорошие знакомые Геннадия Кузьмича по совместной работе. Мне было неловко, про себя думал: «Вот выпендривались – Тюмень, нефтяная эпопея, а тут…»
Наутро знакомцы Сазонова завалили к нам в гостиничный номер, посетив предварительно ближний гастроном. День был воскресный, и после утреннего «завтрака» земляки пригласили нас осмотреть достопримечательности промышленного города. От сего настойчивого предложения я так же напористо отбился, мол, как-нибудь потом. Они ушли и вернулись за полдень.
Эпохальным событием этой экскурсии оказалось посещение местного краеведческого музея, где установлен – знаменитый на весь мир! – паровозик изобретателей-уральцев Черепановых. Первый в России паровой и самодвижущийся механизм. «Вещь», можно сказать, энциклопедическая, о которой известно всем бывшим советским отрокам еще со времен букваря и учебника истории в четвертом классе.
Любознательный Сазонов, осматривая прадедушку паровых машин, повернул какой-то стопорный рычаг – и черепановское детище сдвинулось и поехало по музейным рельсам. Старушка- смотрительница, рассказывали наши экскурсанты, едва рассудка не лишилась, стеная и вопя не только на весь музей, но и на его железные промышленные окрестности: «Двести лет стоял без движения! Двести лет…»
Прибежал милиционер со свистком, но всё уладилось миром.
Занятные были времена. Легко о них вспоминать и радостно. Даже о неком негативе, который сопровождал и тогда нас по жизни. Ну, например, стоит сказать о том, что прозаики и поэты в Тюмени были едва ли не сплошь беспартийными. Мы наблюдали, как писатели, члены КПСС, собирались на свои партсобрания в составе четырех-пяти человек. Иногда эти собрания были открытыми – решался больно серьёзный вопрос! – приглашали и нас, «не состоящих».
И вот как-то Геннадий Кузьмич Сазонов задумал к своему писательскому билету присовокупить и билет члена партии коммунистов. Возможно, руководитель организации Константин Яковлевич Лагунов в доверительной беседе подсказал ему – с прицелом на будущее. То есть как-то побеспокоился о будущей своей смене на руководящем писательском посту. Им должен был быть – в обязательном порядке – член КПСС.
Как Сазонов готовился к предстоящему приёму в нашей партийной ячейке, не знаю. Но, вероятно, обуреваемый чувствами, может, просто для храбрости, «употребил» он по дороге на собрание чуть лишнее в уличной точке – «Закусочная». И милиционер, стоящий у входа в Дом Советов, в двух отдельных угловых комнатах которого, на пятом этаже, располагалась тогда писательская организация, просто не допустил Сазонова в данное расположение.
Что делать? Там же собрались партийцы, ждут! И Геннадий решил добраться до пятого этажа монолитного здания по водосточной трубе! Кому, нормальному, как говорят, придет такое в голову? Да никому. Разве что геологу-романтику!
Труба оказалась хлипкой, не выдержала напористого штурма, с грохотом оборвалась, едва «покоритель» Дома Советов достиг окон первого этажа…
Делать нечего, как покорно и мирно возвращаться домой. А в дверях встречает Роза – супруга и соратница по геологическим тропам. Сама геолог. Радостная встречает и с праздничным тортом в руках, который несла из холодильника, накрывая на стол, чтоб отметить непростое событие, выходящее за семейные рамки.
«Ну и как?» – спросила Роза, в одно мгновенье все на свете поняв. И в следующее мгновение торт полетел в лицо нестойко маячившего в дверях муженька…
Ах, Роза, Розалия, редким ты была человеком! Да, строгим. Но и настоящей женой-подругой талантливого мужа. И не только сопровождала его в геологических походах. Через твою печатную машинку прошла каждая страничка произведений писателя Геннадия Сазонова. И – не единожды перепечатанная…
Он ушел в мир иной рано. В пятьдесят три года. Многолетняя астма, другие сопутствующие болячки, да и собственное небережение сделали свое дело. Узнал я об этом из телефонного звонка в Питере 19 апреля 1988 года, поджидая в гостинице моряков свой сухогруз, который шел из Бразилии с грузом кофе и после разгрузки собирался вновь в Южно-Американские страны…
У Сазоновых остался сын Дима, который подрастал на глазах тюменской писательской братии. Успел вырасти, определился в жизни, закончив Тюменскую Высшую школу милиции. А Роза так и не смогла впоследствии «найти себе место». Обратилась к религии. Но не традиционной, православной, попала в какую-то «мутную» секту. Знакомые говорили, что она часто повторяла: «Гена меня зовет! Мне надо к нему!» И однажды, взойдя на высокую железную ферму моста, она шагнула в пустоту, которая разверзлась черной, беспощадной купелью быстротекущей сибирской реки Туры.
Мир, покой тебе, Роза. И Царствие тебе Небесное!
Есть на Червишевском погосте, под Тюменью, холмик с памятником. Последнее пристанище геолога-бродяги, талантливого писателя, оптимистичного человека Геннадия Сазонова. Стоят над ним молчаливые сосны, падает снег, шумят травы, синеет просторное небо, волю и синеву которого так он любил в своих странствиях и трудах.
ПИСАТЕЛЬ НЕЧВОЛОДА НЕ ПРИНИМАЕТ
У каждого из нас свои извинительные слабости. Володя Нечволода любил, например, блеснуть перед приятелями на широкую ногу. Но поскольку у поэтов не часто бывают хорошие деньги, а Нечволода был не исключением из этого правила, то «блеск» этот заканчивался у него обычно последующими проблемами: где перехватить, занять энную сумму, чтоб выйти из затруднительного финансового положения? Словом, был он всегда в долгах, как в шелках!
Познакомились мы осенью 1964 года в Москве во дворике дома Герцена на Тверском бульваре – после вступительных экзаменов в Литературном институте имени А.М. Горького. В тот год Никита Сергеевич Хрущев, рассердившись на какую-то публичную акцию литинститутцев, закрыл очное отделение, мотивировав это тем, что, мол, будущие писатели пять лет ничего не производят, слушают лекции, когда надо постигать на производстве живую действительность, чтобы ярче отображать её в своих книгах.
Мы и постигали. Я служил в элитном батальоне охраны Главного Штаба Военно-Морского флота СССР, на третий год служба в Москве переваливала, а Володя работал рулевым речного флота и, как мне тогда с гордостью рассказал, «сквозь ветра и штормы» привел на буксире парохода «Капитан» первую баржу тюменской нефти с Шаимского месторождения на Омский нефтеперерабатывающий завод. Я понимал: уже этим он вошел в летопись освоения родного нашего Тюменского края.
Прослушав общее собеседование в третьей аудитории, которая знала многих знаменитых – от Жана Поля Сартра до Александра Твардовского и Константина Федина, мы разошлись: Володя «блистать» в литинститутское общежитие в Останкино, на Добролюбова, 9/11, я же, сурово надвинув бескозырку, возвратился при увольнительной в тушинские казармы морского батальона.
Через пару дней дежурный по батальону вызывает меня из расположения нашей роты, чтоб явился в комнату посетителей: к тебе гость! Смотрю, земляк – Нечволода. Отыскал ведь как-то! Да, конечно, я ж говорил ему, что окна нашей матросской казармы выходят на канал Химкинского водохранилища, а ехать до метро «Сокол», а там на «флотской» шестерке-трамвае.
Посидели, поговорили. Порадовались, что оба прошли большой конкурс и приняты в такой исключительный вуз. Хоть и заочно, но будем в нем учиться. Я уже набил матросскую тумбочку учебниками за первый курс – дали в библиотеке нашего вуза: изучай и обогащайся знаниями! Еще не предполагал, что из всего этого сразу ничего не получится, пока не дослужу положенный срок, не уволюсь в запас, а уж тогда… Так и вышло.
Но сейчас надо заметить, что учебники, которые я принес из института и забил ими матросскую тумбочку возле койки, не более, чем через сутки были обнаружены старшиной роты мичманом Демченко и он, расценив это, как дело не уставное, отнес весь «арсенал знаний» в гальюн. Так сказать, на общее туалетное пользование! Оттуда, и под хохот, и под сочувствие нашей братвы, мне удалось их вызволить в целостности и при первой же возможности отнести в институт обратно…
Ну вот. Сидим. Вижу, что-то томит Володю, да не решается сказать! Не догадываюсь и я. Наконец, он напрямую: «Слушай, старик, займи на обратную дорогу, в кармане – ни копья!» Тоскливо стало на душе: первое солидное жалование командира отделения – 10 рублей и 80 копеек – я еще не получал, а у остальных… Ну, ладно, говорю, пойду по ребятам, попробую наскрести. И наскреб ему на билет в общем вагоне. Четырнадцать рублей он тогда от Москвы до Тюмени стоил. «Ты не сомневайся, старик, пришлю, как только рассчитают меня за нефтяной рейс…»
После дембеля, как ни совращали меня столичные знакомые прелестями московской жизни, и работа очень приличная находилась – сутки в охране атомного института Курчатова, трое суток свободы, бесплатное питание, общежитие – учись не хочу, даже невесту с благоустроенной квартирой и пропиской приглядели, нет, сказал, и нет! Поехал в свое сибирское Окунево, к родителям. Был уже снежный ноябрь. Вила вьюга, ленточки бескозырки, паруся, бросало из стороны в сторону. Черный морской бушлат еще как-то согревал, но впереди обещалась зима и серьезные морозы. На душе тоже было не очень уютно – после блистательной-то Москвы. А тут еще батя с родительскими наставлениями: у тебя же специальность! Садись, дружок, на трактор, дело ведь нужное, наше крестьянское…
Поразмышляв, двинул в Тюмень. Поэт Нечволода ходил тут уже местной знаменитостью в свои двадцать лет. Активно печатался, свой был в писательской организации. Он и привел меня туда, а затем и на первый в моей жизни поэтический вечер. Проходили они – да, на самых высоких уровнях: в актовом зале обкома партии – при обилии гостей-поэтов и жадной до лирического слова тюменской публики.
Так и на этот раз. Из приезжих гостей запомнился московский поэт Дмитрий Ковалев, свердловчанин Борис Марьев, аксакал Заки Нури из Казани и ленинградец Илья Фоняков. Последний бывал в Тюмени и раньше, публика знала его по броскому, несколько эпатажному стихотворению «Говорите о любви любимым!». На этот раз он очень расчетливо и «удачно» сделал своё явление перед заполненным залом! Все выступающие уже в президиуме, а зал волнуется: нет Фонякова! И вот он спешно, с широкой улыбкой, извините, мол, за опоздание, появляется «из-за кулис», вызвав рукоплескание…
Потом высокое областное начальство устроило красивый и обильный банкет, который окончился для нас с Володей несколько неожиданно. После банкета, во главе которого был секретарь по идеологии Смородинсков, выйдя из обкома КПСС на центральную номенклатурную площадь, мы принялись распевать боевые песни. Привязался милиционер, перед которым мы несколько покуражились, мол, не смей нас трогать, мы – большие, а может быть, великие поэты! Еще я процитировал ему строчки однокашника литинститутского, Николая Рубцова, учившегося двумя курсами выше: «Поэт нисколько не опасен, пока его не разозлят!»
Милиционер, скорее всего, Рубцова не читал, продолжал к нам вязаться, учить уму-разуму. Послали его «куда надо»! Но парень был при исполнении, вконец обиделся, вызвал патрульный наряд с машиной, в которую Володя зашел как-то уж очень покорно и молча, а меня – после отчаянной борьбы, оторванных с двух сторон пуговиц, а затем и угощения хрущевским демократизатором, резиновой дубинкой, – уложили «мордой лица» на железный пол милицейской машины…
Дальнейшее, все как в рассказе Шукшина: «А поутру они проснулись…» Я, в тельняшке, под хохот трезвеющих мужиков сунулся к ведерку «похмельной» воды. «Ну, матрос, ты и повоевал вчера! Отстоял Родину-то, отстоял Москву, бока не болят!?» Потрогал на плече горячий ожог от резиновой дубинки, поморщился: больно! Сержант открыл железную дверь, повел на беседу к капитану. Тот сидел за деловым милицейским столом при чернильном приборе и при полном наборе членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС, стенд которых в хорошей раме тускловато посверкивал за его спиной.
«Меня-то ладно, за хорошее поведение сюда поместили! – сказал я, кивнув на раму. – А эти-то уважаемые товарищи за что тут в вашей пьяной тюрьме парятся?»
«Не ёрничай, моряк! Лучше скажи, кому мне бумагу на тебя писать? При тебе никаких документов не обнаружено».
«Пишите прямо Горшкову… Недавно я от него!»
«Директору пригородного совхоза, что ли, Ивану Прокопьевичу?»
«Берите выше, товарищ капитан. Адмиралу Флота Советского Союза Горшкову, Главнокомандующему военным флотом всея Руси!»
«Видали его… героя! Ладно… По вашу душу тут уже звонили. Но все равно я обязан с вас за оказание услуг изъять по четвертной… Распишись!»
Нечволоду я нашел в соседнем, наполненном задержанными, обезьяннике с железными прутьями решетки. Проторчал он там, как более тихий, всю ночь. Я ж, хоть и мятый и битый, ночевал на белых простынях. Дела-а… Но все окончилось увещеванием, легким расстройством, о котором, выпущенные на свободу, мы, угостившись в ближнем кафе томатным соком, старались забыть. Да разве душа позабудет! Из нее и выплеснулось у меня. Спустя какое-то время:
Простой советский сочинитель, Подручный партии родной, Я помещен был в вытрезвитель, Прошу прощения, – хмельной. И поутру – раздавлен, скручен, Уже безропотно, без сил, – Я там проснулся туча тучей: Ах, что вчера наколбасил? Не много вспомнил я, трезвея, И думу горькую решал. И гражданин при портупее Мне очень нужное внушал. Мерцала лампа вполнакала И утверждал подвальный свет: «Шипенье пенистых бокалов» Воспел ошибочно поэт. Посомневался я. Однако, Кольнуло что-то под ребро. И вдруг, о господи, из мрака Возникло всё Политбюро. Портрет к портрету по порядку – По генеральной колее, Подретушированы гладко В державном фотоателье. Смотрели Маркс и Энгельс с полок, И Брежнев, изданный с «колес». Тут Суслов – главный идеолог, Мигнул мне: «Коля, выше нос!» Я ободрился. Рядом чинно Писал «телегу» капитан. «Заметь, – сказал я, – вот мужчины, Пьют исключительно «нарзан»! Был и у них, конечно, вывих, С Хрущевым вспомни кутерьму! Но тут политика, а вы их В ночную пьяную тюрьму. Но трезвых слов не замечая, И крика робкого души, Ответил мент, ногой качая: «Я разберусь… Не мельтеши!» Потом я наскоро оделся: «Михал Андреевич, прости…» На волю вышел, огляделся, Позвякал мелочью в горсти. Рассвет умыв, сияли лужи, К достойным целям шла страна. Пошел и я… Отмыть бы душу, Да переможется она.Володя на тот момент служил в областном радиокомитете, ездил и летал по окрестностям Тюмени и далее на севера. Сочинял много и вдохновенно. Был он мастером на всякого рода пародии, горазд на розыгрыши, но не забывал и «блистать». Мог, например, когда заведутся «лишние» деньги, взять авиабилет до Москвы, явиться на Красную площадь с букетом цветов, подарить букет первой попавшейся красивой девушке. И в тот же день вернуться в Тюмень.
Моя же гражданская «бытовая жизнь» складывалась поначалу почти как в стихотворении «Морозные дни», которое написалось в те дни – при пушкинском эпиграфе: «Город пышный, город бедный…»
Зол мороз, подобен смерти, Но терплю, гоню беду Пушкин – в гипсе – тоже терпит, Под березкой в горсаду. Ну, конечно, ободряет Славный лозунг: «Власть – народ!» Но народ меня не знает, Власть еще не признает. Ни угла пока, ни блата, Вот и я, бездомный гусь, Ночевать тащусь «на хату», В ледяную дверь стучусь. По карманам: пусто-пусто, Обоюдный паритет, И прозрачный суп с капустой В забегаловке «Рассвет». Зябко вертится планета, Я пока не «наверху» – В скороходовских штиблетах, Что на рыбьем-то меху. Ждёт-пождёт тепла и солнца, Также скудно, налегке, Независимый пропойца, Что живет на чердаке. Снизойдём и побазарим, Перемутим рай и ад, Как «Варяг» с «Корейцем» в паре, Кроя внутренних «микад». Эх, смотаюсь я, однако, Эх, куда-то занесёт! Иль к будённовцам-рубакам, Иль к Махно, как повезет.Решил уехать в Ишим, куда звали знакомые ребята из «Ишимской правды». Говорили: есть вакансия в сельхозотделе и… что каждый сотрудник редакции что-нибудь да сочиняет! Стихи или прозу. А какое талантливое у них литобъединение!
Да! Приехав, окунулся в счастливую атмосферу творчества, общений, молодых увлечений, влюбленностей, в которых провел полтора года. В этот срок войдет и женитьба на девушке из Серова, студентке третьего курса Ишимского педвуза, Маше Токаревой. Столь важное дело отрубит мои планы перейти на восстановленную новым Генсеком Брежневым очную учебу в Москве!
Быт уже не допекал. Много ль надо? Жил по приезду у одиноких старичков в комнатке с окнами в зимний, заваленный чистыми снегами, яблоневый сад.
«А у нас идут снега, легкие и белые! Завалили берега, что же вы наделали?» – глядя на это снежное покрывало по утрам, нянчил я в душе светлые строчки самой юной поэтессы из литобъединения, студентки первокурсницы из педагогического Нины Ющенко.
Нравились детские стихи Петра Белова, а он был обладателем уже трех книжек. Валентин Законов, известный мне по областным публикациям еще со школьной поры, блистал новой лирикой и все цитировали его хрестоматийное:
Я вхожу в сиреневое царство, Рву букеты, небо наклоня, Чтоб девчонке в платьице цветастом, Было легче понимать меня.Бывший автоинспектор, действующий охотник и журналист Анатолий Савельев писал хорошие рассказы о деревне, о природе. Газетчик Геннадий Рябко, переживший мальчишкой ленинградскую блокаду, писал о войне. Отмечали мы за искренность стихи вчерашней десятиклассницы Оли Знайко (впоследствии Чернышовой). Костя Яковлев, ударившийся после писания стихов в серьезную критику, сутками штудировал Белинского и Добролюбова и попутно занимался свержением с «олимпийских высот» Еврипида и Гомера, и почему-то… Энгельса. Коронное яковлевское – «старик, а Энгельс был не прав!», ставило неподготовленного новичка в ступор и тупик. Костя был доволен.
Приходили на четверговые занятия лито орденоносные фронтовики Павел Машканцев (тоже при собственных книгах), Георгий Первышин. Последний читал острые и хлесткие басни, и теперь считаю, чрезвычайно талантливые, пожалуй, лучшие в российской сатире той поры. Баснописец был в неизменном, «консервативном» офицерском кителе без погон, но при ордене Красной звезды.
Восхищались мы первышинским:
Увидев, как в волнах погиб матрос, Киту заметил гневно альбатрос: - Ты что ж его не спас, пловец-калека? - Довольно, брат, на клички ты речист, - Ответил кит. – Я оптимист. Всплывет герой, Я верю в человека!Иногда с «морским приветом» доходила к нам бандероль с новой книгой морской прозы бывшего ишимца Александра Плотникова – в недавнем прошлом командира дизельной подлодки на Черном море.
Вернулся в Ишим и Нечволода. Приехал вместе с юной женой – «златовласой Олей». В родной город приехал, собственно, домой, здесь он учился в школе, здесь жили у него родители, братья, родственники. Из той поры помнится нечволодинское:
Ах, как я хорошо женился! Златовласой зовет её мать. И не руки у ней, а крылья, Чтоб под солнцем меня обнимать!Он продолжал выкидывать развлекательные «штучки». Не злобные, простительные. Ездил разбирать от отдела писем разного рода жалобы в окрестные деревни и села. «Разбирался» порой так, что на него на самого приходили в газету возмущенные «телеги». Но все парню сходило с рук: заминалось и затиралось редактором Бортвиным, порой требовалась помощь и Лагунова. И парню опять прощалось. Конечно, и за талантливые стихи, которые никакого отношения к проказам молодого поэта не имели:
За туманами кони ржут. На охапке травы лежу. Угли звездны, уха остра. Детство греется у костра. Камышами шуршит волна. Колобком проплыла луна. Я за сказкой ночной слежу. За туманами кони ржут. Пусть года пролетят. Но вдруг Позабуду друзей, подруг, А такое вот не смогу – Тени, ржание на лугу. Если спросят меня: – Какой Край родимый, любимый твой? – Я о Родине так скажу: За туманами кони ржут.Одно время нам с Володей было доверено Ишимское радио! Я был редактором – организатором передач для сельских жителей района и по службе подчинялся редактору газеты Бортвину. Нечволода делал передачи исключительно на городские темы, был в ведении идеологов горкома партии. В отличие от районного проводного радио, передачи которого я и «стряпал» и вел перед микрофоном сам, не имея диктора, нечволодинские передачи от села каким-то образом отрубались, что облегчало ряд высоких задач, которые он «решал» при содействии опытной старушки-диктора. Но… случался у парня неодолимый «стихотворный зуд», тогда он на все радийные полчаса «запузыривал» для горожан легкую музыку или песенный концерт по заявкам тружеников локомотивного депо! В конце этого бесплатного концерта по проводам объявлял в микрофон о дне и времени следующей передачи и мог добавить, держа палец на тумблере выключателя: «Оля, я пошел домой!..»
Впоследствии я «сделал» Володю одним из персонажей моей повести «Пожароопасный период». Это Пашка Алексеев. Читавшие повесть ишимцы, легко распознали в Пашке – своего неуемного и оригинального земляка Нечволоду.
Мы любили Ишим. Очень. Даже называли себя ишимолюбами. Посвящали городу стихи, песни. (Мелодию одной песни – слова мои! – отбивают сегодня «куранты» на башенке у центрального рынка…) И как было не любить этот весь домашний, уютный, с тихими двориками, зимой заваленный снегами, городок, а по маю и первой половине июня – весь в белой кипени черемух, бушующего зеленью городского сада и железнодорожного с фонтанами, с цветущими яблонями-ранетками, сквозь пахучий туннель которых двигались к вокзалу автобусы с неспешным народом.
Все, практически, знали друг друга…
Пережил я еще одну лютую зиму на улице Льва Толстого, в Киселевке, в снятой комнате у других хозяев. Купленные в горкомхозе сырые дрова разгорались в печурке только после многих титанических усилий! И все же мне удавалось вести не только младо-семейную жизнь, варить борщи, сочинять стихи о жарких деревенских сенокосах, но и делать курсовые по литинститутской программе, писать газетные репортажи.
Наконец встретили мы с Марией весну! Окна нашей комнаты смотрели на реку Ишим. А он, прошумев ледоходом, вдруг напористо полез из берегов, затопив все степное пространство правобережья вплоть до синеющего вдали Синицынского бора.
К концу июня река вошла в свое русло, я закидывал с берега удочку, клевал чебак. И с восторженным ужасом смотрел, как располневшая в телесных формах Маша Токарева, теперь Денисова, с разбегу ныряла с речного крутояра в глубину, до полусмерти напугав дремавшего под ближней корягой налима. Затем, переплыв реку, весело махала мне рукой с другого берега, плыла обратно по стремительному течению – вместе с будущим нашим первенцем во чреве, который, мечтал я, может быть, тоже вырастет моряком, в крайнем случае – морячкой!
А Тюмень звала. Обширными возможностями растущего на глазах города. И в самом конце шестидесятых, я – через год работы в Голышманово ответственным секретарем газеты «Ленинец» и через навигацию на Северной Сосьве, где проплавал лето матросом пассажирского теплохода, а Володя – через телевидение в казахстанском Петропавловске, мы вновь оказались в Тюмени.
Однажды полетели в молодой Нефтеюганск литературной группой проводить там Дни литературы. Начало марта. В Тюмени уже весной припахивает, кавказцы, как весенние востроносые грачи, поналетели, веточки мимозы к 8-му Марта продают по сногсшибательным ценам, а нефтеюганские бродячие псы только и спасаются от лютующих еще северных холодов на теплых чугунных люках городской теплотрассы.
Нечволода, как сотрудник Бюро пропаганды, блистая новой дубленкой и бобриковой шапкой, прилетел пораньше, чтоб обеспечить нам график выступлений. Поселился (сумел!) в шикарной по тем временам «канадской» гостинице из сосновых брусьев, куда селили обычно иностранных специалистов и наше высокое начальство – министров, партийных боссов.
Суточное проживание в «канадской» – на фоне пылающих факелов попутного газа! – стоило пять-восемь рублей. Немало по тем временам. Нам, остальным стихотворцам и прозаикам, выделили прохладную обшарпанную двухэтажку под названием «Обь» № 2, где суточная плата в пятикоечном номере была всего 70 копеек с носа.
На утро начальник нашей делегации, заведующий (он называл себя директором) Бюро пропаганды Шумский, непосредственный Володин начальник, потопал в своих высоких валенках с калошами меж крутых сугробов в соседнюю «канадку», чтобы дать указание подчиненному ему сотруднику. Дежурная гостиницы, оглядев живописного, огородного вида, пришельца, разрешила бедному Сереже только постоять на коврике у входа, заявив решительно, что «писатель Нечволода сейчас не принимает».
«Что значит «не принимает?» – решил я тут же испытать судьбу в этой «канадке». Дежурная, на удивление, встретила меня приветливо, только приказала снять обувь и переобуться в войлочные тапочки. Ну, прямо-таки, как в Шереметьевском дворце в Останкино, где расположен известный мемориальный музей. И тут ковровые дорожки, кактусы в горшочках, гирлянды живой зелени по стенам, яркие акварели, чеканка. И главное-тепло!
Постучал в дверь номера. Никакого отклика. Постучал снова – с напором. Дверь сама подалась вовнутрь. Смотрю: большая прихожая – модные кресла, яркие шторы, на журнальном столике непочатая бутылка пятизвездочного коньяка, апельсины, яблоки в вазе, плитки шоколада и – о, боже! – живые пахучие цветы!
Открываю еще одну дверь: большой зал для заседаний, длинные столы, заканчивающиеся Т-образным, «руководящим», шкаф с хрустальными фужерами, множество стульев, внушительных размеров холодильник. И – опять удивление! – теплая, даже жаркая, застекленная лоджия. Ну, конечно, все для солидных людей!
Обошел всё это аккуратно и бережно, вернулся в прихожую, открыл еще несколько дверей в стене: ванная, туалет, опять, блистающая кафелем, ванная! Не знаю, уж какая по счету, наконец, обнаружилась дверь в спальную комнату – в эти номенклатурные покои, где на широченной, орехового дерева кровати, в самом углу, у стенки, обнаруживаю фигурку поэта. Он сладко спал, по-детски свернувшись на непомерном великолепии ложа. «Это который тут государев наместник не принимает?» – возликовал я, разбудив хозяина номера. Он как-то быстро встал, увлекая меня к накрытому столу: «Давай причастимся… Ждал гостей, что-то не пришли».
Еще с неделю мы работали в Нефтеюганске и его вахтовых поселках. К концу командировки Володя перебрался в нашу простецкую «Обь» №2 и бросился к местным знакомым и друзьям, как всегда, занимать «на жизнь» и на обратную дорогу…
Прошли еще годы. В январе 1984 года я оформлял документы в дальний заграничный рейс на владивостокском торговом судне. Владимир Алексеевич, выпустив новый сборник стихов «Наследство» в московском издательстве «Современник» и новоиспеченным членом Союза писателей побывав на Камчатке, где жила когда-то их семья, отец, Алексей Максимович, служил в военной газете, завистливо вздыхал: «Эх, я бы вот тоже хотел попасть в далекое плавание, но медкомиссию мне не пройти, как не прошел когда-то в пограничное училище. Сердце…»
В апреле наш сухогруз стоял на рейде индийского порта Мадрас. С борта мы наблюдали в бинокль, как разгуливают по городу священные коровы, снуют, громко сигналя, автомобили, толчется разноцветная публика. А нам ничего не оставалось, как пережидать эту долгую, семнадцатисуточную, не входившую в планы советского судна, забастовку братьев по классу, портовых грузчиков.
Кончались продукты, пресная вода, вконец истомила постоянная зыбь просторного и раскатистого Бенгальского залива. Для разнообразия мы околачивали с надстроек ржавчину, красили, в свободное время ловили удочками мелких плоских рыбешек. По ночам висели над бортом с острогами, пытаясь добыть на приманку острожного, верткого тунца. Не получалось. Но развлекали приходящие суда под разными флагами да утренние «флотилии» рыбаков-индусов. Они шли далеко в море на своих плотах – полуголые, в набедренных тряпках, под рваными, пиратского черного цвета, парусами. Под вечер, так же напористо, правя кормовыми веслами по течениям, они возвращались к берегам. Проходя возле нашего железного борта, индусы размахивали большими рыбинами, не ведая советских запретительных порядков, предлагали торги…
Как-то вечером пришел ко мне в каюту помполит, то есть первый помощник капитана, подал радиограмму: «Извини, наверное, кто-то из близких… Радисты мне принесли, сами не решились вручить…»
Прочитал короткую радиограмму из Тюмени и в глазах потемнело: не стало Володи Нечволоды… Как узнал впоследствии, он умер в гостинице Нижневартовска от сердечного приступа…
В грусти вспоминался наш милый «общий» Ишим. Я смотрел на карту и с мистическим холодком в груди обнаруживал, что Ишим и Мадрас расположены на одном географическом меридиане, от того становились еще печальней. Может быть, и от понимания того, что та-а-м уж мы больше не встретимся, так и от предчувствия того, что через годы, в 90-е и нулевые, новые хозяева жизни – старательные лесорубы из администрации города! – практически сотрут с лица земли тот уютный и тихий уголок нашей юности.
Вырубят все, что украшало тихий провинциальный уют, начав с преследуемых всюду – старинных тополей. Застроят городок домами и коттеджами лютеранской архитектуры, а в целях «модернизации» и, вероятно, в более глубинных целях борьбы с моджахедами – выкорчуют липы, клены, удивительные тоннели из яблонек. Согласно криминальной обстановке в стране, на каждой яблоньке- дичке могло затаиться по чеченцу-бородачу с мешком гексогена или тротила! Грустная шутка… Но – перекрасят, в ласкающие чей- то взор, в цвета желтой «детской радости» железнодорожный вокзал, имевший в наши дни нежно-небесный колер, уничтожат чугунные оградки, обрамление из художественно подстриженных кустов, голубых елочек. Уберут родничок фонтанчика-журавля, возле которого обычно кипел прилавок с редисками, малосольными огурчиками и парной картошкой, что приносили окрестные тетеньки к поездам, придавая домашность и лиризм сибирскому городку, который невозможно представить «европейским». И надо ли?!
Все это приспеет и скоро.
А в те дни, на море, я написал памяти поэта такие строки:
Там, на родине, умер поэт: Принесли телеграмму радисты. Среди рапортов, сводок, газет Извлекли из эфирного свиста. Был он, как говорится, в пути, При таланте и сходной оплате. Подошел к тридцати девяти, Оглянулся на Пушкина: «Хватит!» Жизнь певца из зазубрин и ран, Что там завтра – орёл или решка? Ну махнул бы за мной в океан, А с ответственным делом помешкал. Шли бок о бок, по духу близки, Знали вместе паденья, удачи… Телеграмма – всего полстроки, Не поправишь…Читаю и плачу.СОСТЯЗАНИЕ АКЫНОВ НА САМОТЛОРЕ
С поэтом Анатолием Кукарским мы вместе, точнее, одновременно писали свои поэмы о гремевшем и прославленном нефтяном месторождении Самотлор. Писали о его людях-открывателях, нефтедобытчиках и строителях. Это был, как тогда называли, социальный заказ. И мы на него согласились, несмотря на отдельные ухмылки либеральной братии, ревнителей «чистого искусства»: вот, мол, «заказуху» выполняют…
Благословил нас Константин Лагунов: действуйте смелее!
Мне, хоть и бывавшему на Тюменском Севере, никогда не доводилось еще видеть в действии буровую, да и само «черное золото», знал его только по школьной пробирке на уроке химии.
Как рассказать о Самотлоре убедительно и в поэтических красках? Ведь тут еще надо учитывать романтику, всеобщий духовный подъем, азарт освоения, колоссальный напор техники и «пламенных сердец». Все это было в ту пору, как и промахи, насилия над природой, которые признаем много позднее. А пока – от поэтов требовалось сказать свое яркое слово, сообразуясь с поэтическим душевным настроем, порывом, задачами области и страны в целом.
На дворе стоял март 1973 года.
Прежде чем попасть в город Нижневартовск, на Самотлор, и устроить «состязание двух акынов», как шутил Толя Кукарский, полетели в Нефтеюганск, где мы в группе тюменских литераторов участвовали в местных днях литературы.
Всякие авиаперелёты для Кукарского были серьезным жизненным испытанием, он панически боялся подниматься в воздух. Но если уж деться-то в общем было некуда, он граммов сто пятьдесят «принимал на грудь» для храбрости. Не знаю, как он в шестидесятых годах справлялся со своей должностью собственного корреспондента газеты «Тюменский комсомолец», постоянно проживая в Салехарде, где, кроме оленьих нарт с погонщиком и тынзяном, основной транспорт – самолет Ан-2 и вертолет? Но, кажется, справлялся неплохо. Его материалы и стихи о Ямале в молодежной газете мелькали часто. Имя его было на слуху.
По натуре, по складу характера, Кукарский был человеком мягким, не шумным. Жизненные неурядицы и явную несправедливость к себе переживал, как говорится, внутри себя, был далеко не бойцом, не ввязывался в «драку» за убеждения. Но поэзии, литературе он предан был истово, удовлетворяясь малыми бытовыми благами. Оставив бывшей жене двухкомнатную квартиру, жил с матерью, Павлой Леонтьевной, в старой коммуналке на улице Максима Горького, где едва помещались диван, раскладушка, стол и полка с книгами. Поразительно, что он не писал никаких заявлений, чтоб улучшить свои жилищные условия, хотя мог бы – одно время он преподавал философию в индустриальном институте, издал несколько сборников стихов, книгу документальной прозы.
В последние годы короткой своей жизни (прожил на земле сорок четыре года) он нигде не служил на должности, пробавлялся скудными литературными заработками, иногда выезжая на выступления по путевкам Бюро пропаганды литературы.
Забавная деталь. Он не носил при себе никаких документов. Паспорт был, но не имел штампа о приписке, и вообще «паспортина» эта была у него давно просрочена, продлить её или обменять в милицейской конторе он почему-то не стремился! Обходился стареньким корреспондентским удостоверением, оно имело силу в ту пору даже при посадке в самолет и, вероятно, при получении редкого гонорара в какой-нибудь издательской или газетной бухгалтерии…
Ближе к вечеру Анатолия Степановича можно было встретить в центре Тюмени, неторопливо идущего, хорошо выбритого, всегда в опрятном костюме, при галстуке. Позднее он «завел» себе аккуратную бородку, мягко и русо курчавившуюся на лице. Встретившись, заглядывали мы к критику Виталию Клепикову в издательский филиал, работавший от Свердловска. Еще заходили в «союз», где собирались в конце дня писатели, оторвавшись от дневных трудов за письменными столами, вели просторные разговоры. Табакуров, каковым был Иван Ермаков… ну еще редкий кто-то, чрезвычайно аккуратная бухгалтер-секретарь Зинаида Белова, строго следящая за цветочными растениями и фикусом в большой кадке, выпроваживала подымить в коридор. Но в отсутствии «нашей Зины», курильщики, угробляя цветущую флору, порядок этот безоглядно рушили…
Я работал по соседству, в редакции «Тюменской правды», которая располагалась тогда на улице Ленина, напротив горсада, и мне всегда было интересно заглянуть к старшим товарищам, послушать наших аксакалов. Впрочем, какие там «аксакалы»! Самому солидному по возрасту было едва за сорок, что уж говорить о зеленой молодежи, как о нас с Нечволодой или о поэтессе Гале Слинкиной, студентке из Тюменского пединститута, по роду северянке из Ханты-Мансийска. Среди молодых была и Алла Кузнецова, недавняя доярка из Голышмановского района, от которой остались в памяти такие строчки. Мол, если ты меня не полюбишь, «Я твой двор разнесу, я твой дом подожгу! И собаку убью из ружья – у ворот!»
А в «союзе» собиралось немногочисленное тогда профессиональное писательское воинство. Иван Ермаков – да. Еще Владислав Николаев, Людмила Славолюбова, Евгений Шерман, Юван Шесталов, молодая поэтесса, но уже член Союза писателей Люба Ваганова. Заходил Владимир Фалей – комсомольский журналист, стихотворец и автор часто исполняемой на радио песни «Нефтяные короли».
…Мы добываем кровь земли, И бьют фонтаны из земли! Мы – короли! И это наше королевство!Иногда доставляли прямо в кресле не ходящего, обезноженного из-за болезни в детстве, Ивана Григорьевича Истомина. Жил он недалеко, в центре, и такому вниманию, случаю – посидеть среди своих! – был несказанно рад.
Решались на этих сходках творческие и житейские вопросы, а кто-то заходил за командировкой в какую-нибудь точку области или в Москву, в Свердловск – по издательским делам. Во главе руководящего стола, конечно же, царил ответственный секретарь организации Лагунов. Попутно отвечал и на телефонные звонки. Мог позвонить и Первый из обкома партии. И то, что звонил Щербина, нам было ясно сразу: Лагунов брал трубку и непроизвольно вставал, вытягивался. И будь он при головном уборе, наверное, взял бы и под козырек. Отвечал Первому четко, с готовностью тотчас исполнить руководящее указание: «Да, Вас понял, Борис Евдокимович… Слушаю! Да, обязательно передам нашим товарищам… Спасибо, Борис, Евдокимович! Спасибо…»
В атмосфере этих ежедневных сходок царили и духовность, и доброжелательность. Конечно, мог что-то выплеснуть экспрессивный Юван Шесталов, считавший себя «мансийским Пушкиным», вставить колючую шпильку ответственному секретарю Иван Ермаков, зарокотать смехом в ассирийскую свою бороду Шерман…
Хмельных застолий в помещении Союза не допускалось, хоть и время было – «застольно-застойное». Не терпится, иди злоупотребляй дома или в ресторане… Это позднее – в конце 80-х и в 90-х годах, когда уехали в иные края или ушли в иной мир многие из прежнего состава организации, творческий и нравственный климат порядком деградировал, как и во многих сферах в стране, когда до власти дорвались нечестивые и приблудыши, серость. Она, серость, лихорадочно плодила себе подобных, укрепляясь, хамски торжествуя: «Нас больше, мы сильнее!»
Но – о Кукарском. Помню, как – опять же в себе! – переживал Анатолий то, что приемная коллег ия СП России не утвердила решение нашего собрания о приеме его в члены Союза писателей. Это было несправедливостью, ведь, несмотря на промахи роста, писание «датских» стихов, которыми он грешил в начальный период, работая под руководством партийных редакторов газет, Кукарский был все же истинный поэт. И этим жил. В только что вышедшем новом сборнике «Колокола России», который он представил на приём в Союз, было немало стихотворений крепкого звучания.
Вернусь в март 73-го.
Отработав в Нефтеюганске, мы разлетелись. Основная часть литературной команды – в Тюмень. Нам с Анатолием – на Самотлор. На аэродром, по утреннему снежку, пришли пешком, благо, аэродром был совсем рядом с молодым городом. Ну, говорю Кукарскому, полетели состязаться!
Выясняется, что у него и денег на билет нет. И не только на билет, там еще, в Нижневартовске, надо столоваться, за гостиницу платить. Проси, говорю, у Шумского, именующего себя драматургом, он нас сюда по лини Бюро привёз. Не дает, этот драматург, отвечает Толя. Я уж для него трагедию в стихах и кровью написал, не дает! Как это кровью? Показывает лист бумаги, на котором все, как положено в заявлениях начальникам, значится: мол, слезно прошу в счет будущей оплаты за выступления дать на билет до Нижневартовска. И действительно – кровью. Палец себе иголкой проколол человек специально…
Ладно, говорю, билет я тебе покупаю. Но в Нижневартовске кровь из носу! – денег надо достать! Иначе нам хана обоим. Не волнуйся, отвечает Кукарский, пойдем сдаваться в редакцию городской газеты, предложим свои стихи, выручат. Впервой, что ли?!
О, сколько тогда выручали нас северные редактора! И в Салехарде, и в Тазовске, и в Ханты-Мансийске, и в Сургуте, и в Новом Уренгое, в Тарко-Сале даже… Относились с почтением, с пониманием. Проблемы сии решались просто и скоро.
… Долетели. В Нижневартовске поселяемся в разных местах: он в гостинице НГДУ (нефтегазодобывающего управления), мне достается холодная – зато отдельная! – комната в общежитии № 20 по соседству с кафе «Белоснежка». Я сразу кидаюсь в кипень Самотлора. Обустройство его – впечатляющие виды! Есть уже главная бетонка-дорога, по которой в обе стороны летит и движется могучая техника, вахтовые автобусы с работягами, а то и легковые авто, над которыми развеваются разноцветные шары и ленты. Это местная традиция: свадебный кортеж должен обязательно побывать у подножия месторождения, как бы получить благословение для молодой, рождающейся здесь семьи – таёжной ячейке общества. Вдали, сквозь морозный туман, контуры буровых вышек, похожие на поднявшихся на задние лапы доисторических звероящеров. Горящие факелы попутного газа с утробным завыванием пронзают небеса, выжигая в них пустоты, опасные не только для пролетающих птиц, но и для рукотворных летательных аппаратов, то есть самолетов, вертолетов. Там и там неровные строчки лежнёвок – временных дорог к буровым и промыслам. Как вехи вчерашнего пути, в болотных пропаринах, торчат кабины насмерть застрявших тракторов, остовы другого, непонятного для новичка, железа.
Да, путь к нефтяным глубинам нелегок и порой трагичен!
Месторождение обустраивается разными организациями и предприятиями, приходится всякий раз обращаться к тому или другому начальнику за помощью, чтоб попасть в производственное подразделение. Перекачивающие дожимные станции, строящиеся лежневки, промыслы, но особо поражает, даже восхищает, буровая знатного мастера Виктора Китаева, её глубинная работа.
И – вокруг люди, люди. Из разных мест могучей страны, разных национальностей. Русские, украинцы, белорусы, кавказцы в меховых шапках, завязанных тесемками у подбородков. Да, кавказцы – не при лотках с мандаринами, а при тяжелых гаечных ключах… Разговоры с первопроходцами. Оптимистичный настрой всюду. Вдохновение так и взрывает свежие впечатления.
По вечерам, возвратившись с производственных плацдармов, накинув полушубок, строчу я свои строки. Азартно, горячо. Не очень пока задумываясь об отделке строк. Потом, потом… Главное уловить суть, настроение и вложить все это побыстрей в каркас рождающейся поэмы о первопроходцах!
О, это потом уж было немало переделано. Переписано заново. Оттачивалось, уточнялось, пока поэма не вошла в московский сборник, изданный в издательстве «Современник» в 1975 году. Книжка эта, получившая комсомольскую премию, именовалась «Снега Самотлора».
Иду как-то вечером к Кукарскому. В его гостинице шумно, табачный дым коромыслом даже в коридоре. Полушубки, рюкзаки, унты, бутылочная тара, тут и там веселые компании за дверями жилых комнат. Часто хлопает входная, с улицы, дверь. Кто-то очередной, в ватнике или в шубе, вваливается с мороза, таща за собой шлейф стужи. Толя, пристроившись на одном из подоконников в коридоре, пишет у заиндевелого окна. Ты что, спрашиваю, сидишь тут, никуда не ездишь? А он: я с народом разговариваю, тут, знаешь, какой народ! А ездить? Это для тебя в новинку…
Поэму Анатолий Степанович Кукарский назвал так – «Мне рассказал Самотлор». Так называлась и его последняя стихотворная книжка, вышедшая в Свердловске в 1978 году. Толя успел подержать в руках только сигнальный экземпляр…
Умер он скоропостижно от сердечного приступа, как заключили медики «скорой». Умер после ноябрьских праздников того же 1978-го. На печальной тризне, одна знакомая докторица, которая знала и даже лечила поэта, доверительно сказала нам: «Знаете, ребята, конечно, ишемия… Но здесь и-похмельный синдром… Принял бы человек граммов сто пятьдесят, ничего бы не случилось».
Не погодились эти «сто пятьдесят» в нужное время и к месту…
Человек и поэт родной ему Сибири, Анатолий Кукарский воспевал Сибирь, ее людей. Он любил эту землю.
Памятник на его могиле сделан из железной нефтяной грубы в виде пера. На памятнике надпись и строки из его стихов:
Я знаю, что землею стану сам, И оттого она еще дороже.РОЖДЕН ИРТЫШОМ
По великой сибирской реке, по Оби, шел большой белый пассажирский теплоход «Композитор Алябьев». И плыли на нем два поэта, две первоосновы, можно сказать, два зачинателя литературы своих народов, два потенциальных классика. Сутки плыли, двое суток плыли в древний град Берёзов, то есть в нынешний районный поселок Березово Тюменской области для, как говорят, сбора литературных материалов, и встреч с читателями. На третьи сутки вышли на палубу, и один из поэтов, первооснова мансийской литературы, очертив вскинутой рукой доступный глазу горизонт, сказал: «Как необъятны наши просторы!»
Второй поэт, основоположник литературы сибирских татар, глянув горячим оком на товарища, твердо произнес: «Нет, это наш простор! Наши земли!» Для убедительности продемонстрировал старинную карту Сибири, составленную знаменитым Миллером, на которой было четко, но не совсем справедливо, как бы мимоходно, обозначено народонаселение – татары.
От неосторожной словесной искры мансийского поэта возникла буря в душе татарского и дальнейшее выяснение исторической принадлежности западно-сибирских земель быстро перехлестнуло рамки дипломатического этикета. В свежем таежном воздухе что-то замелькало, засверкало, послышалось громовое, от которого даже пуганные обские осетры и нельмы залегли на глубину, а белокрылые чайки полетели ближе к берегу. Ну и ладно бы!
Насторожилась международная наука. Скандинавский институт угрофинских этносов, зафиксировал неожиданный всплеск деторождения в обских поселках Катравож, Ламбовож, Шеркалы! И в самом Березове всерьез заговорили о воскресении из береговой мерзлоты, униженного проклятым Бироном, светлейшего князя и русского генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова.
В Тюменской телерадиокомпании прошел ряд внеплановых спецпередач. Ведущий их не только поменял серый пиджак на оранжевый, но и примелькавшийся телезрителям имидж. Коронный свой вопрос «Как вам нравятся тюменские женщины?», который задавал всем возникающим на телеэкране «персоналиям», теперь зазвучал изысканней: «Как вам нравятся женщины дважды орденоносного Ханты-Мансийского автономного округа?».
Но демографический всплеск на суровой северной земле разъяснил рыбак дядя Федя из Катравожа. Он сказал, вернувшись с рыбалки: «От сотрясения северных небес, и возможного таянья припайных льдов в Байдарацкой губе, локально выпал благодатный дождик! И оплодотворил скукожившееся при начавшихся демреформах когда-то цветущее, а теперь почти поникшее бабское население!
Говорили про это и про то. Мол, наглецы американцы, на всякий военный случай, вывели подо льды Северного Ледовитого океана эскадру атомных подлодок. Но это уже были лишние страхи, обывательский треп – упрек еще могучему, хотя и начавшему ветшать нашему Северному военному флоту… Главное, что к моменту подачи трапа на Березовский причал между речными путешественниками был полный межнациональный раздрай.
История зафиксировала в то лето: сбора материалов, кроме покупки на базаре ведерка брусники кем-то из поэтов, других литературных встреч на Березовской земле не произошло! Но! Но проницательный и осведомленный в литературе читатель, думаю, без труда распознал наших славных героев.
Да, это были поэты Юван Шесталов и Булат Сулейманов.
Конечно, тут и мне приходится поменять «пластинку», поубавить ёрничества, иронии, без которых порой в нашем «безнадежном» литературном деле, никуда не деться!
Итак. Юван Николаевич Шесталов, известный поэт и прозаик, лауреат Государственной премии России, орденоносец, при жизни своей многое успел рассказать о себе сам. Написано о нем немало и другими. А вот о Булате, которого нет с нами давно, расскажу, как получится, как считаю необходимым.
Познакомились мы с Булатом в московских литинститутских коридорах, может, в нашем общежитии на Добролюбова, 9/11. не суть важно. Там кого из литераторов не встретишь. И я обрадовался земляку. Булат оказался родом из тюменских краев – из Вагайского района, из аула Супра. Жил в то время Сулейманов в Казани, до поступления в Литературный институт закончил в Казанском университете два курса (эх, судьба поэтов!), не поладил там с милицией, а вернее, горячая его подруга не нашла общего языка с не менее горячим Булатом, заявила на него и поэт на год или на два загремел на казенные нары.
В Литинституте, заведении либеральном, можно было учиться долго. Иные студенты заканчивали учебу, защищали дипломы на десятый, на двенадцатый год, переводясь с очного отделения на заочное, беря академические отпуска, снова восстанавливаясь. Задержался в учебе и Булат.
В декабре 1974 года я приехал в Москву заканчивать работу над гранками будущего поэтического сборника «Снега Самотлора», поселился в нашей общаге в Останкино. Недавних выпускников института там еще помнили и охотно пускали на жительство практически бесплатно – за полтора рубля в месяц! В зимнюю пору много комнат в общежитии вообще пустовало.
Встречаю Булата: что делаешь здесь зимой, сессия заочников давно закончилась? Отвечает: зачеты приехал сдавать! Конечно, говорю, денег у тебя нет, возьми вот, купи сухого красного вина, фруктов и побольше хорошего мяса, вечером отпразднуем встречу.
Вечером сошлись в его комнате. Сулейманов был умелец по кухонным делам, все он сделал в полном порядке, накрыл стол. Пригласил нескольких знакомых, двое из них – аспиранты Литинститута, из казанских татар. К финалу вечера за столом, лишившегося «слинявших» белобрысых студенток из Финляндии, совсем плохо говоривших на русской «мове», нас осталось четверо: аспиранты и мы с Булатом. Смотрю: гости наши перешли на разговор по-татарски. Булат им отвечает по-русски, временами бросая взгляд на меня. Сижу, мало что понимаю из разговора, но чувствую: «беседа» принимает нервный характер. Надоело все это. Прощаюсь, ухожу в свою соседнюю комнату. Успел только пиджак снять, повесить на спинку стула, слышу в коридоре шум, выкрики. Не иначе, кто-то выясняет отношения! Выхожу в коридор. И вот картина: двое соплеменников Булата, аспиранты эти застольные, жестко теснят поэта к стене, дергают за рубашку. Вот-вот кулаки в ход пустят!
Вмешиваюсь, встреваю между «петухами»: а ну, говорю, топайте, ребята, отсюда! Сникли, мирно побрели на свой этаж…
Булат и рассказывает: мол, зачем пригласил русского? Еще они нарушили закон гостеприимства, требовали с меня, чтобы я при тебе разговаривал с ними по-татарски. Это не по-нашему, дикость! Понимаешь, почему я отвечал им по-русски?
Эпизод этот крепко застрял в моей памяти. И позднее, когда Булат переехал в Тюмень, когда однажды обвинили его в национализме и татарском сепаратизме, мне пришлось защищать его перед «компетентными органами» и на писательском собрании, куда был вынесен вопрос о наказании Сулейманова. Рассказ мой о том случае в нашем московском общежитии переломил грозный настрой тюменского собрания писателей.
И все же… Проблема сохранения этноса сибирских татар, культуры и языка родного народа, остро волновали Булата. Не обходилось и без явных перехлестов с его стороны. Тут Булат разгорался, даже взрывался, приходилось его резко осаживать или вообще уходить от разговора на больную для него тему. Понимаю тебя, Булат, говорил я ему. Я обеими руками за то, чтобы поощрять культурную автономию, надо и возобновить изучение татарского языка в наших сибирских школах, где это необходимо, и где попросит татарское население. Но оно нынче «не просит», справедливо полагая, что татарскому юноше или девушке при поступлении в вуз или техникум, придется сдавать русский язык, жить в русской среде…
Еще говорил ему: не будем нарезать и границы, как мыслят некоторые сепаратисты местного значения, не станем искусственно создавать стену отчуждения. Знаю, большинство твоих соплеменников этого не хотят! Есть отдельные заводилы…
«Ермак – пандит!» – горячился Булат. В горячке не давались ему звонкие согласные.
Я парировал: «Мамай, известно, тоже не ангел с крылышками был, и ваш бухарский покоритель Кучум, которого вы, сибирские татары, часто по неграмотности исторической считаете своим единокровным ханом… Впрочем, если мы полезем в эти дебри, в которых большая часть публики – русской и татарской! – мало осведомлена, то неизвестно, к чему это может привести. Скорей всего – к раздору. Кому-то это выгодно. Врагам России. А ведь мы веками жили мирно, в добром согласии. Так?! Давай исходить из того, что есть нынче, и думать вместе над тем, как послужить с большей пользой своему народу, его самобытности, культуре!»
Вот так культурненько, на хороших тонах, спокойно и поговорили!
Потом он принес мне в газету «Тюмень литературная» большую статью «Нет языка – нет народа!» Статью он не мог нигде пристроить. Отказывали. Непривычно. Остро. Я напечатал. Публикация вызвала неоднозначный резонанс и у сибирских татар. Среди спорных суждений о колонизации Сибири русскими, притеснениях, которые якобы чинили «завоеватели» местным народам, главенствовала все же здравая и добрая мысль, которую и сейчас считаю важной, – это мысль о поддержке культуры, о просвещении народа – сибирских татар, которые и дали нам талантливого поэта Булата Сулейманова.
Он писал и думал на родном языке сибирских татар. Это важно.
«Но как юнец, очарованный наступившей эпохой гласности, писал о нем другой литератор из того же Вагайского района, талантливый прозаик Габдель Махмуд, – Булат Валикович публикует в «Тюменской правде» статью «Сибирские татары – кто мы?». Ох и развернулась тогда драчка! Всем скопом набросились на одинокого, без того битого не раз в течение долгих лет творчества поэта. Ошеломительные откровения Булата вызвали шквал самых разнообразных откликов – от восхищения до полного непонимания. И в те годы, и после его статьи в «Тюменке» требования «читателей» были одни: «Не может такой очернитель оставаться членом Союза писателей СССР!»
Недолго прожил Булат после этого… Обиду от своих соплеменников он не перенес. Запил… И в одиночестве, не дотянувшись до телефона, застыл…»
В одиночестве… Навсегда… В теплой квартире…А мы, в Тюмени, думали в это время: «Наверно, опять уехал в свою Казань или на родину, к матери, к братьям…»
Но еще несколько строк – о живом Булате.
Вот я упомянул, что знал он толк в приготовлении несложных блюд. Вечный холостяк. И вынуждали к тому обстоятельства его кочевой жизни. Немало он побродил-поездил по родной стране, немало переменил профессий. И в последнее время, имея квартиру в Тюмени, тоже жил в одиночестве. Хмуроватый, малоулыбчивый. Встретишь его на улице, он, задумавшись, что-то несет в целлофановом пакете. Любил – и зимой, и летом! – раздобыть хороших карасей. Возле рыбы, на берегу могучего Иртыша вырос… Как-то ночевал у меня дома, взялся приготовить замечательное блюдо караси по-татарски с парной картошкой. Сам нынче иногда готовлю это блюдо, других учу. О Булате рассказываю.
Я сибирский татарин, Рожден Иртышом…Мало его переводили на русский язык. Но то, что читал я в хороших переводах, свидетельствует о таланте, о своеобразной восточной образности, афористичности.
Часто печатался Сулейманов в национальном татарском журнале «Казан утлары» («Огни Казани»), реже – в Москве, но был отмечен премией молодежного журнала «Юность».
Профессор Тюменского госуниверситета, член Союза писателей Татарстана Ханиса Алишина – поклонница и искренняя заботница о поэте, рассказывала: «Летом 2003 года мне с группой студентов удалось побывать на летней диалектологической практике в родной деревне поэта. Мы нашли большой просторный дом, где родился и вырос Булат, сфотографировали на память мемориальную доску на бревенчатой стене дома. На дверях висел замок, окна были заколочены досками, усадьба поросла бурьяном и крапивой. Сходили в Супринский Дом культуры, сельскую библиотеку, где работают замечательные женщины. Они бережно хранят намять о своем известном земляке.
Студенты и жители Супры, с которыми мы беседовали, пришли к единому мнению: желательно сохранить отчий дом народного писателя Бикбулата Сулейманова для истории культуры татарского народа, создав в нем дом-музей».
И мы, тюменцы, при прощании с нашим другом, обещали позаботиться о полном издании его стихов и рассказов.
Эх, обещать мы все горазды.
БОРОДА
Его так и звали порой – Борода! – за курчавую, седовато- дымчатую, известную всей Тюмени, – только ли Тюмени! – шикарную бороду. Нейлоновые кисы, скорей всего не кисы, модные одно время бурки, (не для морозов, для сырой погоды!) «подбитые» китайской резиной, потертый овчинный полушубок нараспашку, горло, замотанное длинным цветным шарфом. Из шарфа непременно торчала эта самая знаменитая сизая борода. В пиршестве растительности, уютно прятались губы. Там же скрывался небольшого размера подбородок. Зато над всем буйством волос, над бородой, хорошо возвышался крупный ассирийский нос. Пристальные глаза темно-серого цвета сидели неглубоко, а над всем – опять густая шевелюра, которая позволяла ему в любое время года обходиться без головного убора. Однажды в Заполярье, в пору жуткого мороза, я увидел на его голове шапку-кацавейку, но она казалась лишним, неуклюжим придатком, и, пожалуй, никак не давала тепла в эту лютую круговерть.
В молодости, а я уж застал его погрузневшим, приседающим и при тяжеловатой походке, он был хорошим спортсменом, в волейбол играл до почтенных лет. Вот я сейчас подбираю определения его возрасту – почтенный, погрузневший – потому что язык никак не может вымолвить слово «старый». Не укладывается как-то в сознании назвать его «стариком». За вечный оптимизм его! За взоры-погляды на симпатичных женщин, они отвечали ему той же взаимностью! И даже не верилось, что он так «легко», внезапно ушел от всех нас 9 апреля 1992 года, упал на улице, на автобусной остановке, от разрыва сердца. И шел ему 70-й год.
Борода! Он был своим человеком в северных и газовых весях. Была у него там масса друзей и знакомых (смею сказать, больше, чем в Тюмени!) – инженерно-технический персонал, геологи, буровые мастера, ученые, культработники, журналисты…
Он был легко узнаваем, благодаря рокочущему голосу, к примеру, в дубовом зале (ресторана) Центрального Дома литераторов в окружении московских приятелей или, приехавших из глубинки, писателей-провинциалов. Из разных весей. И все знали друг друга. И всех тогда легко и запросто, без всяких церемоний, объединял наш – для всех элитный! – московский литературный клуб.
О ком веду речь? Конечно же, о Евгении Григорьевиче Ананьеве, попросту – о Шермане, человеке неунывающем, оптимистичном, всегда при этом в несколько помятом, болотного цвета, костюме и распахнутом вороте рубашки.
Любил застолья, знал в них толк.
Заняв пораньше столик в дубовом зале ресторана, не сидел в одиночестве. За столиком тотчас мог оказаться поэт-земляк тюменский, а теперь москвич Алексей Смольников; остановиться и присесть на свободный стул «последний журавль» в кавказской стае – Расул Гамзатов; иль Владимир Солоухин, умевший писать не только пронзительную русскую прозу, но и замечательно разделывать раков под пиво; поэты-фронтовики Николай Старшинов, Михаил Львов; иль знаменитый Василий Федоров, сибиряк по роду; иль певуче читающий свои стихи Николай Иванович Тряпкин; также личности близкие к моему возрасту – Владимир Дагуров, Станислав Золотцев, Борис Примеров, Анатолий Передреев…
Не проходили мимо и сородичи Шермана – два московских Маркуши – Соболь и Лисянский…
Случалось, что мы бывали с Шерманом в одной поездке. Обычно – на наш Тюменский Север. Он был легок на подъем, собирая в дорожный портфель, видавший виды, нехитрую поклажу – свои тоненькие книжки, «рыбный» сувенир для друзей. При этом задорно рокотал от удачной шутки или анекдота. А потом шагал так, что казалось – обгонял свою бороду, торчавшую и вскинутую впереди объемной его фигуры.
Нужно заметить, что Шерман был одним из первых литераторов, кто печатно рассказал о начале открытий тюменских нефти и газа. Никакого еще «грома и молнии» по Союзу не было, когда были им написаны очерки о первопроходцах. И он, знающий массу северных историй, владея богатым материалом, что-то сумел воплотить из этого в своих четырёх книжках, документальных фильмах, но многое так и не сумел, возможно, по лености не сделал этого – в силу некоторой «разбросанности» своего характера. Обещал: вот, ребята, закончу роман… Не закончил. Возможно, этого романа и вообще в природе не было. Одни задумки, фантазии? Кто уточнит теперь? Вот и я пишу о нем не столько как о литераторе, а интересном публичном человеке.
Про него «ходили» истории, от которых пробирал мороз: нырял он в ледяную воду, например, чтобы зацепить трос за трактор, ушедший под лед, или о том, как сам тонул в глинистом растворе на буровой, работая одно время помбуром. Или о том, как его после одного из северных застолий не пустили в самолет, а тот возьми да потерпи катастрофу, погибли все – экипаж и пассажиры. Повезло и на войне. Призванный из родного ему Свердловска, он был лыжником десантного батальона, в сорок первом, под Москвой, кажется, у генерала Доватора. Но об этом он как-то не любил говорить.
Не маскировал, не камуфлировал Шерман свое происхождение. Как, впрочем, делают это зачем-то и сегодня некоторые свердловские евреи-авангардисты во главе со своим вождем Яковом Михайловичем Свердловым, изваянном на центральном проспекте города – в простецком каменном пиджачке и таких же каменных, работных сапожках. Заполняя необходимые анкеты, Шерман по-ленински обозначал свою профессию – «литератор», а в графе национальность резонно замечал: «Ну и что?»
Удивительно, принимая во внимание его национальность, в обычном представлении его соплеменники люди практичные, хваткие, имеющие «свой интерес», Евгений Григорьевич остался в моей памяти человеком с виду простецким и даже романтичным. Запомнился и не очень прибранной своей квартиркой одинокого мужчины. В квартирке, кроме книг, обращали на себя внимание настенные часы-ходики с висящей на цепочке вместо гирьки – старой обгоревшей сковородой. И еще – ленивыми тараканами, пасущими по стенам тесной кухоньки…
Шерман не скопидомничал, хотя деньги имел. Тяжело переживал потерю единственного взрослого сына. Перенес.
Еще после войны он окончил факультет журналистики, его страстью стали книги, которые он не просто собирал, и которые его буквально вытесняли из этого однокомнатного жилища над тюменским магазином «Родничок», он их читал и давал читать другим.
Собираясь однажды в далекое морское плавание, я пришел к Шерману за морской литературой. Он взял с книжной полки тома Виктора Конецкого – «моряк, капитан и мой приятель, прочти, пригодится!» – вручил мне.
Тут необходимо сделать небольшое отступление… Шесть лет подряд местное руководство Союза в лице ответственного секретаря, секретаря партийной ячейки, председателя месткома той поры, мне, беспартийному, «за отдельные критические высказывания и за хорошее поведение», заграница, по их мнению, не светила! Хотя вопрос был положительно уже решен в транспортном отделе ЦК КПСС, в КГБ, в Морской комиссии Союза писателей СССР, в Министерстве морского флота СССР. Заместитель министра, чья подпись была последней, был тоже не против.
В Тюмени же, председатель нашей профсоюзной ячейки, молодой поэт Саша Гришин, как-то бросил прилюдно «решающую» фразу! Мне, члену Союза, видавшему огни и воды, бросил: «На Тихий океан опять, на Дальний Восток собираешься? А ты там, на Тайване или в Японии, не останешься? Как бы тут нам …из-за тебя.. .потом…»- (Саша в ту пору собирался вступать в партию!) «Саша, – ответил я, – даже если меня силой, в цепях и в колодках, будут удерживать империалисты проклятые, я вырвусь и Японское море вразмашку или по-собачьи переплыву, чтоб вернуться к родным советским берегам!»
Да! А куда ж мне было бы возвращаться «насквозь советскому»? Конечно, я мог в ту пору «побаловаться» анекдотами про Хрущева или Брежнева, про «деятелей» из обкома или райкома, как и многие свободолюбивые и мыслящие сверстники. По биографию имел ничем не опороченную, мои родичи были вполне патриотичные люди. Первый дед по матери, Николай, умер от ран, полученных на Первой мировой войне, второй дед, тоже Николай, брат известного комиссара времен гражданской войны Тимофея Корушина, погиб на Великой Отечественной, отец с матерью строили Магнитку, другие заводы Урала, потом отец воевал и на Финской и на Великой Отечественной. Дядя Петя, брат матери, на танке брал Берлин и расписался на стене рейхстага… А сам я служил при Главнокомандующем Военно-Морского флота СССР – Горшкове. Что еще нужно? Так-то так, однако же «мнение» местного руководства оказалось решающим…
Весной 1983 года руководителем писательской организации в Тюмени неожиданно для всех стал Ананьев – Шерман. Лугунов при голосовании на отчетно-выборном собрании не набрал голосов. А других стойких членов партии, кроме Шермана, в наличии не оказалось. В считанные недели Евгений Григорьевич помог мне оформить документы, визу эту злополучную получить, которая позволила мне потом обойти полмира на судах торгового флота, по- штормовать в разных широтах, посетить десятки портов, встретится с массой людей – черненьких, смуглокожих и белокожих, рассказать об этих встречах стихами и прозой. Что еще нужно для романтика, для пишущего человека, для которого океан был мечтой с детства!.
Такое не забывается!
Помню, на рейде Сингапура, радиограмму Шермана на борт нашего сухогруза, где были такие слова: «…а еще желаю тебе немного сибирского снежка под жарким тропическим небом».
Понимал человек! И много ли другому человеку, на другом конце планеты, надо? Участия, внимания, доброго слова… А дома? Просто звонка домой (работаем-то мы в одиночестве): как жизнь, как здоровье, как работается, есть ли деньги на кусок хлеба? Если нет, и так бывает, надо подумать, как помочь. Вот это в хорошем варианте и называется Союзом писателей. А при нем – внимательный, человечный руководитель, а не троглодит какой-нибудь, что гребет только под себя.
Много лет у меня не было домашнего телефона. Поставить его всегда было проблемой. «Что же так! Пиши заявление, пойду по начальству. Пробьем!»-сказал Шерман. И сделал. Сам ходил, обивал пороги городских и областных начальников. Сделал. Сколько радости было у меня в ту пору! И это не забывается. Память она такая штука – избирает приятное, хорошее. А плохое? Были какие- то неурядицы, мелкие обиды. Скажем, из-за регулярного, перманентного опоздания явиться к назначенному времени…Тут Шерман был, мягко говоря, «ба-альшой» специалист!
В жаркий июльский денек 84-го года возвращаюсь из Владивостока, первым делом звоню Шерману. «Вернулся, – говорит, – приходи!» Я отвечаю, что приду немедленно и не один, а с малышом. «Приходи, – рокочет в бороду, – вдвоем.» Прихожу к нему домой, здороваемся. «А где твой малыш?» Вынимаю из сумки большую литра на полтора-два, изукрашенную японскими иероглифами, бутылку. Хохочет: занятный «малышок»! Рассказываю, мол, это наши ребята из экипажа придумали: вернемся из Индии в японскую Иокогаму, купим «малыша», отпразднуем, ведь дом рядом через какое-то там Японское море!
Как сейчас вижу: идем мы с Борисом Галязимовым по весенне-слякотному Салехарду, скрипим деревянным тротуаром, на бродячих псов цыкаем. Чистые, ухоженные. Только что в гостинице драили себя. Навстречу Евгений Григорьевич. В старом полушубке. В резиновых сапогах. Фланелевая рубашка – в крупную клетку – хорошей стирки просит, поскольку «клетки» уже неразличимы и на ярком весеннем солнышке…
Откуда в таком виде?
– Да, – говорит, – на Байдарацкой губе был. Там караван с трубами пришел для Харасавэя… Был у моряков, у буровиков. Мотался… Ну, ребята, принимайте в свою компанию!
К сказанному добавлю существенное. В самый начальный период обманного, бурного, контрреволюционного времени 90-х, для немалого числа «простой» отечественной публики еще непонятного, произошел раскол писательского Союза. Русские патриоты, а мы были в большинстве, остались в Союзе писателей России – наследнике Союза писателей СССР
Евгений Шерман присоединился к отколовшемуся «крылу», которое называло себя «апрелем», а члены его, естественно, были «апрелевцами». Данные товарищи прогремели тем, что на организационном заседании их «крыла» в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве были разбиты очки прозаика Курчаткина. Да еще, параллельно, во дворе «дома Ростовых», где пока еще располагался умирающий Большой Союз, то есть Союз писателей СССР, было сожжено (акция патриотов!) тряпичное чучело поэта Евтушенко, человека умелого, удачливого, годного для всех политических режимов.
Списочный состав «апреля» (будущий Союз российских писателей) – чем-то обиженные в СП РСФСР или наследники вершителей кровавых смут, либералы, диссиденты всех времен и народов, деятели, умеющие устраиваться при любой власти. Платили бы «бабки» и награждали, а «поменять вывеску» – пара пустяков. Среди этой челяди немало было единокровников Шермана. Так что вольно или невольно позвала кровь, потянули к себе единокровники. Здесь тоже всё понятно.
ЧЕРЕДА ДНЕЙ И ЛЕТ
Зимы конца шестидесятых и начала семидесятых проходили особенно люто. Морозы под сорок, обильные снега. И были эти зимы богаты на события. Разочтясь с вынужденным годичным «сидением» в Голышманово, где когда-то в юные годы начинал работать в «районке», я оказался вновь в Тюмени, куда звали постоянно умные люди, втолковывая, что негоже поэту «засыхать в глухой провинции». Подвернулся веский повод, подал заявление об увольнении из районной газеты, уехал.
В Тюмени первое время обитал – где придется. С работой тоже не сразу определился. Попробовал «то и это», то есть газетное дело в разных местах. Слетал по командировке многотиражки авиаторов в морозный Сургут, привез нужные фотографии и зарисовочные материалы о вертолетчиках в блокноте, также тяжелый кашель, терзавший меня оставшиеся до тепла дни и ночи.
Устроясь затем в многотиражку городских строителей, получил койку в их общежитии и на выходные ездил на поезде «домой», чтоб наколоть Марии дров, она согласилась пожить в голышмановской «провинции» до окончания занятий в школе, где преподавала русский язык и литературу.
Мария осталась с годовалой дочкой Ириной, которой я привез из литинститутской сессионной Москвы ботиночки с колокольчиками и она, вызванивая ими, подрастала в поселковом детском садике. Помогали добровольные помощницы – бабушка-соседка, и еще кошка Кисуля, замерзающей подобранная во дворе нашей трехквартирной двухэтажки, быстро поправившаяся в тепле и при сытной еде, нарожав пушистых веселых котят.
Приладясь к делу в многотиражке, понимая, что и это дело временное, я находил время и для углубленных сидений над книгами и учебниками в читальном зале областной библиотеки, занимавшим обширное крыло Спасской церкви – с маковками куполов, но без крестов, спиленными в 30-х годах богоборцами-губельманами.
Константин Лагунов, продолжая руководить организацией тюменских писателей, держал литературную молодежь в поле своего зрения, без внимания мы не оставались. Тем более, что члены Союза, как всегда, устроили на отчетно-выборном собрании серьезный бунт, едва не ставший свержением Лагунова с поста ответсека, на который хотели продвинуть очеркистку Славолюбову. Не вышло. Лагунова поддержали партийные верхи, сам он тоже умел держать удар, в нем крепко сидела хватка бывшего комсомольского деятеля, знавшего интриги самых верхних эшелонов цековских функционеров.
Профессионалы, члены Союза, один за другим стали покидать Тюмень. И мне в качестве рабсилы довелось участвовать в отгрузке мебели и книг из квартир Славолюбовой, Николаева, Шесталова. Люба Ваганова снялась и уехала незаметно, затерялась где-то в областях Центральной России. Славолюбова поселилась в Череповце, затем в Вологде. Николаев вернулся в родной Свердловск. Шесталов ринулся в Ленинград, где учился раньше в институте имени Герцена. Сумел, вернувшись в град Петра Великого и Екатерины, отвоевать обширную квартиру в историческом центре города, тем знаменитой, что в ней в 20-х годах текущего века собирались «Серапионовы братья».
Снялся из бело-кирпичной «хрущевки» на улице Мельникайте и уехал в Москву соловей «нефтяных королей» Владимир Михайлович Фалей (Фалеев), конечно же, нянчивший в душе вполне понятную праведную цель – «покорить» столицу, как это делали и до него многие русские песнопевцы из провинции.
Поговаривал о переезде в Свердловск Ермаков, куда агитировал его переехать Николаев, но наш сказитель вскоре остыл, успокоился.
Поэтической молодежи, то есть нам, литературному активу, приходилось участвовать то в «неделях поэзии» на юге области, то высаживать десант в северных городах и поселках, промороженных, ветреных, но отчаянно оптимистичных, задорных.
Северная железнодорожная трасса, в строительстве которой в качестве простого рабочего-путейца принимал участие наш молодой очеркист Николай Смирнов, еще «барахталась» в болотах, вгрызалась в лесные гривы, вбивала сваи для мостов через реки и речки, поэтому мы выучились очень хорошо пользоваться самолетами. К тому ж, билеты стоили шутейные деньги, вполне по карману и тогда безденежным стихотворцам.
В калейдоскопе поэтических встреч помнятся тесные красные уголки северных подразделений первопроходцев, вмороженные в лед кают-компании речных судов и дебаркадеров, жаркие при самодельных электрообогревателях общежития, где ждущие стихов о любви девчата, встречая нас, в начале с визгом кидались освобождать растянутые шнуры и веревки от сохнущих плавок и бюстгальтеров, потом, расставив сидения, устраивались слушать заезжих стихотворцев.
Конечно, я мечтал о своей первой книжке, каковые имели уже Фалей, Кукарский и Нечволода, напечатавшись в Свердловске в виде небольших сборников, обернутых общей суперобложкой. Такие издания 15 поэтической среде иронично именовались «братской могилой». Но все ж это было серьезное событие в начальной литературной биографии каждого из вышедших к читателю!
Мой первый тоненький сборник «Проводы» – на третьесортной «соломенной» бумаге в январе 1970-го решил выпустить местный Дом народного творчества, присобачив ему на заглавной странице свою рубрику: «Стихи самодеятельных поэтов».
Виталий Клепиков, которому как профессиональному издателю, заведующему Свердловским филиалом в Тюмени, дали первый оттиск книжки на просмотр, поморщился на «самодеятельных», жирно перечеркнул, обозначил в выходных данных – «Средне- Уральское книжное издательство». За «неслыханное самоуправство» Клепиков получил выволочку и выговор от своего вышестоящего директора. Но «соломенная» книжка пошла уже по читателям и стала фактически моей дипломной работой в Литературном институте, которую мне предстояло защитить в декабре.
С ней, с «Проводами», в марте 70-го я полетел на Сибирский поэтический фестиваль в Читу. Приобрел новых друзей, а наша «отдельная» группа-троица, вероятно, хорошо проверенных компетентными органами стихотворцев, побывала на очень тревожной тогда китайской границе. Облаченные в шинели и зеленые фуражки, мы имели возможность постоять на самой кромочке советской державы, поездить на «газике» вдоль контрольной, укрепленной дотами, «ежами» и колючей проволокой, полосы, подняться на смотровую вышку в Забайкальске, «участвовать» в боевых тревогах, ночуя на заставах Даурского пограничного отряда.
Вернулся в Тюмень – с новыми «забайкальскими» стихами.
А наш Лагунов был бы не Лагунов, если бы не «претворил в жизнь» новое выдающее (после создания писательской организации) литературное событие на земле Тюменской!
Речь веду о Всесоюзных Днях советской литературы, которые периодически, в течение шести лет, во время жаркого месяца июля, проходили в области. Трудно сейчас назвать их инициатора, скорей всего мысль о проведении Дней родилась в обкоме партии, у первого секретаря Щербины. Далее подключилось Правление Союза писателей СССР, ЦК ВЛКСМ, верхи советских профсоюзов, также задействованы были крупнейшие нефтяные и газовые Тюменские главки – денежное обеспечение Всесоюзного мероприятия требовало громадных затрат.
Осенью 69-го мы составили списки на приглашение наиболее видных на наш взгляд писателей и поэтов всех республик СССР, отправили свои предложение в Москву, где, конечно же, все уточнялось и корректировалось в Правлении Союза писателей СССР и Всесоюзном Бюро пропаганды художественной литературы.
И вот жаркий июль 1970-го. Мы встречаем гостей. Больше сотни писателей и сопровождающих их корреспондентов центральных газет, во главе с Первым секретарем Правления СП СССР Георгием Макеевичем Марковым, прилетают в Тюмень. На двух самолетах. Правильно: все яйца в одну корзину не кладут! Случись что… А прилетел практически «весь цвет» советской литературы!
Отдохнувших от перелета гостей, не мешкая, отправили поездом в Тобольск, где на обширной поляне Тобольского кремля, заполненного массой народа, прошло открытие первого литературного праздника.
Далее, рассредоточенные на группы, писатели разъехались по нескольким маршрутам, охватывающим всю территорию области. Наиболее многочисленный маршрут именовался «нефть», ему придали специальный большой пассажирский теплоход. Здесь сосредоточилось главное литературное начальство, почтенные возрастом лауреаты, Герои Соцтруда, председатели республиканских писательских организаций и прочие аксакалы и турсун-заде высокого статуса.
Каждому маршруту было придано по инструктору из обкома партии и по корреспонденту «Тюменской правды». А на «местах», в любом городе и районе были задействованы руководители самых первых рангов.
Меня определили в маршрут «южный» – сразу в двух ипостасях: как выступающего стихотворца и штатного корреспондента «Тюменской правды», обязанного давать в газету ежедневные сообщения о нашей работе. Северные маршруты – «нефть», «газ», рыба» и «лес» поплыли и полетели в таежные и тундровые пределы области, а мы, «оседлав» легкий самолет Ан-2, перелетели из Тобольска в Ишим, откуда началось затем наше движение в Тюмень (в ней, в зале филармонии, планировалось закрытие праздника) с остановками на литературные встречи в Голышманово, Омутинском, Заводоуковске и Ялуторовске…
Повсеместно встречали нас полевые станы, клубы и Дома культуры, полные народа, жадного до встречи с писателями и поэтами, знакомыми по книгам, публикациям в журналах и газетах.
В первую очередь, был это праздник литературы! Просто праздник, каких у нас не бывало! И еще – ярких, заветных встреч! Выходит, скажем, на трибуну поэтическую член нашей группы москвич Илья Френкель и говорит: «В сорок втором году, на Южном фронте, я написал песню с такими словами: «…Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить! Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой…» И, конечно, следом – буря аплодисментов живому автору известной песни.
Устроители Дней литературы в Тюмени имели про запас и другую, пожалуй, главную цель этого грандиозного мероприятия: кто-то из писателей вдруг «зацепится» за тюменскую тему, вернется, чтоб написать о происходящем в нашем крае – большой очерк, повесть, поэму, цикл стихотворений… Главное, чтоб по теме!
Под эйфорией этих Дней провели мы, тюменцы, следующие месяцы до открытия в таком же жарком, малиновом июле 1971-го года второго праздника литератур уже не только народов СССР, на этот раз с участием писателей из государств социалистического лагеря. К этой поре был я уже при полном высшем образовании, в начале июня завершив обучение в Литинституте, успешно – на «четыре» и «пять» – сдал государственные экзамены, получив диплом «литературного работника».
Южная группа маршрута определилась в том же составе – Марк Соболь, Илья Френкель, Евгений Храмов, Лидия Лебединская. Добродушный Илья Львович Френкель, с которым мы подружились (в Москве я уже побывал у него и дома в Лаврушинском переулке и на переделкинской даче, что в соседстве с мемориальной дачей Пастернака), затянул к себе и меня. А наш ответсек Лагунов, укрепляя маршрут дополнительным представителем славянских кровей, послал к нам еще Ивана Ермакова.
После двух дней горения на людях в ишимской округе и не менее трудного по нагрузке завершающего ужина в профилактории Синицынского бора, славяне не выдержали. Первым «отпал» Иван Михайлович, крепко оккупировав с приглашенными земляками номер в местном отеле «Ишим». Его там потом просто «забыли». Меня же «дёрнула холера», как сказала бы в таком случае моя мама, после банкета зачем-то «шарашиться» по ночному городу, нарваться на молодцов с кастетами. С пробитой головой попал я в санчасть железнодорожного вокзала, где на пробоину наложили «скобки», голову замотали белой бинтовой повязкой. В таком виде, типа бойца из Брестской крепости, явился я утром к маршрутному «газику», следующему в очередную нашу точку – в Голышманово. Обкомовский инструктор, окинув меня холодным взором, сказал: «А ты не поедешь!» И звонко захлопнул за собой дверцу машины.
Кроме «всего прочего поэтического», я был еще при исполнении обязанностей спецкора, с меня не мог их снять даже инструктор обкома КПСС. Ну, сел в поезд, через час был в Голышманово, зашел в поликлинику, знакомые эскулапы сняли с головы «скобки» и бинты. При легком, почти незаметном в густой шевелюре, пластыре явился на вечернее «представление» в районный Дом культуры. Был допущен на сцену, прочел несколько стихотворений, сорвав вполне заработанные аплодисменты! Тогда подошел ко мне инструктор, сказал: «Извини… Понимаешь, мы заезжали по дороге на сенокосный стан, куда планировал приехать Щербина… Не приехал… Но все равно – зачем мне лишние вопросы. Извини!»
Третий по счету литературный праздник лета 72-го года подступил также стремительно, как это кажется сейчас – сквозь дымку времени. В этой «дымке» – и очередной семинар молодых писателей области, и вышедшие новые книги, и поездки, и встречи, и публикации. И еще – двое из наших рядов стали членами Союза писателей СССР: хантыйский поэт Микуль Иванович Шульгин и русский прозаик Геннадий Кузьмич Сазонов. Таким образом, все еще малочисленная наша организация, понесшая «потери» из-за покинувших область профессионалов, пополнилась двумя новыми.
Однажды, в начале июня, Лагунов сказал мне: «К Дням литературы обком принял решение выпустить специальный номер газеты. Возьмись за его подготовку!» – «В качестве кого?» «Редактора-составителя». – «Боюсь, не справлюсь. Опыта ж никакого». – «Справишься, берись! С твоим отпуском в «тюменке» я договорюсь».
Немножко подискутировали, поспорили из-за названия газеты. Кто-то из присутствующих при разговоре предлагал громкие имена типа – «Вперед на Север», «Слава Самотлора» и тому подобное. Я сказал: «Тюмень литературная». Поморщились, пожевали губами – пресновато! Но в конце концов согласились. И «Тюмень литературная» с этим именем и под моим редакторством прошла затем путь в четыре десятилетия, возникнув из разовых спецвыпусков, обретя самостоятельность и периодичность. А в перестроечные времена, когда газета и её авторы стойко заняли позицию державников, патриотов Родины, обрела внимание, поддержку среди здоровых сил общества, как внутри России, так и в патриотическом Русском зарубежье, а также и – лютую ненависть демократов всех мастей.
Вернусь в июнь 1972-го. Составление и редактирование литературного спецвыпуска предполагало, конечно, получение в первую очередь материалов – стихов и прозы – от иногородних писателей. Лагунов предложил мне командировку в Москву, где я должен был явиться в Бюро пропаганды к Дмитрию Ефимовичу Ляшкевичу, мол, он поможет со всеми связаться.
Приехал. Явился к Ляшкевичу, с которым был уже знаком по первым Дням литературы в Тюмени. Ляшкевич заправлял всеми делами в Бюро, работая там еще со времен Алексея Максимовича Горького. В должности заместителя директора. Самим директором значился Лев Иванович Ошанин, мой первый руководитель творческого семинара в Литинституте. Ошанин набирал обычно в свой семинар москвичей, каковым и я был в 1964 году. А каковым «директором» был Лев Иванович в Бюро, сказать было трудно, поскольку всем безоглядно и твердо распоряжался Дмитрий Ефимович. Крупный телом, уверенный, властный – при умном пронзительном взгляде, и при круглой узбекской тюбетейке на макушке седой головы.
«У кого взять интервью для газеты вашей, стихи, прозу? – вопрошал Ляшкевич. – Пиши адреса… Так, значит, Марк Соболь, Илья Френкель, Марк…» – «У нас их видели, знают… Мне бы Виктора Бокова, он мой учитель». – «Не понимаю тебя… Он же балалаечник». – «Владимира Солоухина». – «Нет его, он сейчас в Болгарии». – «Юлию Друнину… она наша, от нас уходила на фронт!» – «Болеет…» – «Тогда Михаила Львова». – «Зачем тебе этот татарин?» – «Он прекрасный фронтовой поэт и руководитель нашего семинара в Литинституте, – тут я стал цитировать, – «Чтоб быть мужчиной, мало им родиться, Чтоб быть железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться, и, как руда, пожертвовать собой!» – «Ну и что? Я ж тебе говорю, поезжай к Лидии Борисовне Лебединской, она на даче в Переделкино… Вернешься, сведу с другими. Хотя… Лисянский сейчас должен подойти, подожди пяток минут!»
Лисянский появился быстро и, так же скоро усвоив свою задачу, начал хорошо отработанный рассказ о личном творчестве: «Много лет назад я написал стихи, в которых есть такие слова: «Я по миру не мало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, жил в разлуке, любил в тоске. Но Москвой я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва!». Таким образом, я стал автором знаменитой песни о Москве…»
Интервью я записал в блокнот, но в газету ставить не стал, поскольку вскоре мне стала известна история создания этой песни. Написал ее в соавторстве с Лисянским один фронтовой офицер, фамилия которого в начале обозначалась при публикации слов песни. Но офицер погиб и постепенно всё авторство «перешло» к Марку Лися некому…
Потом, в Тюмени, Лисянский меня найдет и спросит: «Почему поставили в номер только одно мое стихотворение, а не подборку?» – «Я и Виктора Федоровича тоже одно поставил…» – «Какого Виктора Федоровича? Что вы говорите!» – «Бокова. Который написал «На побывку едет молодой моряк» и «Оренбургский пуховой платок». А ваше стихотворение как раз к месту, с «рабочей ориентацией» – «Я строгаю планку». По теме…»
Усмотрев, конечно, во мне полного идиота, Лисянский больше ко мне не подходил, ни о чем не спрашивал. Но добился включения в самый крупный и самый престижный маршрут –«нефть».
А в Москве, в момент первой беседы с Марком Самойловичем, я только и восклицал: «Какая песня, Марк Самойлович! Лучше нет памятника поэту, Марк Самойлович!»
Вернувшись в Тюмень с папочкой стихов и прозы москвичей, с набросками бесед в блокноте, добрал материала у тюменских авторов. Виталий Клепиков заготовил «убойный» фельетон «Сибирятина» – на книгу одного из приезжающих. Фельетон я тотчас поставил в номер. Но в свет «пилюля», как именовал её сам автор, не вышла. «Немедленно сними! – сказал мне Лагунов, когда я показал ему оттиск полосы с фельетоном. – Этот товарищ по фамилии В. Поволяев едет к нам корреспондентом от «Литературной газеты». Убери и никому не показывай!» Но «шила в мешке» утаить сложно! Поволяев, приехав, постепенно «дознался». Да и я не стал юлить. Сказал ему, как было. И мы весело «обмыли» это дело на заключительном банкете в ресторане гостиницы «Турист».
А тогда набор «пилюли», к неудовольствию линотипистов да и к моему, редакторскому, тоже, пришлось рассыпать, заменить нейтральным рассказом о каких-то «меньших братьях».
Опять праздник. И опять его начало в Тобольском кремле. И еще в подгорной части города – при большом скоплении народа открытие памятника создателю «Конька-горбунка» Петру Павловичу Ершову: автор бронзового бюста тюменский скульптор В. Белов.
(Тут надо, как отступление от размеренного слога, хоть кратко дать несколько подробностей об авторе «Конька-горбунка». Читатель помнит, что – при царях – окончил он жизненный путь больным и практически нищим человеком. В СССР Ершов был возвышен и прославлен. «Коммуняки» издавали «конька» огромными тиражами и в 1972 году поставили в Тобольске бронзовый бюст поэта, в открытии которого и я участвовал в массе народа. При демократах же Тобольск как-то уж очень легко позволил мародерам уворовать бюст с постамента, сдать его в «лом» цветного металла. На демократические, полагаю, нужды был искрошен и гранитный постамент… Вот такая мерзость произошла в «духовной столице Сибири» – при победившей демократии).
Возвращаюсь к основному тексту. Далее – те же маршруты с отчасти обновленным контингентом – из одиннадцати союзных, восьми автономных республик и пяти братских стран социалистического лагеря. Не обновился только крепко уже спаянный и сплоченный маршрут «южный», куда и в этот раз меня пытались включить составители списков. На повышенных тонах, при самом Ляшкевиче, стал отбояриваться я от такой «чести»: «Третий год на юга?! Тогда пусть меня затвердят, что я тоже родился в бедной еврейской семье, как все мои друзья-южане! Я их уважаю, но… запишите в другое направление! Или я вообще никуда не поеду!» – «Дмитрий Ефимович, а мне нравится этот молодой человек! громко сказала московская поэтесса Лариса Васильева из распахнутых дверей автобуса, куда садился маршрут «рыба», чтоб ехать на аэродром. – Коля, держись меня, полетишь с нами!»
Ляшкевич кивнул: ладно!
Четвертый и пятый год громыхания литературных Дней помнятся калейдоскопом северных встреч по маршруту «газ». А это люди газодобывающих Надыма, Уренгоя, Тазовского, Тарко-Сале и затерянного в тундре Самбурга. Еще помнятся эти места тучами мошки, морошковыми болотами под Уренгоем. Ну и тундровым погостом под Самбургом – с ящиками усопших аборигенов, расставленных за околицей поселка и «оснащенных» всем необходимым ненцу на том свете – сетями, посудой, нартами и длинными тынзянами для погони стремительных загробных олешек…
Вот, кажется и все, включая сюда публичные чтения стихов.
Правда, потом, в финале, в тюменской филармонии, особо и памятно «прогремела» обличительная речь поэта Михаила Дудина. «Ездил» он в команде главного лауреатского маршрута «нефть», то есть по Приобью и его прославленным городам – Сургуту, Мегиону, Нижневартовску, Нефтеюганску. На любой пристани, именитых гостей встречали хлебом и солью на расшитых полотенцах. Заведовал этими «хлебами», как всегда, Сережа Шумский, то есть после приветственных речей, подхватив хлеба, относил в каюту, где держалось дополнительное спиртное – на случай поправки здоровья после вечернего банкета. Дополнительным – Шумский заведовал тоже, по совместительству. Спиртное не прокисало, а вот копившиеся приветственные караваи черствели стремительно. И «заведующий» в паре с одним из тюменских корреспондентов прямо на виду чувствительного гостевого народа стал кормить этими лауреатскими хлебами речных чаек-халеев. Поступок был, конечно, невежественный, хоть в целом и вынужденный, но… но…
Поэт Дудин, фронтовик и защитник блокадного Ленинграда, усмотрел в забортном кормлении птиц хлебом неслыханное кощунство и надругательство над святым русским национальным продуктом! И произнес с трибуны тюменской филармонии, вспомнив и голодную ленинградскую блокаду, обличительную речь в адрес кощунников, правда, не назвав их имен-фамилий. Обруганные поэтом-лауреатом кощунники, долго хранили в тайне, что речь шла о них. Через много лет – со смешками, с улыбками признались… Улыбки, правда, вышли кривоватыми.
Июль 1975-го. Время последнего литературного праздника «эсесесеровского» и заграничного масштабов. И еще. Недавно, по рекомендации 6-го Всесоюзного совещания молодых литераторов, я принят в члены Союза писателей СССР, жду утверждения приёмной коллегией и секретариатом Правления СП Москве.
А чтоб не томиться долгим ожиданием, летом не до утверждений, каникулы, отправляюсь в очередное морское, на этот раз – арктическое путешествие. Оно называется – перегоном. Перегоняем из Тюмени на мыс Шмидта, а это поселок на берегу Чукотского моря, четверную плавучую электростанцию, построенную на Тюменском судостроительном. Об этих уникальных судах твердит пресса всего мира. И едва мы двинулись от заводского причала по Туре и Тоболу в древний град Тобольск, тотчас поймали по рации «Голос Америки», он преподнес нам и прочим мировым слушателям полную характеристику станции и весь наш будущий маршрут ледовой проводки.
На борту я в качестве корабельного кок-повара. На кухонную должность эту согласился я, очертя голову Опыт и знания – только домашние. На книжной полочке, над каютным рундуком, с которого вскакивая, я всякий раз стукаюсь лбом об эту полочку, рядом с «Темными аллеями» Бунина и стихотворным томиком великого китайца Ду Фу, стоят поваренные книжки. Две штуки. Одна новенькая, как свежий муромский – с грядки – огурец, «Уральская кухня». Другая называется проще: «Приготовление пищи», издания 1950-го года. Много в ней написано и изображено замысловатого! Салатницы, гусятницы, утятницы, вазы, носоватики какие-то для вкуснейших подливов… Да! Таких экспонатов – редчайшего фарфора! – и в музеях не отыщешь! О названиях же старинных блюд, искусствах их приготовления и не говорю.
Машинная команда сборная и – «еще та»! То есть не просто собранная с миру по нитке, а в поведении непредсказуемая. Особенно – после посещения то одним, то другим членом экипажа каюты начальника электростанции: у того припасена там на технические нужды тридцатилитровая, белого алюминия, фляга спирта. Расходуется ежедневно, но не по прямому техническому назначению… Принимают ребята на грудь! Принятое движет к выяснению отношений, чаще с применением грубой силы. Но я огражден от сего гласным и негласным правилом: «Кока не бить!» Здесь братва мыслит разумно и правильно: как бы не вела она себя, повар-кок должен быть в полном здравии – без фонарей под глазами, без прочих боевых травм, повару-коку три раза в день эту братву надо сытно накормить!
Мы стоим в Сумкинском затоне под Тобольском. Оснащаемся для прохода во льдах Великого Северного морского пути. Слесаря с тюменского завода докручивают гайки, командированные сюда маляры, докрашивают то, что не докрасили на стапеле перед спуском несамоходного судна на воду. Речные буксировщики потянут нас до Мыса Каменного в Обской губе. Туда придет морской буксир из Мурманска в сопровождении спасательного судна. Придет на наш борт и профессиональная палубная команда мореманов во главе с опытным капитаном дальнего плавания. Путь наш во льдах Ледовитого океана будет нелегок и непредсказуем.
Об этом я говорю знакомым поэтам, нагрянувшим на последний свой праздник в Тобольский кремль. С эстрадной, сооруженной из досок, площадки, как и в прежние лета, звучат пафосные речи и читаются стихи. Выход на народ, как и прежде, доверяется не всем, наиболее знаковым фигурам. Вот выступил официальный поэт и государственный песенник Роберт Рождественский. Сошел по ступеням на травяную поляну и в обережении четырех милиционеров идет к поджидающей его черной «Волге». За поэтом кидается группа собирателей автографов, но милиция их отгоняет – без церемоний. Роберта Ивановича куда-то отвозят: явно не в простую гостиницу «Сибирь», где временно обитает большинство рядового литературного люда.
В сторонке, в окружении нескольких женщин, легендарная наша военная «сестричка» Юлия Друнина. Киваем друг другу, как прошлогодние знакомые. Да, прошлым летом, на этой же поляне, я брал у Юлии Владимировны интервью для газеты. Спросил тогда: успела ли она написать новое, тюменское? Ответила: «Коля, вы сами поэт, понимаете, что сразу это, так вот, не делается!» Понимаю. Конечно. Ведь и те знаменитые свои строки она написала уже в мирное время: «Я только раз видала рукопашный, раз наяву, а тысячу во сне…Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Пройдет еще полтора десятка лет и Друнина напишет последнее. Отчаянное, горькое, страшное. И предельно честное поэтическое: «Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть!».
Не могу. Захлопнет дверцы своей машины и пустит в её кабину смертельные выхлопы включенного мотора…
Я здесь – в послеобеденном и предвечернем увольнении с нашего «Северного сияния-04». Да, на этот раз у нас с литературной братией – разные маршруты. Им праздновать, читать народу стихи, говорить высокие речи о значении литературы в построении коммунистического общества, сидеть на богатых банкетах, вздымать быстро забываемые тосты под звон хрустальных фужеров, мне – штормовать и проламываться через поля обширных паковых льдов.
Я знаю, что привезу и из этого плавания новые впечатления, в чем-то они отразятся, во что-то они выльются. Скажем, в повесть «Арктический экзамен». Экзамен этот наш экипаж и весь караван судов, включая атомные ледоколы, выдержит с честью, как и положено советским морякам.
В этом я почти уверен, распрощавшись возле белых стен Тобольского кремля с литературной компанией, которой завтра поутру отправляться «праздновать» и набираться впечатлений все по тем же маршрутам – «нефть», «газ», «рыба», «лес», «южный»…
А мне сейчас околичными травяными полянами, под тускло мерцающей иртышской луной, добираться в Сумкинский затон на свой «пароход», там надо спуститься в трюмную кладовую за курганской тушёнкой (основной и главный наш продукт), приготовить к чистке ведерко тюменской картошки, чтоб с восходом солнышка сгундарить, как в деревне нашей говорят, очередной завтрак для боевого экипажа.
Никто этого не сделает. Все на мне, единственном!
Надо б грустить, вероятно, ведь и в нынешней литературной «тусовке» для многих «штатских лиц» откроются светлые дали, а мне не грустно. Наоборот. Я полон ощущения несказанной свободы. От этой внутренней свободы – легко и на душе. И если бы могла она, душа, рассказать, что произойдет за четыре месяца перегона, то нарисовала бы маслом почти благополучный финал нашего ледового и штормового пути.
Дойдем! Сдадим станцию чукотским насельникам!
И все же… Хоть грому с тюменским шедевром – на весь мир, у них там, и на Чукотке, бардак отменный окажется. Не проложены еще кабели и прочие береговые коммуникации, не отрыт котлован для установки в него нашего «электрического» чуда, нет и команды стационарного обслуживания. Полный аут! И мы, помыкавшись на забитом льдами рейде мыса Шмидта, развернемся, уйдем в порт Певек, где зимовать станции на рейде порта, вмерзая в тяжелые льды, сохраняясь до лучших деньков будущего короткого в Арктике лета.
Да, стареет, угасает режим во главе со своим высоким руководством. Пельше, говорят, на заседания Политбюро уже «приносят», Брежнев еще молодцевато приходит сам!
Придем и мы на наше «заседание, товарищи!» Главное: убережем от льдин, не утопим судно, доведем до места!
Потом я вернусь северными самолетными маршрутами – домой.
Домчусь на такси. Порадуюсь встрече с терпеливо ждавшими меня – дома. И я живой, не обмороженный, эйфорийный от свершенного мужского дела, позвоню… Ну, конечно, литературному нашему шефу: как мои дела в Москве? «Приняли, – скажет Лагунов, – поздравляю… празднуй!» Будет это 17 октября 1975-го. Тот- час с уличного телефона автомата за две копейки «проникну» в гостиницу «Заря», зная, что там гостюет – приехал из Москвы в командировку! – мой однокашник литинститутский Борис Примеров. «Боря, приезжай ко мне, меня в Союз приняли! Бутылка коньяка уже в кармане, обещаю и коронное тюменское блюдо – зажаренного долгоного бройлера…» – «У меня в номере Нечволода сидит!» – «Приезжайте вместе, адрес Володя знает…»
Потом друзья поднимут тост – «За первого стихотворца из русских, принятого в писательский Союз на Тюменской земле!» «Верно, ребята, я как-то и не задумывался об этом. Спасибо «за первого из русских». И полный вперед, как говорил наш капитан в Восточно-Сибирском море, когда сквозь тяжелый лед и разводья выходили мы на синь чистой и спокойной воды!»
Духмяно пахнут остывающие во мраке ночные травы. Тусклая луна, то проглянет, то скроется в небесной дымке. Иду наугад. Но, знаю, держу правильное направление. «В России нет дорог, есть только направления!» – припоминается «историческая» шутка.
Слышу звон лошадиного ботала. А вот и сами лошади прорезаются крупно из набухшей темнотой окрестности, шумно фыркают, совсем не пугаясь ночного прохожего. Зато я сам вздрагиваю, когда метрах в двадцати от меня, вырастая из трав, темнеют кресты старого православного погоста. Как у Рубцова: лошади… погост… кресты… И – «Лучше разным существам в местах тревожных не встречаться…»
Июль на исходе. А ночи еще приметно коротки, хоть и день пошел на убыль. Иду и вспоминаю его раннее начало. Вот! Сразу после завтрака ходил с электриком Иваном Пятницей на местный базарчик, где подивив торговок, собрали мы с лотков два берем я зеленого лука. Как две охапки сена! Потом, задействовав на камбузе еще пару трезвых «машинёров», вооружив их длинными ножами, укладывал я искрошенный и подсоленный витаминный продукт в банки. О, впереди белая Арктика! Старайтесь, ребята! Старались.
Стемнело совсем. Лишь малая, совсем узкая полоска, уцелевшая от закатной зорьки, медленно движется по горизонту. К утру
она воссияет в полную силу. И я, отводя высокую, уже прохладную траву, стремлюсь к цели – на замаячивший вдали мачтовый огонек. Гам суда, там берег.
Возле нашего высокого борта приткнулся местный портовый катерок. На его узкой палубе ходит человек.
Обмениваемся шуточными приветствиями:
– Эй, там, на «Богатыре», супчику вчерашнего не осталось? – кричу я человеку на катере.
Он не остается в долгу:
– Слушай, дорогой, а ты не видел, лом возле вас не проплывал?
И тишина. И легкий плеск потревоженной кем-то ночной воды.
ТЮЛЬПАНЫ ПАХЛИ ВОСКОМ
После авторской встречи в школе № 33, где десятиклассники меня спрашивали, как я отношусь к популярной музыкальной группе «Бонн М» и к любви с первого взгляда, предстояло литературное выступление в КБУ – комбинате бытовых услуг. То есть, как я ошибочно представлял, у каких-нибудь швей-мотористок… ну у часовых дел мастеров с ремонтниками телевизоров вкупе? Человек из Бюро пропаганды, назначавший встречу, в подробности не вдавался. А подробность некоторая открылась вскоре весьма существенная…
На усиление должен был еще явиться туда мой приятель поэт Нечволода, фамилию которого перекраивали в афишах всякий раз на свой аршин, что вызывало у Володи скрытую обиду.
– Привет! – сказал Володя, поджидая меня возле перекрестка улиц Холодильной и Республики, сияя новым в крупную клетку пальто и не менее шикарным дипломатом.
– Привет! – сказал я, отвечая на рукопожатие, чуть не уронив в грязь папку, из которой лохматилась, обернутая местной газетой, рукопись. – Двинули. А то как бы не опоздать.
– А куда?
– А я знаю?
– Я только – из Бюро, сказали КБУ, ориентиры дали, – и Нечволода начал вспоминать улицу…
С полчаса блуждали по предполагаемой улице, прыгали через лужи и колдобины, выпархивая из-под буферов летящего транспорта. Стояла весна. Апрель. И было еще зябко. Мы бросались ко всякой добропорядочной вывеске у парадного входа учреждений, изучали их до последней буковки, но-тщетно. Наконец остановили пожилого гражданина с тросточкой, во взоре которого, как нам показалось, не отражалась суета и гонка быстробегущей жизни и почуявшей весну толпы. И гражданин объяснил.
– Вы рядом, ребята, кружите. Вон тополя, видите?
– Видим.
– Шагайте вдоль заборчика, никуда не сворачивайте, прямо – и упретесь.
Я посмотрел на Нечволоду, Нечволода на меня. И мы пошли вдоль заборчика.
– Ты куда меня ведешь? – спросил он, пугливо косясь на могильные кресты среди тополей.
– А ты куда? – засомневался и я, разглядев впереди старушку с траурным погребальным венком.
– Слушай, я не пойду. Там же похоронная контора! – сказал Нечволода и решительно остановился.
– Ну, контора… Какая теперь разница, там же ждут! – во мне запробуждалось наследственное упрямство.
– Тебе хорошо, – непонятно на что намекнул Нечволода.
– Еще бы, во как хорошо! – меня уже разбирала досада на него, хотя и самому захотелось повернуть оглобли, пропади оно все пропадом… – Пошли, пошли, – я потянул его за рукав блистательного пальто, на котором темнели уже дробинки засыхающих брызг.
Впереди вдруг грянул похоронный марш, но после первых музыкальных аккордов музыка пошла вразнобой, смолкла, лишь один кларнет, поигравший долее других инструментов, вознес над вершинами тополей и кленов слезливую колеблющуюся мелодию. Музыканты, наверное, просто пробовали трубы.
У ворот заведения, где кучковались трубачи, голубело такси: кто-то спешил с последним шиком проводить в мир иной своего ближнего.
С тяжелым сердцем, но уже не столь унылые – поскольку увидели живой народ, стали мы подниматься на крылечко домика, в двери которого, опередив нас, проник запаренный мужичок.
– Парни, – окликнул нас один из трубачей, – музыку заказывать будете?
– Ты будешь заказывать? – спросил я Нечволоду.
– Иди-ка ты, знаешь!..
– Не-ет, не будем! – крикнул я музыканту.
– А то мы пока тут… Если надо…
Музыкант продул мундштук, высморкался и отвернулся к товарищам, проблеснув медной трубой.
Мужичок, что опередил нас на крыльце, уже о чем-то спорил с женщиной, которая сидела за столом у перегородки, отделяющую прихожую от рабочей части комнаты, где желтело еще два. занятых дородными женщинами, стола. Мы ждали, пока женщина и мужичок договорятся. Тут одна из женщин извлекла откуда-то целлофановый пакет, поднялись с возгласами две другие сотрудницы и, будто нас нет, принялись растягивать и примерять магазинную обновку подруги.
– Дома нельзя примерить! – не вытерпел мужичок.
– Чё вы ждете? – огрызнулась женщина. – Я же вам русским языком сказала: гробов вашего размера нет пока. Надо заказывать, а заказ выполнят не раньше завтрашнего утра.
– Вы не грубите! – возмутился мужичок.
– Я не грублю, – сказал женщина, вернувшись за стол.
Мужичок поискал сочувствия у нас:
– Везде волокита, даже тут! Похоронить как следует не дадут!
Мы согласно покивали, с трудом переваривая жуткий диалог.
– Хорошо, – мягче сказала женщина. – Давайте паспорт, я выпишу пока вам свидетельство о смерти, а вы ступайте к столяру и договаривайтесь сами, если уж так не терпится.
– Да я-то потерплю, – повеселел мужичок. – Покойницу надо обряжать, все сроки кончились, – и он, выложив документ, проворно скрылся в боковой двери.
Нечволода отвернулся, заслонился моей спиной, кропотливо изучая прейскурант похоронных услуг, будто ему и забот нет, как изучать этот угрюмый документ.
– Ну? – нетерпеливо проговорила сотрудница, вопросительно глянув на меня. Я постарался решительней воспрянуть духом, но видимо, не получилось, и она посмотрела на меня жалостливо. Вы, кажется, второй раз сегодня? Постойте, я проверю…
– Нет, нет… Не надо! – интонация моего голоса, наверное, произвела впечатление и женщина оставила свою скорбную картотеку. – Мы на встречу с вашим коллективом…
– А-а, поэты! Лекцию читать? Проходите, проходите к заведующему… Мы знаем, знаем!
В груди немножко отпустило.
В лице заведующего ожидал я увидеть мрачноватого героя «Божественной комедии» Данте, перевозившего через Лету тела и души усопших, но, напротив, он показался человеком общительным и бодрым.
– Лекторы – бывали! Поэты? – задумался заведующий. – Вы первые. Но поэтов у нас любят, – поспешил он заверить. – Любят!
Нечволоду заметно передернуло, а мне, коль товарищ мой этак безобидно сбагрил на меня все организационные хлопоты, с серьезной миной приходилось изображать интерес и внимание.
Заведующий, как это принято на предприятиях и в учреждениях при встрече дорогих гостей, рассказывал о трудовых успехах своего передового коллектива.
– Ну, а у вас, – неосторожно полюбопытствовал я, кивнув на наглядную агитацию (за что тут агитируют, непонятно!), которая занимала полстены узкого, похожего на склеп кабинета, – простите, учреждение не совсем обычное, и соревнование существует? – я поостерегся сказать – «социалистическое».
– А ка-а-ак же! – широко улыбнулся собеседник. – Существует!
Мне показалось, что где-то внутри, про себя, может быть, он иронизирует над нами – ситуация, прямо сказать, обоюдно не рядовая. Но нет, начальство говорило на полном серьезе.
Вот, скажем, изготовление гробов…
Меня обдало жаром и я натужно проглотил слюну.
– Хотя нет. Пример не показательный… Неподвозка пиломатериалов, отсутствие добротной сосны… то, другое… Вот изготовление венков! Да вы туда сейчас идете… Сами убедитесь, женщины на высоте трудятся. Несколько человек удостоены звания ударников.
– Коммунистического труда? – не высидел Нечволода.
– Да. Как положено. Что тут…
Новый прилив красноречия заведующего гробовой конторой прервал телефонный звонок.
– Хорошо. Буду, – сказал он в трубку. – Ребята, я извиняюсь, надо срочно по делу, так что представить вас не смогу. Вы сами уж пройдите в цех, ну и прямо на рабочем месте побеседуйте с людьми. Так, чтоб, ну… сами понимаете!
Он подмигнул, кинул на голову кепку и быстро исчез.
Я посмотрел на Нечволоду, Нечволода посмотрел на меня.
– В гробу я видел это дело! – сказал Нечволода.
– А я?.. Нет, пошли, пошли…
Во дворе, образуя длинный узкий коридор, тянулся ряд добротных из огнеупорного кирпича построек под общей крышей. По архитектуре они напоминали городок кооперативных гаражей, что строят в нашем микрорайоне на неудобях, стараясь сэкономить каждый метр отведенной площади. Тяжелые ворота были пронумерованы и наглухо заперты, и эта основательность и монолитность построек, строгий их вид, внушали невольный утробный холодок – бог весть, что там находится за массивными их стенами.
Наконец, заметив в одних из ворот узкую щель, мы протиснулись во внутрь. В помещении недавно тесали камень, оседала гранитная пыль. Готовое четырехугольное надгробие из черного полированного мрамора сверкало бронзовой гравировкой. Другое надгробие в виде христианского креста, недотёсанное, лежало у противоположной стены. На нем сидел рабочий, припивал из бутылки кефир, откусывал от батона. Я посмотрел надпись на перекладине креста, потому что неравнодушен ко всяким оттиснутым литерам, будь то стихи или объявление на столбе о потерявшейся болонке. «Дорогому…» – продолжение надписи заслонял внушительный тазобедренный остов каменотеса.
– Извините, как пройти в цех венков?
Каменотес только что отхватил от батона, завращал глазами, поперхнулся, как сквозь вату, произнес нечленораздельное. Пришлось переспросить.
– Пуба! – что значило, видимо, «туда», и я проследил за направлением его перста.
Указующий перст обозначил верное направление, и через два десятка шагов мы чуть ли не уперлись головами в крышку гроба, прислоненного в наклон к стене. Крышка была длинной, точней, высокой, домовито пахла свежей стружкой. На расширенной её части пестрело, аккуратно пришпиленное кнопками, объявление о «лекции», то бишь о нашем выступлении. Фамилия Нечволоды была переделана в Мечволоту, но не отозвалась в моем товарище привычными веселостью или негодованием. Он, кажется, приготовился ко всему! Я искоса наблюдал, как тихо деревенеют его скулы и становятся непроницаемыми глаза под низко сдвинутой на брови респектабельной шляпой.
Мы сунулись опять не в те двери, молча собрались было захлопнуть их за собой, и я уже привычно констатировал про себя «не туда», поскольку в помещении несколько мужчин обряжали красной материей, похожие на плоскодонные лодки, гробы.
– Обождите, робяты! – кинулся за нами один из мужиков, и я узнал нашего знакомого. – Вот такого росту! – показал он на Нечволоду. – Комплекция соответствует. Свояченица дородной была! – не без гордости сказал мужичок, бесцеремонно придерживая Нечволоду за полу пальто, не обращая внимания на его слабые потуги возмутиться. – Извините, робяты… Прикинь-ка рулеткой, – обратился он к ближнему столяру. Тот быстро прикинул. А мужичок продолжил:
– Что я говорил: сто шиисят семь сантиметров! Пяток сантиметров накинуть и подойдет домовина…
Свернув рулетку, о нас они тут же забыли. Нечволода как-то ссутулился, поник, а мне захотелось по-дурацки расхохотаться, но не хватало ни сил, ни воли.
В цехе изготовления венков находилось человек двадцать женщин. Они деловито шуршали цветной, пахнущей воском бумагой, весело переговаривались, и мне эта веселость показалась неестественной и натянутой. Куда спокойней ступил бы я под эту крышу, куда бросало лучи свои весеннее солнце, если б за деревянной, обитой войлоком, дверью, услышал, приличествующую здешним занятиям, песню:
Ты гори, гори, моя лучина.
Догорю с тобой и я…
Женщины посетовали, что уже заждались. И те, кто помоложе, стали поправлять и без того ладные локоны причесок. Кто-то простодушно высказался, что «поэтов еще не видели, какие они из себя».
– Глядите, пока живые! – попробовал я пошутить, но шутка вышла не к общему настроению женщин, повисла в воздухе.
– Послушаем, что скажете нам, – сказал все тот же голос.
– Ты первый начинай! – шепнул я Нечволоде.
– Хорошо! – поразительно спокойно ответил он.
Я предоставил ему слово, присев на свободный стул, возле которого горбилась пирамида венков с пестреющими на них товарными ценниками.
Нечволода, к моей радости, начал хорошо. Рассказ его был отточен и апробировал, наверное, ни на одной аудитории. Слова лились гладко, он умело пользовался интонацией и паузами, подкреплял речь скупыми жестами и придыханиями. Он говорил о молодых солдатах-земляках, героически сложивших головы при защите границы на острове Даманский, перебивал прозу стихами и у некоторых женщин влажно блеснули глаза.
Настроившись на его лад, я с натугой вспоминал, что же имеется в моем арсенале, способного вот также слезно хватануть за душу. Но после двух печальных баллад, на коих и кончилась моя «загробная» тема, меня спасительно перебили:
– Вы что-нибудь бы веселенького, не думайте, что мы тут…
Я понял. Веселенького у меня было в достатке. Выдохнув, я прочитал им те стихи, после которых старшеклассницы спрашивали меня, «как Вы относитесь к «Бонн М» и к любви с первого взгляда».
Я вдруг почувствовал себя свободно и раскованно, как говорится, в своей тарелке, и недавние наши переживания и злоключения растворились в плавном течении строф и образов, родившихся под ласковым солнышком в минуты восторженного состояния души и обостренного сердцебиения.
Когда закончил чтение, нам поаплодировали и преподнесли по багряному тюльпану. Откуда возникли здесь живые цветы, так контрастирующие с неподвижными, мертвенно-яркими соцветиями бумажных роз и георгинов, отдающих воском и смертной неподвижностью искусственных лепестков и тычинок?!
Я посмотрел на Нечволоду. Он стоял, бережно держа тюльпан, пытаясь улыбнуться, но улыбка не выходила и он показался мне в тот миг громоздким памятником самому себе, у ног которого поднималась и нелепо росла пирамида коленопреклонных венков. Возможно, эта мысль возникла у него и обо мне, но на лице моего товарища не дрогнул ни один мускул.
– Ждем вас еще! – сказали женщины.
Я собрался попрощаться с добрыми слушательницами, они опять монотонно зашуршали цветной бумагой, хотел сказать приличествующее воспитанным людям «до свидания», но опять посмотрел на Нечволоду.
Он сказал:
– Всего доброго!
Я тоже сказал:
– Всего доброго!
И мы вышли на волю.
До перекрестка мы шли рядом, не проронив ни слова. Когда расставались, вяло пожав друг другу руки, он обронил задумчиво «н-да-а», и голова его неестественно дернулась.
Уходил он не торопясь. И я, долго не решаясь пойти своей дорогой, наблюдал за его фигурой в широком, в крупную клетку пальто, пока его не поглотила людная и многоцветная весенняя улица.
А ГДЕ ПОЛКОВНИК АБЕЛЬ?
Храню у себя, в старых бумагах, одну замечательную афишу. Привез её из северного города – не то из Сургута, не то из Нижневартовска, не помню. Афиша самодельная. Разрисована она цветными карандашами, цветной гуашью – с разного рода искусными завитушками, розочками, колокольчиками, едва ли не целующимися голубками. А по центру ватманского листа витиеватым, ручным шрифтом надпись: «ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМИ ПОЭТАМИ».
Проводили мы эту встречу с писателем из Москвы в одном солидном строительном тресте. Дело было в обеденный перерыв. Из списочного состава конторы треста на встречу с «народными» сошлись женщины из бухгалтерии, несколько заведующих отделами тоже женщины, секретарша из приемной. Отвечал за мероприятие председатель профкома. Мужчина.
После окончания встречи, которая проходила в просторном кабинете отсутствующего начальника треста, довольный, что все прошло чинно и ладно и даже очень лирично, и теперь можно ставить жирную галочку о том, что проведено столь важное культурное мероприятие, председатель профкома, проштамповав нам с удовольствием оплачиваемые Бюро пропаганды «путевки», провожал нас до крыльца конторы, все извиняясь за малое количество публики.
А я, тормознув у этой замечательной афиши в широком трестовском коридоре, очень вежливо попросил профкомовца подарить мне это произведение на память! Мол, оно все равно больше не пригодится!
«Может, что не так?» – испуганно спросил председатель, насторожившись. Мы улыбнулись: «Да нет, всё так! Только, знаете, народные – это Расул Гамзатов, ну Кулиев, Турсун-Заде, а мы, знаете, простые советские…»
Я уже решительно нацелился отколупнуть канцелярские кнопки, которыми было пришпилено «заветное» объявление, как профкомовец, еще больше перепугавшись, сказал почти шепотом: «Знаете, я хотел как лучше… Берите… А мне ничего не будет? Вы уж там…как-нибудь поосторожней, не разглашайте…»
Он еще долго стоял в раздумье на крыльце, провожая нас, уходящих, грустным, потускневшим взором.
Где он нынче, этот товарищ, и как? А вот афишку я сохранил.
Разные были моменты на этих литературных встречах. Собственно, разного «плана» были и сами литературные деятели, отважно и самоуверенно выходившие на народ!
Газетный репортер Борис Галязимов, напористо стремившийся попасть в писатели, издавший несколько тоненьких книжек, выходил на народ с рассказами о встречах с некоторыми героями космоса, что заезжали в ту пору в Тюменскую область, о бывших красных партизанах, о подпольщиках, о пионере-герое Павлике Морозове и его матери, о разведчиках. В частности, козырем его был устный рассказ об известном разведчике полковнике Абеле, разрешенного материала о котором Боря «нахватался» по различным изданиям…
Выступал он в автохозяйстве города Ишима. Дело было ранним утром, перед началом работы городских и межрайонных водителей автобусов. Партком и профком хозяйства собрали на эту встречу еще народ из цехов – токарей-слесарей, конторский контингент и всех прочих, кто попал на утренней заре в поле зрения руководства.
Когда Борис вышел на сцену рабочего клуба, в зале было настоящее столпотворение. Сидели, стояли битком в проходах, висели на подоконниках, толпились в дверях…
Слушали Бориса десять, пятнадцать минут, потом началось шевеление в публике, разговоры. В чем дело? И тут кто-то из работяг громко спросил из зала: «Ну, а сам Абель, полковник-то, где? Мы ждем, когда он начнет выступать…»
А взбаламутила всю шоферскую и подсобную шоферам братию афиша. Кто-то из парткомовцев, спрашивая по телефону в отделе пропаганды горкома КПСС о содержании предстоящей встречи с заезжим писателем, все перепутал и написал в афише, что, мол, «состоится встреча коллектива автохозяйства с легендарным разведчиком полковником Абелем».
И еще одна картина маслом. По «линии Бюро пропаганды» ездили мы как-то с Галязимовым в ближний от Тюмени Ярковский район – встретиться с ребятами пионерского лагеря. Дело привычное, встречу успешно провели. А поскольку времени до вечернего автобуса в Тюмень еще было в избытке, организаторы из местного райкома партии отправили нас в дом престарелых, что находился в густом березовом лесу, неподалеку от райцентра.
После задорной красногалстучной ребятни, зрелище этого богоугодного заведения, его контингент, являли печальный вид. Во главе заведения был, вероятно, сам гоголевский Земляника, потому что – узнали мы чуть позднее! – народ здесь умирал ежедневно, «подобно мухам». Да еще перед началом встречи просветила нас о местной жизни бойкая на язычок сестра-хозяйка заведения. Присели на лавочку поговорить о жизни, она и говорит со вздохом:
«Какая тут жизнь? Каждый день привозят стариков-старушек, сдают нам. Бывает, что и дети сдают… Мрут каждый день, не успеваем хоронить… Ага, воздух здесь хороший для стариков, правда. Свежо! Но ведь и комары здесь – во! Как коршуны. Сядет какой комар на телеантенну, антенна качается. Народ-то наш, конечно, сильно этой твари не боится. Сибирский народ, в основном. Но разный… Одна старушка кукует тут. Иные чем-то стараются занять себя, старушечьим, редиску выращивают, а эта ничего не умеет: ни спеть, ни сплясать, ни носки связать, ни сказку рассказать… Перевелись, знать, Арины Родионовны. Кому годны'? Ни дитям, ни внучатам…
Другую от телевизера не оттащишь. Нальют ей супу, она тарелку в беремя и – в холл к ящику… Едва не ночует у телевизора. Вот такая – все пересмотрит, что надо и не надо…
Еще тут активист один бывший. В шашки играет. Женился, рассказывал он, в молодости на девушке – токаре металлургического завода имени летчика-героя Серова. И пошло в дальнейшем – она всю жизнь точит, а он всю жизнь летает… по чужим бабам. Теперь он вот здесь – в лесу нашем. С другими наравне… Только и осталось от их облика название, Господи прости, человекообразная фауна…»
Вошли в небольшой клуб заведения – типа красного уголка. Поднялись на сцену. Первым начал выступление Борис Иванович. Все в том же духе, что и у пионеров – красные партизаны, Павлик Морозов, разведчики, герои космоса…
На первом ряду, среди другого пожилого и очень старого народа, ветеран с орденскими колодками на потертом военном кителе все пристраивает ладонь к уху. «Погромче можно!» – просит ветеран. «Громче» – подсказываю Борису. Он же, не меняя тембра голоса, доверительно продолжает: «…и вот, дорогие товарищи, когда вам доведется побывать в Звездном городке, в музее космонавтики, обратите внимание на комсомольский билет космонавта Владимира Комарова. Он выдан ему в 1943 году Заводоуковским райкомом комсомола Тюменской области…»
«Да уж – «доведется»! – грустно подумал я, мучительно размышляя, как же построить свое выступление на этой публике…
Ну а про Бориса Галязимова еще раз повторю, что был он неплохим красным репортером в советские времена, хоть «академиев не кончал» и слово «шофер» упорно произносил с ударением на первом слоге. А при демократах, этот вчерашний представитель провинциальной «ленинской гвардии», к моему изумлению, объявил себя «жертвой сталинизма», стал личностью важной и, в отличие от многих нас, журналистов и литераторов, личностью зело платежеспособной. В редакции демократской газеты «Согласие», где он пристроился в начале служить новому порядку, повесил над собой, на стене, большой портрет одутловатого Егора Гайдара – нового кумира. В хоре других новообращенных запотявкивал на павшую уже Советскую власть, на писателей-патриотов, то есть на тех, кто не сдался, кто сохранил свои нравственные и гражданские позиции.
Прежних добрых общений мы, естественно, не возобновили.
В те начальные 90-е, решился Борис еще и создать свою газету (многие решались!) с боевым именем «Набат». Был я свидетелем, как печатался первый номер (формата А-3) четырехстраничного «Набата» в тюменском Доме печати. Рядом, на другом «офсетном станке», печаталась в ту ночь и моя «Тюмень литературная». Энная по счету. Борис же так и застрял с первым номером своего «Набата», прогремев не дальше и не глубже магазина «Океан», над которым он жил на девятом этаже. В этой популярной рыбной точке после выхода «Набата» – вдруг исчезли не только селёдка иваси и тихоокеанские крабы, но и безголовый камчатский минтай. Полагаю, уплыла испуганная наша советская рыба к японцам, в известные мне морские магазины главной улицы Токио – Кинзы, во главе которой давно изваян, как произведение искусства, мощный человеческий фаллос в непобедимом своем каменном могуществе: мечта всех нынешних сексуально озабоченных демократок с радиостанции «Эхо Москвы», безобразно плохо пополняющих народонаселение России.
Замечу, хотя сказано не мной: «в СССР секса не было». И это справедливо сказано. Как справедливо и то, что при вышеупомянутом отсутствии моя бабушка Анастасия Поликарповна родила 18 детей, мать моя Екатерина Николаевна поменьше – восемь. Спрашивается, причем тут рыбный магазин «Океан»? Не причем, галязимовский «Набат» навеял.
В последние свои времена Боря сильно стал злоупотреблять. От неумеренности, говорили знакомые, его «перекосило», перестал показываться на люди. Жил в одиночестве. Супругу Любу – вначале перестройки успешную, а потом жестоко прогоревшую и разорившуюся предпринимательницу, неизлечимо заболевшую, – Борис потерял раньше. Затем в пьяной драке зарезали его старшего сына. А через какое-то время Бог, а может быть, сатана, которому, как и все оборотни, служил он в остатние свои годы, прибрал и его – к месту. А жаль такого конца. Хорошо он когда-то начинал на красном поле советской империи. И дружили мы, дружили…
Да, невольно поверишь в известную закономерность – всякая революция, всякая смута рано или поздно пожирает своих воинственных деток. Так было со «светочами свобод» декабристами, с «ленинской гвардией». Тот же суд истории, а может быть, Господний суд принялся карать или жестко наказывать оборотней и предателей ельцинско-гайдаровской поры.
МАЛУЮ НАРОДНОСТЬ ОБИЖАЕТЕ
Жил-был и творил поэт Леонид Васильевич Лапцуй, как говорили в советские времена, представитель литературы малого северного народа. На виду жил, писал в почете и внимании. В отличие от русских национальных стихотворцев и писателей, при особом внимании, когда мы, происходившие от сохи-бороны, добивались всего сами. Даже при несомненном большом таланте, при мощном и звонком образном голосе, как у того же, к примеру, Ивана Михайловича Ермакова. Сами.
«Ну да, Ермаков… одаренный!» – цедил критический бульон какой-нибудь университетский доцент. Печатно ж про Ермакова доценты эти помалкивали, выщелкивая восторженные рулады о представителях «малой северной народности», «детях» тайги или тундры. Славянская народность в университетское критическое варево чаще всего «мордой лица» не вписывалась. Иль упоминалась походя, вскользь.
Умный Толя Кукарекин, как-то шагая с нашей литературной братвой по Республике, кивнув на новую вывеску, оповещавшую, что в Тюмени появился свой университет, иронично произнес: «Вот госуниверситет, мужики, кто не знает, возникший на базе пединститута и ГПТУ № 2…» (Справедливости ради, замечу, что впоследствии Тюменский университет при ректорах Г. Ф. Куцеве и Г. И. Чеботарёве стал видным и крупнейшим вузом России).
Эй, где, очередной айвэседо? Эй, пуйко-нуйко, а-у! Эй, классик ненецкого народа, Аня Неркаги?
Об Анне, как писательнице, разговор не простой. Надо сказать и о трудном и об успешном её начале. И о печальном, в чем-то трагичном для её несомненного дара пути… Но и тогда, наблюдая избирательное отношение местных и не местных «литературоедов» к северным младо-национальным голосам, понимал: «Политика литературная такова!» Струилась при этом забавная строфа одного провинциального стихотворца, отчасти выражавшая дух времени:
«Жись такова, какова она есть, И больше – никакова!»Как было с Аней? Обнаружил её, бывшую воспитанницу далекого тундрового интерната, а теперь студентку первокурсницу Тюменского индустриального института, Константин Лагунов, отечески опекал многие годы. А тогда, при обнаружении, с восторгом расхваливал перед нами «юное ненецкое дарование». Своей искренностью, прежде всего, подивила его студентка из тундры, как говорил Константин Яковлевич. Мол, Аня в своих писаниях признавалась: «Многое мне не надо – кусок хлеба на обед… да хорошие, не разбитые башмаки». Эти «башмаки» и сразили напрочь руководителя писательской организации.
Временно замещая в «Тюменской правде» ушедшего в отпуск заведующего отделом культуры, я попросил Лагунова: «Дайте что- нибудь из Неркаги, напечатаем!»
Принес рукопись северного дарования в отдел. Да, искренность, действительно, налицо! Но – почти при полной неграмотности, какой-то взлохмаченности, неумении логично строить фразу… Проявив натугу и усилия, привел все это, как мне казалось, в божеский вид, отдал на подпись редактору. Тоже Лагунову, Николаю Яковлевичу. Старшему брательнику писательского руководителя.
И грянул гром. На утренней планерке. Отвечал я за «содеянное» – стоя, чего в редакции никогда не практиковалось. «Вы что это мне подсунули, уважаемый!? Это же чепуха! Ни складу, ни ладу, ни языка, ни стиля, сумбур! Куда глядели, чем думали…» – гремел Николай Яковлевич. (В скобках замечу, что редактор «тюменки» мог решительно править даже стихи Пушкина, если, по его разумению, они не соответствовали текущим идеологическим установкам!) И я почуял, что он окончательно хоронил мою недавнюю просьбу: «насовсем» перевести меня из сельхозотдела – в культуру…
Пошел к Константину Яковлевичу. А он: «Думаю предложить повесть Ани для издательства «Молодая гвардия». – «Но это ж…» – «Ничего, пригласим квалифицированного редактора из Москвы, заплатим, пометим, что это перевод с ненецкого! И все проблемы!»
Через какое-то время повесть Неркаги «Анико из рода Ного» вышла в Москве. Сама Анико, которую, кстати, не мог спокойно воспринимать и переносить Геннадий Кузьмич Сазонов, честнейше относящийся к творчеству, так вот сама Анико, как «ненецкая национальная писательница», вскоре была принята в члены писательского Союза. Оставив учебу в индустриальном и уехав на свой Ямал, в Салехард, написала еще несколько «вещей», которые университетскими критиками были провозглашены, как «классика». Далее классик, войдя в возраст, и однажды нервно бросив на стол салехардской литературной «кают-компании» «членские корочки», обосновалась в тундровом стойбище и теперь, говорят, успешно занимается доходным торговым, а попутно и православным, делом среди своего оленного народа.
Тюменский поэт Николай Шамсутдинов, родившийся на Ямале, не в дымном чуме, как Неркаги, а в семье цивилизованных торговых работников, человек тюркских кровей. Пишет на русском. Стихотворения и поэмы. Начитанный, мастеровитый. Издает толстые книги. Раньше с гордостью называл себя «первым членом Союза писателей в Приобье», где жил долгое время. А в 2010 году одна из тюменских газет, публикуя интервью с Шамсутдиновым Николаем Меркамаловичем, объявила его «выдающимся поэтом современности». Надо полагать, современности не Приобского оленьего округа, а планетарной?! Не стану кидать «камни» в сторону Шамсутдинова, поэт он известный. И все же!
Читатель, расположенный к творчеству и Неркаги, и Шамсутдинова, не должен сердиться на остерегающие нотки автора этих строк. Пишущим, даже несомненно талантливым, надо бы ограждаться от таких громовых похвал. Время рассудит!
«Всё минется, а правда останется», – гласит старая истина.
Ведь как бывает в нашей русской жизни, в пронзительном её бытие? Прочтешь, при охватившем тебя восторге, идущие из души и сердца строки, и несешь их потом в себе через всю жизнь:
Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым…Ах, Сергей Есенин!
Мой старинный друг Андрей Тарханов числит себя мансийским поэтом. А пишет тоже на русском. Зарисовочные и философские стихи о природе, о любви, о нежности и о тех катаклизмах, коим подвергается земной мир и человек в этом мире.
В первый год воинской службы получил я из родных мест книжку стихов. Это была «Первая завязь» Андрея Тарханова. Совсем крохотный сборник объемом в один печатный лист. Открыл бережно, прочел первое попавшееся. И запомнил навсегда:
Листья ярко горят, Как огни на весу. Я в бездымный пожар Свое сердце несу. Опадает на грудь Золотая листва. И куются в душе Золотые слова. Огневая листва, Золотые слова… И светла и трудна У поэта судьба.Впоследствии Тарханов написал немало стихов, издал десятки книг, но «Первая завязь» – наособицу – живет во мне.
Еще помнятся, тоже давние, восхитившие меня строки Тарханова: «Пойду к отцовской роще дикой, и прислонюсь к коре щекой, и снова стану я великим – перед природой и собой!» А перелистав недавно томики тархановского избранного, не встретил этих строк. Возможно, поэт переписал, переделал их на иной лад, что случается у поэтов. А жаль!
Как пример высокого поэтического звучания приведу целиком одно из поздних стихотворений Тарханова:
Кому ты нужен, друг-мыслитель, В миру все меньше добрых слов. Ты как инопланетный житель В среде ханжей и хитрецов. Ты увлеченно смотришь в дали, Ты, верно, ждешь какой-то зов. И белый парус у причала Тебя уже принять готов. Твою бы разделить мне долю! Но я ступил за ту черту, Где нет беспечности и воли, Где чаще смотрят в высоту. Прощай! Ищи покой в просторах, Своей романтикой храним. Я для высот людского горя Сейчас, мой друг, необходим.Теперь еще глубже понимаю легкую усмешку Андрея Семеновича, когда однажды наш ответственный секретарь Лагунов сказал поэту: «А почему бы тебе, Андрей, стихи не помечать в сноске – «перевод с мансийского», знаешь, какой ты вес получишь в современной поэзии?!»
Усмехнулся Андрюша и покачал головой.
А я так скажу: «поэтического веса» ему вполне достаточно, чтоб надолго (ну, может быть, не планетарно!) утвердить свое имя в литературе. Хоть в мансийской, хоть в русской.
«Жись такова, какова она есть! И больше никакова!»
Много печальней стала литературная «жись» при новой общественной формации, при старых-новых хозяевах жизни. Не только для «великороссов», но и для малых языков.
Один наш поэт и прозаик, пожелавший остаться в этой книге неназванным, проработавший на Ямале несколько лет, рассказывал: «Взял я однажды кое-как сработанный на русский язык подстрочник одного тундрового стихотворца и привел его в надлежащий вид, чтоб и рифмы были на месте, и ударения, и эпитеты грамотно звучали, и по форме написанное походило на стихи! Взял мой подопечный листок с переводом в руки, стал декламировать, и чем громче декламировал, тем сильней бронзовел и надувался: «Какой я великий! Какой я гениальный… Гений! Да я выше, я талантливей всех!» Рассердился переводчик, выхватил у бронзовеющего «пиита» листок и порвал его на мелкие кусочки. И – сдул с ладони. «Великое» подхватил налетевший тундровый ветер и понес по снежным застругам сугробов. «Гений» тут же опал и сник, как напоровшийся на гвоздь волейбольный мячик…
Да, раньше была целая школа, система переводческого дела, когда армия умелых Козловских и Гребневых выводила на русский, а то и на международный большак книги авторов из советских национальных и автономных республик. Переводили, вкладывая свой талант и поэтический дар не только в истинно достойное, но и в кривые подстрочники, шлифовали неудобоваримое, печатали. Создавались журналы для литераторов малых народов. Сочинялись монографии, исследования, к значимым датам выпекалось избранное, а то и полное собрание сочинений. Награждали премиями, почетными званиями, орденами, вплоть до Звезд Героев труда. Ах, не обидеть бы меньшого брата!
И взращивали в меньшом микроб иждивенчества.
Было, повторяю, и по-настоящему талантливое. Но и такое, например. Приносит какой-нибудь «айваседо» слабенькую подборку стихов в журнал «Дружба народов». Квалифицированный сотрудник крутит её так и этак: нельзя печатать! «Не подходит по уровню!» – неловко мнется квалифицированный человек из поэтического отдела. «Ах, не подходит? Малую народность обижаете! Буду жаловаться в Верховный Совет! Буду писать на вас самому Председателю Подгорному Николаю Викторовичу!»
И действовало, действовало! Стоило ли иметь дело с самим Кремлем? Там эвон какие рубиновые звезды сияют! Всю страну великую своим справедливым светом озаряют, все племена греют!
Еще с двадцатых-тридцатых годов в литературе малых народов насаждалась и поощрялась большевистскими идеологами тема благодарности «старшему брату» – русскому человеку, Ленину и Советской власти. Тему эту можно выразить простейшей формулой: «Раньше, при царе, мы жили голодно и холодно, вымирали. Теперь спасибо старшему русскому брату, Ленину спасибо – за нашу счастливую жизнь!» Это был беспроигрышный идеологический код, он мог повергнуть почти любого строптивого редактора, сопротивляющегося слабо сработанной вещи…
Но все это нынче – при победившей демократии – в прошлом. И «счастливая жизнь», и «братская помощь», за которые малые племена и народности оплатили русским черной неблагодарностью. В какой «зигзаг и загогулину» ушли, к примеру, те же Чингизы Айтматовы, Олеси Гончары, Васили Быковы? Уж их ли не обласкивали, не награждали!
Но! «Русские, вон из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана! Проживем без вас!» Не прожили. Не сумели построить свою крепкую государственность, не сумели обеспечить трудом и достойной зарплатой своих коренных соплеменников. И ложатся теперь под новых ханов, под США, под НАТО. И собирают мусор на улицах Тюмени и других городов России, соглашаясь хоть на какой-то заработок. Гастарбайтеры. Бывшие боевики? Те, что убивали русских специалистов, молоденьких русских солдат, насиловали в своих «суверенных» республиках русских женщин на заре демократизации. Возможно, что в их числе и стихотворцы, которым нет нынче и не будет, как прежде, выхода в большие литературные горизонты.
С Леонидом Лапцуем мы жили друг от друга далеко, он аж на Полярном круге, в Мужах, потом Салехарде, так что бытовых каких-то реалий о нем не знаю. Ходила ироничная присказка о нем: «Кто не знает Лапцуя, тот не знает… ничего!» Весело и хлестко, ладно, так и быть посему Лапцуй много и часто издавался – тонкими и объемными сборниками. Переводили его на русский язык ленинградцы Лидия Гладкая и Елена Грудинина. Конечно, они и другие русские мастера стиха помогли ему стать одним из первых ямальских песнопевцев, донести до русского и до иного русскоязычного читателя предметность быта тундровиков, завывание снежных бурь, обычаи, стойкий и непоколебимый к трудностям характер северного народа. Трудно судить, конечно, насколько мелодия переложенного на русский язык подстрочника передавала оригинал, но предметность событийного ряда в стихах, северный пафос, убеждали в том, что и автор и переводчик хорошо дополняли друг друга.
Никогда не занимавшийся не свойственным мне делом – переводами, как-то попросил я Леонида Васильевича: «Пришли два-три лирических стиха в подстрочниках, попробую перевести на русский, может быть, получится…» Он, недолго думая, выслал большую, в двух частях, поэму под названием «Тропа». И не давая времени на раздумья, слал и слал напоминания: «Поторопись с переводом!»
Подстрочник буквально убивал! Показал его друзьям-сочинителям, они в один голос: «Стоит ли ломать голову? Откажись, тут черт ногу сломит – в этом русско-нерусском языке!»
На одном из писательских собраний, когда Лапцуй появился в Тюмени, осторожно спрашиваю его: «Дай размер, мелодию… Как все это звучит на ненецком? Хочу уловить музыку строки!» Он машет рукой: «Ни се, ни сё, Николай! Переводи, как Бог на душу положит!»
Бог-то Бог, а сочинять, то бишь переводить, самому требуется.
«Тропа» основывалась не то на легенде, не то на поверье о том, что когда-то в «незапамятные времена» в ямальскую тундру приезжал молодой Ленин, кочевал по стойбищам, ягельным пастбищам, глядя на скудную жизнь «оленного народа», говорил о счастливом будущем, вселяя революционную веру в головы аборигенов.
Поездил по тундре, пожил по чумам, покушал строганины, испил крови забитых олешек. Довольно. Пришла пора прощаться! И чтоб люди крепче запомнили его, как человека и как вдохновителя к новой жизни, Ильич бережно вынул из потрепанной ветрами малицы свой… бюст (тут я поперхнулся, читая подстрочник), …бережно вынул бюст и передал его на память бедным ненцам. И тотчас умчал в оленной нарте, скрылся за белым и могучим Уральским хребтом.
Этот ленинский «бюст», который – я представил! – герой легенды специально таскал по всей ямальской, а, может, и таймырской тундре, привезя его аж из-за Урала, доканывал меня напрочь! Это ж надо додуматься! Впрочем, легендарный персонаж здесь вовсе был не причем, такое сочинил автор поэмы. Я размышлял о том, что, может быть, на ненецком языке это звучит как-то по-другому? Но в тексте подстрочника было черным по белому: БЮСТ. С какого это пьедестала снял его герой поэмы в «незапамятные времена»?!
Ну что бы он, размышлял я по-житейски, мог оставить народу, «наивным детям тундры», на память о себе? Шарф, платок, бусы? Не-е. Трубку? Во – трубку! Но, известно, Владимир Ильич не курил.
Выбросить этот кусок поэмы никак было нельзя. На этом и закручивался весь сюжет. И я принял хоть и очень сомнительное, но компромиссное решение (к предстоящему хохоту нашей литературной братвы!): Ленин подарил бедному тундровому народу свой портрет. Фотокарточку, одним словом. Можно было бы присовокупить и надпись на обороте карточки: «Ваш вождь и учитель». Но это был бы совсем комичный перебор.
Духу хватило на перевод – как Бог на душу положил! – только первой части поэмы. Как раз готовил к очередным Всесоюзным Дням советской литературы в Тюменской области выпуск газеты «Тюмень литературная», напечатал перевод в ней. Опубликовала «Тропу» (точней, половину) и партийная «Тюменская правда».
«Слушай, старик, ты у Лапцуя в подстрочнике нашел такие классные строчки: «И женщины, ослепшие в печали, уже детей без страха зачинали!» – спросил меня наш поэт Юрий Надточий. – «Да нет, Юра, ты сам же понимаешь, моё это…» – «Вот так, старик, мы и расточаем себя задаром!»
И еще как-то в толчее Всесоюзного литературного праздника стою я на крыльце гостиницы «Турист», подходит поэт Михаил Дудин при Звезде Героя Социалистического Труда, смотрит пронзительно, в упор: «Это вы Лапцуя перевели?» Кивнул, мол, было дело. «Ладно, ладно… Надо бы внимательно присмотреться к нему… Интересно, интересно!» – решительно развернулся и вклинился в шумную компанию москвичей. Что хотел сказать известный поэт Дудин, фронтовик, лауреат, сам переводчик горских поэтов, не знаю…
Но знаю достоверно: ямальские земляки поэта Лапцуя назвали в его память почтовый катер. Ходит он по Полую и по Оби, по протокам могучей реки, неся добрые вести рыбакам и оленеводам, строителям и газовикам.
Суров мой Север Лишь на первый взгляд. Пусть ветры Завывают за стеною, Здесь каждый будет Вас увидеть рад И обогреть душевной теплотою. Эй, там, на катере «Леонид Лапцуй!» Полный вперед… однако!ВЕСЕННИЕ ГАЙКИ
Полезно послушать толковый совет – даже с Запада, который во все века ходил на нас опустошительными войнами. А Русь-то, Россия наша, собравшись с силами, всегда отбивалась. Чаще сокрушительно!
Не о войнах, не о противостояниях речь. Пусть посольские чины, рассевшись на переговорных насестах, поспевают плести на эти темы, примиряющее страны и народы, всесветное дипломатическое кружево. Моя небесполезная «запятая» – по контексту – о мирном, об «Искусстве поэзии» – о познавательном стихотворении француза Раймона Кено (Перевод М. Кудинова), чьи строки оригинально подчеркивают свойство таланта, практическое применение его в живом литературном деле.
Возьмите слово за основу И на огонь поставьте слово, Возьмите мудрости щепоть, Наивности большой ломоть, Немного звезд, немножко перца, Кусок трепещущего сердца И на конфорке мастерства Прокипятите раз и два, И много-много раз все это. Теперь пишите. Но сперва Родитесь все-таки поэтом.Толково сказано, со знанием процесса. Рационально и предварено: «прокипятите!» (Всю жизнь стараюсь!) И сейчас «трепещущим сердцем», на родном поэтическом поле, озарю продолжение разговора.
«Больше поэтов хороших и разных», – говорил Маяковский. Нынче, при свободах, «разных» числом и нахрапом больше, нежели «хороших». И издаются они ловчей. И покровителей при деньгах – находят скорей, когда одаренный человек не умеет и стесняется являть подобную ловкость.
При бюджетном, то есть государственном, финансировании творческих организаций – ежегодно проводились просторные семинары молодых литераторов. Накануне нашествия молодых сочинителей в Тюмень, в писательский Союз поступала масса рукописей. И руководители семинаров (ими назначались подготовленные люди) отбирали для предстоящего разговора-анализа наиболее крепкие произведения.
Я всегда был рад, если в стихотворном потоке попадалось настоящее. От него ведь не уйдешь, не отмахнешься, оно «вцепится» в тебя, завладеет твоим воображением и ты стремишься побыстрей познакомиться воочию с создателем этих строк.
Вот как, например, с автором строк, встретившихся мне в начале 80-х в присланной из северного поселка Советский папочке стихов:
Заблестела земля в гараже Повидавшею виды фуфайкой. Из весенних сугробов уже Показались и первые гайки.Так свежо, ново, с детской непосредственностью, о наступлении весны, кажется, еще никто в обозримых весях не говорил. Ни грачи, ни скворцы, ни звон ручейка, – а вытаявшие из снега эти, бог ты мой, железяки – гайки. Увидеть и изобразить эту весеннюю солнечную картинку мог человек со своим не только духовным, с практическим опытом! Им и оказался молодой слесарь ремонтной автомастерской лесозаготовителей Владимир Волковец. В его папочке присутствовал еще ряд живописных виршей. И я волей председателя семинара поставил эти стихи на «разбор» – первыми. Обсуждение было приподнятым, радостным. Вынесли вердикт: перед нами поэтически одаренный человек и его творчество требует всяческой поддержки!
Будущий сборник поэта еще только «проглядывался», требовалась работа над строками, учеба, в конце концов. И писательская организация рекомендовала Владимира Волковца поступать – конечно же! – в Литературный институт имени Горького.
Творческий конкурс в «единственный в мире» писательский вуз Володя прошел успешно, сдал вступительные экзамены по программе средней школы и был зачислен студентом очного отделения. А это – прямой путь в писатели. И ответ на вопрос: как им становятся?!
Непременно, и это бесспорно, пишущий должен иметь от рождения «Божью искру». Все остальное – успехи, достижения стихотворца зависят не только от обстоятельств жизни, а от него самого. От биографии, самовоспитания, обретения кругозора, нравственной и гражданской позиции, большого труда и целеустремленности.
Иногда, в изначальной своей сельскости, зрю я труд литератора, как труд огородницы. Скажем, «пашут» две соседки-хозяйки на одинаковых по качеству огородах-плантациях. У одной все прёт, как на дрожжах, у другой – скукоживается, сохнет на корню. И солнышко светит, и дождики не обижают обеих. А дело – в разном соображении, старании. И еще – руки «из разного места растут», как в народе говорят. Одна хозяйка радуется делам рук своих, другая, неудачливая, сердится на весь окружающий мир.
В литературном творчестве те же, да простят меня « щелкоперы »- пародисты, причины успеха иль неуспеха.
Владимир Волковец, а человек он уже в то время был семейный, три года проучился на очном отделении, в институте стал командиром студенческого производственного отряда, заместителем парторга вуза. Налаживал контакты с печатными органами. Первая его книжка стихов «Сосновый дом» вышла в издательстве «Современник».
Перейдя в заочники, Володя вернулся в Советский. Написал новый сборник стихов, мы приняли его в члены Союза писателей СССР.
От «станка», вернее, от баранки большегрузного автомобиля, перевозящего трубы для строящихся нефтепроводов, пришел в поэзию сургутянин Петр Суханов. Тоже не миновал на своем пути областных семинаров молодых, литобъединения при городской газете, нашего родного лицея – Литературного института. И необходимо тут подчеркнуть: пока вращался в живой трудовой буче, писал ярко, привлекательно, попадал даже на страницы столичных изданий. Сделавшись «профессионалом», Суханов как-то скоро утратил новизну и яркую образность, которыми подпитывала его живая жизнь.
Разными путями пришли в литературу, ныне активно издающие книги, Владимир Фомичев и Александр Игумнов – из того же Советского. Город этот дал плеяду талантливых литераторов. Владимир Фомичев, приехав туда из Москвы, пять лет трудился в редакции городской газеты, вернулся в Москву, где при демократии «прогремел» на всю Россию своей боевой газетой «Пульс Тушина». Смелая её гражданская позиция так разозлила врагов русского государства, что они едва не упекли в тюрягу редактора. Отстаивала Фомичева вся честная Россия, многие патриоты в пору самого жуткого демократического беспредела не побоялись возвысить за него свои голоса.
Александр Игумнов – бывший военный пилот-вертолетчик. Отважно воевал в Афганистане, стал не только хорошим прозаиком, но и стойким бойцом за русское дело.
Областные семинары наши были особой «статьей». И разного порядка случался на них народ. То мечтатель из городских студентов, то скромная рифмовательница из дальней деревни, а то и, быстро освоившаяся в новой среде, «звезда» гостиничных тусовок, когда занятия наши, разговоры вступали в вечернюю расслабленную фазу…
По сколько литературные мероприятия эти дали полезных напутствий одаренным участникам! Одни ими воспользовались, другие – нет, иным просто не повезло. По этому поводу вспоминается не столь смешной, сколько горький случай, произошедший – в конце семидесятых.
Похвалили мы за стихи человека из Салехарда. Не юношу уже, зрелого мужчину лет тридцати трех, как говорится, ровесника Христа. Газета «Тюменская правда» охотно опубликовала подборку виршей салехардца, пожелала ему в одном из декабрьских номеров «доброго пути», как делалось в таких случаях.
Проходит месяц. Семинарское уж подзабылось. Другие заботы приспели. И вдруг па улице Республике, в центре Тюмени, встречаю похваленного семинариста. В добротном авиаторском крытом полушубке, в унтах, хромовых рукавицах, богатой меховой шапке. Спрашиваю, мол, в командировку в Тюмень прилетел? А он отвечает, что еще никуда и не улетал, а только что вышел из больницы, куда попал после завершения литературного форума. Подлечился. И спешит на почтамт, где должен получить из своей заполярной организации денежный перевод на обратный билет.
Кончилась тюменская зима. Прозвенел капелями март. Превратились в парящие просторные лужи апреля бывшие зимние сугробы.
Опять центр города. Республика.
И знакомый голос – «здравствуйте!»
О-о, какая сумятица чувств, удивления, охватили тогда меня при негаданной встрече! Передо мной стоял «авиатор», только без прежнего богатого «прикида», а в потертой «зэковской» шапке, в такой же лагерной телогрейке серого цвета и порядком побитых кирзовых сапогах. Глазам не верю! Может, это сон снится?!
А не прислали начальники деньги своему работнику в тот январский день. Не прислали и на второй. Первую ночь человек скоротал на железнодорожном вокзале. На вторую – подвернулись «добрые люди», предложили ночлег в «божеских условиях»: в готовом к открытию, но еще не заселенном НИИ Гипротюменьнефтегаз.
Компания расположилась в отдельной комнате, возле батарей отопления, «накрыла поляну» с вермутом и портвейном, с ливерной колбасой и свежей буханкой хлеба. Выпили, побазарили, сморило. Наш «герой» – унты и шапку под голову, накрылся шубой, уснул. Утром «продрал глаза» – ни компании, ни шубы, ни шапки, ни унтов, ни рукавиц даже. Оставили человеку то, в чем он передо мной стоял на апрельском солнышке. Паспорт еще оставили. 11о последние рублишки из паспорта- прихватили тоже!
И что – в дальнейшем? По-современному это называется – за- бичевал. И продлилось сие бичевание до момента нашей новой встречи… Почему не пришел со своей бедой в писательскую организацию? Постеснялся. Никак не мог через себя переступить!
На этот раз я не отпустил от себя бедолагу Привел его в наш Союз писателей. Наскребли денег в литфондовской кассе, купили билет на Полярный круг. Улетел. Больше этого человека я не встречал никогда. Стихов его в печати тоже не видел.
Другая история. Нет, не печальная, скорее – светлая, но тоже связанная с семинаром. Одна поэтесса из деревни прислала тетрадку стихов и заметила при этом, что когда-то, в студенческие времена, её стихи обсуждали в Тюмени при моем участии. Посмотрел новые вирши, вижу человек «соображает» в поэтическом направлении. Началась переписка. Обмен посланиями продолжался больше года. И вот вижу: сложившаяся рукопись моей «подопечной» вытягивает уже на небольшую книжку! Собственными усилиями нашел спонсора. И с согласия автора отдал её стихи в недорогое издательство.
Переписываемся по-прежнему, ждем выхода книжки!
И как-то в ранний утренний час, когда я уже устроился за печатной машинкой, слышу из квартирного коридора разговоры… о каком-то молоке. Потом Мария громко так зовет меня и почему-то смеется:
– Коля, нам тут молоко принесли, целых две трехлитровых банки, не знаю, что и делать!
– Принесли, так покупай! – громко отвечаю.
– Так денег не хотят брать, говорят, что бесплатно! – и опять смех звонкий. – Вот жизнь наступила, новая власть, видимо, решила нас побаловать! Еще мешок картошки предлагают – также бесплатно… Но у нас же своя уродилась неплохая…
«Достукал» клавишами фразу. Выхожу в коридор.
– Здравствуйте, Николай Васильевич… Мы вот тут с мужем в город приехали по делам, подвернули к вам на минутку… Молочка привезли, у нас его много, корова только что отелилась…Телочку принесла. Вы уж не обессудьте, возьмите, а то… ваша супруга…
– Простите, да кто вы будете-то? – спрашиваю незнакомую, немножко растерянную женщину в синем платочке. – Я в книжках читал – были раньше молочницы… по домам носили…
– Вы меня не узнаете, – говорит,… да… я такая-то и такая… – Стихи вы мои издаете, первую книжку мою, вот!
Тут и я рассмеялся:
– Наконец-то познакомились… опять… Здравствуйте! А молоко, выходит, вроде гонорара… или за вредность производства?
– А что здесь плохого? Знаете, у нас корова отелилась…
Долго еще мы от души удивлялись с Марией, когда «молочница» распрощалась с нами, деловито и по-хозяйски унося с собой порожние молочные банки – к поджидавшему её возле подъезда нашей девятиэтажки старенькому «москвичу».
Потом и сборник вышел. Затем второй и третий. Поэтессу приняли в Союз писателей. Добрая и светлая у нее деревенская лирика. Успехов ей! В том числе и на родном подворье! Там уж давно, конечно, новорожденная та телочка выросла, коровкой стала, молочко дает.
А вот этого стихотворца из Ханты-Мансийска, капитана речного катера – с нашивками-галунами на кителе, при фуражке с золотой «капустой» на околыше, знали многие. Он, бывший морской офицер, бравший в 1945 году Курильские острова, кавалер орденов, в том числе и ордена Боевого Красного знамени, Василий Андреевич Харитонов-Деткин, писал не просто стихи. Сочинял бесконечную – во времени и пространстве – поэму про сибирского первопроходца Тлоркина, то есть «наследника» бойца Васи Теркина: фронтового русского героя, созданного Александром Твардовским. Взяв за основу стихотворный размер, полюбившуюся многим на Руси народную интонацию «Книги про бойца», наш пиит изображал своего Тлоркина в главах – «Тлоркин на Ямале», «Тлоркин в тайге», «Тлоркин на Самотлоре», ну и так далее. Автор всюду искал слушателей, находил и читал им свои пространные главы поэмы. Рассказывали очевидцы: вел, например, свой катер по Кон- де или протокам Оби, вдруг замечал на берегу людей у костра, причаливал и устраивал читку «своего Тлоркина».
И еще. Хороших поэтов прямо-таки боготворил. Однажды завернул к нему на борт земляк Андрей Тарханов. Поднимается по трапу. А на палубе выстроена вся катерная команда – четыре «штыка». И капитан посудины, выдраенной по этому случаю до блеска, командует: «Смирно! Равнение на выдающегося поэта Андрея Тарханова!»
Ну, подражал Харитонов-Деткин классику советской литературы, ну, попал под его очарование, да вот собственные строки его весьма сильно хромали в «художественно-поэтическом плане». Критику и дельные советы по совершенствованию строк автор воспринимал недоверчиво и очень настороженно. И продолжал атаковывать газетные редакции в провинции, толстые и тонкие журналы в Москве. Добирался со своей рукописью и до высокого литературного начальства в Правлениях СИ СССР и России. Как-то приметил я речного капитана в Центральном Доме литераторов, где он угощал шампанским ушлых московских сочинителей, конечно, не скупившихся – при дармовом угощении – на щедрые похвалы провинциалу…
И что вы думаете? Издал Тлоркин (так автора и самого называли в народе!) рукопись отдельной книжкой. На собственные, правда, деньги.
Ладно. Не будем теперь придираться ни к автору, ни к его многолетнему труду. Полагаю: труд этот заслужил право на жизнь. Со всеми его недостатками. Творил его человек редких качеств. Неутомимый. Дерзостный. Вдохновенный.
Фамилию своего литературного героя Василий Андреевич мыслил, как собирательную, отражающую дружбу народов страны СССР а затем и – России. ТЛОРКИН – это татарин, лезгин, осетин, русский, калмык, ингуш, нанаец. Да! Такая вот история с географией случилась на нашем тюменском поэтическом поле.
А вот земляка своего, окунёвца, Сергея Борисовича Борисова, мне самому искренне хотелось если уж не «вывести на широкую дорогу», то сделать его творчество известным в больших, нежели районных, масштабах. Сергей Борисов был первый «живой поэт», которого я знал с детских лет и видел в своем селе едва ль не каждый день. Фронтовик, орденоносец, а в Окунёво – слесарь совхозной МТМ, охотник, рыбак, как многие мужики в нашем селе. Но главное – художник, баснописец, лирик. А держался скромно. И печатался только в нашей «путевке» – районной газете «Путь социализма».
Однажды я уговорил земляка-односельчанина приехать в Тюмень на литературный семинар – показаться. Приехал. Обычный с виду человек. Чернявый. С пытливым взором умных глаз. Плащ пастуший оставил в нижнем гардеробе Дома Советов. Пиджак простенький. Кирзовые сапоги. Полевая офицерская сумка-через плечо. Посидел, послушал. Видимо, подивился мудреным разговорам нашим. Для себя, похоже, ничего не взял из нашего мудреного. И, не заходя в областные редакции, отбыл в свои лесостепные дали, в Бердюжское село Окунёво – село поэтов.
А ведь стихи писал отменные. Послушайте:
Той весной солнце скупо дарило лучи, Мы ночами тогда хоронили бойцов. Ту весну принесли не на крыльях грачи, Той весной мы не слышали песен скворцов. Были песни другие тогда у весны, Не лежала солдатская к песням душа. Пели бомбы да танки, да щепки сосны, Пели мины да пули в солдатских ушах. Пела смерть, по броне и по каскам стуча, Мы кричали «Ура!» перекошенным ртом. Ту весну мы без песен несли на плечах, А уж петь соловьями мы стали потом.КАМЕШЕК ХРУСТАЛЯ
«Привет, старики! Наверное, вы уже в сборе и с негодованием думаете, что я вот не приехал в Москву первым, как у нас заведено, не занял лучшую «каюту» в нашей общаге с видом на строящуюся телебашню. Придется подождать. Все лето я плавал на севере. Наш пассажирский теплоход сейчас изо всех сил крутит винты, чтобы поскорей добраться в порт приписки, в Березов. Не все зависит от моих желаний. Северит уже вовсю. И эти – мели, перекаты, пассажиры-аборигены, пропахшие дымами, тайгой и малосольной сосьвинской селедкой… Едет и молодой боевой народ – комсомольцы-добровольцы. Но и пьяни бичевской хватает! Перед отдачей причальных концов, вылавливаем их по закоулкам парохода, гоним пинками на берег… Гоняли тут одного. Спрятался в шлюпке, под брезент. Нашли. Он начал от нас бегать по палубам, прижали на баке. Деться некуда. А пароход уже отчалил довольно далеко… И тут герой наш сделал руки ласточкой, полетел за борт. Жутко, мог бы утонуть. Но ничего, доплыл до мелководья, вышел на песок, отряхнулся, как собака, и полез в гору…»
Завтра мы сдаем «основы музыкального искусства». Иван Гучков, лежа на кровати, жует сдобную «московскую» булку, запивая из бутылки ледяным кефиром:
«Кефир любит весь мир! – рифмует Иван. – Все сдадим, кроме Севастополя!»
Миша Мамонтов, прозаик из узбекского Алмалыка, злится на поэта-севастопольца, копаясь в объемистом томе музыкальной энциклопедии:
«Брось дурака валять, Иван. Назови лучше инструменты симфонического оркестра».
«Габой, литавры, тарелки…»
«Голова у тебя – тарелка. Дай учебник».
Иван сует руку под подушку, достает первую попавшуюся книжку, их у него там несколько – после похода в лавку писателей на Кузнецком мосту, где он успел уже побывать, приехав в Москву. Наблюдать за его «действом» всегда любопытно. Сейчас он вынимает томик с золотым тиснением на корочке: «Михаил Светлов. Большая серия библиотеки поэта». Открывает наугад, восклицает: «Хлеб… О-о, у меня тоже есть стихи про хлеб. Ага!» Читает: «Дилижанс трясется и скрипит, Самуил Изральевич спит…» «Что-о-о!?!» – мгновенное междометие. В следующее мгновение «Большая серия» летит в угол комнаты.
Провожаем этот «полет» согласным молчанием.
Моё письмо, оно опередило меня, приколото кнопкой на переплет рамы окна, за стеклами которой не очень чистый московский дворик с «мухомором» беседки, цветочной клумбой и огромным бетонным кубом, явно годным на постамент памятника кому-нибудь из литинститутских классиков!. Тучков, при первом же лицезрении на это бесхозное произведение неизвестного бетонного завода, затвердил его есенинской строфой: «Через каменное и стальное – вижу мощь я родной страны!»
Ничего не изменилось с прошлой весны. И мы, будто расстались вчера, а сегодня встретились. Припоздал лишь я с приездом на сессию, но успел к сдаче первого зачета.
Ивану не до «симфоний», читает теперь своё – новое «хрестоматийное», завершая его ударными строчками:
Здесь билась мать о каменный порог, Уж не порог ли это коммунизма?Не отрывая от подушки головы, спрашивает меня:
«А у тебя что новенького?»
Достаю из чемодана камешек правильной шестигранной формы. Он с Приполярного Урала, в видимой близости которого и провел я минувшее лето, работая матросом на Северной Сосьве.
«Это?!» – небрежно разглядывает Иван «вещицу». Он разочарован, поскольку ждал, что я примусь с дороги читать своё «хрестоматийное». Словно он забыл о письме, что, как флажок, как вымпел, пришпилено к раме, а в письме этом я почти все рассказал.
«…После весенней сессии я притопал в отдел кадров Тюменского судоремзавода и попросился на лето в матросы. Направили на север. А прежде, чем спороть с военно-морской форменки погончики старшины второй статьи и стать гражданским речником-кочколазом, показался эскулапам. Положено! Парнишка хирург заставил присесть пару раз и, убедившись, что руки-ноги целы, спросил: «В матросы? Образование?» – «Два года!» – «Два класса?» – «Два курса!» – «Где?» – «В Литературном!» – «А чему там учат?» – «Пушкина проходим!» – «А чего его проходить… Буря мглою небо кроет… И так все знают… Ладно, годен!»
Приехав на большом пароходе «Генерал Карбышев» в Березово, сразу явился на свой «Петр Шлеев». Старпом, не мешкая, назначил на вахту и я почти всю ночь, до утренней зари, носил с берега в ведерках уголь на свою посудину, пока не загрузил трюмный бункер. Для теплового котла, точней, для обогрева кают! Едва не вывихнул руки от этих ведер с угольком, но не сдался… Потом старпом сказал: «Теперь пойди отдохни!…»
А сейчас мы в Игриме. Я только что сменился с вахты, об усталости помолчу. С полвахты стоял на баке с намёткой, пока ползли едва не на брюхе через обмелевшие места фарватера. Намётка – это такой длинный шест с отметками в сантиметрах. Меряешь с носа глубину, кричишь штурману: «Восемьдесят!». То есть глубина на пути всего восемьдесят сантиметров. Потом опять кричишь: «…шестьдесят!» – «Малый ход!» – командует штурман. Потом еще и еще… И вот: «…сорок!» Пароход дергается, всем нутром ощущаешь, как он скребет своим днищем по речному дну… «Самый малый!» – отдает штурман команду в машину. Мало-помалу выползаем. И плывем дальше…
Да… А потом еще шесть часов подряд шел дождь, а эта грязища. И после каждой посадки пассажиров по два раза пришлось швабрить палубы, чистить раковины в гальюнах. Эти аборигены, как только – на борт, так бегут в гальюны и умывальники пластать рыбу-малосол: кишки, чешуя по стенам! И ничего не поделаешь, надо драить! Вспоминаю нашу комнату в литинститутской общаге, где мы никак не могли договориться об очередности в уборке.
Завтра, когда придем в Березов, всеобщий аврал. Потому что закат ясный, а если ясный, будет солнечный день. Погреемся на солнышке. И еще потратим с полпуда хозяйственного мыла, чтобы хорошенько – со шлюпок! – протереть намыленными щетками бока нашей белой, блистательной, пассажирской посудине.
Скоро отправление, штурман Геннадий Александрович даст отвальный гудок, матросы уберут трап. Покачивает. Это, пробуровив реку, прошел буксир с баржей и развел волну. Везут трубы. Баржа по самую палубу в воде. На Пунгу, на крупное газовое месторождение, идут. Не слыхали о Пунге? Надо газеты читать, старики! Я. таким образом, в центре довольно эпохальных событий. За бортом плещется чистейшая Северная Сосьва, а где-то совсем близко от берега – «поют» буровые. Добывают «голубое топливо», так называют газ газетчики.
Можно сойти еще на берег и потолкаться в толпе. Это не московская публика, здесь каждый человек на примете. И радость, и удивление, и печаль обнажены и неподдельны. Если бы вы хоть раз посмотрели, как встречают нашего «Петра Шлеева» в мансийских деревнях и поселках. Это событие! Вот бы сюда нашу братию с её заботами о вечном и нетленном! Как бы хотелось при этом взглянуть на ваши мудрые начитанные лики.
Здесь я иногда забываю, что нахожусь за тысячи километров от городского асфальта и подстриженных деревьев. Будто нет этого в жизни, в природе. Только – холодная сосьвинская вода, она ощутимей, когда достаю её ведерком из-за борта. Бросать его, ведерко на веревке, надо расчетливо, чтоб тебя не выдернуло за борт при полном ходе судна. Однажды – было… Да, ладно. Как видите, цел!
Я не первооткрыватель. Нет, старики, мне не повезло. Даже Славка и Олег – курсанты из Рыбинского речтехникума, плавают здесь вторую практику. А добродушный здоровяк Федя на следующий год придет на «Шлеев» уже не мотористом-практикантом, а механиком.
А капитан Анатолий Сергеевич! Он пятнадцать лет на Северной Сосьве! Каждый манси, встречая теплоход, говорит: «Траствуй, капитан Сергеич!» Каждый перекат, всякую вешку и бакен помнит капитан наизусть, как Ваня Тучков свои хрестоматийные стихи, потому ночью капитан всегда на мостике, возле рулевого.
Вчера ехал с нами поэт Юван Шесталов. Гостил у родителей в Ванзетуре. Зашел ко мне в каюту, похлопал по плечу – «Ты это правильно делаешь, набирайся впечатлений, поэту необходимо!» Изображал из себя шамана. Еще в роли! Он был на празднике «Медвежьей головы». Шаманил. И у меня в каюте рычал, прыгал, тряс головой. Забавно!
Я потянул поэта в наш носовой салон, он типа «ленинской комнаты», какие бывают в воинских частях иль при небольших фабриках, скликал свободный от вахты народ, давай, говорю Ювану, почитай стихи! Юван, как всегда, готов к подобным поэтическим действам! Читал новую поэму. На родине, говорит, сочинил…
Замечательно! Но поэты здесь явление редкое. Не Москва…
В каждом береговом селении на Северной Сосьве нас встречали собаки. Когда теплоход мягко причаливал к берегу, шурша килем о песок, они радостно и наперегонки бежали к судну.
«Лайки, – со знанием дела говорил Олег, открывая иллюминатор, – чистопородные».
Выходила из камбуза кокша и бросала собакам остатки пищи.
«Полкан, Полкан! – кричали матросы.
«Тузик, Тузик!» – звали рулевые.
«Дозор, Дозор!» – басил механик.
Собаки вострили уши и нюхали воздух.
Мы привыкли к ним и запомнили их клички. И когда капитану пришел приказ на какое-то время увести судно на Обь, все мы загрустили.
Северное лето стремительно шло к концу. Ночью в надстройку, где находились каюты второго класса, ударял холодный ветер. Бугрилась вода в Оби. Ушли под воду обмелевшие за лето песчаные косы. И наш небольшой теплоход качало на обских волнах не по-божески…
Однажды утром мы проснулись от тишины. Молчали дизеля.
«Сосьва!» – обрадовался Олег, выбегая на палубу.
«Полкан, Полкан!» – звали матросы.
«Тузик, Гузик!» – кричал из рубки рулевой.
«Дозор, Дозор…»
Па песок кинули остатки вчерашнего ужина. Дозор сидел у ног старика манси.
«Хорошая собака, – сказал механик. – Продай, старик».
«Лайка!» – заискрились глаза манси…
Застучал мотор бударки, потревожив светлую гладь реки. Чиста в Сосьве вода, каждый камешек виден на дне. Много в Сосьве рыбы: и сырка, и нельмы, и муксуна, знаменитой сосьвинской селедки, которую ловят здесь на спецзаказ и спецпосолом отправляют прямо в Москву, в Кремль.
Любят манси Сосьву.
…Часто плавал Дозор на рыбалку в бударке своего прежнего хозяина. Надвинулась однажды буря, подвернул рыбак к берегу, чтоб костер развести и погреться, бутылку вина выпил и, не переждав бурю, заторопился домой.
Холодна в Сосьве вода, неласкова волна. Вывалился пьяный хозяин за борт и утонул…
«Тяжелый случай», – вздохнул Олег, перебивая рассказ манси.
«Это мой брат был, – тихо сказал старик. И продолжил – вчера с рыбалки едем. Волна в борт бьет. Мотор совсем ослаб. В груди холодно. Бутылка достал, наливаю в кружка. Дозор рычит. Шерсть дыбом поднялась на загривке…»
«Интересно, – сказал Олег, чиркая спичкой, прикуривая. – И не выпил?»
«Ну зачем тебе такая собака?» – не унимался механик.
«Ух и зла была Сосьва!… Не, не продам!» – гордо отрезал старик.
В каждом поселке первыми нас встречали собаки. Шли дни, совсем отяжелела от холода вода в Сосьве, по вечерам гуртились на плесах утки, готовясь к отлету на юг. Навигация и наша работа гоже шли к концу. И вот однажды, в Березово, в пристанской толпе, мы увидели старого манси. Он держал в руках собачий ошейник с медной застежкой и плакал.
Два дня назад Дозор погиб в тайге в схватке с медведем.
«Хорошая собака была…» – чуть слышно прошептал сухими губами механик.
«Лайка, – грустно сказал Олег, затягиваясь папиросой, – чистопородная…»
А я, ребята, привезу вам сувенир. Геолог один подарил. У него нет традиционной бороды, а есть наган революционного образца. Носит наган на поясе в кобуре. Смахивает в своей кожанке на гэпэушника 20-х годов. «Вот, – сказал, – возьми! Это горный хрусталь из Саранпауля, приносит счастье».
ПАСХА ПОД СИНИМ НЕБОМ
В останкинскую дубовую рощу мы ходили по вечерам «слушать соловья». Идиома эта затвердилась на нашем курсе с легкой руки Вани Тучкова, с которым я прожил рядом в одной комнате все наши прекрасные месяцы сессий литинститутских лет. Как раз строилась Останкинская телебашня, и мы, приехав на экзамены и на зачеты в Москву, первым делом отмечали – насколько за наше отсутствие продвинулось строительство. Основание башни – этакая фантастическая лапища, упершаяся в землю наподобие инопланетного летательного аппарата, было скрыто коробками домов, только железобетонная «труба», опутанная тросами, шлангами, строительными механизмами, упорно тянулась и тянулась в небо.
Ваня дивился, глядя на «трубу» из окна нашей общаги, прицокивал языком, придумывал «трубе» грубоватые сравнения, наконец, измаявшись от ничегонеделания, учебники он обычно аккуратно укладывал под подушку – «во сне сами войдут в голову!» – тормошил меня, углубившегося в книгу: «Кончай, пойдем соловья слушать!» Я сопротивлялся: надо готовиться, завтра экзамен по зарубежке сдавать! Он парировал: «Все сдадим… Кроме Севастополя! Пойдем!»
Как пели соловьи в прохладные черемуховые майские вечера, какие трели-коленца выдавали в теплые ночи июня! Иногда, случалось это чаще по выходным, я уходил в дубовую рощу один, раскинув прихваченное одеяло, устраивался с книжкой под уютным кустом. Ходили мы еще в Ботанический сад, что рядом с ВДНХ, тоже оккупировав какую-нибудь реликтовую полянку из пахучих трав, погружались в свои конспекты. Иной раз, обнаружив сие безобразие, нас прогоняли сторожа сада. И мы опять шли в дубовую рощу, где никакой стражи…
Теперь, по прошествии лег, когда судьба разбросала нас, литинститутцев, по суверенным государствам, вот и Ваня Тучков за кордоном, а говорил – «Севастополя не сдадим!», горько сознавать, что в октябре 93-го по этой дубовой роще хлестали очередями ельцинские «бэтээры», сбитая пулями, сыпалась листва с дубов, между которыми метались в вакханалии демократического побоища люди, истекали кровью, умирая с остекленевшим ужасом в глазах, вопрошая в холод серого неба: за что?
Соловьи, соловьи…Но это будем потом, через годы, когда в стране победит серость, а она беспощадна и мстительна, кроваво отомстит за свое прошлое пресмыкательство перед властью, за бездарность, за нищету своего духа. И где ей будет понять красоту и беззащитность таланта, патриотизм подвижников, жертвенность – во имя гордого имени Отечества, Родины!
А тогда, во второй половине шестидесятых, мы радовались удачной строке, образу, эпитету, хлесткой пародии, эпиграмме на какого-нибудь «классика», по-хорошему завидуя успеху товарища, ценя самобытность. К нам в комнату заходили очники – Боря Примеров, Витя Смирнов – смоленский-деревенский, белорус Микола Федюкович, ребята с нашего заочного отделения – Саша Голубев, ставший потом редактором воронежского журнала «Подъем», Толя Демьянов из Ижевска, который писал не только отличные стихи, но и заваривал такой чай, после которого «можно было видеть звезды сквозь семь этажей общаги и то, как бегают в подвале крысы». О, разный талантливый народ бывал у нас! Но больше запомнились поэты. Стихи читали без продыху. И Миша Мамонтов, тоже штатный жилец нашей комнаты, прозаик и староста курса, махнув на все это увесистой рукой машиниста-паровозника, уходил пообщаться с рабочим классом на бульвар или к винному отделу гастронома, где привычно, по рублю, «сбрасывались на троих». Еще Миша признавался, дивясь нашей поэтической неукротимости, что после возвращения с сессии в свой узбекский Алмалык – не может не то что слушать стихи, но и смотреть на все, что написано «столбиком»!
Однажды Михаил вернулся в комнату расстроенный, какой-то взвинченный, таким его еще мы не видели. Ну, рассказывай, – говорим, – что у тебя? – Да вот, – говорит он, – Рубцова вашего знаменитого сейчас отчехвостил! – Мы с Ваней насторожились. Рубцов личность известная в институте, да только ли! Читающая публика в Союзе уже знала этого замечательного поэта…
– Был я в столовой, – рассказывал Михаил, – где пиво продают, взял, как всегда кружечку, подсел за столик, где Рубцов сидел. Там еще одна девушка обедала. Сидим. И тут Рубцов, с чего, не знаю, стал грубости девушке говорить. Она взяла свою тарелку, за другой столик пересела. Тут я и не выдержал, взорвался: как Вы можете, – насел на Рубцова, – Вас же люди читают… И вообще, ни за что, ни про что! Он, – говорит Мишка, – насупился, примолк, а вот сейчас увидел меня на улице, свернул в сторону, наверное, чтоб не встречаться…
Тут и мы на Мишу насели: ты, мол, не очень-то Николая задевай! Знаешь, какой это поэт! Да понимаю, – горячился Мишка, – но нельзя же так, тем более – ему…
Впервые услышал я о Николае Рубцове в том же Ботаническом саду, летом 1966 года. С одним студентом из Череповца «загорали» там за книжками. Он и говорит: знаешь поэта Рубцова? – Нет, – отвечаю, – не знаю. Он что очень хорошие стихи пишет?-Ты что, замечательные! – отвечает. – Вот, например:
Я весь в мазуте, весь в тавоте, Зато работаю в тралфлоте…«Кудряво» сказано. Но ничего гениального не вижу, говорю в ответ. «Гениально» – у нас высшей оценкой было!
Прошел еще год, который все переменил, взвихрил, вздыбил в поэтической атмосфере того времени. Немало блистало талантов, но выход в издательстве «Советский писатель» рубцовской «Звезды полей» стал особо ярким явлением. В России появился пронзительный лирик! И ко всему прочему – наш товарищ по институту, студент старших курсов. Я сумел приобрести в Москве несколько сборников Рубцова, привез в свою тюменскую провинцию, подарил знакомым. И нарвался едва ль на негативную оценку. Виталий Клепиков, наш авторитет, прочтя сборник, пожал плечами: «Знаешь, старик, я тут больше десятка готовых стихов не нашел, остальное надо ох как дорабатывать!…»
Н-да! Поэзия Рубцова уже жила во мне и не просто жила, а была созвучна моему дыханию, сути, пониманию прекрасного. Да и по судьбе мы были близки: деревенские, он тоже «долго служил на флоте…» И как божественно писал о привязанности к родной земле:
С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть. Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь.А такое: «Не было собак – и вдруг залаяли. Поздно ночью – что за чудеса! – Кто-то едет в поле за сараями. Раздаются чьи-то голоса…» Строки не просто обжигали пронзительностью своей, я зримо видел эту ох как знакомую картину детства в моем селе, в нашей метельной круговерти. Все так: и лай откуда-то взявшихся собак, я даже представил – поджарых, верных, оберегающих хозяйское жилье, и предполагаемые упряжки лошадей, хотя их нет в стихотворении, и хозяина, отпирающего ворота, их морозный скрип и многое – многое, знакомое сердцу…
А вот другое:
Пасха под синим небом, С колоколами и сладким хлебом, С гульбой посреди двора, Промчалась твоя пора!Пасха у нас в селе, после Октябрьской, была вторым главным праздником. Накануне его шел Великий пост. И мои родители, не очень ревностно соблюдавшие эти и прочие православные «каноны», прибирались в доме и по двору основательно. Отец подправлял забор, ворота, мать устраивала большую побелку в доме, моя обязанность была – протирать керосиновой тряпочкой (от клопов) иконы, рамки портретов, фотокарточек. Стирали занавески, надраивали полы. А в самый канун Пасхи пекли шанежки, булочки, красили луковой шелухой яйца. Мать доставала из сундука самую нарядную скатерть, накрывала на стол, ставила яства.
День Пасхи всегда выдавался теплым. Парили оттаявшие, освободившиеся от снега полянки, взгорки, а на самых высоких местах села – мужики возводили из крепких жердей качели. Люди принаряжались во все самое лучшее, прибереженное для светлого праздника Воскресения Христа.
Пасха под синим небом…
Власть большого таланта заставляет ответную, неиспорченную душу сопереживать поэту, очищаться, как на исповеди, как в минуты любви и светлых потрясений…
В редкие вечера возле дверей комнаты Рубцова, обычно он поселялся в глубине коридора, не толпились его поклонники, уже на «взводе». Уже «под парами». Я сторонился этой компании, были там люди и не очень мне симпатичные. Любовь к стихам Рубцова делала меня стеснительным в общении с ним, потому и редкими были эти общения.
Однажды Рубцов, дело было осенью, подсел ко мне на лавочку в скверике возле нашего общежития. Кажется, не узнал. Иль занят был своим. Молча курил. Я читал, к какому-то экзамену готовился. И вдруг неожиданное: «Да бросьте вы читать. Вот далось..» Я отвечаю: «Надо, знаете, я ж из деревни приехал, а тут у многих уже по одному высшему образованию. Им можно и не читать!» «Из деревни?» – напускной гонорок так и сошел с Николая. Глянул как-то теплей, придвинулся. С полчаса проговорили мы о том, о сем, пока какие-то девчушки, играющие невдалеке, не увлекли Рубцова. Он вступил с ними в шутливый разговор, разулыбался. Я тихо поднялся, пошел в общежитие. На крылечке оглянулся, подумалось тогда: все же он отчаянно одинок!
Как-то июньской порой идет навстречу тротуаром. Ко мне приехала тогда жена Мария из Сибири, мы пошли куда-нибудь развлечься, отдохнуть. Остановились, поздоровались. Рубцов в своем неизменном коричневом костюме, при галстуке. «Вот это Николай Рубцов!» – говорю Марии, смотрю на него. Он светлеет лицом и как-то часто так моргает, говорит приятные слова моей жене… Постояли, разошлись. Опять. А я почувствовал: могли бы сойтись ближе. Но времени уже не оставалось…
Последняя наша встреча была в те дни, когда курс Рубцова выпустился. Прошумел у них прощальный вечер в кафе «Синяя птица». Сдали экзамены за четвертый курс и мы. Все разъезжались. В общежитии, гулком от внезапной пустоты, подзадержались четверо: Рубцов, Ваня Тучков, Алекса Абдуллаев и я. Сбегал я в свою комнату за фотоаппаратом, вышли мы на солнце, на крыльцо, щелкнул я своей «Юностью» несколько кадриков. Вот и память осталась. Последняя…
Не знаю, смог ли бы нынче, в этой вакханалии демократии, где торжествует нерусское, неправославное, писать свои прекрасные русские стихи Николай Рубцов. Смог ли бы он вообще выжить? Известно, как материально бедовал он и тогда, в благополучные годы! Не знаю. Не выжил бы, наверное… Нет вот уже многих и многих наших, тех, далеких. Некоторые ушли в небеса и добровольно, не смирившись с мерзостями времени. Другие уходят…
И вот как бывает: в город Тюмень я вернулся в конце 60-х, благодаря стихам Рубцова. Работал я после Ишима в районном поселке Голышманово, как ответственный секретарь, формировал газету. Часто печатал стихи. Рубцова печатал. Как-то вечером прохожу мимо типографии, не слышу привычного ритма работы печатной машины. В чем дело? Оказалось, редактор Ковяткина уехала в командировку, а заместитель редактора, остановив выпуск номера, снял с полосы заверстанную мной подборку стихов Рубцова -«нельзя пропагандировать упадочного автора!»
Вынести этот идиотизм было не в моих силах. Вернувшемуся редактору я решительно положил на стол заявление об увольнении. Уговоры – передумать! – не помогли. Уехал.
Я уеду из этой деревни… Будет льдом покрываться река, Будут ночью поскрипывать двери, Будет грязь на дворе глубока…И осень была грустной. И мысли, и чувства. И был это свет поэзии, свет неподдельной грусти, Воскресения, Любви, Надежды, тот свет, о котором нам пел когда-то соловей в дубовой останкинской роще.
Написал эти воспоминания я в 1996 году. Опубликовал в своей небольшой документальной прозаической книжке «Страницы разных широт». Книжку эту, в том числе со строчками о Рубцове, несколько фотографий наших, сделанных на крылечке литинститутского общежития в Останкино летом 1969-го, по просьбе музея Рубцова в Вологде, послал на родину поэта.
Последующая «история» получила через много лет неожиданное продолжение в Тюмени, поскольку в ней и начиналась.
…Осенью 69-го, «набрасывая» в нашем Союзе списки писателей и поэтов, которых мы хотели пригласить на планируемые летом 1970-го года первые Всесоюзные Дни советской литературы в Тюменской области, я попросил ответственного секретаря организации Константина Лагунова внести в этот список и Николая Рубцова.
Лагунов послал в Вологду приглашение поэту – и на планируемые Дни литературы, и, конкретно, на декабрьскую (1969 года) Неделю поэзии. Рубцов быстро откликнулся:
«Дорогой Константин Лагунов! Я получил Ваше письмо с приглашением на Неделю Тюменской поэзии. Благодарен Вам за это приглашение и отвечаю на него полным согласием. В таком случае держите меня, пожалуйста, в курсе дела, сообщайте, пожалуйста, конкретные шаги в этом направлении. Сердечный привет тюменским писателям и поэтам!
Николай Рубцов. Мой адрес: г. Вологда, Писательская организация. 12. XI -69 г.»Аккуратная наша секретарь-бухгалтер Зинаида Алексеевна Белова, как все входящие письма и документы, прибрала к месту (прибирала она в «компроматную папочку» даже письма чем-то возмущенных порой писательских жен!), «подшила» и письмо из Вологды.
По каким причинам приезд Рубцова в Тюмень в декабре 69-го и июле 70-го не произошел, не знаю. Приехав, возможно, встретился бы и со своим родным братом Альбертом, которого Николай много лет безуспешно искал, а тот тихо проживал в одной из деревень Уватского района. Не приехал в Тюмень наш Коля Рубцов. А вскоре (19 января 1971 года) погиб славный поэт…
Истинные почитатели таланта Николая Рубцова знали его стихи и при жизни, хотя издал небольшими тиражами он всего четыре тоненьких сборника. После трагической гибели его имя стало широко известным в России. Переиздали хорошими тиражами книги его стихов, вышли воспоминания друзей и почитателей, на родной Вологодчине поставили памятники прекрасному лирику. Николай Михайлович Рубцов стал в один ряд с выдающимися поэтическими именами Русской земли…
Связал свою подвижническую работу с именем Николая Рубцова наш северянин Сергей Лагерев, создав в Сургуте «Рубцовский центр». Впервые побывал я у Сергея, когда отмечалось шестидесятилетие Рубцова. Тогда и узнал Лагерев от меня, что мы приглашали поэта в те далекие времена в Тюмень, что «где-то, может быть, сохранился его ответ на наше приглашение». Хотя… как уверял меня однажды журналист и стихотворец Александр Гришин, работавший какое-то время консультантом в нашем Союзе писателей, мол, «письма Рубцова в старых бумагах писательской организации он не нашел…»
Рубцовский ответ в Тюмень «всплыл» вдруг через много лет – в газете «Тюменские известия» (15.05. 2004), где А. Гришин до своей ранней кончины (при главном редакторе «известий» Юрии Бакулине) заведовал, им же созданной, «апрелевского» толка, литературной страницей, резко позиционируясь с русскими патриотами. И вот известинская страница, эта коптильница демократии под названием «проталина», оповестила читающую публику, что письмо Рубцова хранится у них, а было оно якобы «обнаружено Гришиным в мусорной корзине Тюменской писательской организации». (Коптильница тиснула и копию письма Рубцова – ответ на наше давнее приглашение).
Ну, конечно! А куда же еще должны были бросить письмо поэта – «черносотенцы и шовинисты»?! В корзину! В мусор! А затем два десятилетия после убийства Рубцова, сумел этот «мусор» пролежать в корзине, ожидая «поисковика» – Гришина!
Про самого «поисковика» тут явно напрашиваются некоторые разъяснения. С моей «субъективной» колокольни. Как помню, как знаю.
Впервые возник Александр Гришин в Тюмени в начале семидесятых. Отрабатывал производственную студенческую практику в газете «Тюменская правда», где в ту пору и я служил. Заходит как- то к нам в отдел невысокий кудрявый юноша и просит меня – «Вот стихи пишу, можете посмотреть?» – «Давайте посмотрим!» – отвечаю. Юноша подает мне с десяток листков бумаги самых разнообразных расцветок. Смутился я даже: подумалось, что это какие-то конфетные или вафельные обертки! Но на каждом листке – машинописный текст столбиком. «Почему на разноцветной бумаге?» спросил я паренька. – «Ну как же… это ж стихи!».
Стихи студента четвертого курса престижного Ленинградского университета были грамотны, отточены по форме, но как-то не судьбоносны и «общи» тематически, не цеплялись за душу. Выделялось стихотворение о матери. Я сказал об этом Александру: «Вот о матери …очень неплохо…». На том и расстались. Он вышел. Кивнул сдержанно, но наглядно держа в себе внутреннее достоинство, может быть, еще какие-то мысли обо мне, не знаю…
Вскоре Саша, закончив вуз, приехал в нашу газету уже штатным сотрудником. Стал печататься и как стихотворец, в том числе и в моей «Тюмени литературной». И после создания в писательской организации должности литературного консультанта, при ответственном секретаре Шермане, оказался в штате Союза. Вскоре издал в Свердловске сборник вполне советских стихов, написал заявление о приеме в СП, и мы на своем собрании проголосовали за его прием. А московская приемная коллегия отвергла наше решение. Хреновато. Но мы были, как говорится, не виноваты!
Через несколько лет Гришин дождался выхода второго сборника стихов – уже в Москве, но приемная коллегия СП опять не утвердила «членство» Гришина по видимым ей, коллегии, мотивам, несмотря на нашу повторную просьбу – «вернуться к рассмотрению!»
Продолжать в Союзе сидение на писательской должности «неочлененному» становилось неловким делом. Да тут еще «подлил масла в огонь» поэт Николай Шамсутдинов, бросив Гришину неосторожную и обидную реплику о его «неуместном сидении в начальниках!»
А вскоре приспела перестройка. И обиженному было куда уходить. К демократам. А у них к той поре в руках были уже почти все средства массовой дезинформации, как в провинциях, так и в столицах.
Внимая настойчивым просьбам Сережи Лагерева – получить (за определенную денежную компенсацию!) для «Рубцовского центра» «хотя бы копию письма поэта», я, скрепя сердце, обратился в недружественную мне известинскую страницу со своим письмом, но получил печатный широковещательный и издевательский ответ под заголовком – «Письмо не по адресу». На то и следовало бы заранее рассчитывать. Да не везде соломки подстелешь!
Русского поэта продолжали убивать. В начале это сделала здоровенная баба в Вологде, задушив его своими руками. В Тюмени через много лет топтала другая баба – из наследственной гришинской «проталины», топтала, хлюпая сапогами, разбухшими от вытаявших перестроечных нечистот.
В высокомерном «ответе» баба эта похвалялась, что «они», мол, истинные оценщики творчества писателей, хранят еще письма Окуджавы, Астафьева, Стругацкого, других величин. Мол, берегут, в отличие от нас, недалеких, мысля себя, конечно, «лучом света в темном царстве» новой российской действительности.
Что сказать про Окуджаву? Тихие его песенки слушал и раньше со сцены в ЦДЛ (живьём) и в кассетах: ну вот и такое есть на свете! Не подозревал, что уже и тогда в мозговых извилинах барда гнездились и вызревали бесы будущей российской демократии. И как-то в столице моряков мира, в бананово-лимонном Сингапуре, под ироничные реплики (да что вы в нем нашли?!) восемнадцатилетних парней – практикантов из Владивостокской мореходки, в развале уцененных товаров, на жаргоне моряков дальнего плавания – в «пыльном ящике», купил я кассету с песенками барда. Для коллекции, так сказать…
А как было относиться к Окуджаве в кровавом 93-м, когда он подписал «расстрельное письмо» демократов, требующее от Ельцина – «раздавить гадину», то есть русских писателей, что выступили против режима алкоголика и его приспешников?!
В порядке сохранения чести фронтовика, Окуджаве следовало бы воспользоваться одним лишь известным действом. Не сделал этого. А демократы после его естественной смерти «сгундарили» на Арбате скульптурку, как некому герою. Худы дела у демократов, коль не нашлось у них стоящей фигуры для увековечивания. В этом плане величественней может стать только монумент демократской «фотомодели» Новодворской…
От Астафьева я и сам храню письмо, в котором он хорошо отозвался о моей первой прозе и рекомендовал её для издания в Москве. Но это письмо написано в пору, когда Виктор Петрович Астафьев был еще автором пронзительных «Последнего поклона», пасторали «Пастух и пастушка», рассказа «Ода русскому огороду», и не поздней своей книги «Прокляты и убиты» – с её матерками в адрес бойцов Великой Отечественной войны, где сам был телефонистом.
Окуджава… Стругацкий… Астафьев, другие…
Храните, господа-товарищи, их письма и, коль гордиться больше нечем, этим гордитесь! Письма писаны вам, непосредственно.
А рубцовское письмо, вокруг которого «проталинцы» устроили «чичиковский – с пряником – торг», фактически было выкрадено!
Но жизнь такова, что все в ней – даже в позорные времена скрытое, подтасованное, рано или поздно выходит наружу.
СОЕДИНИТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ МАДАГАСКАРА!
В самый ожесточенный огонь кровопролитных сражений в Сталинграде – осенью сорок второго – прибыла эшелоном бригада моряков Тихоокеанского флота. Пять тысяч матросов, старшин и офицеров, сошедших с боевых кораблей, чтоб стать морской пехотой.
Прибыли, и тут же, в разрывах снарядов и бомб, переправились на правый берег, где в руинах города, истекая кровью, сражались советские бойцы, удерживая узкую береговую полоску волжской земли.
Моряки сразу ринулись в пекло боев.
Тельняшки, черные бушлаты, зажатые в зубах ленточки бескозырок – они по нескольку раз за день поднимались в атаки, неся врагу «черную смерть», как называли русских моряков немцы. Но немцы выкашивали – раз за разом – из пулеметов отчаянно наступавших русских флотских братишек. А кому из них удавалось достичь вражеских окопов, вламывались в них, кромсали ножами, рвали зубами, били прикладами карабинов – ненавистных фашистов. Но и у флотских потери были страшные. Через несколько дней из пяти тысяч моряков в строю держалось всего несколько сот бойцов.
Командир моряков погиб. И в одну из последних контратак оставшихся повел в бой комиссар бригады!
«…Осколком мины, будто бритвой, срезало комиссару правую руку. Схватив этот обрубок левой рукой, комиссар пробежал еще несколько метров и упал замертво… Мы в этом бою одержали победу!
Я написал о подвиге нашего комиссара во фронтовую газету. И с той поры считаю себя писателем!» – так начинал свое выступление перед тюменской публикой мой старший товарищ Петр Федорович Гуцал, с которым мы дружили около двадцати лет.
Еще до войны крестьянский паренек из полтавского села Петя Гуцал страстно хотел стать военным моряком. Прибавив себе три года, он пришел в военкомат и стал настойчиво просить, чтоб его направили служить на боевой корабль и именно – на Тихий океан. Всё получилось!
А потом Сталинградская битва, где его тяжело ранило. Госпиталь. Снова фронт. И так до полной победы. При орденах и медалях вернулся Петр Гуцал к мирной жизни. Окончил филологический факультет Московского университета. Затем – Академия общественных наук при ЦК КПСС. Партийная и литературная работа.
«После академии сразу стал о-очень крупным человеком! – с шутками-прибаутками повествовал мне о своей жизни Петр Федорович, когда мы не просто плотно познакомились, а и основательно подружились. – Меня, тогда обстрелянного парня двадцати с чем- то лет, направили начальником политотдела Дунайского морского пароходства. Высокая должность. Ответственность колоссальная! Еще при Сталине это было… Знаешь, справлялся…Да и вид был у меня грозен: фуражка с адмиральской капустой на козырьке и околыше, погоны должностные с широкими золотыми нашивками… Ну что еще в добавок? Отдельный охраняемый коттедж для семьи, персональная машина, персональный катер. Повар персональный. Ординарец и порученец. И – автоматически – воинское звание: капитан первого ранга!..»
Первая наша встреча. Март 1976 года. Центральный дом литераторов. Пленум Всесоюзного Бюро пропаганды художественной литературы. Под вечер заглянул я в отдел творческих кадров Правления СП, в наше литературное министерство, где меня несколько месяцев ждало готовое к вручению удостоверение члена Союза писателей СССР. Получил. Настроение – со многими восклицательными. И тут меня «ловит» Тамара Петровна Толчанова, заместитель директора Всесоюзного Бюро пропаганды: «Николай Васильевич, ты просил найти интересного писателя, чтоб пригласить его в Тюмень! Есть такой человек. Моряк. Весь мир обошел! Сейчас познакомлю вас!» И через пару минут подходит вместе с человеком среднего роста, как в селе у нас говорили, «в годах», повидавшим жизнь, но очень элегантным, подтянутым, с внимательным – серых глаз – взглядом.
Представляюсь, называю своё имя, должность тюменскую-директор Бюро пропаганды – и добавляю:
– Старшина второй статьи!
Протягивает руку:
– Петр Гуцал… капитан первого ранга!
– У меня есть одна из ваших книг – «Под чужим небом», говорю я.
Тогда мы договорились, что писатель Гуцал через две-три недели приедет в Тюмень, а уж мы к тому времени все подготовим – путевки, командировочные, выберем интересный маршрут поездки. Словом, вернувшись домой, стал ждать я телеграмму из Москвы. Пришла. И Гуцал сообщал: «По решению ЦК КПСС на советском пароходе отправляюсь в Соединенные Штаты Америки. Встретимся после рейса».
Рейс этот затянулся на долгие тринадцать месяцев. Не только из США, из многих точек нашей планеты, из океанов и морей, присылал Гуцал радиограммы с борта парохода. Одну из последних помню наизусть до сих пор: «Следуем из Австралии в Корею. До скорой встречи в Тюмени».
И вот мы, я пригласил пару приятелей из бывших флотских, встречаем Гуцала теплым июньским днем в тюменском аэропорту «Рогцино». Надраенный, как на флоте говорят, весь импортный, с увесистым чемоданом, торговые советские моряки за вместительность именовали их в ту пору «мечтой оккупанта», он ищет глазами встречающих. И, вроде, не находит, чуть растерян… А мы – ему навстречу: «Полный вперед, Петр Федорович!» Забираем у него чемодан и самого едва не на руках выносим на привокзальную площадь к поджидавшему нас такси.
Позднее Гуцал при мне, живом свидетеле, с улыбкой рассказывал московским писателям об этой встрече: «…Немножко растерялся. Не вижу…не узнаю Денисова. Подумал: ну теперь надо обратно лететь! И тут подбегают с криками какие-то «бандюги», хватают мой чемодан и самого меня тащат к машине… Расслабился, когда машина полетела в город, и «бандюги» оказались своими флотскими ребятами…»
По дороге в наш микрорайон гость развеселил еще хмуроватого и сосредоточенного водителя. «Ну как там заграница, командир?» – поинтересовался он. – «Да вот приобрел новый клифт, шкары, бочага (пиджак, брюки, часы – Н.Д.). Всего полно! Но моряльно, братан, тяжело – буржуи кругом!» – ответил Гуцал на манер «одессита Жоры».
В моей маленькой, на верхнем пятом этаже, 26-метровой «хрущевке», Гуцал быстро освоился и принялся готовить в духовке курицу с яблоками (утку, как мы договаривались по телефону, я нигде в Тюмени не достал, обегав все магазины и рынки). «По аля-гуцальски!» – подчеркивал Петр Федорович способ приготовления сего блюда, упорно называя этого долгоного бройлерного петуха – уткой…
Засиделись допоздна. А утром нам предстояло ехать в древний Тобольск, о чем я известил, как всегда обычно посту пал, тамошние партийные власти телеграммой, чтоб заказали нам гостиницу и «оказали содействие в работе». Но до утра было еще далеко, и Петр Федорович, рассказывая об акулах, дельфинах, летающих тропических рыбках моей четырехлетней дочери Наташе, так очаровал её, что она никак не хотела укладываться в свою кроватку, заявив: «Я буду спать с дядей Гуцалом!» Много лет мы об этом вспоминали…
Да и Наташа не скоро забыла рассказы Петра Федоровича. Пойдя в первый класс, научившись складывать слова, вела с ним самостоятельную переписку, сообщая об успехах в школе и другие попутные новости: «Здравствуй, дядя Гуцал!. Пишет Вам Наталья Николаевна Денисова… А вчера мы дружно и весело ездили на дачу… Сажали картошку и собирали малину… А потом на папу напали какие-то большие мухи и он отбивался от них лопатой…»
Переделкинские мастера прозы, которым читал эти строки Гуцал, от души смеялись, оценив непосредственность Наташи, её слог, и то, как ребенок художественно и вольно сместил времена весны и осени…
Но вот мы в Тобольске. Гостиница «Сибирь». Подхожу к дежурному администратору и выясняю, что «местов нет» и для нас никто не заказывал. Что делать? Сую под нос тете-администратору свою «ксиву», говорю, мол, мы такие и сякие, что за беспорядок! Далее добавляю: «Со мной австралийский писатель. Вы что хотите международного скандалу?!»
К администратору, в её каморку, заходит дородная сибирячка. Разговор полушепотом. Улавливаю только одну фразу: «Может, к себе поселите?» Ага… Дородная сибирячка, окинув нас оценивающим взором, подходит к нам и говорит: «Идемте со мной!»
Минут пятнадцать пешего хода и мы в подъезде кирпичной пятиэтажки. Тетя открывает ключом дверь, и мы оказываемся в обширных апартаментах. Гостиница. Но без всяких там табличек-вывесок, без заполнения бумаг. «Здесь будете жить. Комнаты, кровати сами выберете. Вот вам вторые ключи!»
Гуцал успел тем временем растворить свой чемоданище, вынул из него яркий сингапурский сувенир – сумочку, осыпанную бисером, вручил в благодарность нашей, будто свалившейся с небес, хозяйке!
Тетенька ушла, и мы, изумленно переглянувшись, начали изучать апартаменты. Без особого блеска, но уютно и со вкусом. Четыре спальных комнаты. Одну, двухместную, заняли тут же. Две ванны, два туалета. Гуцал подчеркнул: «У каждого персональный гальюн!» Далее – кухня с холодильником, правда, пустым. Зал для отдыха с огромным телевизором, креслами, пальмами в кадушках, картины, два телефона – один с клавишами, другой скромный, без диска набора. Затем обнаружили банкетный зал с посудой и соответствующей мебелью. Пока я любовался хрустальными фужерами в шкафу, Гуцал совершил новое открытие. За очень скромной дверью обнаружил кладовку с двумя ящиками водки: «И это для нас? И тоже бесплатно?» – «Наверно!» – не очень уверенно пожал я плечами.
Вечером в банкетном зале мы устроили прием. Я обзвонил знакомых тобольских стихотворцев, пришли несколько, посидели, «побазарили» о разном, в заветной кладовке горячительного поубавили… И наша хозяйка на утро предъявила нам квитанцию о немедленной уплате за потребленное, да еще по ресторанной цене.
«Нет, дорогой Коля, при необходимости будем держать курс на соседний гастроном!» – подвел итог нашей благотворительности Гуцал.
Но сие тем не окончилось. Хозяйка обнаружила, что «кто-то садился на застеленную кровать второго секретаря обкома КПСС» и выписала квитанцию на четыре рубля с полтиной. Поскольку это была моя вина, уплатил персонально. «Не садись на кровати вторых секретарей, знай свой шесток!» – прокомментировал Гуцал.
Работали в Тобольске мы аж восемнадцать дней. Дела поначалу шли туговато, горком нам не помогал, действовали самостоятельно, ориентируясь на ранее заключенные с организациями и предприятиями договора. Встречали порой с начальной настороженностью, провожали с улыбками, благодарностями. Мы хорошо дополняли выступления друг друга. Гуцал блистал экзотическими заграничными встречами и историями, я читал лирику Особо очаровали женский коллектив швейной фабрики, где приступили к пошиву новых рубашек с символикой, посвященной недавнему совместному полету советско-американских космический кораблей «Союз» и «Аполлон». На другой день в наши апартаменты пришла красивая и модная девушка, вручила нам сувенирные конверты с рубашками, добавив с улыбкой, что мы первые в стране «обладатели новой продукции фабрики!»
На выступления за нами приезжали на разном транспорте бортовом и, видавшем виды, легковом. Но когда к подъезду нашей номенклатурной гостиницы подкатила машина с огромной ассенизаторской бочкой и закрепленной на бочке гофрированной трубой для отсасывания нечистот – другой колесной техники в строительной конторе, где ждали наше выступление, в нужный момент не погодилось, Гуцал наставительно сказал: «Надо встретиться с аппаратом горкома партии!»
Я принял эти слова к исполнению и через два дня нас ждало партийное руководство города. Гуцал пришел на эту ответственную встречу при полном морском параде – в адмиральской фуражке, при золоте галунов, нашивок, при колодочках орденов и медалей. После визита в кабинет Первого, перешли в актовый зал, полный руководящего народа. И Гуцал выдал «речь». Это были не просто живописные тропические истории, которые нравились «простым» слушателям, это был разговор хорошо подготовленного политкомиссара, ориентирующегося как во внутренней, так и международной политике. Конечно, Гуцал попутно блистал континентами и странами, где бывал, встречами с вождями африканских племен, с королями и шейхами, с европейскими генсеками и премьерами, а когда дело дошло до встречи с одним из президентов США, я по блеску глаз присутствующих горкомовцев понял, что график наших выступлений будет скорректирован и дополнен руководством. И в нашем распоряжении останутся не только бесплатные апартаменты, но и «Волга» Первого станет дежурить у подъезда!
Почти так и вышло.
Завершающие дни командировки мы несколько дней подряд были задействованы у рыбаков. Пригородный поселок Сузгун. Рыбозавод на берегу Иртыша… Да, братцы, это был мой рыбозавод! Здесь, после окончания средней школы, опоздав с поступлением в Тобольскую мореходку, я семнадцатилетним разгружал транспортные суда, ступая по шаткому трапу с семидесятикилограммовыми ящиками рыбы на спине. Далее – забрасывал стрежевые невода на рыбозаводских иртышских песках, а в зимние месяцы был в бригаде подледного озерного лова…
Хотелось кого-нибудь встретить – хотя б героев моей повести «Нефедовка», которая дозревала еще в рукописи. Никого не встретил! Только старую ворону, сумрачно торчащую на дощатом рыбозаводском заборе, а может быть, уже её воронью дочку?! Ведь сколько всего на свете прокатилось с той поры начала шестидесятых!
Руководство рыбозавода готовилось к предстоящему празднику – Дню рыбака, нам выделили крупное судно с белой рубкой надстройки, с двумя палубными грузовыми стрелами и послали на встречи в бригады и звенья, разбросанные по местам лова на песках Иртыша.
Гуцал с удовлетворением подчеркнул: «Вот видишь, Коля, нам целый серьёзный пароход дали!»
Сопровождал нас молодой, энергичный профсоюзный лидер завода. Он распорядился, видимо, по указанию директора, пускать впереди «парохода» скоростную моторную лодку, управляемую лучшим рыбаком-орденоносцем, чтоб к нашему приходу была готова свежая уха, и стерлядь – под закуску – с готовностью била хвостом по разделочной доске!
Лидеру почему-то не хватало терпения и сил дождаться сего торжественного момента, поэтому, едва наш «пароход» отходил от заводской пристани, как он тянул нас настойчиво в кают-компанию, где рыбные яства были уже в готовности. И лидер приговаривал: «Знаете, без водки рыбу у нас едят только собаки. И то не все! Так что предлагаю по сто граммов за успех нашего общего дела!» Я пытался сопротивляться, мол, у нас – встречи… И вообще мы должны трезво отработать свои путевки, как положено!» Лидер широко улыбался и говорил: «Какой вопрос! Отметим вам столько путевок, сколько надо… Вы уважаемые люди, уважьте и нас…»
Усталые, немножко одичавшие на природе, мы, наконец, вернулись (с мешком копченых презентных сырков) в свои апартаменты. Гуцал прилип к телефону с клавишами, обзвонив всех друзей и знакомых в Москве, соединяли мгновенно и, как потом выяснилось, бесплатно.
Меня же занимал скромный и загадочный черный телефон. Поднял трубку «для пробы», она тут же отозвалась: «С кем соединить?» Я изумленно, как ожегшись, положил трубку на место, перевел дух.
И – «Петр Федорович, вы рассказывали, что, учась в Академии ЦК, жили в одной комнате с нынешним президентом Мадагаскара, учили его попутно русскому языку. Он вас как-то с почетным караулом встречал на своем острове. Давайте ему позвоним! Вот этот телефон, кажется, та самая «вертушка» кремлевская, отзывается мгновенно».
Гуцал кивнул из соседнего кресла: «Проси Мадагаскар!».
Наш возросший «рейтинг», забота и внимание начальства вселили уверенность в собственной значимости, сгладили попутные комплексы, а точней – добавили простого нахальства. Поднимаю вновь трубку и говорю: «Девушка, соедините с государством Мадагаскар. Мне резиденцию президента!» – «Сейчас проверю, положите пока трубку, я позвоню вам».
Потрясающе! Ладно, говорю Гуцалу, разговаривать будете сами. Фамилию-то черного президента не забыли? Да нет, отвечает спокойно, помню. Я, говорит, действительно два года учил его русскому языку. А когда он устроил мне на Мадагаскаре встречу с оркестром и с почетным караулом, я, конечно, принял её, но шепнул ему на ухо: «Ты что делаешь, меня же из партии исключат!» Ничего, пронесло…
Ждать пришлось недолго.
Резко и как-то оглушающее звякнул черный телефон, я с замиранием сердца прислушался, но в трубке совсем бесстрастно и спокойно прозвучал голос «девушки»: «Извините, с Мадагаскаром сейчас связи нет!»
Это была наша первая совместная поездка с Гуцалом. Сколько их было потом на Тюменщине и в других весях! Порой приедем в какой-нибудь замотанный работой коллектив, люди хмурые, не до нас. Гуцал спокоен: «Начнем выступать, заставим нас полюбить!» И в самом деле: после встречи светлели люди, столько вопросов задавали! Расшевелили, затронули души.
Последняя наша встреча – на людях! – была в Центральном Доме литераторов, в Москве, в кают-компании писателей-маринистов. Председательствовали Гуцал и контр-адмирал Тимур Аркадьевич Гайдар (тот самый – из повести «Тимур и его команда», и еще отец будущего ельцинского и.о. премьера, губителя страны, Егорушки Гайдара). Я был полон впечатлений от недавнего большого плавания, читал новые стихи. И все так было трепетно и дружелюбно, как в хорошем корабельном экипаже.
А потом мы шли по осенней Москве: и москвичи, и сибиряки, и дальневосточники, и даже капитан-поэт из будущей суверенной Эстонии. Шли спокойно, вразвалочку, как подобает морякам, немало испытавшим, немало повидавшим на свете.
ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК
Поэт российский, русский, может быть кем угодно по рождению, по изначальной стезе-судьбе, по профессии – свидетельством тому имена в нашей русской литературе. Поэт в обыденной жизни может быть разным: возвыситься до высокого гражданского или воинского поступка, но может и явить те черты, что в расхожем представлении «общечеловеческой» морали – осуждаемы. Вспомним, Пушкин, например, не подбирал эвфемизмы, говоря о поэте, когда «молчит его святая лира». Тогда – «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».
И вдруг!.. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орёл…» Точней не скажешь. Нет, это не пространственно-созерцательные рассуждения, вынесенные в начало моих заметок о поэте Евгении Федоровиче Вдовенко, товарище, коллеге, которого в печальный июньский день 2002 года проводили мы, тюменцы, в последний путь. Просто я подбираюсь, ищу тропу к простым человеческим словам об ушедшем друге-поэте. Да, пройдено с ним немало совместных дорог, немало прочитано друг другу стихов за чашкой чая, за сигаретой, за дорожной кружкой-чаркой вина, перед публикой. Дружили мы и семьями, хотя люди были во многом разные, не только по возрасту, по опыту в жизни и творчестве, но и по отношению к каким-то «вещам», в оценках житейских ситуаций. Порой, как у всех бывает, набегали хмурые тучки на эту дружбу – до размолвок.
Бывало. Но пишу о главном, что имел этот человек в себе: нежное и одновременное ранимое и взрывное есенинское поле.
Как мы жили, Коля, как мы жили, Хоть и были деньгами бедны! За любовь за нашу нас любили Дочери России и сыны. Ну, а то, что было между нами – Лишь цветенью летнему под стать, Где мы дружно жили куренями, Не боясь от времени отстать. Молодость ушла в свое преданье, Творчество нашло свои сердца, Хоть не всё, конечно, мы издали, Даже не прозрели до конца… Главное, что нет уже вопроса, Кто мы, подчиняемся кому? Мы – два друга, два Великоросса, Но народу служим одному.Стихи эти написаны Евгением Вдовенко в феврале 1994 года в поселке Советский (еще не городе!), где, перебравшись на жительство из Тюмени, создал он, может быть, свои главные книги. Служа поэзии, людям, любимой Отчизне.
Ну а многое начиналось с нашего лицея – Литературного института имени А.М. Горького, из которого студент-заочник, старший лейтенант ВДВ Вдовенко выпустился тремя годами вперед меня. Армейские и флотские студенты (на очном, понятно, их не могло быть) приметными фигурами были в нашем вузе. Выделяла и форма, и воинское братство. Служивым был и я, поступив туда, как говорил уже выше, в 1964 году, в год, когда наш дорогой Никита Сергеевич волевым порядком прикрыл очное отделение. (Получилось ненадолго, всего на год: не стало Хрущева, авторитетные писатели и Правление Союза писателей СССР восстановили очное обучение).
В бескозырке, морячок, я потянулся к своим. Скажем, к Игорю Пантюхову с Балтики, из Калининграда. Совсем недавно газета «Красная звезда» поместила фото, где зафиксирован был момент вручения на палубе крейсера писательского билета старшине- балтийцу. Редкое в ту пору событие. Запомнилось.
На третьем иль уже на четвертом курсе учился другой калининградец, недавний командир черноморской подлодки, капитан второго ранга Александр Николаевич Плотников. Земляком он оказался, из Сорокинского района родом, среднюю школу заканчивал в Ишиме, но подружились с ним много позднее. А тогда разве ж насмелился бы зеленый абитуриент, хоть и старшина 2-й статьи из самого Главного штаба ВМФ, запросто подойти к такому большому чину! Надраенный, вымуштрованный до «невозможности», несший службу по охране самого главнокомандующего ВМФ СССР С. Горшкова, я способен был разве ж только вытянуться по струнке и перед студентом со столь большими звездами на погонах.
На наш курс поступили несколько «поручиков»-старлеев, правда, «занесло» и ефрейтора ВДВ из Закавказского военного округа Алешу Кононца. Он служил срочную, как и я, но я ж – москвичом был, а он умудрялся дважды в году – по месяцу! – приезжать из части и жить в Москве, сдавая экзамены за очередной курс. За «высокий» ефрейторский чин и за находчивость мы даже выбрали Алешу старостой курса, с чем он успешно справлялся.
Имея общих знакомых, приятелей, как выяснилось потом, с Евгением Вдовенко мы как-то разминулись в Литинституте. Могли б сойтись в «рубцовском кругу». Рубцов был у нас фигура знаменитая, с ним многие общались, тянулись к нему. Вдовенко тоже с ним общался, посвящал ему свои строки.
Познакомились с Женей мы в Тюмени – в средине семидесятых. В писательской организации возник майор в лётной форме с эмблемами десантника. Поэты чаще всего сходятся легко. Через стихи. К тому ж и «единственный в мире», как мы горделиво подчеркивали, объединял нас Литературный институт.
Оказалось, что в тюменских краях Вдовенко не впервые. Минуя писательскую организацию, пробирался в Тобольск, на берега Иртыша, Вагая. Его занимала судьба казачьего атамана Ермака, покорение Сибири. Поэт был по роду из кубанских казаков.
В первом томе «Избранного» поэта нахожу сейчас те «ермаков- ские» стихи, что читал нам Женя, Евгений Федорович, за «рюмкой чая» в Бюро пропаганды художественной литературы на улице Ванцетти.
«Иртышская волна» помечена 1974 годом, а «Ермакова заводь» написана аж в 1970-м.
В поводу ли иду у судьбы? Что сулит мне мечта дорогая? Дом заезжих дымит в две трубы, Примостившись под боком Вагая. Отряхнула тайга кедрачи, И рябиной дворы отрябили, Припоздалые бродят грачи По багрянцам осенней Сибири. В рукава убегает река, Островок огибая подковой… Тут и кончился путь Ермака, – Вот и заводь его – Ермакова.Кто помнит Тюменщину семидесятых годов прошлого века, тот обязательно отметит дух и атмосферу романтики, молодого задора, что пронизывал наш таежный край. Притягивал он к себе и творческих людей, бывавших у нас не только на Всесоюзных Днях литературы, но и в одиночку. А такие «бывания» оказывались наиболее продуктивными.
Мы пробирались к нефтяникам, газовикам, геологам, «гостили» у строителей новых городов, поселков, трасс. В местах жутко комариных, суровых, вздыбленных новизной дел.
Побывав в отпуске в Тюменских краях, и поэт Вдовенко «заболел» севером. Тем более, что «наклевывалось» уже увольнение из армии, в запас. Службе воинской он посвятил без нескольких месяцев – 30 лет. Случайно ль стал офицером? Отец, погибший в Великую Отечественную, был майором, а в армии находился с самой гражданской войны. Пойдя по стопам отца, в сорок четвертом призванный на службу, Евгений Вдовенко немного не захватил последние бои в Германии: о победе он узнал в эшелоне, идущем на фронт. Потом – Харьковское танковое училище, позднее – знаменитое Рязанское воздушно-десантное.
Строевой офицер. Не интендант иль финансист в теплом штабе. Каждодневно – занятия с солдатами, марши, стрельбы, парашютные прыжки. Больше трехсот прыжков на счету Вдовенко. И он еще пристрастился к музе. К лирике. В армии, если не пишешь правильно-уставные стихи, сие не очень поощряется. По себе знаю. Как-то командир нашего элитного батальона московских моряков поручил мне написать «хорошую строевую песню». Написал. Музыку сочинил главный дирижер Отдельного образцового оркестра ВМФ. Оркестр этот дул в свои трубы за стеной нашего подразделения. Правильную песню мы сделали! Пели на парадных смотрах. И не более. Неправильная, дембельская, что позднее сочинил на мотив «Раскинулось море широко», обрела оглушительную популярность в батальоне. Но сколько доставила она мне и неприятных моментов. О-о-очень уж косились офицеры на сочинителя, а запмолит реагировал и того суровее!.. Так что представляю, и лирику Вдовенко приходилось терпеть, крепить душу и сердце, а порой и конфликтовать с сослуживцами-начальниками.
Первый сборник поэта «Юность на посту» вышел в 1960 году. «Чисто военных» стихов в нем немного.
После изначальной встречи и знакомства в Тюмени возникла у нас плотная переписка, прерываемая временами метаниями- переездами Вдовенко. Сохранил я эти послания из разных мест: то краткие, открыточные, то пространные – на несколько страниц. «Здравствуй, Коля! 1000 лет молчания. Что у нас за дела, что теряем связь?! За стихи в сборнике спасибо. Если он гонорарный, то подскажи мой адрес (на открытке) – вот куда перебрался! (Открытка пришла из Донецка – Н.Д.). А моя квартира теперь в Ясной Поляне на замке. Как живете, мои хорошие? Всем низкий поклон. Узнай в Бюро, не смогли бы меня принять на пару недель, а то и больше? С Нового года, со 2-й половины января, я свободен, а пока «мучаюсь» над 2-мя книгами. И обе большие – на 8 и на 5 п.л. Если за коллективный есть гонорар, пусть его быстрее вышлют, – как всегда, не хватает. Обнимаю, жду ответ. 1.XI.75 г. Е. Вдовенко».
С февраля 1976 года я стал работать директором Бюро пропаганды нашей писательской организации (четыре года нёс этот «груз»), появилась возможность приглашать для выступления поэтов и прозаиков из любых городов Союза. Не просто талантливых писателей, но и умеющих «держать» публику. Бюро – организация хозрасчетная, жила на заключении финансовых договоров, потому имелась возможность дать подзаработать на хлеб насущный неимущим пиитам. А таковыми были многие…
Строчки из письма от 22 июля 1976 года: «Дорогой Коля! Спасибо за весточку и за память! Я готов прилететь в августе, желательно, числа 20-го… У меня было много хлопот и забот над книгами, теперь с одной решено, она уходит в производство, и я стал свободнее…»
Военная косточка! Точность, аккуратность просматриваются в этих кратких посланиях: будь, мол, точен, нет времени на пустое, отвлеченное. Вот уж весточка перед самым прилетом в Тюмень, от 13.VIII.1976: «Получил оба твоих письма. Спасибо! 20-го вылечу из Москвы к тебе».
А договорились мы отправиться вместе в экзотические места в Приобье – к газовикам и лесорубам, взяв за исходную точку поселок Октябрьский. Да, мы стремились к тем местам нашей обширной Тюменщины, которые впоследствии изберет для жительства поэт Вдовенко: надолго бросит там якорь!
Заканчивался август. Золотой на краски и дары месяц лета.
Вот месяц, перед коим я в долгу, А может быть, он сам мне должен что-то: Я в августе работать не могу – Грибной сезон – какая тут работа! Грибной сезон… Брусничная заря…Промежуточным пунктом на нашей дороге был Ханты-Мансийск, где, сойдя с борта самолета, отправились мы на пристань в Самарове. Речной трамвайчик, или «ракета» до Октябрьского ожидались на следующее раннее утро. Предстояло скоротать как-то ночные часы. По доброй литинститутской традиции оккупировали мы на вечерней заре ресторанчик на дебаркадере – с котлетами и красным вином. С телефона-автомата я дал знать о нас местным стихотворцам. Вскоре появился Андрюша Тарханов с гостевавшим у него тюменским художником Толей Троянским. К их появлению на дверь ресторанчика повесили амбарный замок, но мы уютно расположились на бетонном ограждении пристанской площади, которая как-то быстро истаяла от народа. Пообщавшись с нами, Тарханов с Троянским заспешили домой, оставив нас в сообществе с едва початой бутылкой неплохого в ту пору «портвейна».
Приплескивала в тишине иртышская вода. Пластались светом два буйных пристанских прожектора. Шелестели наши рифмы. И тут возникли откуда-то два парня в светлых рубашках, нагловато обратились за сигаретами. Закурить мы дали, но посоветовали на дальнейшее – «шагать своей дорогой».
Парни отошли. И мы, восстанавливая утром детали прошедшей ночи, вспомнили, что они не ушагали в улицу, а сразу «воткнулись» в пристанскую телефонную будку. Звонили. Явно дали наводку. Не прошло и десяти минут, как пристань огласилась ревом трехколесного «Урала» и перед нами возник милицейский наряд: три красных околыша. Двое ловко, отработанно, соскочили с техники, подбежали к нам, мирно беседующим, выбрав в жертву меня гражданского, беспогонного! – начали выкручивать руки.
– В чем дело? Вы что это бесчинствуете? – вскипел Вдовенко.
– Товарищ майор! – остановил я его. – Пусть! Мы ж ни в чем не провинились, разберемся в отделении! – и я решительно шагнул к коляске мотоцикла.
– Не делай этого!..
Но мотор взревел, добровольцу болевым, удушающим приемом заломили голову И – понеслись. Перед дверьми «заведения», рассвирепев, я устроил мощное, отчаянное сопротивление, но был вбит тяжелыми сапогами вовнутрь… О, наивный! Как не догадался сразу, что «стражи порядка» просто выполняли свой план по сбору ночных «клиентов»…
Березовый, рябиновый Ханты-Мансийск смотрел сны, а Женя вот наказал гостя! – искал меня по городу, под утро подвернувшийся таксист подвез его к «моей» обители. Выпивающие в «предбаннике» медвытрезвителя сержанты, при батарее бутылок, опешили, уставясь на вошедшего майора-десантника.
– Немедленно отпустите поэта Денисова, у нас билеты на пароход!
– У него нет денег… – зазаикались менты.
(Деньги я оставил в сумке – в камере хранения!)
– Заплачу, сколь надо…
На «ракету» мы поспели. На палубе, хмурые, расстроенные, но с восходящим солнышком, ободряясь, возвращались к свету, шутили уже, вспомнив, как Рубцов, однажды попав в такую же милицейскую переделку, объяснялся потом с ректором Пименовым: «…в конце концов, быть может, я в гробу для Вас мерцаю! Я, Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни – отрицаю». Да, воистину, как написал один поэт: «Чем мне трудней как человеку, тем как поэту – легче мне».
Возвратились мы из поездки через две недели, «опоэзив» множество коллективов трассовиков, газовиков и лесорубов, забираясь в такие буреломы, куда до нас вряд ли ступала нога стихотворца.
Вдовенко заводил множество знакомств, обменивался адресами. Если полистать его «Избранное», можно найти посвящения этим трассовым знакомцам. Замечу, поэт легко выдавал экспромты емкие и пространные, не скупясь и на посвящения. Как-то даже упрекали его за сие: «Мол, всем сестрам раздаешь – по серьгам?!» Отмалчивался. Или, вдруг заподозрив нехороший оттенок от упрека, посягательство на свободу, мог разжечь и скандал до небес!
Прохладной осенью 79-го года, когда уж он после Ясной Поляны основательно приземлился в Тюмени, получил приличную квартиру, потащил я его опять в глухие места – в Уватский район. До нас там никто из профессиональных стихотворцев не бывал.
Первый литературный вечер проходил в хорошо натопленном и полном публики районном Доме культуры. Я открыл вечер и сразу дал слово Вдовенко. Слушают его стихи час, слушают полтора. Аплодисменты. Ни единая душа не покидает жаркое помещение. Но я уже притомился и тоже жажду добраться до рифм. Пододвигаю Жене записку: «Пора закругляться, читаешь почти два часа!» Он кивнул. И еще с полчаса заливался соловьем!..
Следующий день выпал на воскресенье. Выходной. Местное начальство – второй секретарь райкома партии и начальник милиции, – оказавшись моими земляками-бердюжанами, повезли нас отдохнуть на природу. Пейзаж: поле, засыпанное первым снегом, старые коренговатые березы. Невдалеке холодный с плывущей шугой Иртыш. Юра Журавлев, майор, начальник милиции, одноклассник мой, прихватил с собой пистолет «Макарова» и две упаковки патронов. В конце отдыха мы учинили стрельбу на поражение … неподвижно стоящего стеклянного «предмета». Мазали хозяева, мазал и я, хвалясь при этом, что на службе три года носил этого «Макарова» в черной флотской кобуре, не однажды пулял в тире Министерства обороны – под брусчаткой Красной площади…
Прицелился Вдовенко. И показал, что не зря 30 лет служил в армии. Попал в «предмет» с первого выстрела. Доволен. А вечером, в гостинице, он с чего-то покатил на меня «бочку». Где я дал «промах», непонятно! Но катить на меня – бесполезно. К тому ж, тут сошлись две противоположности – я родился под знаком Скорпиона, а он – Козла. Непримиримость к несправедливости и – упорность! Будь у нас в руках по «Макарову», дуэль бы учинили!
Наутро, как ни в чем не бывало, дружно отправились мы на речном катере в дальний-предальний колхоз, где власти района запланировали несколько наших встреч с населением глухих деревенек.
Нахожу в одной из книг поэта шутливо-горделивую строфу:
Я бренной славой не раним, Но рад, что – и не белая ворона – Сегодня стал ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Родного мне – СОВЕТСКОГО РАЙОНА!Город этот, повторюсь, стал надежным пристанищем для поэта, его семьи. Второй родиной стал. После кочевой военной службы с постоянными переездами: то Средняя Азия, то Забайкалье, то Кубань, то Центральная Россия. Гарнизонная жизнь с вечно временным жильем. После увольнения в запас – недолгий приют в толстовской Ясной Поляне, где «в сообществе Толстого» написан сборник стихов «Яснополянские мелодии». «Сообщество», конечно, очень ответственное.
Как-то я, будучи в подмосковном Доме творчества «Переделкино», получил от Жени приглашение заглянуть к нему, втиснулся в тульскую электричку, затем в жутко переполненный вечерний щекинский автобус, сошел в Ясной Поляне под скользящей в облаках полной луной. Прилично поплутав по окрестностям, пока не встретил человека, спросил, где живут сотрудники музея-заповедника. И вскоре оказался в не обустроенной еще, какой-то походной квартире Вдовенко. И не очень вовремя. Утром им с Галей предстояло ехать в Москву.
И все ж мы успели не только съесть зажаренного долгоного бройлера, но Галина Васильевна – научный сотрудник – показала могилу Льва Николаевича, провела нас по ночной подлунной усадьбе и дубово-березовому парку…
Письмо из Советского: «…Коля! Посылаю тебе фото для стихотворной подборки в «Тюмени литературной». Не удивляйся, недавно мне дали казачьего полковника, потому погон – чистый…»
Постепенно вошел он в Советском и в активную общественную деятельность. Организовал литобъединение для молодых, помогал готовить им первые книжки. Вел уроки военного дела в школах. Стал первым атаманом Верхне-Кондинского казачества, почетным гражданином района, заслуженным работником культуры РФ.
А в начале? Приехав однажды в командировку в Советский, нашел я поэта в сторожке строительной площадки. На утлой печурке пыхтел горячий чайник. На столике толпились черновики стихов. В окне, в отдалении, вздымались штабеля бетонных блоков, железной арматуры, нераспиленных сосновых кряжей.
– И что тут караулить? – подивился я. – Попробуй-ка уворовать такую тяжесть!
– Воруют! – сказал караульщик. – Чуть зазевайся только…
Живая, так сказать, жизнь рядом. Но вовсе не о ней, «живой», по прихоти души, по неким законам творчества, рождались на белом листе строки:
Я люблю Божий мир на рассвете, Непорочный и чистый, как дети, Как открывшийся солнцу бутон. Боже! Что с нами станет потом?! Взгромоздясь на свою волокушу, День придёт и отмыкает душу И подарит последний закат… И пишу-то об этом я – к ночи. Жизнь моя все короче, короче… Боже! Может, я в чем виноват?Жил на белом свете поэт. Как жил?
И вот сейчас ищу я это определительное слово – жизни, творчества. И нахожу: ОТВЕТСТВЕННО! К слову, к поэзии, к близким своим, к родному Отечеству. Не жалуясь на трудности. И что толку жаловаться? На Руси ведь всегда было нелегко. И особенно – в последние времена.
И все же как-то чаще в наших стихах, в разговорах-беседах звучали высокие понятия, которых прежде как бы не столь касались мы: Родина, Россия, Отечество. Да, обидно было нам за Державу. Захваченную и порушенную негодяями. Они еще позволяли нам гордиться величием и славой Старой Руси, Великой Победой над фашизмом, последовательно и беспощадно творя свои черные дела.
Государственники, патриоты – по сути, по убеждениям, по жизненному опыту! – оценивали мы – не с чистых небес, а из адовых смоляных штолен, навалившуюся на нас эту «живую жизнь» – с горькими интонациями. Известно ведь, что если мир дает трещину, то трещина эта проходит через сердце поэта.
СВЕТЛЫЕ ДУШИ, ОБОРОТНИ И СТРАШНЫЙ СУД
…Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что-то должно было случиться, повторялось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах.
И.А. Бунин. «Великий дурман»1
– Меня корова моя любит, собака ласкается, птички по утрам на тополе ноют, а тут пришла какая-то скотина и нос от меня воротит!
– Ты про кого это, тетя Валя? Кого так громко костеришь?
– А ну её, холеру такую… Дальше калитки и пушшать не буду теперь. А то выломаю дрын, да дрыном, дрыном – вдогонку…
Сошел с междугороднего автобуса на въезде в родное село. Остальные попутчики сойдут в центре, возле Дома культуры. Пассажиров прибыло немного. Также пусто и на улице. Одна кривоватая – так с основания возвели заезжие с Кавказа «мастера»! – водонапорная из красного рыхлого кирпича башня, стоит особняком. У ближнего двора, кажется, Степанова Ивана, – комбайн у ворот. В копнителе остатки обмолоченной соломы. Как поставлена сюда совхозная техника после уборки пшеницы, так и стоять ей здесь до новой осени. Так сохранней! Может, по весне комбайнер в мастерскую на ремонт перегонит. Кто «знат», как говорят тут, усекая слова, родные чалдоны-сибиряки.
Пару легковых машин пробежало, две доярки в отдалении про- трепали на ферму, желтый кобелек с размаху присел, азартно чешет лапой за ухом. Шагаю себе. И первой кого встречаю – её, Валентину, соседку с нашей Коммунаровехой улицы. Ясно, ругает кого-то из баб, она всегда, как помню, была мастерица ругать, на деревенском языке – «страмить». Для пущей наглядности и слышимости могла забраться на крышу своей избы и с верхотуры громко «поливать» на весь деревенский околоток в чем-то проштрафившуюся перед ней соседку. «Поливала» больше для профилактики, для картинности. Ведь потом также скоротечно могла и помириться с ней. Теперь, конечно, хватка не та, на крышу не залезть, на коньке двускатном не удержаться, азарта поубавили годы, болезни, да и ругаться практически становится уже не с кем. Многих Бог прибрал и в нашем окраинном околотке…
На ум приходит недавнее летнее стихотворение, написанное мной после очередного посещения родных весей. Именно – после посещения. Иной глагол – мне, давно отколовшемуся от сельского бытия, совесть употребить не дозволяет.
Села родного не узнать, Как будто власть переменилась. Мрачней отец, старее мать И я угрюмей. Что случилось? Как будто мир его и лад К былому разуму не тянет, Как будто много лет подряд Здесь правят инопланетяне. На «москвичах», на «жигулях» Пылят и катят незнакомо. Безлюдно к вечеру в полях, Зато битком у гастронома. Глаза прикрою: ты ли, Русь? Во мгле полыни и пырея? И снова мрачно оглянусь: Не пугачевщина ли зреет? Строка, быть может, не права, Поищем лучшие глаголы. Но не хочу плодить слова И соловьем свистеть веселым. Не то чтоб нечего сказать, Не то чтоб правда не по чину, А просто горько сознавать, Что я и сам тех бед причина…Теперь понимаю: строки эти родились тогда в предчувствии близких перестроечных бед. В родном селе – в том числе. Где растащат по дворам – на дальнейшее гниение – технику, раздербанят по бревнышку скотные дворы, уничтожат молочное и мясное поголовье. Пропьют все, что было не пропито в «застойные годы». И опомнится, и затоскует спохмела и с горя русский мужик (как жить теперь?!), из которого – на американский лад – тщетно пытались сделать капиталистического фермера. Тихо затоскует. И долго вызревать в нем «пугачевщине», вдруг озарившей мои поэтические раздумья еще в начале 80-х…
Какое-то время идем рядом. Валентина в осеннем плотном пальтеце, мягких войлочных сапогах, но в летнем еще цветном платке, интересуется городской житухой, много ли в городе платят, как там братья мои, их жены, ребятишки. Все ли живы-здоровы. Отвечаю сухо, с долей неуверенности, скептицизма, но так, чтоб удовлетворить любопытство женщины и исключить лишние вопросы. Потом она сворачивает в недлинный переулок с пожухлой крапивой и сморенной инеями лебедой, говорит, что надо зайти в магазин, оборачивается и негромко, с печалинкой в голосе, произносит:
– А отец-то ваш… плох. Ой, плох, Коля, совсем плох…
И сам догадываюсь: невеселые дела у бати, коль родственники забили тревогу и отправили меня в Окунёво наше – присмотреть за отцом, помочь, чем можно, матери. Поезжай! Мол, все братья, сестры, племянники работают на производстве, а ты один у нас в Тюмени не у дел, только за столом сидишь да чего-то там в тетрадке чиркаешь, самый дельный для пригляда за больным. Да я и сам ощущаю, что большинство моей родни, практичной и деловой, хоть я давно член Союза писателей СССР, держит меня за городского юродивого. Пишет, мол, а дача кармацкая, куда родня как- то наведалась ко мне, в бурьяне и крапиве, заборы кривые, земля полупустует…
Отца застаю в бедственном положении. Он на полу большой комнаты нашего пятистенника, на домотканых половиках и раскинутом на них матрасе. Укрыт ватным, комковатым от ветхости, одеялом. Мать растеряна. И, кажется, до конца не понимает серьезности положения с отцовой болезнью. Мало ли бывало: полежит, оклемается, встанет и – опять на свое озеро сети на карася ставить…
В окна глядит тяжелый осенний мрак. Мрачна также и холодна круглая печка-голландка. Возле неё в лучшие времена, натопленной под вечер, жаркой, читал матери вслух «Дети подземелья» Короленко или «Белую березу» Бубеннова, прибавив огонек в семилинейной керосиновой лампе. Отец тогда был на работе в МТМ иль на охоте. Приходил всегда поздно, когда над крышей дома уже блестел серпик месяца. В окна порывами стучался студеный ветер. А мама с простецким вниманием слушала мое чтение, с искренними переживаниями и вздохами следя за событиями в книжке, в то же время ловко перебирая вязальные спицы, заканчивая для меня вторую теплую рукавичку. Прежние я изодрал о лыжные палки да клюшки, гоняя с «ордой» мячик на озерном льду….
Хороши были эти вечера. Но все лучшее – в прошлом.
И мать нынче не в лучшем виде. Хлопочет, нога за ногу запинается. А надо. Корова еще на дворе – в хозяйстве. Куры кой-какие. В город родители – не едут, сколько не уговаривали. Отец жестко отрезал: доживу возле карасьего озера Долгого и лодки, с Тарзаном в конуре, с котом Васькой на полатях…
И вот – ни верного пса Тарзана – отравили местные негодяи, ни рыжего да ласкового котофея Васьки – умер от старости. Скворцы и ласточки улетели на юг. Считай, никого из заветной и верной дворовой животины, кроме коровы да кур, не осталось к этой осени у человека, весь свой век прожившего на деревенской природе.
Отец исхудал до невозможности. Говорю матери, чтоб застелила кровать чистой простыней, кладу туда отца, подняв с полу, как пушинку. Даю ему прихваченный из города гранатовый сок, отпивает с полстакана, говорит, что сок хороший. Еще говорит, что рад бы и чего поесть, но душа не принимает. Я намекаю на отварную курицу и бульон. Он говорит, что «сорочье это мясо никогда не ел и есть не собирается!»
Да, характер у бати уцелел! Еще тот, задиристый, цепкий!
Потом, торопясь, иду в сельсовет, к телефону. Звоню в районную больницу в Бердюжье, попадаю на главного врача, говорю ему, что вот, мол, я такой-то, приехал из Тюмени, а отец, ветеран войны, инвалид, в бедственном положении. Не могли бы врача прислать?
Через час, а ехать тридцать километров, у наших ворот останавливается районная «скорая» с красным крестом на боку. Заходит мужчина в белом халате, с аппаратом для прослушивания – на шее. (Господи, как он называется, аппарат этот, не вспомню. Стетоскоп, что ли? Если по-старинному, то – да, стетоскоп). Заходит, спрашивает, где больной, и сразу к нему. А отец, он с войны и госпиталей никогда с врачами дела не имел, вроде как обрадовался, заговорил порывисто, подставляя для прослушивания исхудавшую грудь: «…Хоть бы еще с десяток лет побыть на этом свете!» А у меня – жжет глаза от подступающих слез.
Догоняю доктора во дворе: «Что скажете?» – «Больше месяца не протянет». – «Похоже, рак?» – «Да, рак в самой запущенной стадии…»
Отец прожил на свете еще две недели. Я облегчал его участь, как мог. А в начале второй недели стала приходить местная фельдшерица, делала уколы морфия. Потом показала мне, как это делается. Кипятил шприц и ставил уколы сам. Отца ненадолго отпускало. Потом он опять стонал. И если я на минутку выходил в куть или чуть забывался, прикорнув на полатях возле мешков с сухарями (под отцовским напором заготовленных матерью на «черные дни»), он громко звал, чтоб я подошел и «поворочал с боку на бок». Говорил он, что – «так отпускает…» Из еды, кроме гранатового сока, в который я каждый раз добавлял немного водки, он не принимал ничего.
Пережил он октябрьский праздник, который был моим днем рождения. На большее отец не потянул. Восьмого ноября вечером затих, и я закрыл ему глаза…
«Черные дни», которые крестьянский мой родитель предвещал в скорые времена, достанутся нам и – в полной мере. С уходом отца я вдруг полнее почувствовал, что он один из самой ближней родни с пониманием относился к моим литературным хлопотам. Он ведь и сам в молодости писал заметки и статьи в газету «Уральский рабочий». Ах, вот откуда у меня эта тяга к печатному слову! Дед по матери, Тимофей Данилович, унтер-офицер Первой мировой и участник захвата Зимнего дворца в Петрограде, тоже писал, даже книжки. В возрасте двадцати трех лет (по нынешним временам – юноша, пацан!) был комиссаром печати в Ишиме, где в 18-м устанавливал вместе с другими молодыми большевиками Советскую власть. Потом комиссарил в красной дивизии Блюхера, затем брал Перекоп в войсках Фрунзе …
В граде Ишиме, удивительно – уже при демократах, проклинающих всё советское! – память красного комиссара удостоили в названии улицы – имени Тимофея Корушина…
Ночь прошла в доме с мертвым отцом, неподвижно и страшно лежащим посреди горницы на двух сдвинутых столах.
Безвыходность, отрешенность, пустота.
На другой день, к приезду родни из Тюмени, отец, уже обмытый по православному порядку и обряженный соседками, лежал в гробу, сколоченном мужиками из сосновых досок в совхозной столярке. Пахло парафином от горевших в изголовье гроба свечек. И зять Стасик, муж двоюродной сестры Вали, растерянно хлопая себя по карманам, не обнаруживая спички, два раза прикурил от крайней свечки. Потом, видимо, понял: так негоже. Да еще на богохульство Стасика цыкнула соседка Дуся Кукушкина, которая в последний день жизни нашего твердокаменного атеиста отца принесла и надела на него крестик: «Вот крестик твой… дай надену… прими крестик, прими… Прости меня, Василий Ермилович, за всё, прости!»
Приходили люди, стояли у гроба.
А в огороде в это время полыхал жестокий костер – мама распорядилась вынести и сжечь на этом пустом осеннем огороде матрас, подушку, простыни, комковатое ватное одеяло, старенький полушубок, что подкладывали больному под подушку, то есть все то последнее, на чем провел свои остатние на свете дни наш отец.
Страшно и могуче восстал посреди куч потускневшей картофельной ботвы этот костер, взвившись полыхать от «порции» бензина, погодившегося на дне литровой бутыли, для какой-то надобности стоявшей в подполе. Языческое пламя костра металось с адским треском, поглощая в огне миазмы не одоленной когда-то крепким человеком болезни, клубясь и завиваясь жирными дымами.
С ужасом в груди глядел я на метавшиеся драконы огня, которые испепеляли все прошлое ушедшего в иной мир. А прошлое это: церковный клирос, где отец наш мальчишкой пел в православном хоре старообрядцев, комсомольская молодость в колхозной артели, куда они привели с юной матерью на общественный двор свою единственную лошадь Булануху, затем – строительство Магнитки, Финская, Отечественная война, где гвардии рядовой отец наш воевал в пехоте под Ростовом-на-Дону, Воронежем, Таганрогом. Тяжелое ранение, возвращение в родные Палестины. Работа учетчиком и токарем в совхозной МТМ, зав. материальными складами, затем – штатный охотник-ондатролов. И только потом вольная рыбацкая жизнь – уже на пенсии…
Хоронили отца, как он нам «завещал» однажды: «Без траурных оркестров, без попов, но обязательно – с ружейным салютом». В доме было два гладкоствольных охотничьих ружья. И мы с приехавшим на похороны братом Сашей поочередно салютовали в небо дробовыми зарядами, пока траурный «кортеж», огибая околичный, выжженный недавно деревенскими пакостниками, сосновый рям, неспешно двигался к заросшему дурной осокой, старообрядческому, то есть двоеданскому, погосту. Просалютовали мы там из ружей и после горького погребения. Будто отрубили, невозвратно осиротев, отправили в вечные пределы – вчерашнее, дорогое, заветное…
Вскоре стали слышаться орудийные погребальные салюты в Москве – на Красной площади. Из первых уходящих политбюровцев громко хоронили идеолога Суслова. Про Пельше не вспомню. Видимо, ушел еще раньше. Потом погребли еще кого-то. И еще! Через год после окуневских похорон отца умер Брежнев, едва отстояв на мавзолее в октябрьский праздник. Брежнева почему-то было жальче остальных.
Недолго побыл в верховном чине больной и «не имевший» национальности Андропов. Национальность, конечно, была вполне определенная, о чем просвещенные интеллигенты ведали: папа – В. Либерман, матушка – Е. Файнштейн. Но нигде в официальных бумагах сие не обозначалось. Низовые народные массы, которым стали продавать дешевую водку «андроповку», сильно этим не интересовались. Выходило, что Андропов – гражданин вселенной, которого пытались вылечить главный лекарь страны Чазов и приглашенный профессор из США А. Рубин. Нет, не помогли никакие большие затраты мировых банков, где и сейчас сидят андроповские соплеменники. А они своих редко бросают…
Про Андропова позднее писали, что это он тайно намечал реформы в советском государстве, на которые потом наивно и опрометчиво клюнул да быстро – под доглядом и контролем вечных наших недругов американцев – погорел Меченый. Великую страну погубил и себе стяжал «славу» предателя…
В тюменской школе №10, где училась моя младшая дочка Наташа, висел стенд с членами и кандидатами в члены Политбюро. После всякого траурного кремлевского дела и громких похорон, из стенда убирали фотокарточку очередного умершего. Четвероклассница и примерная пионерка Наташа, с тревогой следя за исчезновением фотокарточек, однажды сказала: «Осталось двенадцать… Папа, а когда все они умрут, партии КПСС не будет?» Как в воду глядел ребенок. А устами ребенка, известно, глаголет истина.
Летом 1988 года наш сухогруз «Уильям Фостер» шел через Атлантику из Южной Америки, вез полные трюмы аргентинской шерсти и железные «макаронины» труб для Нидерландов и Германии, где мы потом разгружались. Так вот из Москвы мы слышали -транслировали на весь пароход! – как происходила 19-я партийная конференция с участием будущего губителя страны Ельцина. И это уже была не ТА партия. Порядочных генсек Горбачев выдавил из высшего руководства, а негодяев, типа «хромого беса» Яковлева и злого грузинского «кэгэбэшника» Шеварнадзе, приблизил и возвысил. Они и свора им подобных партбилетчиков вскоре, обернувшись в демократов, сдали страну ворам на растерзание. А те, кто «не обернулись», как-то уж очень пугливо-покорно приняли предательство верхушки. Ни вскрика возмущенного, ни выстрела по предателям (а то и в собственную преданную партийную грудь!) – не произошло нигде. Тюменский обком КПСС (по местным слухам!) закрыл на замок простой милицейский сержант, опечатал и никому из штатных, приходящих на работу чиновных обкомовцев, дверь не открыл.
Промолчали.
Промолчало и всё прогрессивное человечество.
Завершив в Питере очередное дальнее плавание, известив об этом родных, для чего жарким летним предвечерьем, как матросы-балтийцы в октябре 17-го, «взяв штурмом» почту и телеграф, я затем добрался самолетом до Тюмени. Застал здесь полное торжество местной гласности. «Тюменский комсомолец», при редакции которого я вел последние годы литературное объединение и делал литературные страницы, из номера в номер печатал теперь грязные статейки против «русофилов», «квасных патриотов», откуда- то взявшихся «шовинистов», короче, вообще – против порядочных русских людей выступал. В том числе и против меня – своего штатного сотрудника, временно находившегося в мировом океане.
Все публичные и потайные нетопыри, долгоносики, чешуйчатые, кишечнополостные, как впоследствии их станет именовать Александр Проханов в своей боевой газете «Завтра», успели вылущиться из глухих подворотен, выползти из кротовых нор, громко демонстрируя, разрешенную демократией, ненависть и злобу – к народу, к стране.
Возле корытца наглых окололитературных волчат застрял, так и не принятый (Москвой) в СП СССР, Саша Гришин, а верховодил и дирижировал этой какофонией мародерства страшно самоуверенный, «лучший воспитанник» свердловского детского сочинителя Крапивина – Костя Тихомиров. И «комсомолец», размашисто кайфуя в омуте объявленных свобод, то и дело предоставлял мародерам свои страницы. Тюменские писатели узнавали – кто из них «без позвоночника», кто «с кривой улыбкой», а кто «с ужимками барышни». Ну и с прочими «литературоведческими» прелестями, явленными из газетных сочинений Кости и его волчат, а также «педагога» Отто Коха, который публично облаивал каждый выпуск «Тюмени литературной», сожалея, что «мы живем не в правовом государстве», мол, если бы жили в правовом, то «главный редактор «ТЛ» находился бы в соответствующем месте». Был еще один наставник этих «волчат» – университетский доцент Владимир Рогачев, чем-то обиженный в молодости, активно витийствовавший как демократ в начальную пору перестройки.
Тут надо заметить, что в принципе не глупый паренек Костя Тихомиров через какое-то время прозрел (как начал прозревать перед уходом из жизни Рогачев, а впоследствии – перед своей кончиной – и Кох), подошел ко мне с извинениями, мол, «был не прав в своих нападках». И также вскоре он оказался в моем доме, мы мирно говорили о литературе и угощались на кухне коронным тюменским блюдом – зажаренным долгоногим бройлером. Как бы сложились дальнейшие наши отношения, сказать сложно. Через неделю, оказавшись в разгульной компании на большом озере Андреевском, под Тюменью, Костя среди ночи сел в лодку, уплыл в темноту. И – навсегда. Нашли не сразу…
Замечу и о свердловском наставнике Кости – известном В. Крапивине. Году в 2008-м, прожив многие годы в уральском городе, он переехал в Тюмень, где довелось ему родиться. И сразу – подкатывало семидесятилетие – возник вопрос о юбилейных награждениях. После нескольких прежних отказов от власти, на этот раз он пробил себе звание почетного гражданина города. Пробивал также собственный музей (при жизни! – по законам РФ не полагается!) и даже демократический орден (советские он успел получить на Урале). И «девушка» из наградного отдела тюменской областной администрации периодически звонила мне – председателю писательской организации, просила написать представление на «Орден Почета» сочинителю. Я также периодически и справедливо отказывался это сделать, поскольку данный товарищ «был не наш», а продолжал состоять на учете в «апрелевском» Союзе писателей города Свердловска-Екатеринбурга. Ситуация напоминала известное изречение – о сути «сверхжадности»: «Быть в плену, любить чужую жену и искать себя в списках награжденных!» К тому ж, книги Крапивина на птичьем языке и его детишки-герои, размахивающие масонскими шпагами, не грели мне душу, не вдохновляли на нужную для наградотдела бумагу. Хотя сам сочинитель, похоже, числил себя эксклюзивным изделием всех времен и народов, единственным, как солнце на небе, талантом в округе.
Орденок и личный музей Крапивин в конце концов получил. Но не заимел уважения от тюменских литераторов, с которыми с первого дня возвращения в Тюмень, «в страну детства», высокомерно не пожелал контактировать. Остался «апрелевцем». Что ж! Мои единомышленники, совестливые русские мужики, к таким «подвигам», как умение устроиться при любой власти, не годны изначально. И – слава России!
Это невольная вставка в моих рассуждениях о временах. А тогда, вернувшись из южно-американского морского рейса, я спросил в редакции газеты: как же так? Разве ж можно, следуя хотя б обычной редакционной этике, печатать поганые заметки против своего же штатного коллеги, к тому же, находящегося далеко от редакции? Перестроившиеся газетные девчата, зная мою нравственную несгибаемость, ответили: «При демократии всё можно!».
Попутно замечу, что я нигде не ставлю слова «демократ» и «демократия» в кавычки, как это делают в некоторых случаях иные авторы, сообразуясь с контекстом сказанного. Я просто помню, как один мой знакомый русский белоэмигрант в парижском письме ко мне справедливо заметил, что «демократию придумали негодяи Древней Греции». О, если бы только это непотребство!
На первой полосе «комсомольца», вместо ленинского портрета, вызывающе красовался портрет Бухарина. Вольно иль невольно редактор «ТК» А. Костров и его поднадзорный орган взяли за идеологическое знамя «Колю балаболку – Бухарина», как его называл такой же враг России и советской власти Леон – Лев Троцкий-Бронштейн. Да, Бухарина – противника Сталина, заговорщика и предателя. И, как поздней пропечатали о Бухарине не только русские, но и заграничные издания, был он тайным агентом фашистов, пособником Гитлера.
Бухарин расстрелян в 1937-м по суду, причем при яростном одобрении немалого числа литераторов гроссманов и безыменских, как правило, одной «гроссмановской национальности», требовавших «уничтожить убийц, шпионов, фашистских выкормышей».
Нынче идейные потомки и такие же кровные родственники яростно одобрявших репрессии – картинно возмущаются: «Это не мы, это русские Иваны требовали ставить к стенке!»
Но тут стоит сказать, что три года спустя, после ликвидации сталинским руководством заговора этой однородной «ленинской гвардии», бывший американский посол в СССР Джозеф Э. Девис, летом 1941 года, писал: «В России в 1941 г. не оказалось представителей «пятой колонны» – они были расстреляны. Чистка навела порядок в стране и освободила её от измены».
Похоже, ни редактор «ТК» Костров, ни его девчата Джозефа Э. Девиса не читали? Ну а если бы даже и читали?! Вряд ли бы вняли свидетельству честного американца. Предавали страну СССР и социализм в этот период оголтело, повсеместно, во всех низах и на верхах, особенно в комсомольских и газетных структурах.
Пошел к первому секретарю Тюменского обкома ВЛКСМ, сказал: «Прошу освободить меня от должностей председателя Совета творческой молодежи при обкоме ВЛКСМ и от руководителя литобъединения! И – выдать на руки трудовую книжку!» – «В чем дело?» – подивился первый секретарь. Вкратце рассказал: в чем! «Не волнуйтесь, все успокоится, наладится…» – «Не наладится! Если уж поэт Евтушенко-Гангнус, будучи в Тель-Авиве, примерял мундир полковника израильской армии, то нечего ждать хорошего». – «Не может быть!» – «Может! У Евтушенко-Гангнуса нюх на глобальные перемены, как у хорошей гончей… Я в этих гнусных «играх» участвовать не желаю. И находиться в этой компании – тоже не хочу!»
В какие демократические структуры попал впоследствии последний по времени первый секретарь обкома комсомола (в 1988 году обком еще действовал), не знаю. Но известно, с какой устремленностью кинулись многие комсомольские функционеры в новые образования, когда в стране пала Советская власть: в мэры, в пэры, в директора коммерческих банков, в генеральные директора посреднических предприятий, в руководители комитетов и департаментов, даже в олигархи и в губернаторы. Потрясно было зреть, как в криминально-капиталистической стране эти новые-старые хозяева жизни собирались на никем не отмененный коммунистический праздник День рождения ВЛКСМ. Деловые, в хороших «прикидах», при карбункулах, изобретенных демократической властью, орденов, а дамы (вчерашние комсомолки) при отягощающих ушные мочки бриллиантовых висюлях. И еще – при тугих долларовых «лопатниках» – вдохновенно вздымали они голоса за икорно-коньячными столами:
И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный Октябрь впереди!Таких метаморфоз не бывало в истории и, кажется, не должно было произойти. А вот и произошло. И небесные души Павки Корчагина, Олега Кошевого, Сергея Тюленина поседели от неслыханных предательств. А преданная Советская страна, теряя стержень развития, все больше погружалась в развал, в хаос, в бандитизм, в наглый захват государственной собственности, сработанной руками трудового народа.
Первым делом дезертирами из КПСС и ВЛКСМ было захвачено телевидение. И тотчас развернуло свою политику: борьбу за высокие урожаи хлебов, успехи в промышленности, в культуре телевидение заменило яростной борьбой с чесоткой и с перхотью, с кариесом, с дурным запахом демократических ртов.
Выломать бы тогда хороший дрын! Да дрыном, дрыном бы всех этих захватчиков! По народ безмолвствовал. Народ, привыкший за годы Советской власти, что за него «думают и решают большие начальники», уселся у этих самых телевизоров (которые, по утверждению израильских ученых, превращают народ в дебилов), внимая зомбированию его, бывшего народа-богатыря, а теперь народа-обывателя, нанятыми заклинателями и колдунами. И страна все глубже погружалась в угодную Западу трясину невежества и идиотизма.
Народ же, тихо страдая, творил неугасающий во все времена фольклор о деяниях и деятелях нового времени:
По талонам – горькое, По талонам – сладкое. Что же ты наделала, Голова с заплаткою?!Однако, какие б предательства не прорезались из начавшихся потрясений, в 88-м и в 89-м годах страна еще жила надеждами на лучшее. Открывались новые издания. По утрам стояли очереди у газетных киосков. Печаталось то, что раньше и совсем недавно представить было невозможно.
В августе 1989 года Тюменский обком партии дал добро на возобновление выпуска писательской «Тюмени литературной». Как и в 70-х, я принял эту заботу на себя. Никто из писателей не возражал: пусть, мол, опыт человек уже имеет! Утвердили единогласно: действуй! С чего начинать? Начал с подбора материалов и с добычи газетной бумаги. Доставание каждого рулона этой бумаги давалось с боем. С бумагой на тот период образовался страшный дефицит. Прошел с боями и сквозь него. И в декабре, под самый Новый год, вышел 16-полосный номер газеты, с него и веду нынче отсчет номеров уже периодического издания.
Об этом я писал – в подробностях. Одна из них о том, как в предновогоднюю, 89-90 года, ночь вышел я из тюменского Дома печати с «охапкой» свежего, только что из печатной машины, номера «ТЛ». Как отыскал среди ночи своего зама Петю Казанцева, как он сумел добыть в трезвом горбачевском мраке необходимый сорокаградусный «пузырь». И мы, умываясь запахом свежей типографской краски – с полос газеты! – отметили сие «историческое» событие
Желающих попасть на страницы «ТЛ», выходящей 30-тысячным тиражом, было немало. Отбирал я материалы строго. Ничего похожего с номерами спокойных и стабильных 70-х лет новая «ТЛ» не имела. Её державное, русское направление привлекло к себе и патриотическое дальнее Русское Зарубежье, о котором мы практически ничего не знали. Мало знала и Россия. Многие русские, потомки белой и последующих эмиграций, к которым каким- то чудом – через Атлантику – попал первый номер «ТЛ», стали нашими читателями, авторами и что неожидаемо – единомышленниками. А в дальнейшем главный редактор «Тюмени литературной», то есть ваш, читатель, покорный слуга, укрепив дружеские связи с соотечественниками, написал и издал две объемные художественно-документальных книги о них, русских из Южной Америки. Книги эти – «Огненный крест» и «Волшебный круг», смею утверждать, не затерялись в море печатной продукции, в том числе и зарубежной.
Вернемся в начало 90-х. К первому номеру «ТЛ». Содержание его, которое было для меня естественным, вызвало бешеную реакцию российских и, в частности, тюменских либералов. Члены нашего Союза писателей Евгений Шерман, Альфред Гольд (Гольденберг), Анатолий Васильев и Булат Сулейманов, воспользовавшись печатной площадкой «Тюменского комсомольца», заявили, что они «открещиваются» от «Тюмени литературной». Целиком и полностью!
Ну и с Богом бы! Шагайте своей дорогой, господа, а нам Россия дорога! Нет, посетили обком партии, требуя у власти закрыть газету. Но партия, еще потряхивала сухой пороховницей, отреагировала по-своему. Партийная организация писателей, которую возглавлял с недавних пор – после Виталия Клепикова и Станислава Мальцева – Константин Лагунов, на своем открытом собрании одобрила позицию «ТЛ» и осудила «банду четырех», как мы стали именовать (по-китайски) супротивников, доселе слывших простыми советскими литераторами и в быту – даже приличными приятелями.
Что углядели в «Тюмени литературной» четверо открестившихся? Какую учуяли крамолу и опасность лично для себя?
По моим редакторским представлениям в газете была только правда. Подбор материалов – проза, стихи, публицистика – патриотические, гласно – за Родину, гласно – против беспредела и негатива в стране, которые мы выставляли на обозрение! Мы первые среди областных да, пожалуй, и центральных газет заговорили о необходимости православного воспитания. Дерзостным для советских еще читателей был снимок, помещенный на заглавной странице газеты: мощный вертолет «Ми-6» устанавливает крест на колокольню Тобольского кремля, а внизу батюшка в церковном облачении благословляет его восьмиконечным храмовым крестом!
«Крамолу», скорей всего, несла горячая историческая статья Фатея Шипунова (о деятелях «ленинской гвардии» в 20-30-х годах) и вторая – под заголовком «Русские всех стран, соединяйтесь!» Автор Валентин Сидоров подчеркивал: «Ныне мы, русские, как и евреи, рассеяны по всему миру». И мы вместе с автором позвали русских к единению. И ударили в вечевой и тревожный колокол – за Русь Святую, приветствуя объявленные властью «свободы»!
Но открестившиеся публично продемонстрировали, что свободомыслие демократами замышлялись далеко не для всех! Для нас и для подобных нам эти «свободы» не предполагались.
Четверка явила своеобразный интернациональный «заслон»: еврей Шерман, возможно, и не еврей вовсе, а ассириец, случайно приписанный к Хазарскому каганату, где всяких «штатских лиц» обращали в иудейскую веру; полукровка и талантливый поэт А. Гольд (Гольденберг) – «ребята, я не еврей, у меня мать русская!»; далее, пани-панове, толь «гордый шляхтич», то ль просто поклонник исторически враждебной России Речи Посполитой А. Васильев – медицинский деятель, с четвертого заходу, принятый в члены СП; и – наконец, мой литинститутский друг Б. Сулейманов.
Сибирский татарин Булат Сулейманов вскоре пришел ко мне с извинением, сказал, что он «ничего не подписывал, его просто подставили». С Булатом мы возобновили дружбу. А трое вышеназванных «партнеров», как нынче именуют большие кремлевские начальники-юристы даже натовских головорезов, вышли из Союза писателей и поехали на московский съезд отколовшихся «апрелевцев» – бороться за свои «свободы» и защищать свою (!) «гласность», которая приведёт их вскоре под власовский триколор.
2
Кем мы втянуты в дьявольский план? Кто народ превратил в партизан? Что ни шаг, отовсюду опасность. «Гласность!» – даже немые кричат, Но о главном и в мыслях молчат, Только зубы от страха стучат, Этот стук с того света, где ад. Я чихал на подобную гласность!Читаю стихотворение русского поэта Юрия Кузнецова, а в телевизоре – на половину экрана! – заголовок «Тюмени литературной». Тюменская программа. И – гонец из Москвы, эмиссар «апреля» В.П. Соколов, известный (из печати) пробиванием себе литфондовских привилегий. Зачем в Тюмень припылил? Бухтит, что не нравится ему «Тюмень литературная». Глядя с экрана этаким цезарем, наполеоном, карлом 12-м, вещает: «…Недостаток культурного слоя в Тюмени… «Тюмень литературная» рассчитана на невежество… некому у вас дать ей отпор… Зовет Русь к топору… на баррикады… Искусственно нагнетает страх… Мы вытравим эту рабскую психологию… мы… мы… Доложу в Москве об этой газете…».
Ну еще бы не доложил! Что? Они уже полные победители? Да нет пока! Не оттого ли в панике примчался в Тюмень свободолюб?!
Видел я этих соколиков в недавнее время, как ужами извивались, скажем, перед всесильным Ю.Н. Верченко – вторым человеком (типа Суслова) в Правлении Союза писателей СССР. Как выглядел некий соколик перед самым младшим редактором, от которого зависел выход в свет его книженции: букашка, моль и, черт знает, какая инфузория.
И вот осмелели. Во всероссийские трубы задули! А ведь мы выпустили в свет всего лишь два номера газеты. И распространяется она только по областным киоскам «Союзпечати». Ну, понятно, рассылается, развозится по стране! Письма летят к нам из Москвы, из Ленинграда, из Прибалтики, из Крыма, с Кубани, с Дальнего Востока, с Колымы. Даже из Венесуэлы – из русской белоэмигрантской колонии. Письма – поздравления, письма – поддержки, а то и восхищения смелым поведением редакции. (В которой всего-то два штатных штыка – главный редактор и технический секретарь. Остальные – авторы, просто – единомышленники!)
Серьезный поэт из Сургута Петр Суханов, «разразился» горячим посланием: «Появилась в Тюмени своя газета у писателей. И тут же против неё сплотился отряд боевиков, открывший шрапнельную пальбу. Один из этого отряда, бывший подполковник медслужбы, а ныне, возжаждавший свежей крови, фельетонист-пародист Анатолий Васильев, вынося свои обиды на круг, навалял на скорую руку целый короб небылиц, коим предоставила место «Тюменская правда». Некоторые примут на веру эту фальшивку и лишний раз скверно посудачат о писателях… Полноте, Анатолий Иванович, витийствовать. Было бы над чем глумиться! Или вы полагаете, что мир полон дураков?
Да, публика эта, подобная Васильевым, громче всех кричит о свободах, о плюрализме. Это на словах. На деле – нетерпимость, стремление к диктату. К диктатуре!»
Приехав на творческий вечер газеты, который проводил я в феврале 90-го в переполненном публикой большом зале Дома культуры «Строитель», бывший тюменский геолог, а теперь известный московский поэт Иван Лысцов передал мне свою статью-версию «Убийство Есенина». Материал вызвал поток писем. Разного плана. Противники этой версии, конечно же, доложили «кому надо». И поэт, старинный мой друг Лысцов, при очередном своем выступлении на Ваганьковском кладбище у могилы Есенина, был избит «неизвестными лицами». Пройдет еще три года, и они скараулят Ивана Васильевича возле пруда в Юго-Западном районе Москвы, добьют, подкравшись в сумерках, кирпичом по голове. Так добили когда-то в «Англетере» русского гения – Сергея Александровича Есенина.
Действовали подобные «лица» и в Тюмени. На сессии Горсовета либеральная группа депутатов (для сведения читателей: Либер – древний бог распущенности и опьянения – Н.Д.) продвинула в повестку дня вопрос о «разжигании межнациональной вражды газетой «Тюмень литературная» и об уголовной ответственности главного редактора». То есть собрались решить «окончательный вопрос» с газетой и её «обнаглевшим» редактором. Председатель Горсовета Геннадий Иванович Райков (будущий депутат Госдумы РФ) поставил это «предложение» на голосование – после перерыва на обед. Депутаты кинулись в окрестные киоски. Явились в зал заседаний, шурша свежим номером «ТЛ», где мы среди местных стихов и рассказов поместили перепечатку московского материала «Распутин и евреи». Подобного рода исторических откровений ходило по России – море. Благодаря гласности, страна осмысливала свой исторический путь. Слово «еврей» – название национальности, как название ингушей, татар, русских, произносилось уже почти без «страха иудейска». В 20-х годах за сие евреи-чекисты «виноватых» без разговоров к стенке ставили. Будь ты хоть буржуем, хоть рабочим, хоть «гнилым интеллигентом». Опора у расстрельщиков была надежная. Обыватель 90-х узнавал, к примеру, состав ленинского Совнаркома, где русским был всего один человек – Джугашвили-Сталин. И тот – грузин.
Обыватель также узнавал из печати, что мировое еврейство сыграло выдающуюся роль в «русской революции» октября 1917-го. В чем тут секрет – да еще на государственном уровне? Не тайна никакая, что каждый народ имеет и свои национальные особенности. скажем, француз думает о любви, немец-о порядке-орднунге, еврей – о прибыльном деле и музыке, в чем этот народ искусен чрезвычайно. Правда, последние из упомянутых товарищей, обретя власть и положение, часто теряют чувство меры, каковой пытались научить человечество эстеты и философы Древней Греции. Скажем, в современном киносериале «Фурцева» (2011 год) роль «палача» Сталина исполнил артист, широко известный как смехач, как окончивший «кулинарный техникум». Изобразил он Сталина пакостным, пошлым, циничным. (Самого себя, что ль, изобразил?) Разжиревший, с одутловатой осевшей фигурой, из которой так и сквозило иудейство, когда генералиссимус, под руководством которого одержана Великая Победа над фашизмом, а страна за короткий срок поднята была из военной разрухи, имел аскетически подтянутую внешность, являл собой и своим обликом – такт, ум и прозорливость.
Нет мне необходимости в подробностях рассуждать на эту тему. О сионистских свойствах данных «товарищей», в частности, и потере ими «чувства меры», аргументировано говорит на страницах своей книги известный русский поэт и огненный публицист Станислав Юрьевич Куняев. Его книга «Жрецы и жертвы холокоста» яркий бестселлер 2011 года. (Москва, издательство «Алгоритм»).
Рассуждая о писателях и поэтах этого определенного круга, Ст. Куняев вспоминает Исаака Бабеля: «…Круг его интересов был широк и даже изыскан. Однажды во время посещения Зимнего дворца он позволил себе завалиться в альков императрицы, не сняв сапоги. Демонстративно. Мало того что зверски убили императора и жену, и детей, и слуг, но надо было еще с мстительным сладострастием покощунствовать! Ну добро бы такое совершил какой- нибудь пьяный матрос, несовершеннолетний умом и душою! Но интеллигент, писатель, «языки знает»…
Когда вознесся красный флаг Под небом северной столицы. Писатель Бабель Исаак Залез в альков императрицы, Прилег, не снявши сапоги, Чтоб возвратить в одно мгновенье Всем соплеменникам долги За слабость и уничиженье. Но ровно через двадцать лет, Из революционной чаши Допив до дна, обрел ночлег На нарах. Около параши… Урок не впрок. Один актер, Недавно Сталина играя, В его постель залез, как вор… Но это – серия вторая.Это стихотворения написано Ст. Куняевым в 1991 году.
«Нормальных пацанов» хватает, конечно, во всякой нации. Вспоминаю о работе в «Ишимской правде» в 60-х, где порядочными и нормальными среди нас, русских, были и Миша Шамис, и Изяслав Штейн, и Костя Яковлев… И как-то не задумывались мы тогда – кто они по крови, по происхождению. (Собственно, и они тогда «не выставлялись»). Плотно друживший с Изяславом Самуиловичем Штейном Володя Нечволода, рассказывал, что у Штейна была вся грудь в орденах. В войну он был в заградотрядах НКВД. Сила эта тоже нужная, направлена была против паникеров, дезертиров, вражеских диверсантов. Но если послушать нынче «неподкупных историков» сванидзей, пивоваровых, млечиных, то вообще вся война с фашистами выиграна за счет заградительных отрядов. Впереди, мол, паникующие, трусливые русские регулярные части, а позади – заградотрядчики с пулеметами, которые гнали красноармейцев в атаки. Это к слову.
Также к слову, необходимо заметить, что в перестроечные времена Изяслав Штейн, оказавшись почему-то в самой «демократской» на тот период газете «Тюменские известия» (своеобразной преемнице ликвидированного «комсомольца»), за патриотическую позицию нашей «Тюмени литературной» (больше не за что!) перестал здороваться со мной, её редактором. Вынужденно отвечал и я тем же. В Израиль уехал бывший мой приятель Костя Яковлев. Наверно, сильно «настрадался» в России, а там ему лучше. О Мише Шамисе скажу так: много лет назад встречались мы на «оленьем празднике» (сезонный забой олешек) в ямальском поселке Яр-Сале, где он работал тогда в районной газете. Расстались дружески….
Пора вспомнить о депутатах. После перерыва на обед Райков предложил проголосовать: «Кто за то, чтобы… а кто против?» «За то, чтобы» набралось восемьдесят голосов, около двухсот – «против». «Вопрос снимается с повестки дня!» – заключил Райков. И, сказывали мне потом, добавил: «У нас – демократия».
Как-то вечером жду свой маршрутный автобус на остановке у городского сада. Рядом пестрая толпа поджидающих. И вдруг с противоположной стороны улицы летит десяток нордического облика молодцов. Первый пытается вырвать у меня дипломат с материалами для очередного номера «Тюмени литературной», следующий сбивает с ног, остальные, поочередно, вбивают в мои бока носы и каблуки кованых ботинок. И, не сбавляя темпа, бегут дальше.
Разноцветный электорат на остановке, при портфелях, с торчащими из них желтыми когтями лап пышминских цыплят-бройлеров, и ухом не повел, не шелохнулся. И это потомки тех – кто в белых рубахах бился на поле Куликовом супротив Мамая? Кто в 41 -м отстоял Москву? Кто горел в аввакумовских срубах – за веру Православную? Нет, это были мои современники, голосующие на выборах «за батюшку Ельцина».
Спустя пару дней, местный телевизорный вещатель Кологривов, от экранных выходок которого обыватель, привыкший к строгим и чинным советским дикторам, впадал в кому, а перестроенные тюменские девушки в восторгах писали керосином, так вот Кологривов в своей развязной манере (нравившейся новому руководству телевидения!) сообщил городу и окрестностям: «Битте-дритте, чао-какао, господа! Недавно неизвестные побили известною поэта Николая Денисова!.. Поэтов бы надо знать в лицо!»
«Не знали», прицельно выщелкнув из толпы!
«Отхожу» от побоев дома, читаю Гоголя. Как и прежде, нахожу у любимого классика созвучное текущему за окном времени:
«Но и у последнего подлюжки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства: проснется оно когда-нибудь, – и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
Не многие спешили «муками искупить позорное дело».
Новый ответственный секретарь писательской организации Сергей Шумский собрал вдруг «странное» собрание, в основном – чинов от местной журналистики, затеял разговор «о судьбе «Тюмени литературной»: «Знаете, ходят о газете всякие нехорошие разговоры…»
«Эх, брат, врет ты, да еще и сильно!» – сказал бы Гоголь. А я, решительно и тотчас воспылал по-своему: «Понимаю, кто-то из вас хочет завладеть изданием? Так? Но газету я вам не отдам! Желаете печататься в ней? Милости прошу…»
Шумский, не решаясь на прямой разговор, пряча глаза, забухтел в свою бородку, как он умел это делать, – невнятное. Чины переглядывались. Потом дружно взялись за картузы, покинули присутственное место. Заколебались? «Закатать меня в асфальт», как намечали, наверное, вчерашние партбилетчики КПСС, не получилось. Но – ухо надо держать востро!
Милиция, будущие полицай-полицейские, не колеблясь, «стояла на страже». Вечерами прохаживался возле подъезда моего дома патрульный наряд при коротких автоматах, облаченный в мышиного цвета новую форму – гибрид французской и австрийской. Еще – при немецкой овчарке, обученной рвать человеческое мясо. Успели уж забыться времена, когда эти «дяди-Стёпы» носили в пустых кобурах пачки «Беломора» иль бутерброды с колбасой по два двадцать. И ловчил я, стараясь незаметней проникнуть в подъезд своего дома.
Колебался вместе с колеблющейся «линией партии» – Лагунов. Константин Яковлевич опрометчивости раньше не допускал, умел все взвесить наперед, проанализировать последствия сказанного или напечатанного. А гут поразил честной народ растерянностью. На одной из первых страниц своей новой книги «Перед Богом и людьми», которую поспешно, видимо, старался «попасть в струю», издал в Шадринске, он написал: «…Почему, строя коммунизм, мы строили коммунофашизм?.. Не щадя живота, воздвигали храм всеобщего благоденствия, а сотворили гнездо нищеты и печали?»
Каково?! Мы «строили»? Не строили мы фашизм. Мы, как говорят, просто жили, учились, работали, мечтали, гордились Родиной, Великой Победой наших отцов в кровопролитной войне с фашизмом всей Европы… Прости их, Господи, вчера еще твердокаменных большевиков!
Вскоре Константин Яковлевич ободрил меня – предложил для публикации статью «Промедление – гибель!» Описав поездку в Москву, нарисовав «картинки» арбатско-столичной жизни, где беспредел происходящего в стране особенно был налицо, писатель наш воскликнул: «Страна катится под откос, а большинство равнодушно молчит! Где московские большевики? Где партийные политруки и комиссары? Почему не дают отпор сеятелям смуты, клеветникам и хулителям?… Где тысячи академиков, докторов и кандидатов, кормившихся на толковании учения Маркса и Ленина? Где несметные полчища пропагандистов, лекторов и агитаторов всех рангов? Где они? Почему отмалчиваются? Приспела пора защитить идеи и идеалы, которые всю жизнь кормили и поили «марксистских идеологов». Жизнь зовет их на баррикаду. Вместе с ЦК. Вслед за ЦК. И промедление тут, воистину, смерти подобно!.. Промедление – суть гибели…»
Верно. И все же – глас к москвичам! Своих задевать – страшно!?
Не все мы могли разглядеть, что задумали, готовили и уже внедряли в действительность московские и иные перестройщики эти яковлевы, коротичи, гроссманы и герберы всех мастей. А нацелены они были на главное – на захват власти, госимущества, финансов, средств массового зомбирования и дезинформации.
Раздувая кампанию лжи вокруг Сталина, при котором русское государство по могуществу стало второй Державой мира, демократы подкладывали нам, «неразумным», своих вождей, типа уничтоженных в 30-х годах «врагов народа». Вот он вождистский букет, о котором со слезами на глазах, с восторгом и с любовью писал литератор Гроссман: «Блестящий …бурный, великолепный…почти гениальный Троцкий… Наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика, обаятельный Бухарин… Наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу, практик государственного дела волоокий Рыков… Способный к любому многосложному сражению в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев… Знаток международного рабочего движения полем ист-дуэлянт международного класса Зиновьев…»
Подобных этим «блестящим» и «волооким», с придуманными для доверчивого русского люда партийными и уголовными кликухами, погубившим в революционные и послереволюционные годы миллионы наших сограждан, и садили на наши головы новые революционеры. И многих, страшно многих – погрузили в очередной дурман, который в свое время, хоть и не сразу, но сумел разглядеть и победить «коварный» Сталин, к середине 30-х годов обретя силу, а затем и почти полную власть в созданном им государстве.
Победа эта связана с «репрессиями» 1937-1938 годов. Пострадало немало невинных, но немалым числом получила возмездие и – эта «ленинская гвардия». А поэт Станислав Куняев подчеркивает, что и сегодня: «Они (то есть «комиссары в пыльных шлемах» нашего времени – Н.Д.) ничего не забыли и ничему не научились, потеряв всякий разумный инстинкт самосохранения».
Весь 90-й год, штатно работая в аппарате писательской организации замом ответственного секретаря и литературным консультантом, делая номера «171», попутно отбиваясь от наскоков мародеров, держал я – в союзе с соратниками – наше правое дело. Меня, газету и тогда и в будущие годы открыто поддерживали писатели-москвичи Владимир Фомичев, Валентин Сорокин, Сергей Викулов, Анатолий Парпара, Станислав Золотцев, Владимир Топоров, питерцы – Николай Астафьев, Валентина Царева, Татьяна Баженова, Глеб Горбовский, Андрей Ребров, поэт и кубанский казак Виктор Жорник, Владимир Архипов и Петр Ткаченко из Краснодара, Лев Князев из Владивостока… Конечно, в Правлении Союза писателей России поддерживали, конечно, в журнале «Наш современник». Божеские в первое время цены на почтовую переписку позволяли держать связь с Русским Зарубежьем – в странах обеих Америк, Европы, Австралии.
Из тюменцев (и тогда и в будущие годы) в газете публиковались Николай Коняев, Борис Комаров, Юрий Надточий, Николай Смирнов, Виктор Корабейников, искусствовед Валерий Новиков, председатель общества Русской культуры Николай Фролов, его заместитель Станислав Ломакин, позднее – Сергей Камышников, Ольга Данилова, Сергей Ерёмин, еще ряд активистов, но на открытую поддержку, когда нужно было «лечь на амбразуру», отваживался только поэт Андрей Тарханов. Иные литературные земляки помалкивали в «тряпочку». И, честно говоря, в Тюмени «в разведку пойти» было не с кем.
Сделавшийся руководителем тюменского СП Сергей Борисович Шумский, азартно используя свалившуюся на него должность, куда-то ездил, надолго исчезал. Куда умчал, не сказавшись? – гадал я, приходя на работу в душный наш летний «офис» в Доме Советов с окончательно загубленным курильщиками фикусом в кадке-детищем уволившейся из писательской организации Зинаиды Беловой.
За полгода Сережа сумел командировать себя на литературные праздники – у Пушкина в Михайловском, на родине Тютчева и Фета, у Лермонтова в Тарханах, у Шукшина на Алтае, у Астафьева в Красноярской деревне Овсянке, где тот принимал поклонников, все больше прислоняясь к демократскому «крылу».
Что ж, приехавшему однажды в Тюмень «наловлю счастья и чинов» Шумскому, много лет бывшему на побегушках, выпал фарт! И он успевал им пользоваться в непредсказуемо полной мере. «Да уж!» – произнес бы Киса Воробьянинов из «12-ти стульев».
Воцарению Шумского на ответственном посту способствовала его номинальная верность с младых ногтей марксизму и ленинизму. (Куда закатал Энгельса?!) Два наших партийца – Лагунов и Шерман – на этом посту уже побывали. Других литпартийцев в областном центре не значилось. Да и прибывших на отчетно-выборное собрание северян, (как живописал мне тоболяк Юра Надточий) Сережа два дня перед форумом хорошо умащал кармацкого разлива настойками, в том же флаконе – игрой на баяне, особливо мотивом – «Не жалею, не зову, не плачу». Так что «черёмуховка» и Есенин способствовали тому, чтоб Сережа – при идейном своем совершенстве (в ВКП(б) он был принят семнадцатилетним, когда я учился еще в первом классе) – получил на два голоса больше, нежели другой кандидат в начальники.
Забавная подробность. Едва объявили результаты голосования, Сережа тотчас помчал в писательский офис (на пятом этаже Дома Советов), тотчас уселся на руководящее место. Новая секретарь-машинистка Таня Глебова, собравшись поздравить с избранием свежего руководителя, открыла дверь второй нашей комнаты и… расхохоталась. Шумский могутно сидел в наследственном кресле: крутая спина типа орудийной башни головного крейсера, но скромной длины ноги в обувке то ж несерьезного размера – не достигали пола…
Невольно вырвавшийся смех дорого обошелся Тане. Вскоре она лишилась места, на которое её устраивал Шерман. Умный предшественник Шумского нашел и умную помощницу. Таня окончила театральное училище, работала актрисой в театре, знала литературу, в отсутствии писателей могла принять посетителей, дать толковую консультацию. В отличие от строгой предшественницы «рукодельницы» Зинаиды Алексеевны Беловой, Таня курила, не отказывалась от рюмки, была компанейской девушкой. Впоследствии, попав в дурную компанию, была убита. Негодяи, уходя, подожгли однокомнатную квартирку Тани.
Негодяев – не нашли.
А как исчез с поста бухгалтера паренек Коля, который дивил нас несвойственными времени манерами и характером, вряд ли кто теперь расскажет. Коля соседствовал столом с Таней и писал ей любовные записки, стесняясь признаться в своих чувствах вслух. Еще Коля был исключительно пунктуален и аккуратен как бухгалтер, можно огласить забавные моменты его деятельности. Одна из них. Приехал как-то в Тюмень главный редактор журнала «Урал» Валентин Лукьянин. Зашел в Союз, чтоб поставить печать на командировочном удостоверении. «Не могу! – сказал Коля. – Почему? – подивился редактор. – Я писатель из Свердловска! – Вас нет в списках! – твердо ответил Коля. – Причем тут списки, я приехал сам по себе! – Все равно не могу без Шермана Евгения Григорьевича. – А где Евгений Григорьевич? – Евгений Григорьевич в отъезде, будет через неделю…»
С Сережей Шумским отношения мои складывались в 70-х – больше из дачного соседства в железнодорожном поселке Кар- мак. Сергей, как временный «соломенный вдовец», за 130 советских рублей купил там избу, где в избяном темном углу жил наследственный – от прежней хозяйки – белый мизгирь (паук). Ни на паука, ни на его паутинную сеть, ловившую мух и комаров, Сережа долгое время не покушался, хвастаясь «толковым» сожителем перед заезжими гостями.
Еще во внутренних покоях избушки Шумского голубел рукомойник со звонким соском, как у всякого почтенного, старой закалки, человека, томился чугунок горошницы на плите, пахло кулагой, квасом, суточными щами. Сережа любил и чаи. Пил их без сахара, зная секрет заварки, то есть – после второго «бурления» воды в чайнике.
Еще за приземистой печуркой в избе, низким, просевшим, как в военном блиндаже, потолком – серел топчан при двуспальном ложе, а торцом к простенку, с картинкой из журнала «Крокодил» при нем, значился стол с приделанной белой кривой ногой из ошкуренной осиновой жерди. Глядя на это произведение не затертой мысли, думалось, что проживет оно если уж не до самого светлого будущего, то до какой-нибудь «этакой» даты – несомненно!
В наследство от старой хозяйки избы Сереже достался пёсик по кличке Тобик. Был он в годах и вскоре помер. Возник лохматый Мурзик. Он больше торчал в нашем дворе. Мария подкармливала его вкусненьким. А Сережа обижался: переманили собаку! Мурзика убили путейские рабочие. Убили и бросили на платформу проходящего товарняка. Жаль, ласковый был песик. А много позднее в ограде Шумского появился Верный. Типа овчарки, но не овчарка. Здоровенный, злой, он мог сорваться с цепи, напасть на человека. Покусал Аню – кассира железнодорожного вокзала. Это было уже в демократические времена, когда даже у псов «крыши ехали». Шумский приговорил Верного к расстрелу. А поскольку Сережа ни в чьих вооруженных силах никогда не состоял, следовательно – не имел дела с оружием, нанял для исполнения местного «латышского стрелка». Тот и управился…
В соседстве Сережи, также по дешевке, приобрел и я заколоченное досками жилище. Избы наши и приусадебные земли разделял общий забор. Мы ладили вначале не только по-соседски, но и по-дружески. Ходили по грибы, зимой торили лыжные тропы, летом совместную окрошку «из сорока компонентов» делали. Как травник-знаток, сосед делал спиртовые снадобья на целебных корешках. В карманах и в портфеле носил снадобья в пузырьках и во фляжках. Потому слыл «в культурном слое Тюмени» за оригинала. Да и вообще начальное кармакское обитание было полно, во всяком случае – для меня, света и романтики. Отмечали это и мои тюменские гости, которых из-за невозможности разметить в моей 26-метровой городской «хрущевке», возил я в Кармак. Вот как вспоминал о кармакском гостевании поэт из северного города Мегион Сергей Лыткин:
«Деревушка вблизи Тюмени, где березы и тополя… Перед нами на обозренье не фамильное чье-то именье, а общественная земля! Мы идем Кармаком, степенны, трое – выходцы из крестьян. Землепашцев взыграли гены! Остальное – налет и пена, остальное – пустой бурьян! Я сто лет не бывал в деревне и готов услужить, поверь, деревенской – в шали – царевне: как послушен светло и древне ей колодезный ,журавель! В общем, здешний пейзаж, что надо! Неприметная в Кармаке, вот денисовская ограда, никакого тебе парада, домик крохотный на замке. Во дворе – мотоцикл с коляской, да синицы, да воробьи… Будто вышли из русской сказки эти окна, эти салазки, в куржаке все – друзья мои! Нам хозяин дверь отпирает, мы с морозом несем дрова, вот печурка уже пылает, и коньяк на столе играет цветом солнечным – торжества! Понемножечку разместились, как приличествует гостям, потихонечку угостились, по «единственной» причастились, рады всяческим новостям! Нам Денисов стихи читает. Мы пока не кричим «Ура», – наши губы с мороза тают, наши души предпочитают всё вобрать в себя до утра. Па пустое не отвлекаться (благо, наш графин не пустой), «За здоровье крестьянской нации!» – по какой такой облигации пал нам выигрыш золотой? По какому святому делу одаряет нас грешных жизнь? – Хорошо и душе, и телу, кто- то близок уже к пределу, и э/сена не гремит: «Сдержись!» Свищут жизненные метели… У судьбы слепой в кулаке, неужели мы, в самом деле, позабудем, как песни пели у Денисова в Кармаке?..»
Да, незабываемое! А сосед, квалифицированный огородник Шумский, еще научил меня в ту пору и практическим премудростям засолки огурцов, выращиванию петрушки, лука, а главное – умению выложить дымоходы в кладке избяной печки, без нее не обойтись было и в светлые минуты наших романтичных посиделок «вблизи Тюмени!»
Этих знаний, упущенных в деревенском детстве, мне было достаточно и в дальнейших периодических наездах в свою избу, которая стала тихим пристанищем для сочинительства, а не для убойных аграрных дел, на которые все пристальней расходовал свое огуречно-чесночное вдохновение сопредельный гуманитарий.
Еще во время одного из моих дальних загранплаваний, пока я штормовал в Тихом и Индийском океанах в качестве дублера третьего механика дальневосточного сухогруза, Сережа построил баню, «приватизировав» солидный кусок моей земельной территории – передвижкой пограничного забора. Затем возвел баню №2, из первой, потеснившую мой огород, как я называл – банной «стеной плача», сделал склад-музей, где хранил веники, пучки целебных трав, задушенных шпагатными завязками, и старинные реликвии – четыре мятых самовара, принесенных с помойки-свалки, там же раздобытый ржавый угольный утюг и еще пару подозрительных башмаков типа «прощай, молодость».
Далее стуки шумского топора-молотка раздавались при возведении кособоких сараев. Ах, подводил глазомер подслеповатого мужичка, учившегося когда-то плотницкому делу – «не настоящим образом». А я, намаявшись звуками монотонной топорной «музыки», как-то сказал мастеру: «Сменил бы ты орало на перо!» Сережа ответил тем, что забил гвоздями-сотками калитку в совместном заборе, через которую мы ходили в «гости» друг к другу. И по банному делу. Обнаружив заколоченный и для большей неприступности заваленный навозом «дружеский проход», понял я, что баню надо строить свою, суверенную. К тому и приступил, взяв за ориентир окуневскую баню «по-черному», где в детстве так хлебнул угара, что едва отпоили парным молоком…
Не стану утомлять тебя, читатель, нестроениями в дачных делах, но сей, шокировавший округу, случай – нельзя не обнародовать.
На кромке моей приусадебной территории, теперь вовсе впритык к погранзабору, росла старая роскошная черемуха, по весне она, в пору цветения, украшала местность, превращаясь в белый, благоухающий на всю улицу, ароматный шар. Внутри этого прохладного, тенистого шара – выщелкивал очень талантливый солист-соловей.
Побывав в такую пору в Кармаке, поэт Анатолий Кукарский, восторгаясь роскошным цветением, «нашел» здесь название своему новому сборнику стихотворений – «Черемуховые холода».
Однажды иду с электрички, жажду услышать соловья, но с переулка вижу: цветущего шара – нет. Все, что обильно свисало через забор в сопредельную ограду, отпилено, отрублено, откромсано. А на лавочке возле своих ворот, посреди благоухающего мая. словно бы только что вернувшийся из глубины сибирских руд, сосед мой – в треухе цвета осеннего можжевельника, в ватных штанах, в валенках с калошами.
«Зачем черемуху угробил?» – кричу хозяину двух бань и огорода. – «Не понимаешь? Все дожди с куста скатываются под мою избу, нижние венцы уже плесенью взялись…» – «Такую красоту загубил, эх, Сережа!»
Оскорбленная душа продолжила горькими строчками:
…В пору зла и крушенья систем, Где кувшинные властвуют рыла, Сколько разных неслыханных тем С перестройкой возня породила. Вот и нынче, весной удалой, Цвет черемухи – Божье творенье. Мой сосед поперечной пилой С похмела раскромсал на поленья…Но я еще пытался склонить Сергея к выпуску газеты, к поиску спонсорских средств, к писанию горячих материалов. В начале, завершив свои начальнические хлопоты по переезду писательской организации из Дома Советов в деревянный особняк на улице Осипенко, чем создал у нас полный раздрай, не всем нравилось переселение к «черту на кулички», он поневоле писал, но без огонька, без того, что называется – положить себя на алтарь Отчизны своей.
Да что я о высоком, об «алтарях Отчизны»! Шумский, с чего, до сих пор не пойму, получивший от кармациких мужиков тихое прозвище «еврейчик», в основном специализировал перо на оазисе своего хорошо возделанного огорода, на проказах кротов да хомяков, что чинили урон заготовленной им на зиму картошке. Иль возвышался до лирического воспоминания о далекой, из детства, конюшни, в коей «увековечивал» мерина по кличке Байкал.
Образчик шумского стиля на конскую тему: «…Исхудавший больной Байкал сидел на подвернутой правой ноге, левую далеко выставив вперед, и часто пукал, словно из пулемета строчил».
Представьте-ка! Пошловатый ловкач какой-то, а не старый колхозный трудяга, о котором не грех бы сказать доброе слово.
Как-то, привычно сутулясь и как бы разглядывая что-то на полу сквозь толстые стекла своих очков, Сережа раздраженно бросил мне: «Моя должность не позволяет мне заниматься политикой»»
Резонно: не по зубам это хозяину двух бань и огорода, автору хилых сочинений про мерина, про беспокойных кармацких грызунов!»
3
К октябрю 93-го года, когда в Москве произошел кровавый переворот, когда президент РФ – выходец из уральской деревни Будка Борис Ельцин – вместе со своими приспешниками – черномырдиными, ериными, грачевыми, немцовыми и лужковыми – приказал расстрелять из танковых пушек мятежный Верховый Совет России (фактически расстреляв историческое прошлое страны), нагромоздив горы трупов, многие патриотические издания в столице и других городах были разгромлены. Их редакторы и сотрудники скрывались по глухим «норам» и лесам. Нас в Тюмени не тронули. И я вместе с новым техническим секретарем и отважным журналистом Петром Тарасовичем Григоровым готовил к выпуску очередной номер «Тюмени литературной». Добрую треть его составляли «мнения и отклики» на кровавые события в Москве. Не все в России струсили и запечатали свои рты, страшась репрессий обезумевших демократов. И в эти черные от танковых залпов дни в Тюмени нашлись люди, согласились на открытые интервью, на краткие заметки по поводу кровавых дел в России. И мнения эти были мной обнародованы в «ТЛ».
К этой поре мы как-то очень легко приобрели уже статус Всероссийского издания. Приехав в Москву, я в какие-то полчаса, пообщавшись с сотрудницами регистрационного отдела Министерства печати, вручив им выписку из протокола собрания тюменского ТАЛа (ассоциации писателей), получил свидетельство «Всероссийской газеты «Тюмень литературная» за подписью замминистра Федотова.
Дамочки из отдела вначале вручили мне «смешную» квитанцию (оплата за регистрацию) на сумму 3 рубля и 62 копейки (замечательно, столько еще стоила в ту пору бутылка водки!), сбегал в ближнюю, за углом, сберкассу. А когда вернулся, Свидетельство было готово: действуйте, желаем успехов! (Произошло сие 29 октября 1991 года).
Знали бы – каким «монстрам» патриотизма выдали документ!
И вот, зайдя в типографию Дома печати, где ночью «откатали» свежий номер Всероссийской «ТЛ», взяв пачку газет, иду в «писательскую деревяшку», как мы стали именовать, с легкой руки драматурга Зота Корниловича Тоболкина, пристанище на Осипенко, 19…
Вновь замечу, переселялись мы не просто с неохотой, а «с боем и скандалом». Шумский – инициатор переезда, как говорящий скворец, «трещал», что нас все равно из Дома Советов «попросют», а коль власть предлагает приличный особняк, будем переезжать. Дом двухэтажный, памятник деревянного зодчества XIX века, оттирремонуем, деньги на ремонт обещают дать нефтяники. И места хватит всем! Сделаем, мол, в «лишних» комнатах гостиницу, литературный и музыкальный салон, обязательно сауну, восстановим «каретный сарай» бывшего дореволюционного домовладельца.
Гостиница? Не плохо! Приехал кто в гости, есть для него койка для ночлега! А вот какой-то «каретный сарай» (а на хрена?): блеф и авантюра! Проще сказать, Сережа задумал приобрести место работы, на которой, вероятно, собирался столоначальничать долго, поближе к своему дому! И подальше от лишних глаз устраивать застолья, на которые он – в отличие от Шермана и особенно Лагунова – оказался зело изобретателен и предприимчив.
Супротивники-оппоненты шли говорить с областным начальством. Областное – в лице председателя облсовета Владимира Ильича Ульянова – пообещало за отказ от дома по Осипенко, 19, в пользу структур облсовета, расширить наши апартаменты в Доме Советов еще двумя комнатами – для редакции «Тюмени литературной» и для ТАЛа (издательской структуры, созданной нами недавно). К тому ж, мы бы остались в центре города, со столовой, при трех конференцзалах, где нам не отказывали для проведения семинаров молодых, общих собраний, встреч с интересными заезжими писателями…
Шумский переупорствовал. И стало сие после переселения одной из причин зревшего «внутреннего восстания».
…Время – между 11-ти и 12-ти дня. В большой комнате второго этажа в одиночестве мечется Шумский. Мрачен. Растерян. «Что случилось, Сережа?» – «Они меня выгнали из моего кабинета!» – дрожь в голосе.
Ничего пока толком не понимаю, но догадываюсь: «они» все же решились на «конституционный» переворот – отлучить от «руля» законно избранного Шумского и создать новую власть в организации!
Совсем недавно подкатывал ко мне очеркист Александр Мищенко и вербовал войти в группу захвата. «А кого вы наметили в руководители?» – спросил я. – «Председателем Правления будет Валентин Крылов, ответственным секретарем Шамсутдинов, членов Правления и ревизионную комиссию изберем на собрании…»
«Какое Правление? У нас такая структура и в Уставе не значится!» – рассмеялся я, и мы разошлись по сторонам.
Да и я считал, что С.Б. Шумский не большой подарок для организации, но президент издательской структуры ТАЛ (ассоциации) Крылов с его «вице» Мищенко – вовсе не тот компот! Наворочали бы они дел, надо полагать! Успев «окучить» нескольких денежных мешков, обманув, собрав деньги, также ряд доверчивых товарищей с изданием их книг, в том числе Тюменско-Тобольскую епархию, напечатав своё, ударились они в угар торговли ходовым спиртом «Ройяль» и не менее ходовыми стиральными машинами «Вятка». В Москве и Кирове держали представительские квартиры. Ездили исключительно в вагонах «СВ». Словом, кинули, созданную с помощью Союза писателей, издательскую структуру – в коммерцию, в базар. Не за этот базар голосовали мы на писательском собрании, а я подписывал «крыловские бумаги» для регистрации ТАЛа у тюменских городских властей. (Шумский в ту пору был в очередном литературно-познавательном вояже).
И вот они тут как тут!
Дернул дверную скобку шумского кабинета. И – картина! Взгромоздясь на председательское место, горячо ораторствовал Мищенко. Сидели – готовый воскресить из мертвых всех ранее усопших, недавно принятый в СП политрук аэропорта «Плеханово», именовавший себя (во, бля!) аж генералом авиации, Крылов, также сидел Шамсутдинов, также шофер-поэт Петя Суханов, не очень твердо сидящий на стуле известный драматург Тоболкин, тоболяк Сайт Рахвалов, других не вспомню. Пока Зота Корниловича поправляли на стуле, поднялся Рахвалов, нервно бросил заговорщикам – «А ну вас!..» Направился к выходу. И тут Мищенко завлекающим жестом «бросил» мне: «Заходи, Николай Васильевич!» – «Нет, Александр Петрович, в вашем путче я не участник!» – и прихлопнул за собой дверь.
Путчистам не хватило одного голоса, чтоб иметь большинство на «ихнем» собрании. Законном, незаконном? Уставном, не уставном? В ту пору и не такое случалось в расстрелянной стране. До законностей ли?! Так что подари я свой голос мятежникам, неизвестно какие б «дела» последовали у пас в дальнейшем! И, скорей всего, от организации откололось бы её немногочисленное «патриотическое крыло», которое сохранили мы и доныне.
Таким «голосом» мог быть Евгений Вдовенко. Жил он еще в ту пору в таежном поселке Советский, появляясь в Тюмени не часто. Вербовать поэта в заговор был командирован крыл овцам и известный Зот Корнилович Тоболкин, пьесы которого ставились на многих сценах. Но бывший десантник Вдовенко, оценив ситуацию, не постеснялся авторитета, послал его «куда надо»…
Весть о восстании в писательской организации каким-то боком докатилась до областной администрации. Шумский сказал мне, что его приглашают в такой-то отдел «на собеседование». «Да на разборку приглашают! Пойду и я! Для поддержки!» – сказал Сереже.
В присутственном месте бывшего облисполкома нас встретили две подтянутых и хорошо причесанных сотрудницы администрации – известные мне как недавние работники тюменского горкома КПСС. Тут же сидели, опередив нас своим приходом, Крылов, Мищенко, Шамсутдинов и … почему-то Саша Гришин, ни каким боком к нашей писательской организации не относящийся.
Едва Шумский произнес слова о том, что случившееся на днях в Союзе писателей – дело не уставное, с чем согласились хорошо причесанные дамы из администрации, а троица мятежников задумчиво промолчала, как Саша Гришин прокурорским тоном завел совершенно иную «песню», не относящуюся к теме встречи: «А почему до сих пор на свободе редактор фашистской газеты Денисов? Вы посмотрите, что он печатает в последнем номере? Вот, вот, почитайте, что заявляет в газете председатель московского Союза офицеров Станислав Терехов, который скрывается от нашей демократической власти неизвестно где!» – тыкал пальцем в последний номер «ТЛ» Гришин.
Набрякло молчание. Начальственным и бывшим партийным дамам было неловко. Поёживалась остальная присутствующая гвардия.
«Ну еще что скажешь, Саша? – услышал я собственный надтреснутый голос. – Скажу, – ответил Гришин. – Имею право. Я такой же член Союза, у меня и членский билет такой же, как у вас с Шумским!» – он вынул из кармана красные корочки с золоченым орденом Ленина на лицевой стороне и надписью – «Союз писателей СССР». Я знал, сообщали в прессе: демократы-апрелевцы, нахрапом захватив помещения Правления Союза писателей СССР на улице Воровского в Москве, завладели хранившимися там чистыми бланками, выписывая их членам новообразованного «Союза российских писателей» – наследнику оскандалившегося «апреля».
Что-то еще говорить не хотелось. Мерзость и сволочизм «собеседования» били через край.
Успокоилось, улеглось, покатилось дальше – в демократию.
Улеглись страсти и по переселению Союза на новое место.
Но от нас почти целиком отпал Север, северяне (Югра и Ямал) создали с центром в Ханты-Мансийске свою суверенную писательскую организацию. Возглавил её Андрей Тарханов.
Северная и южная организации СП невольно впали в «созидательный» раж, соревнуюсь в количественном составе. Как тогда мы говорили, «принимали в члены СП пачками». Шумский приурочивал прием к областному семинару молодых, на повестку дня «выставлялось» порой до восьми кандидатов в Союз одновременно. «Никогда такого не было ни при Лагунове, ни при Шермане!» – говорил я Сереже. – Если так дела будешь вести, скоро и Шарик сторожа Тамары станет членом Союза писателей России… А давай и Шарика примем!»
В ту пору и Москва, её приемная коллегия СП, ослабила тормоза строгости, о чем то и дело била в колокола «Литературная Россия», предлагая рогатки на пути недостойных. Опубликовал и я там свою статью под хлестким и беспощадным заголовком: «Секретарь в законе».
Будируя, говоря казенным языком, эту тему, отбивала склянки и «Тюмень литературная», местная профсоюзная газета «Позиция» (редактор Ю.И. Крюков) вступала в разговор. В ответ Шумский издал указ, который лишил «ТЛ» права пользоваться в «деревяшке» телефонной связью. Тем самым он положил начало серьезной «войне» меж нами, также ближайшим его окружением из новообращенных, готовых разорвать нас с техническим секретарем «ТЛ» Григоровым, как Тузик хозяйственную сумку. Приходящая нам почта валялась в непочтенных местах, обнаруживалась вскрытой, порой и выброшенной в мусорный угол.
«Тюмень литературная» занимала комнатку напротив каминной, где к трем часам пополудни ежедневно вспыхивало дружеское «чаепитие». К пяти предвечерним часам оттуда, с «чаепития», неслись возбужденные голоса, крики, а к шести – подкатывал срок шумных разборок, а порой и серьезных потасовок.
О гостинице, о сауне, о каретном сарае и о других маниловских прожектах речи уже не звучали. Какие «сауны»! Сережа, отремонтировав дом на «нефтяные деньги» (тут ему – хвала!), в дальнейшем со своими сподвижниками не удосужился возвести хотя б приличный гальюн-сортир. Литературная и других званий братия, подобно южно-американским индейцам, по нужде бегала в дальнее, унаследованное от прежних коммунальных жильцов, дворовое заведение с гнилыми, чрезвычайно опасными досками пола и при выгребной яме, по теплу зело шибающей ароматами. Великой отваги стоило добежать туда с подскоками в злой мороз, побыть какое-то время, заплатив за это здоровьем, а, может быть, впоследствии, и молодой жизнью.
Зато в могучем сейфе бухгалтера всегда находились денежки на «чай», предназначенные по смете расходов на «устное рецензирование» рукописей, поступающих в организацию.
Терпение наше закончилось, когда «оттуда» явился стихотворец, недавно откинувшийся от «хозяина», и предложил мне «покурить травки». «Рецензенты» подослали?! Дела-а…«А ну дуй отсюда!» – ответил. А Григорову сказал: «Больше, Петр Тарасович, здесь нам делать нечего, будем работать дома!»
А дома – открытка от Сережи. Извещалось, что согласно «решению собрания писателей» (в каком закрытом подвале таковое прошло?!) я исключен из состава Бюро организации. Еще Сережа оповестил, что ежели я не прекращу «подрывать его авторитет», он подаст на меня в суд! Во, куда завернуло борца с кротами и хомяками!
Комнату нашу занял вернувшийся из «апреля» Васильев, быстро нашел общий язык с Шумским, тот ввел его в Бюро и в пожарном порядке оформил документы на звание заслуженного работника культуры РФ.
Васильев приехал из Омска в начале 60-х автором небольшой книжицы стихов и первое время сидел на семинарах молодых за почетным председательским местом. Постепенно мы, его «ученики», становились членами СП, а Анатолий Иванович, обретая звезды на погонах военного медработника, а занимался он на военной кафедре мединститута исследованием «боевых отравляющих веществ», все тоскливей козырял нам, заходя временами в писательскую организацию. Прокозырял «шестидесятник» до 1988 года, получив членский билет СП, как отмечено выше, с четвертой попытки. Не за стихи. На этом пространстве он успеха не явил. Обратился к прозе о декабристах. Написал о Кюхельбекере. И тоже вначале не помогло с приемом в СП. Причина – малый художественный уровень!? А, возможно, «смущали» идеологические метания Васильева: от красного флага – «лейтенанты целуют знамена», прославления омских мадьяр-интернационалистов, а в перестройку – дрейф к «белым одеждам» офицерства и «благородного» адмирала Колчака.
Адмирал, конечно, был способным морским командиром, известным полярным исследователем. Но – судьба: в гражданскую стал кровавым карателем сибирского крестьянства, сотнями, тысячами загонял его в братские могилы, вешал на телеграфных столбах. Таким он, Верховный правитель России, больше запомнился русскому народу. Впрочем, и предан был на погибель своими же союзниками-соратниками.
«Гаспада, гас-па-да! Выпьем за адмирала Александра Васильевича Колчака!» – по-гусарски вздергивая локоток, вздымают тосты нынешние поклонники «благородного» адмирала, знавшего еще толк в любви, в игре на гитаре и в исполнении душещипательных романсов. На кровавом фоне расстрелов, виселиц, порки шомполами…
Это к слову.
И все ж за прозу о декабристах Васильев, наконец, был принят в СП.
Но вот, к сведению читателей, несколько современных строк о противостоянии декабристов. Известно: их бунт 1825 года подавили. А победи заговорщики-масоны, что бы произошло тогда в России? «Победители первым делом вырезали бы всю до единого человека царскую семью, всех царских родственников, включая самых дальних, – пишет в своей повести «Московский златоуст» Александр Сегень. – Декабристы были даже не предтечами большевиков, они были предтечами нацистов. Двум миллионам евреев грозило поголовное выселение в Палестину, которая была в составе Оттоманской империи, где евреям грозило полное истребление… Та же участь ждала татар, которым запрещалось бы сначала традиционное многоженство, а в дальнейшем и исполнение других мусульманских традиций. Финнам вменялось учить русский язык, а на своем разговаривать только дома… Люди второстепенные, посредственные, не нашедшие применения в государственной службе, чаще всего по недостатку талантов и устремлений к ней, декабристы шли в масонские ложи, а через ложи дальше в революцию… О том, что они собою представляли на самом деле, красноречиво свидетельствует их жизнь в Сибири, где самым ужасным было отсутствие развлечений. Вероятно, духовной жизнью в их среде и считались всевозможные развлечения…»
Таковы нынче трезвые суждения о бунтовщиках дворянах. А наш пропагандист «светочей свобод» А.И. Васильев писал о них, как и большевистские адепты декабризма, в прекраснодушных тонах.
О ТАЛе. Тут хоть «повестуху» сочиняй. Постараюсь – короче.
С отъездом Крылова на свою родину в Благовещенск, где он умер от инсульта, о ТАЛе забыли. Но – не все, однако. Печать ассоциации хранил – на всякий случай! – директор областной библиотеки, то ж сочинитель, Анатолий Марласов. И «случай», спустя энный срок, возник. В библиотечной подвальной бане-сауне приватно сошлись три хлопца – Марласов, Мищенко и свежепринятый в СП Саша Кравцов. Там, на полке в парной, и произошло «помазание» Кравцова на президентство в ТАЛе. Информацию, без упоминания сауны, довели до широкой и узкой общественности. Ладно. Хотя потребность в издательской структуре ТАЛ давно уж отпала: куда ни кинь взор в Тюмени и в окрестности, всюду – частные издательства и типографии с набором техники. Плати деньги, напечатают хоть чёрта!
Несколько замет о новоиспеченном. Раньше Саша Кравцов скромно посещал литобъединение, которым я руководил. Писал он зарисовки, живописные рассказики о своих путях-дорогах наблюдательного топографа. Я публиковал их в «Тюмени литературной». Мы ладили. Был он скромен, сдержан. В одежде аккуратен, коротко подстрижен, хорошо побрит, при галстуке. Глядел с прищуром, наклонив круглую головку, как любопытный петушок. В размахе перестроечных дел явил он предпринимательскую жилку. Создал посредническую фирму (по поставкам чего-то!), потекли в карман хорошие суммы, но недолго. Уехал однажды в командировку, а приехал уже не хозяином прибыльного дела. Свои же, братаны-фирмачи, дальше порога не пустили: «Всё! Мы хозяева! Гуляй, Шура…»
Вернулся в свою топографическую контору-экспедицию. Успокоился. Работал по специальности. Издал небольшую книжку прежних своих зарисовок. Попросил у меня и у Тоболкина рекомендации для вступления в Союз писателей. Сказал при этом: «Вы в Тюмени примите меня в СП, а за Москву не беспокойтесь, там у меня всё схвачено, утвердят!» Мы подивились столь редкостному заявлению-откровению. Но так и вышло: получил он членские «корочки» – без проблем. Приспело и банное президентство. И молодой коллега наш Александр Борисович Кравцов стал вдруг (направо и налево), под покровительством деловых друганов-свердловчан, именовать себя… «шефом тюменских писателей».
С ума сойти!
Случалось, звонил я «шефу» по старой дружбе, приглашал на общие собрания писательской организации. Он отвечал: «Мне, знаешь, некогда… Занят… Ты там проголосуй, Николай Васильевич, от меня… Я ж тебе доверяю!»
Чудеса в решете! Столько неожиданной чести! И что только не делается с людьми, приобрети они хоть малую значимость. Не зря ж, наверно, оглядывая российскую действительность, Гоголь воскликнул однажды: «Скучно жить на этом свете, господа!»
Маяковский через много лет после сего восклицания затвердил по своему поводу: «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки».
Как-то сорвался Саша Кравцов со своим «доверием», выпрягся, как в селе у нас говорили. «Ты, – говорит он мне однажды, прекратил бы задевать евреев в своей газете, а то я перестану тебя поддерживать!» Ух ты! Похоже, собрался он «отметиться» теперь аж в «Золотой книге» страны Израиль, куда заносят имена друзей еврейского народа и других уважаемых людей?! Я ответил: «Ваше степенство, Саша! Мне только и дел, что беспокоиться об этом контингенте… Да и ты, вроде, русский мужик, должен болеть за наши русские беды. Столько их нынче! Присмотрись-ка… Поверь моему чутью стреляной собаки, не пропадут они, твои подопечные! Выживут твои «шкерданы»! Пойми…»
Не захотел. Сочинил еще книжку. Не простую. Модную «сексуальную тему» поднял, которой грешат ребята – из того продвинутого лагеря. Издал. В отличие от теплых полевых зарисовок, получилось беспомощно в литературном плане и грязно – в нравственном. Но свердловские его друганы отметили сию книжку – из своего общака! – почетной премией, замаскировав, закамуфлировав нейтральной формулировкой: «За успехи в руководстве литературным процессом».
На сей «обнаженке» и завершил А. Кравцов свой литературный путь. Заболел, умер. Оставил близким машину-«иномарку» и возведенный двухэтажный коттедж. Ну... хоть так.
Николай Шамсудинов, разочтясь с Шумским, как он говорил, «не по идеологическим, а по нравственным мотивам», в рамках Союза российских писателей учредил в Тюмени свою организацию, набирая в её ряды беспризорных тружеников пера. В культурно- общественном плане «российские» – как организация – как-то не прозвучали.
Мищенко, кто бы мог подумать, был обласкан Шумским. Сережа начал оформлять его на заслуженного работника культуры РФ, но один из наших правдолюбцев заметил Сереже: «У тебя что – совсем гуси улетели!? Прекрати!».
Начинал Мищенко как толковый документалист. Услышав об интересном человеке, мог сорваться с места, найти этого человека, жить с ним рядом, делить все «тяготы и лишения» кочевой жизни, потом выдать на-гора читабельный очерк. Издал ряд книжек таких очерков. Но так продолжалось до некоторых пор. Вдруг документалист «решил» писать романы, наполняя объемные книжные «кирпичи» отрывками из старых своих сочинений, выписками, цитатами из «умных» книг, диктофонными записями случайных разговоров, якобы ложащимися в «романное русло». Свежака не обрел, а хорошо наработанное подрастерял…
Ну, а Шумский, напуганный «путчем», старался не «дразнить гусей», растил ряды очлененных сторонников. Самому близкому из них, «искусственнику» Мише, как брату по разуму и литературным способностям, сделал положительный протокол приемного тюменского собрания, на котором прокатили Мишу на вороных. Правильно прокатили: с какого бы боку не брался «искусственник» за сочинительство, все равно получалось – «семь сорок». Почти усыновленный Шумским, «искусственник» ликовал от счастья быть принятым в СП и грозился «порвать пасть любому» за слово, брошенное поперек ветхозаветного шумского валенка.
Другого собутыльника, тянувшего условную лямку за бытовое воровство, Сережа внедрил в СП без крупных потрясений.
«Интересные» времена настали под сенью «деревяшки». С десяти членов СП при Лагунове организация выросла, считай, в три раза!
А мне в «Тюмени литературной», которая побывала под Союзом и под ТАЛом, то есть пользовалась их банковским счетом, пришлось открывать свой счет и на плаву держаться самостоятельно.
Доходов «ТЛ» давно не приносила. О зарплате мы и речи не вели. Дай Бог, наскрести на оплату типографских услуг. Но газета, хоть существенно и снизила свой тираж, позволяла иметь выход к читателям, поддерживать одаренных молодых, печатать материалы, которые – из-за остроты – отказывались публиковать другие издания в Тюмени, в Москве, Питере…
Особенно дорога нам с Григоровым, да и нашим читателям, была связь с дальним Русским Зарубежьем, также с его писателями, поэтами, публицистами. Многие из них впервые – за всю историю эмиграции! – были опубликованы у нас в «ТЛ», стали достоянием отечественного читателя. При поездках зарубежников в Россию, встречался я с ними в Москве, в Питере, в Тюмени, получал приглашения – погостить за океаном, в Южной Америке. Первая моя поездка в Венесуэлу произошла в мае 1991 года. Вчерашний краснофлотец я ринулся к соотечественникам – в самое «логово белогвардейцев». Нормально. Классовые и идеологические препоны – по боку. Нас соединила тепло и дружески единая любовь – к России. Удивительно: в первом же застолье – они, «белые», завели «красную» песню: «…Путь далек у нас с тобою, Веселей, солдат, гляди. Вьётся, вьётся знамя полковое, Командиры впереди... Солдаты – в путь!» Я отвечал: «...Мы сумрачным Доном ведем эскадроны, И нас вдохновляет Россия одна. Корнет Оболенский, раздайте патроны, Поручик Голицын, налейте вина!» – «Откуда знаешь нашу песню?» – «Знаю! На одной планете живем!» – «Так выпьем за Россию!»
Первый тост – да, за Россию! Обязательно – стоя.
Общения эти и поездки рождали новые строки, становились книгами.
Петр Тарасович Григоров, крестьянин из голышмановской деревни Евсино, дипломированный филолог, наизусть знавший все варианты перевода «Слова о полку Игореве», взял часть этих «зарубежных хлопот» на себя. Воспитанный дедом – царским Георгиевским кавалером, он горячо писал и своё – боевое, задиристое, русское. А жил скудно, перебиваясь дешевыми «суповыми наборами» или – при полном безденежье – сбором бутылочной тары, на которую отправлялся рано поутру, чтоб случайно не нарваться на знакомых. Стыдно ведь! А что делать? Порой я «заманивал» Григорова к себе домой, и Мария наливала ему горячего борща. Не отказывался, нахваливал хозяйку, хлебал, утирая обильные поты.
В конце 1999-го соратник мой Григоров умер, скоротечно истаяв от вспыхнувшего в нем туберкулеза, залеченного в советские времена.
Последнее, что стоит перед взором до сих пор: комната Григорова в панельном «пансионате», продавленный диван, с которого он, бодрясь, произнёс – «Ничего, пробьемся!». Шкаф с книгами. Стол. Старенькая печатная машинка на нем. На стене – большой красочный портрет государя Николая Александровича. Тут же Георгиевский крест деда, полученный им на войне с германцем, на Первой мировой.
Вот и всё.
«На газете», которую я стал делать и издавать в виде небольшого журнала – типа белогвардейского «Наша страна», приходящего к нам из русской колонии США, остался я один…
4
В морозную полночь, под южно-сибирское село Армизон, в джунглевую кипень сухостойного зимнего камыша пограничного с Курганской областью озера Черного, где когда-то в осенние деньки любили поохотиться на уток маршал Семен Михайлович Буденный и писатель Михаил Александрович Шолохов, сбегались волки. Особи из северных урманов, вагайских болот, приишимских нор, отрытых серыми под корнями древних, еще времен столыпинских реформ, берез. Волчата-перволетки не отставали, след в след стелились по застругам сугробов под доглядом строгих матерей-волчиц.
Повестка сбора была известна волкам заранее. И серые, помахивая заиндевелыми от мороза хвостами, без бюрократических думских поправок, приняли однозначное решение: не есть мясного! Причиной тому – положение с КРС и овцами в обнищавших за годы демократических реформ крестьянских хозяйствах, – как сообщил в общезвериную канцелярию, что под Ханты-Мансийском, скипер волчьей сходки, специально прибывший в Сибирь, седой и старый брянский волк.
Я помню еще сталинские времена! – пощелкивал зубами старо-породистый волчара. – Фермы кипели от курдючного и тонкорунного овечьего поголовья. В буранную ночь можно было зарезать пару жирных барашков и благополучно унести ноги. Буря снежная все следы покрывала… При Хрущеве и его робких последователях стало много голодней… А нынче – «полный альбац», как говорит радио «Эхо Москвы». Предлагаю перейти на вегетарианскую пищу. Ха! Седые волки говорят: Гитлер был тоже вегетарианцем, а какие кровавые дела творил! Но Гитлер нам, коллеги, не пример. Мы уж тут сами с усами…
Весть о том, что вековечные кровавые разбойники решили стать вегетарианцами, подвигла делегацию зайцев отважно нагрянуть к волкам со сладкими осиновыми ветками. Тут же ломанули к волкам и кабаны, выпахивая рылами из-под снега хрусткие шилышки, коренья приозерного гусиного лука и широкопёра…
А в это время полная луна высветила в отдалении сосновую гриву – Заводоуковскую. Тут сошлись, уцелевшие от новорусских браконьеров, могучие красавцы лоси. Грозно и мощно тряхнув монолитными рогами, они двинулись негустым отрядом копытных в подмосковный поселок Речной, где агрессивные японские экскаваторы рушили жилища мирных россиян. Лоси решились на защиту совсем не способного постоять за себя электората. Успеют ли добежать, защитить ослабших граждан от японского железа, от префектных чиновников, от жестокосердных приставов? Об этом знала одна ЛДПР и её фюрер Жириновский: он собирал митинги, толкал цветистые, громкие, правда, ничему не обязывающие речи.
Если на подмосковной земле царил, спущенный сверху, рукотворный бандитизм, то на Гаити, где в лучшие времена бывал великий мореплаватель Колумб и скромный автор данных строк, бесчинствовали подземные тектонические силы, спровоцированные геофизическим оружием США.
Великая людская трагедия – землетрясение – нашла отклик в другом зверином мире – тропическом. Гады жарких болот – крокодилы,-гремучие змеи вкупе со страхолюдными пауками и карибскими акулами, «дали зуб», что кроме крови штатовских бандитов- оккупантов, нагрянувших на Гаити тысячами, не уронят и капли крови аборигенов несчастного островного государства.
Откликнулся и людской мир. Отчасти. Поскольку от людского мира надо непременно отчислить многих новорусских, в представлении которых «Колумб» да и «Магеллан» тоже – не что иное, а наши тюменские супермаркеты, круглосуточно торгующие их любимой фирменной водкой – «Парламентская»… Отчислили. И стало видней, как знакомые мне индейцы ближней Венесуэлы, наполняя емкости водой горных рек, снаряжали пироги на остров, где от жажды умирали взрослые и дети. Не знающий чем помочь несчастным, единственный на Боливарианскую Республику жираф в зоопарке города Баркисимето нацепил на возвышенную свою голову красную кепку, таковую носят сторонники отважного венесуэльского президента Уго Чавеса.
Небесные и подземные силы слали грозные знаки современному миру: живёте не по-людски! А мир, управляемый стяжателями и злодеями, мир, к сей поре лишившийся умных вождей, каковыми были Сталин, Ганди, Черчилль, де Голь, Рузвельт, трещал по швам, катился в сатанинскую преисподнюю.
А самая «цивилизованная» страна Америка то и дело спускала с цепи псов-морпехов, в кровь рвала то Югославию, то Афганистан, то Ирак, то Ливию вбивала в крошево пустыни, то под нашим еще Смоленском примерялась высадить цивилизаторов. «У вас нет демократии, тогда мы летим к вам!»
По Российской Федерации скакала пермская «хромая лошадь», роняла с небес самолеты, опрокидывала железнодорожные экспрессы, пароходы топила…«Эк, разобрало хромую!» – взирали сопредельные народы и государства. Много чего позволяла лошадка. Даже сочинять и отмечать наградами погибельные для души книжки.
Телеэкраны брызгали ядовитой слюной бесчисленных смехачей, издеваясь над болью исчезающего русского мира.
Но землячки мои, бердюжские, в сарафанах цвета незабудковых полян, еще пели в плохо прогретых сельских клубах степные русские песни, стараясь удержать на местном пространстве эту раздольную красоту. А мое родное «село поэтов», Окунево, созывало гостей на пятилетие первого в Тюменской области литературного музея, созданного с моей подачи земляками и еще отзывчивой деревенской властью.
Однако. Собратья-поэты, что стояли за Россию, получали повестки в демократические суды, где их силились согнуть морально и физически. Другие «собратья», авторы бесцветного словесного бульона, цинично посмеиваясь, «рубили бабло». И осыпали себя – под завывания местечковых скрипок – самодельными знаками доблести «За служение литературе».
Как сообщали источники из Атлантиды, ушлые ребята из Катерининбурга, града, вернувшего себе в перестройку имя Марты Скавронской, но так и не отмывшегося от цареубийства, изобрели еще один эффективный способ отъёма денег у граждан и властей РФ. (Остап Бендер со своими жалкими, на грани нарушения Уголовного кодекса, потугами – отдыхал). Придумали награждать что-то там пишущий народ – Всероссийскими премиями. Дело, вроде б, благое. В чем закавыка? А в том! Выдали, скажем, награду знатному каретнику Михееву. Замечательно! Михеев делает такие кареты, что в пору на них ездить государю императору, даже Путину, если пожелает. Но хлопочет о премии и другой претендент по фамилии Доезжай-Недоедешь. Что он сотворил, страна не ведает. Даже Николай Васильевич Гоголь. А учредители премии знают: Доезжай-Недоедешь, о-го-го, служит в денежной заполярной мэрии. И может купить эту премию: два раза плюнуть! Еще с лихвой оплатить её обозначенную значимость! То и требуется учредителям!
И катится премиальный вал. И шумы и звоны стоят – до угольного Тулеевграда, до оленного Ямала, до готового «рюхнуться» в новый искусственный «голодомор» несчастного Поволжья.
Вот созрел для наградных дел Пробка Степан. Силища. Трех аршин ростом. Ему бы в гвардии служить. Всюду заметен. Наградили!
Опять явление. На этот раз – Елизавета Воробей. Кто такая? Что написала Лиза? Вообще-то это не Лиза, а мужик – Елизавет.
Ублажили и Елизавет: меценат, обласканный елейным словом учредителей, мошну раскупорил. Кто? А сам Неуважай Корыто. Банкир с уклоном в сочинительство. Себе премийку прикупил, чтоб в кругу воротил похвалиться. Да что там! Горазд откупить номер столичного, даже самого распатриотичного журнала. Для своих нужд. Мол, знайте, уважайте! И уважают: «Надёжа ты наш, государь, масляна головка!»
Нынешняя картина маслом!
Озвучивать же «имена, адреса, явки» распорядителей наград ни
заграница, ни автор не берутся, оттого что, как не озвучивай, имена эти настигает ветер и относит в сторону Синайской пустыни, к берегам Мертвого моря. Правда, нейтральные к премиальным делам товарищи, крестясь на случайную часовню, уверяли, будто бы заправляет торжищем гоголевский капитан Копейкин, инвалид на деревянной ноге. Но – «Не трогать мужественного воина!» – раздавалось с Неба. И товарищи брались говорить (ближе к истине), что во главе сей канители – стихотворец средней руки, он же паркетный полковник, он же умело избежавший всех войн, с которых ровесники его возвращались – кто с орденом, кто на протезе.
Но, чу! Чиновники Красного и Белого чумов всея Ямала шепотом утверждают, что премии – тактическое прикрытие, паркетный полковник строит не просто куры, а планы, как умыкнуть губернаторскую дочку. С довеском приданого – каким-нибудь газоконденсатным промыслом…
Непредсказуемы дела твои, Господи!
Ветер истории колыхнул влево. Страна выбрала по Интернету «имя России». К ужасу цивилизаторов народ назвал Сталина. В канун 130-летней годовщины со дня рождения вождя. К отлитию общественной медали «И.В. Сталин». И! И кое-кто из тех, кто называл нас, русских патриотов, «краснокоричневыми» – за противостояние олигархическому режиму, теперь возжелал к демократической медальке «за служение» прибавить на грудь и «сталинскую». Показательно! Как и отметили в экспертной записке из Земли Санникова.
А что под Армизоном?
Да, озеро Черное. Хруст закостенелого камыша, как хруст костей фанатов «Спартака» под омоновскими дубинками. Сверкание глазных орбит – волки. Бисер отсветов – прибившаяся мелкота: зайчишки, лисы, хорьки, кроты, ворон с больным крылом, кабан затесался. Медведи приблудилась. Лезли наперевес с трехцветным флагом. Медведей побили ухватами шустрые лисы: мол, шатуны, из богатых берлог вылезли! Флаг у них отобрали, пусть сомнительный, но «общерасейский», а не как медвежий символ.
Лучше всех во тьме – кротам. Слепы! Людской мир стонет от чубайсовских реформ: территории кукуют без электричества. Летом так сияло: огнем брались леса, села, воинские склады. Дымы накрывали и обитателей Кремля. Но этот материал пока для огня неухватистый. Мужественные бойцы МЧС генерала армии Шойгу, вооруженные грозными велосипедными насосами, попутно кляня «тирана Сталина» за недостаточно-преступное обеспечение их шанцевым инструментом, боролись с огнем торфяников Подмосковья. А рядовой электорат вспоминал и пел старые песни:
Горит село, горит родное, Горит вся родина моя…– Ну, – опять клацнул зубами старый брянский волк, выщелкнув в волчьей шерсти пару породистых блох, не устрашенных и злым сибирским морозом. – Все готовы блюсти договор – не есть мясного?
– Все! – заликовали зайчишки, нянча во взволнованных лапах сладкие морковки. – Спасибо, болярин, спасибо, волкушко!
Ворон с больным крылом, выпускник еще советского ГПТУ №2, он знал наизусть стихи Вознесенского «Уберите Ленина с денег», добавил:
– Есть нестыковки… В татарских деревнях под Тюменью, в Ембаево, Тураево и Малой Каскаре, растет и уплотняется поголовье демократических баранов.
– Рахмат, – сказал старый брянский волк. – Пущай размножают и едят на своих рамазанах. Добрей будут! Сплетите побольше молельных ковриков. Где мастера – ремезы? За дело! Что еще?
– На Центральном рынке возник китаец, обученный странной речевке: «Лужу, стеклю, паяю, чиню презервативы!» – пискнул крот.
– Старая жись возвращается, – хрюкнул кабан.
– А на Солнечном рынке появились тушки мороженых гусей!- голодно облизнувшись, добавила по теме лиса, прибежавшая из глухих тавдинских болот – покрасоваться своей рыжей шубейкой.
– Не верти задом, Эрекция Ивановна, заметил лисе ворон с больным крылом. – Это не наши, австралийские. Эвон откуда везут! Но, полагаю, это охотники из Бердюжья ездят отстреливать там гусей?!
– Что еще говорят в Тюмени? – вопросительно похрюкал кабан.
– Не говорят, кричат! – пискнул крот. – Нельзя, кричат либералы, ставить памятник Ермаку в Историческом сквере, как собрались сибирские казаки. Местные татары то ж голосят – это неприкасаемый ханский погост, Батый с Мамаем зарыты! Я по-кротовьи исследовал территорию, из костей нашел только бивень носорога…
Во тьме камышей громко затрещала сорока:
– Принесла две вести. С какой трещать? Ну вот… первая. В писательской организации вышли новые книжки!
– Что характерно, – присвистнул хорек, – теперь все выпускают свои книжки. Даже не писатели. И всем – почету хочется.
– Да ты че-че-че, я о хорошем! – обиделась сорока.
– Надо поздравить ребят! – сказал старый брянский волк. Зайчишка и сбегает, у него самые скорые лапы! Давай вторую, вещунья!
– Вторррая… Как бы поглаже сказать. Вознамерился вступить в Союз писателей доктор каких-то «политических наук». Прокатили… Шибко матершинную книжку написал. Круче, чем прозаик Сорокин, прости Господи, мой однофамилец!
– Есть закон в РФ – штрафовать за сквернословие в публичных местах, – заметил старый брянский волк. – А книжка – публичное место… Ладно. Есть среди писателей нормальные пацаны. Но надо примерно высечь «доктора». И, проявив исключительную политкорректность и толерантность, отправить в бригаду бобров – на лесоповал. Пусть у бобров изяществу и трудолюбию поучится…
– Свет ты наш, кормилец! – вертела головой сорока. – Но его хвалят доценты с кандидатами, «ура!» кричат на презентациях. Вознесли «Лешака», книжка так называется, и в «Тюменской правде» – за «сочный язык и вологодский диалект автора».
– Скотоложество! – фыркнул кабан. – И что характерно, как говорит хорь, эти альфонсы, о чем бы ни писали, заканчивают – «про оргазмы». Вера у них такая, что ль? А я полагаю, это рыба. Помните, палтуса хвалили, хека прославляли.. .Теперь – оргазм! С чем едят, не знаю! А где – духовность?
– Да, да, сорока, и ты трещишь, будто канцелярского клею в школьном туалете нанюхалась! – посуровел старый брянский волк. – Вологодский диалект я знаю: русский язык без всякой погани… Надо держаться талантам! А придет на землю нашу настоящий ревизор, он все рассудит. Знаете ли, клыкастые и ушастые, как Гоголь сказал? Он сказал: «…Страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба… Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя… вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос».
А теперь, друзья, за вегетарианскую трапезу!»
Небесные дуновения донесли до меня эти ночные разговоры в зверином собрании. Примечательно: у меньших наших братьев – больше порядочности и справедливости! Потому, глядя на хватких маркитантов из людского племени, наступательно оседлывающих Русские территории и сферы, где еще помнят «Василия Теркина» Твардовского, «Курсантскую венгерку» Луговского и «Видения на холме» Коли Рубцова, хочется, употребив выражение Максима Горького, «ласково погладить собаку, улыбнуться крокодилу, почтительно снять шляпу перед слоном».
5
«Уже два с половиной года в отношении председателя Тюменского регионального отделения Союза писателей России поэта Николая Денисова длится судебное разбирательство якобы по поводу поджога в поселке Кармак Тугулымского района Свердловской области… Денисов имеет в этом поселке скромную дачную избу, и на свою беду, как бывший военный моряк, бросается на помощь пострадавшим в любой ситуации. А его изба находится рядом с избой покойного ныне предыдущего председателя Тюменской писательской организации С. Шумского.
И вот однажды весной, 30 апреля 2006 года, в Кармаке сложилась чрезвычайная ситуация – пожары! Как она, ситуация, возникла, трудно прояснить до сих пор. Горело и там и там, в основном, трава на полянах возле поселка. А в это время немалая часть населения была на сельском кладбище. Был родительский поминальный день.
Николай Васильевич вместе с женой бросился бороться с огнем, тушил и гасил этот огонь, грозивший перекинуться на дома и строения. Отстояли от пожара целую улицу, а вот один домик, стоявший на отшибе, не смогли отстоять… Были, как нынче бывает, зрители, равнодушно смотревшие, как человек пытался предотвратить беду. Но никто не пришел на помощь. И Шумский, здравствующий еще, сидел у себя дома, может, грелся на солнышке в своем дворе.
Что же получилось в результате?
Уголовное дело!
Сергей Шумский пошел с пострадавшей от пожара своей родственницей по Кармаку, собрал несколько нелепых и скороспелых свидетельств против своего недавно избранного преемника на посту председателя Союза писателей в Тюмени. И весьма в этом преуспел. Он подговорил женщин, подружек потерпевшей, написать заявления о виновности Николая Васильевича в уничтожении частной собственности. В милиции завели дело по факту пожара. «Свидетели», и в первую голову «свидетель» Шумский, настаивали на наказании Денисова. Человека начали таскать по инстанциям, а у нас, как известно, только попадись на крючок, мало не покажется. Хозяйка сгоревшего старого домика и сарая подала иск на Денисова в возмещении ущерба чуть ли на миллион рублей. В том числе на сгоревшие… аж два десятка лопат, несколько телевизоров и восемьдесят семь килограммов гвоздей!
И пошло-поехало. Следователь тамошнего РОВД многократно приглашал Денисова на собеседование, допрашивал, и никак не мог понять, чего хотят от писателя «свидетельницы» – жители поселка Кармак, где кроме добра, писания стихов и прозы, он ничего худого не сделал. Но древнекитайская пословица гласит: «Не хочешь зла – не делай добра». Николай Васильевич ездил из Тюмени постоянно, то в районную Тугулымскую милицию, то в прокуратуру, сидел на допросах, словно убийца, а мы, тюменские писатели, никак не могли понять, чего хочет от него Шумский. В тюрьму посадить?
Но уголовное дело милицией было закрыто. Пострадавшая же не успокоилась, обратилась с иском в гражданский суд.
И вот наступил день суда. На него пришли участники процесса, в том числе ваш покорный слуга, автор материала и коллега Денисова по литературному цеху, а также председатель Бердюжского землячества в Тюмени – Леонид Петрович Третьяков (тоже бывший моряк и земляк почетного гражданина Бердюжского района Денисова). Нас, выше упомянутых, из зала грубо выдворили в коридор! Мы хотели выступить общественными защитниками, что раньше в Российской империи и в большинстве просвещенных стран сегодня считается нормой.
А на этом суде происходили невиданные вещи: в ходе процесса судья и секретарь на глазах у изумленной публики оформляли бумаги в пользу потерпевших! А потерпевшие, то есть истцы, метались по залу судебного заседания, выходили в коридор, то переписывая по подсказкам судьи, то ксерокопируя эти «бумаги-заявы». Мало того, никому, в том числе и ответчику, толком не давали раскрыть рта. Да и адвокат Денисова, к моему изумлению, почему- то не заявил протест на действия судьи. Создавалось впечатление, что суд просто работал не на истину, а в пользу одной стороны участников судебного процесса…
В результате наш самый справедливый в мире суд на следующем заседании, где ответчик, то есть наш поэт, отсутствовал по уважительной причине (написав судье просьбу перенести заседание), приговорил Денисова (без допроса заявленных ранее свидетелей с его стороны) к выплате энной суммы в пользу пострадавшей.
Но суды продолжаются, поскольку пострадавшая недовольна малой, на её взгляд, суммой, присужденной ответчику, а ответчик вправе защищаться и искать справедливость через навязанные ему суды. И это дело длится и длится… А зачинщик всех этих неприглядных дел покойник Шумский, словно в знаменитом сказочном фильме, высовывает из небытия костлявый палец и кричит: «Долж-о-ок!»
Самое удивительное в этой печальной истории, что никто из наших общественных деятелей в Тюмени не замечает позорного факта инсинуаций в адрес не просто председателя местного Союза писателей России, но и талантливого поэта, прозаика, публициста, редактора, лауреата нескольких областных, всероссийских премий за свои литературные достижения. В их числе Международная премия за книгу прозы «Огненный крест», написанную им недавно об русских эмигрантах, о кадетах, живших в Сербии, а после Второй мировой войны попавших в Латинскую Америку, сохранив родной язык, пронеся любовь к России через десятилетия эмигрантской жизни. Николай Денисов получал эту премию («Имперская культура») в январе 2008 года в Москве в числе знаменитых людей нашей Родины – Сергея Михалкова, Валентина Распутина, Владимира Личутина, выдающегося актера Василия Ланового, знаменитой певицы Татьяны Петровой… И вот о таком человеке, сделавшем для России немало доброго, по-прежнему тянется, как во времена Гоголя или Сухово-Кобылина, дело, не стоящее, на мой взгляд, выеденного яйца.
Да и существует постановление следственного отдела Тугулымского РОВД Свердловской области о том, что Николай Васильевич Денисов ни в чем не виноват, после долгих разбирательств «пожарное» это дело милицией прекращено, не определив виновного. Тюменские же суды смотрят на этот документ сквозь пальцы… Странное у нас судопроизводство.
Как говорили в старину, доколе?
Призываю заступиться за человека! Призываю всех, кто заинтересован в судьбе русского писателя, огласить свое мнение о происходящем. Иначе покойный Сергей Борисович Шумский (и ему подобные), достанет и нас из потустороннего мира…
Заступитесь, граждане России!»
Так писал в московском «Русском вестнике» от 22 января 2009 года известный в России бард, пресс-атташе тюменского Союза военных моряков Анвар Исмагилов. Процитировал я почти в полном объеме.
Не лучшие времена, прибавившие седин и убавившие здоровья, перенес я и мои близкие с этим «пожарным делом».
«И вы побежали тушить?! Зачем? У НАС так не принято! А побежал, значит, виноват, как у нас считается!» – сочувственно укоряла меня председатель Мальцевского сельсовета Свердловской области Татьяна Степановна Сунгурова. К ней я в ходе милицейского следствия обратился за нужной справкой, как владелец избы, зарегистрированный на территории данного сельсовета.
«Иначе – не мог!» – ответил руководящей женщине, хорошо знающей нравы граждан своей подопечной территории.
Эх! Уральцы бедные. Ну, это мягко сказано. Скорей уж – полупьяный быдляк. Но – себе на уме. Ведь не хватило на бушующей огнем поляне еще пары рук, когда остановив вместе с Марией огонь, рвавшийся к домам и постройкам улицы, побежал я отбивать пламя от ветхого домика, стоящего на отшибе, в полукилометре от моей избы.
Собравшиеся поглазеть на огонь – стояли отрешенно и тупо. Выла собака на привязи. Прибежавшая с кладбища, хозяйка домика Голенева освободила собаку, кинулась в домик. Следом никто не сдвинулся. (Огонь еще только облюбовывал крышу). И спасли бы, успели. Все мифические телевизоры, холодильники, все орехового дерева гарнитуры, все бобровые шубы и норковые шапки, двадцать штыковых и совковых лопат, даже несуществующую баню… даже 87 килограммов гвоздей, в довесок к заоблачной «бане» повешенных потом на меня – для возмещения якобы «миллионного» ущерба!
Я гасил еще текущий вдоль забора, еще опасный для соседних домов, но уже слабеющий, ручей огня, как подбежала всклокоченная баба, стала рвать из моих рук лопату – шанцевый инструмент, с которым я прибежал сюда и боролся с пламенем. «Сатана, смотрите, сатана!» – закричали с улицы подростки. «Отдай! – неистово взвыла черная ликом баба. – Моя лопата!» Глаза её горели диким. Не с кладбища ль покойница, затесавшаяся в живую бабью толпу? И лопата ей, выходит, нужней? И отдал я, отпустив полированный трудовыми ладонями, черенок. А делать бы этого не следовало…
Два с лишним года шли разборки. Наконец, выдали постановление о моей невиновности. Следователь, старший лейтенант Маринин, выдавая, сказал: «Шумский сильно усердствовал против вас!»
С того же «светлого» для меня дня – Сережа угрюмо, левой рукой, стал креститься, нюхать «четверговую соль» и шарахаться от загубленного им черемухового куста, в котором вместо забубённого друга-соловья чудились ему, знать, опасные «зеленые человечки».
Далее, отмечено уж: гражданские суды в Тюмени. Далее, после статьи Анвара Исмагилова в «Русском вестнике» и заметок Леонида Петровича Третьякова «Судят поэта» в «Литературной России», руководящим областным чиновникам и судейским, то есть «второй власти» – полетели защитные письма и телеграммы по мою душу. Всколыхнулся Интернет, Русское Зарубежье…
Знаменитый летчик Владимир Ильич Шарпатов говорил такое: «…Когда я попал в беду со своим экипажем Ил-76 – пленен талибами в Кандагаре (Афганистан 1995 – 96 гг.), то мне грели душу патриотические стихи Николая Денисова. Благодаря им, я нашел силы для побега из плена вместе с экипажем – на нашем самолете, за что получил звание Героя России… Хочется выразить уверенность, что органы милиции найдут виновников пожара, привлекут к ответственности клеветников, а главное – честного человека оградят от их домыслов».
Дороги были свидетельства немногих честных людей из Кармака. Ко мне пришли две женщины – местная Тамара и дачница Мирра: они видели человека (прозвище – Северянин), который поджигал траву вблизи усадьбы Голеневой, согласились дать показания в суде.
Против местной Тамары тотчас возникли «чертовы» козни. Женщина обнаруживала по утрам привязанных к скобе калитки то тряпичных кукол, унизанных иголками, то узелки с собачьей шерстью, то подброшенных во двор «заговорённых» мертвых кошек. Женщина устояла. Успешней (со стороны ночных колдуний) был оговор Васи, мужа Тамары, в «воровстве» телевизора. Мужика тотчас кинули в СИЗО, четверо суток «мутузили» в холодной камере. Домой вернулся в жару – с воспалением легких, когда телевизор нашелся. Оказалось, один брат у другого брата по-братски взял на время электронную технику, потом мирно вернул на место …
В суде свидетельниц не желали слушать. Одна судейская «ваша честь», дернувшись лошадиной губой на мои «приставания» – выслушать женщин, отмахнулась: «Мне и так все ясно!» Но на другое заседание суда не явилась. Судила другая. А эту, лошадиного облика (уже народ судил-рядил), будто бы «жеребец залягал». Домашний. Копытами сорок четвертого размера.
Судейские, преимущественно женского прелестного полу, показались мне (столкнулся впервые) несчастными, желчными, озлобленными. Среда метит?! Плохо причесанные, заспанные (судят от зари до зари, аж подметки дымятся!), в длинных черных спецовках, под которыми чудились мне бесовские хвосты и нечеловеческого роду копытца…
Московский поэт и публицист Владимир Фомичев, редактор прославленной газеты «Пульс Тушина», выступил в прессе в мою защиту – со статьей: «Чудовищная провокация!»:
«…Несколько лет назад в Москве, в популярной серии «Созвездие России» вышла моя книга о Денисове – его творческом и жизненном пути – «Стезя Николая Денисова». В разделе книги «Оценивают современники» немало теплых слов было сказано о тюменце – Виктором Боковым, Николаем Старшиновым, Виктором Астафьевым, Михаилом Львовым, Анатолием Жигулиным, Сергеем Викуловым, Валентином Сорокиным, Иваном Лысцовым, Александром Романовым, Сергеем Михалковым, Юрием Бондаревым, Людмилой Щипахиной, Ринатом Мухамадиевым, Шавкатом Ниязи и другими известными поэтами, писателями России.
Спрашивается, какой мотив может быть у такой высоконравственной личности для поджога сельского дома? Ведь без мотива преступления не бывает. Почему тюменские юристы не рассматривают само собой напрашивающиеся варианты причин случившегося? К ним можно отнести поджог кем-то за бутылку (или ящик) водки, поджог пироманом, то есть человеком, имеющим страсть к поджогам, месть писателю за мужественную гражданско-государственную позицию…
Я лично склоняюсь к последнему. Так могло поступить с Н. Денисовым проплаченное внутренними врагами России идеологическое криминальное болото. Оно знает, что не ответит за свой беспредел. Сужу по себе. Прошло пятнадцать лет, как меня судили за тягчайшее преступление, которого не было. И никто не только что не сел за явную фабрикацию дела, но – даже не извинился передо мной.
Автора «Пульса Тушина» поэта Н. Денисова тоже пытались привлечь по делу № 4592 о «Пульсе Тушина». Этот факт – одно из доказательств мести тюменцу за его честность – ни оговорил, а защитил на допросе у следователя редактора газеты, её авторов патриотов России. На поэта впоследствии были нападения «неизвестных лиц», что также подтверждает мою версию о нынешних репрессиях против него – под благовидным предлогом».
* * *
«Год проходит, и род проходит, а земля пребывает вовеки», – гласит Библия. Истинно. И мне, взявшемуся говорить «со своей колокольни» о творческом пути Тюменской областной писательской организации на исходе пятидесятилетия со дня её рождения, надо довести сказание (пусть и с некоторыми отступлениями от главной темы) до логического конца.
«Да, надо для истории!» – с долей пафоса заметил мне в начале моих «исторических» трудов один из наших молодых поэтов, которые все настойчивей заявляют о своем существовании. И – слава Богу, что заявляют! Литературный процесс не должен прерываться.
Будущее – за молодыми. А кто расскажет о минувшем?
Огляделся по сторонам, раскинул мыслями «по древу» – вдаль: некому. Старинные мои друзья поэты, прозаики 60-х – 70-х лет ушли в Царствие Небесное рано. Володя Нечволода – в 39 лет, Толя Кукарский – в 44, Иван Ермаков – в 50, Геннадий Сазонов в – 54, Булат Сулейманов – в 53, Леонид Лапцуй – в 52 года… Оставшихся, ныне седовласых аксакалов, на просторах великого и обширного Тюменского края можно пересчитать уже на пальцах одной руки. Хранят молчание. А мне, как говаривал мансийский наш классик, поэт Юван Николаевич Шесталов, «молчать Боги не позволяют!»
Девятнадцатого июля 2001 года ушел из жизни в неполных 76 лет Константин Лагунов. Он стоял у истоков организации, руководил ею 20 лет – со дня образования. Автор романов – «Красные петухи», «Так было», «Ордалия», «Одержимые», «Бронзовый дог», «Завтрак на траве» и многих других сочинений в художественной прозе, публицистике. Писал он и яркие книжки для детей. Дети страны Советов знали писателя, читали, засыпали его письмами. Он был нам примером одержимости, колоссальной работоспособности, для многих – наставником, учителем, а порой и защитником, вытаскивал из провальных ситуаций.
А, впрочем, как и у всяких творцов, разное бывало.
В конце 70-х собратья по перу втянули меня в нелепый, как понял позднее, ненужный заговор. Желали они, собратья, на очередном отчетно-выборном опять сместить Лагунова с поста руководителя СП. На собрании я сказал «обещанное слово», а заговорщики дружно и «умно» промолчали. Ну, а Лагунов отреагировал. Адекватно. Как это он умел делать. Боец он был многоопытный. И шесть последующих лет тихо прессовал меня в «невыездных». Просто: характеристику на очередное моё заграничное морское плавание заматывал. Больней для меня боли не было. Да только ли?!
В 1986-м, на заре перестройки, когда и я отчасти поверил в «благодатный ветер перемен», Женя Вдовенко, партиец, начал горячо убеждать меня, чтоб я вступил в партию. «Знаю, ты критически уклонялся от членства в КПСС, но теперь-то, смотри, партия сама возглавила прогресс. И ты должен быть в её рядах!»
Тут Женя кое-что не ведал «в этом плане». Еще в начале семидесятых, в «Тюменской правде», Борис Галязимов настойчиво уговаривал меня – за кампанию с ним! – подать заявление в партийную ячейку печатного обкомовского органа, где мы оба успешно служили корреспондентами. Я отшучивался, отнекивался. А он: «Ты, газетчик способный, хочешь беспартийно вечно в литрабах ходить? Даже старшего литраба (то есть литературного работника – Н.Д.) тебе не дадут, не говоря о заведующем отдела!» – убеждал Боря. Заявления мы в конце концов отдали партайгеноссе редакции Ефиму Щеткову. Оглушительно рыжий, «как из рыжиков рагу», он, глянув на нас как-то отстраненно, холодно, заявы наши все же настороженно взял… и похоронил в столе. На том наш порыв и окончился.
А тут вот Женя со своими горячими выкладками!
Писательские партийцы-бойцы собрались в количестве пяти человек. Недоставало двоих. Но кворум был. Начали с вопросов. Усердствовали две вольнонаемные, полные идейного благочестия, партийки – сотрудницы писательского Бюро пропаганды: «С какой целью вступаете в партию?» – «Чтоб быть, как и вы уважаемые, в самых первых, авангардных рядах строителей коммунизма!» – ответил я с ироничным поклоном. Секретарь ячейки Константин Лагунов, он сидел во главе стола, сказал: «Понятно! Проведем открытое голосование. Кто «за»?» Поднялись две руки. «Кто «против»?». Тоже двое: дамы из Бюро. Смотрю на Лагунова. Он и рукой не дрогнул – ни в ту, ни в другую сторону. «Что ж! – заключил Лагунов. – «Игра не сыграна…» – «Так у вас, оказывается, игры тут?! – подбросило меня на стуле. – Доиграетесь…», – и ринулся на вольный воздух.
До августа 1991-го оставалась всего ничего. Партийная ячейка писательская умерла сама собой. Идейные дамы из Бюро, побросав партбилеты, стали бизнесменками, параллельно и демократками, вписались в новый «орднунг». А я, не вписавшийся, стал защищать от них и от подобных им оборотней – историческую православную Россию и наше родное социалистическое Отечество. И был наречен «красно-коричневым».
Так вот за всю историю Тюменской организации СП ни один из членов Союза писателей и не был принят в ряды коммунистов- большевиков. Опыт вступления в КПСС у Гены Сазонова завершился оборвавшейся водосточной трубой на Доме Советов и прилетевшим в его лицо «торжественным» тортом от супруги Розы. Я был вторым со своей то ж провалившейся попыткой.
Господь вёл нас. СВОИМ путём.
Много позднее Константин Яковлевич написал очень теплое, словно бы покаянное, предисловие к моей книге прозы «Пожароопасный период», вышедшей к моему 50-летию.
В насыщенное творчеством, литературными общественного плана событиями, в интересное это двадцатилетие, Тюменская писательская организация под руководством Лагунова была хоть и малочисленной (в СП принимали еще строже), но считалась одной из успешных, плодотворных организаций Советского Союза.
Но кончилось славное время. И, уезжая насовсем в Подмосковье, громогласная наша очеркистка Люба Заворотчева, лауреат премии Ленинского комсомола, сказала на прощание: «Вы не проголосовали за Лагунова на последнем отчетно-выборном собрании… IГропьете вы организацию, мужики, попомните мои слова!»
Да уж! И припоминается впечатанная в историю байка, очень похожая на правду:
– Писатели пьют! Что будем делать, товарищ Сталин?
– У меня нет других писателей, товарищ Мехлис.
Ну, а Люба Заворотчева уехала из Тюмени поближе к московским издательствам, к журналам, как и другие уезжали – в поисках «лучшей доли» и по разнообразию души.
Богата Русь одаренными людьми. И организация обрастала новыми, одержимыми творчеством, индивидуумами. Конечно, среди мельтешения сомнительного элемента. Элемент легко объединяется, кучкуется, готов на сговор, на предательство. Но и это естественный процесс. Особливо в настоящие, в нынешние времена.
Замечательный поэт иеромонах Роман сказал по сему поводу:
Вещать об этом мало толку, И так помоев – хоть топись. Но есть порода – лисоволки: Лисою вверх, а волком вниз. Напрасно их искать по весям, Служаки – скоком не догнать. У каждого наград на персях – По пальцам не пересчитать. Они на многое способны. Елейных глаз остерегись. Беда еще – плодят подобных Самих себе волков и лис…Вот именно – плодят. И с пронзительным напором.
Назову ж нескольких мастеровитых из пришедших в организацию в последние годы. В Тюмени – поэты Сергей Горбунов, Виталий Огородников; детский поэт Александр Шестаков; прозаик с уклоном в историю и краеведение Аркадий Захаров; рассказчик Борис Комаров, горячий правдолюбец, он в поисках заветного слова находит философию и нравственность у своих «таксистских» героев; Виктор Строгальщиков, замеченный в симпатиях к «демократской» литературе, «вводил» войска НАТО на улицы Тюмени гг даже устроил войну с моджахедами в лесах Казанского района; в Исетском районе сочиняет за «речкой детства» поэтесса и учительница Вера Худякова; в северном Надыме пристально работает Людмила Ефремова; в Тобольске – Александр Рахвалов и Вячеслав Софронов; прозаик Валерий Страхов из южного села Сладково пишет интересную прозу о былых своих океанских походах…
Кого-то не назвал? Что ж, назовет время.
Горьким стал трагический уход поэта Юрия Баскова, набиравшего силу и приславшего мне из Надыма в последний год своей жизни сборник пронзительной любовной лирики.
Не «оформленной» в Союз писателей, ушла тоболячка Светлана Соловьева, оставив нам стихи тонкого лирического чувствования.
Рано ушел и талантливый прозаик Анатолий Савельев. Тут присутствует наша русская застарелая беда – водка. Переехав из провинциальной Казанки в областную Тюмень, Толя намеревался основательно заняться литературой, но спознался и здесь с выпивохами. Рукопись одной из своих повестей отдал «другу», тот пообещал устроить её в печать. И «устроил»: без всякой ссылки на первоисточник включил в собственное «сочинение». Поймали за руку. Но что с того? Открыто изобличить литературного вора Савельев постеснялся, мол, все ж – приятель бывший…
Когда мне позвонили о смерти Савельева, поспешил в его квартирку на Одесской. Как поверженный русский богатырь, он одиноко – в полный рост – лежал на полу в совершенно пустом, вконец запущенном жилище. Валялось несколько книжек, а на прокуренной кухне сидела за бутылкой орава окололитературных поддавал, чокалась налитыми стаканами. «Да вы что же это делаете, оглоеды? – Что, что? Поминаем Толю…»
Савельева увезли на один из пригородных погостов, которые всё ширятся, подбираются уже к окраинам города, берут его за горло.
Талантливый баснописец из Ишима Георгий Первышин активно печатался, но так и не сумел издаться достойно. Басни его и сатирические стихи стоят того. Они всегда будут злободневны: род человеческий, поступки его – неисправимы.
Теперь о «сомнительных». Случалось, что некоторым из них помогал я получать корочки членов СП, писал рекомендации. И по «благородной», в том числе, причине – земляческой. Как не порадеть за своих земляков?! Они и предавали…
Много их, предателей, выпестовала «перестройка». Отреклись от прежних постулатов, от страны, о которой даже открытый наш враг англичанка М. Тэтчер в ноябре 1991 года на заседании Американского нефтяного института АПН в Хьюстоне говорила так: «… Советский Союз – это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было… Я имею в виду угрозу экономическую… У Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей».
Способствовали тому и наши «внутренние враги», ставшие демократами, придумавшие 282-ю статью Уголовного кодекса, по которой за патриотизм судят сегодня русских. Под эту статью – «за разжигание» – угадал бы сейчас и Иосиф Сталин, провозгласивший в Победном 45-м тост «за героический русский народ». Осудили б и маршала Жукова, доколотившего Гитлера в его логове – Берлине, мол, «нарушил права человека»… Не о них ли «внутренних», светлая душа тюменский поэт Серёжа Горбунов, человек более младого племени, чем мое, сотворил примечательные строки:
В подворотнях Великой страны, Будто вышла из адовой бездны, Бродит нелюдь с числом сатаны, И никак никуда не исчезнет. С кем столкнется она – там и горе, Где проедет – того и сомнет. От её иссушающей воли Сколько пало еще и падет. …Я и сам шел по страшному полю Вместе с теми, кто в бездну летел. Кто ушел, вспоминаю тех с болью. А другим еще Бог не велел Уходить по воде иль по суше В ту пустыню, где властвует бес: По их весело гибнущим душам Хоры ангелов плачут с небес. Боже, Боже, спаси их заблудших, Наклони до земли, но исправь. Отыми у них все, но не душу И на ноги обратно поставь.Жизнь как-то движется. Да что там движется, мчит, только шуба заворачивается. Младые усваивают рынок. Барахтаются в нем. А нам, старшим, есть с чем сравнивать новый порядок. К каким целям ведут нас правители страны?! Не говорят. В загоне культура. Отринута нравственность. Разрушены великие советские заводы и фабрики, дальше некуда – ослабли армия и флот, прилавки завалены бросовым загранпродуктом. А богатейшая земля наша зарастает чертополохом. У «руля» одни и те же лица. Неспособность их грамотно управлять страной – налицо. Бывшая держава на сырьевой игле. И едва начинают падать прибыли, так во властных структурах – передвижка или рокировка. Отставки исключены. А русский народ мыслит по этому поводу так: «Когда в бардели падают доходы, необходимо блядей менять, а не кровати передвигать!»
Печали множатся.
К уходу из жизни ряда друзей прибавился уход в 2010 году – Николая Павловича Смирнова, человека ярого, неутомимого документалиста-летописца знаменитого Самотлора. Смирнов, как я упоминал уже, рабочим-путейцам строил железнодорожный путь Тюмень – Нижневартовск. И осел затем в городе нефтяников на многие годы. А теперь – и навеки.
В конце мая 2011-го не стало члена СП Юрия Анатольевича Мешкова-литературоведа, профессора, без стеснения называвшего себя конформистом, каковым, в принципе, он и был, но все-таки обильно потрудился на ниве пропаганды творчества «поэтов хороших и разных», над созданием солидного энциклопедического словаря Тюменской области.
Сегодня, накануне своего пятидесятилетия (завершаю эти строки, когда за окном на исходе 2011 год), Тюменская писательская организация, как и другие творческие Союзы России, продолжает жить-выживать. Держится и на старой закваске, достижениях, да и на осознании того, что «эх, помирать нам рановато!»
С первого января 2004 года, по разумению российской власти, которая, видимо, посчитала, что писатели и другие творцы стране не нужны (все должны заниматься физкультурой и спортом!), отняла финансовую поддержку у творческих Союзов. Даже разрушитель Ельцин, усердно «работая с документами» в своей укромной Барвихе, не решился (или не додумался с похмела) сего сотворить. Сотворили трезвые наследники. Умышленно? Пойди и спроси их, высоко сидящих, умных, трезвых. Спрашивали. Нет ответа.
Ответственный секретарь (председатель) С.Б. Шумский, чудесным образом пробасурманивший в СП как раз полтора «перестроечных» десятилетия, не чаял как уйти с должности, за неё перестали платить. Только ли «законную зарплату»? Книга приказов повествует нынче, как Сережа не стеснял себя и ближних почти ежемесячно осыпать премиями. За какие достижения? «В связи с праздником 23 февраля и 8 марта… В связи с Днем весны и труда… В связи с Днем независимости… В связи с обновлением российского флага… В связи с Днем согласия и примирения… В связи с выслугой лет… В связи с приобретением лечебных путевок…» Ну и тому подобное. Не говоря уж о «всенародном» Новом годе и своих текущих юбилеях. Особенно восхищают премии гренадеру- белобилетнику Шумскому – «В честь 23 февраля»! И – к «празднику 8-е марта»! Это как поется в известной песне: «…сам наутро бабой стал».
В конце мая 2004-го Сережа удачно откинулся на пенсию.
Новым ответсеком возжелал стать Л.И. Васильев. Набрал голосов «за», стал. А на первом заседании Бюро организации я сказал Васильеву: «Анатолий Иванович, ты ведь зарплату получать не будешь!» – «Как это не буду?» – удивился Васильев. Потом молвил: «Найду я в нашем богатом крае деньги для жизни организации, пойду по инстанциям, по начальству, дадут!» Ходил больше года, сидел, уверял он нас потом, в приемных разных начальников: никто, говорил, не откликнулся. В областном комитете культуры выходил помощь – 100 тысяч рублей – на проведение писателями 60-летия Великой Победы. И что? Первое лицо и главный бухгалтер начислили себе неполученную за несколько месяцев «законную зарплату» и тотчас, с небольшим временным промежутком, подали в отставку.
Восьмого декабря 2005-го собрал нас Анатолий Иванович в «деревяшке» на собрание. Повестка его звучала так: «О досрочном завершении полномочий ответственного секретаря». Сошлись. Приехала часть северян. Кворум набрали. Устно Васильев сказал: «Я отказываюсь… Надо избрать нового руководителя, кто согласится… Либо – закрывать писательскую организацию!»
В самой «деревяшке», подвергшейся строительно-ремонтному погрому, уже хозяйничали новые люди. Среди развала бумаг, книг, сдвинутых столов, шкафов и стульев сновала фигура бывшего (за что-то неблаговидное понизили в должности!) директора областной библиотеки Анатолия Марласова. Посновав и пристроившись на стул у двери, он внимал нашим разговорам, изображая смирение и застенчивость. А по стенам по-хозяйски уже были развешаны не писательские фото, как прежде, а картинки чужого содержания, портреты думских начальников.
Причем – думские? Что происходит – чисто конкретно?
Васильев с готовностью пояснил, что часть сотрудников областной библиотеки на время «ихнего капитального ремонта» временно поселилась в писательском доме. «Да, да, временно!» – покивал Марласов. – «А кто разрешил?» – задал я в пустоту законный вопрос.
Пустота молча развела руками.
Опалила мысль – не все тут чисто! Что-то кроется?! Но мысль эта унеслась под небеса, поставлен был еще один серьезный вопрос: выборы нового руководителя. Высший орган – писательское собрание – выдвинул для тайного голосования двух человек: Комарова и Денисова. Мол, оба – бойцы! Справятся. При тайном голосовании получил я большинство голосов.
Васильев встал, облегченно вздохнул, вынул из кармана печать, ключи от сейфа и входных дверей: «Пожалуйста… Я пошел!» «Это не все… А передача документов, имущества… бухгалтерская отчетность… подписание акта передачи…Кстати, мне известно, что тобой не продлен почему-то договор по аренде нашего дома. Как понимать?!»
Добровольный отставник посмотрел на меня с недоумением, с возмущением одновременно, мол, вот еще привязался, решительно шагнул за порог, как человек избавившийся от непомерной ноши.
Бухгалтерские документы, их аккуратно вела ранее уволившийся наш «министр финансов» Татьяна Ивановна Сизикова, рассказали о коммунальных долгах, об отсутствии последней годовой отчетности, о неуплате налогов с зарплаты (со 100 тысяч), о том, что не сделаны перечисления в фонды, о том, что на банковском счету ноль рублей, об отсутствии в сейфе наличного остатка – 12 тысяч рублей, они значились в кассовой книге… Это только то, что сразу бросилось мне в глаза!
После телефонных возмущений и препирательств Анатолий Иванович, по совету Татьяны Сизиковой, (в практических делах он слушался бывшего главбуха), видимо, боясь судебных разборок (разъяснили «знающие люди»), погасил налоговую задолженность. Отчитался за «кассу». А на подписание акта передачи прийти так и не пожелал… И, конечно ж, в отместку за мою «настырность» – тихо снял в редактируемом им альманахе «Врата Сибири» повесть мою о казаках-эмигрантах, которая была уже подготовлена в печать его помощником Виктором Захарченко. Повесть я послал в воронежский журнал «Подъем», где она была опубликована и получила хорошие отзывы от донских рубак.
И далее. Пришла повестка: явиться к мировому судье! Там выяснилось, что по налоговым бумагам начальником организации все еще значится… С.Б. Шумский. Как?! А вот так и значится. Выходило, что штрафовать надо не меня, как, видимо, мировой судья намечал, а предшественников, которые «хорошо поробили», в итоге – СДАЛИ писательский дом чужакам, слиняли, сбагрив на меня плоды своей деятельности: на, мол, расхлебывай!
Следующую повестку принес почтовый «голубь» – от пристава: явиться и заплатить штраф за неподачу предшественником сведений по социальному налогу. Явился и туда. Девушка с лейтенантскими погонами сказала, что заплатить 1500 рублей я должен немедленно и – наличными. Иначе – она придет к нам в «офис» и конфискует имущество писателей. «Денег у нас нет. Приходите и конфискуйте, если Вас удовлетворят наши колченогие столы и стулья!», – крепясь, ответил я начальнице. Остывая, объяснил ситуацию и девушка потеплела: «Напишите, как мне рассказали, начальнику инспекции…»
Написал. Примешал к написанному пару слез. Штраф отменили.
Потом оглушило еще одно казенное письмо: из юридической конторы. В нем – серьезное «китайское» предупреждение об административной и даже судебной ответственности: за не поданный отчет о «денежных валютных средствах», поступивших (или не поступивших?) нам «от международных и иностранных организаций».
Им что – делать нечего? Юристам? Наобучались, насобачились в университетах, наплодили контор, чтоб грамотно, законно шкурять граждан. И нас – под одну метелку. Какие иностранные организации? Своими, отечественными, брошены коту под хвост. С тем и прибыл для объяснений в юридическое заведение…
Отступать уже было поздно. Коль взялся отвечать «за всю Одессу», надо было спасать организацию от окончательного разгрома. Как спасать? Прозаик Борис Комаров – недавний параллельный кандидат в руководители СП, глянув на мои «интендантские» хлопоты, сказал с грустной усмешкой: «Я бы и месяца не выдержал!» А «временные» заселенны дома на Осипенко, 19 действовали всё напористей, всё наглей, явно имея в наличии могутных и денежных покровителей.
День ото дня – пропадало и наше имущество. Исчез старинный, с точеными ножками эксклюзивный стол, за ним председательствовал еще Лагунов, его наследники сидели – Шерман, Шумский, Васильев. «Где стол?» – налег я на Марласова. – «Старик, извини, подарил хорошему человеку! – сказал Марласов. – Я тебе другой дам…»
Наглость – зашкаливала.
А я, писательский «начальник», только моргал глазами, когда надо бы писать о пропаже заявление в милицейский «участок». Эх, черт побери, говоря словами Бунина, никуда мы не годимся, гнилая интеллигенция! Сдали СССР, насадили на свою голову Чубайсов и чубайсят, терпим.
Из нервных общений с новым директором областной библиотеки Ю.В. Бутаковым и его ангелом хранителем Марласовым, они уже (!) по-хозяйски заняли весь второй этаж дома, обставляясь дорогой мебелью, я все больше убеждался, что все согласовано заранее, до меня, и они обосновываются здесь навсегда. А мы – лишний народ. И еще строительный размах этот? Для чего? Для кого?
Днем подвозились стройматериалы, гремели сапоги и молотки ремонтников, а ночью… (Сторож позднее рассказала, что ночью приходили другие машины и часть материалов «куда-то увозили»…).
«Вы не волнуйтесь, мы временные! Вот закончим ремонт…» успокаивал меня и Бутаков. Врал, не стесняясь! (В недальнем будущем его, как и Марласова, снимут за какие-то провальные «дела». Какие? И перед кем? Миру демократическому неизвестно и до сих пор).
В доме, на нижнем этаже, куда я согласился «пока» разместить оставшиеся писательские пожитки, однажды обнаружил бригаду строителей-таджиков. В одной из двух «наших» комнат, возле самодельной электроплитки, таджики эти с физиономиями разорившихся наркоторговцев пили среднеазиатский зеленый чай.
«Это временно… Разве ты против?» – опять с теплотой шелестел, сочась при этом неподдельной чистотой дружеского (!) взора, Марласов. Но я все больше «сумлевался» в порядочности навязанных нам соратников. И не напрасно.
Прихожу в «деревяшку» и, как ушат кипятка на голову, на дверях в наши «апартаменты» – лист с матёрыми компьютерными буквами: «Вход запрещен! Опечатано! Частное предприятие Н.Ю. Бутаковой». (О-о-о! Натальи! Дочери Ю.В. Бутакова!) А наше имущество мокнет под дождем во дворе, для непонятной «сохранности» укрытое большим напольным ковром – давнее приобретение Шумского.
На выброс пошли не только остатки мебели, но и «личные дела» членов Союза, и книги с дарственными автографами, и прочая- прочая документация. Правда, «важные бумаги» я своевременно, точней, интуитивно укрыл в стальном неподъемном сейфе. Но… и сейф выставлен на крыльцо дома. Дальше не хватило разгульной мощи у марласовцев волочить, как корову на баню, этого железного мастодонта, доставшего нам еще от благополучных лет жизни писательского союза.
«Старик, я же сказал – временно! – твердил Марласов. – Не шуми…»
В таких моментах на Руси обычно говорилось: «Ему плюй в глаза, а он всё – божья роса!» Рейдерский захват писательского дома был – на лицо! Припомнилось, что еще и отказник Шумский пытался приватизировать этот «домишко». Вздымал попытки!
Как противостоять захватчикам? У них-деньги и где-то «мохнатая рука» в больших структурах?! Но и тут бы не помешало заявление в милицейский «околоток»! А я, лелея последние надежды на добропорядочность, писал «прелестные» письма Бутакову. Одно из них, «прелестных», сохранилось в моих бумагах:
«Юрий Васильевич! 12 июля с.г. (2006-го – Н.Д.) я вместе со своими товарищами обнаружил погром вашими людьми нашей организации… Уничтожен бухгалтерский архив. Уничтожена уникальная подшивка « Тюмени литературной» за 70-е годы. Строители – монголо-таджики, наверно, завертывали в неё свои чуреки? Из 14 стульев после «ремонта» мы нашли …семь. Нет крутящегося кресла. (На чьей даче?) Где письменные столы? Холодильник, которым вы и ваши люди исправно пользовались, в неисправном состоянии. Нет шкафов для одежды. «Малый» ковер – приобретение еще Лагунова, в «вашей» прихожей. Портретная галерея писателей разбросана. А все было аккуратно уложено в шкафах, чтоб в дальнейшем привести в порядок…. Пропали уникальные письма русских писателей… С нашим имуществом ваши монголо- таджики обращались, как во времена нашествия на Русь хана Мамая. На стульях, подложив кирпичи, жарили на открытой электроспирали рыбу. Не церемонились с книгами, с рукописями… Мы у себя дома. И унижать нас больше не позволим!»
«Поднял» радио, обратился к телевидению, доложил о ситуации в Правление СП в Москву, в областную администрацию, написал письмо депутатам – этим народным заступникам – современным Гришам Добросклоновым.
Обеспокоилось радио. Корреспондент Татьяна Павловна Оносова сумела передать в эфир мое возмущение творящимся беспределом.
Телевидение («Регион-Тюмень») сделало вид, что ничего плохого в «культурной жизни» Тюмени, учиненное сверкающим штыком правящей партии «Единая Россия» А. Марласовым, не происходит. А что должно «происходить», коль на самом тюменском телевидении писательское слово практически было давно похоронено. Живые литературные лики из местных телезритель забыл напропалую. Не с того ль в одном из «культурологических опросов» – кого знаете из тюменских писателей? – в ответах прозвучало только три фамилии: Лагунов, Крапивин и… Якушев. С первыми двумя давно «раскрученными» именами – понятно. А вот как попал в этот скромный перечень губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев, который в писании стихов и художественной прозы не замечен? Вопрос!
С того ль все «идет», как говорил В.В. Путин однажды: «У нас культурки не хватает»? С того! И всюду! В Тюмени то ж. На местном ТВ, к примеру, даже памяти не осталось от популярных передач – «Театр у микрофона и на телеэкране», «Интервью с писателем», «Поэтический вторник», «Десять минут поэзии», «Премьера новой книги», «К юбилею писателя» и т.д. и т.п.. Вместо этих, необходимых региональной культуре, передач, платные «проекты». Возникли они в «рыночных условиях» и выпали (вольно или невольно, хотел он этого или не хотел!) на нору долголетнего сидения в телеящике дважды заслуженного работника культуры (Тюменской области и Российской Федерации), президента компании «Регион-Тюмень» (не только журналиста, но и члена СП) Анатолия Омельчука – обладателя всех мыслимых наград: золотых, платиновых и серебряных перьев, кубков, бубнов, идолов, истуканов и прочей почетной бижутерии…
Замечательно.
А вот талантливейший журналист, главный редактор Тюменского радио советской поры Василий Дмитриевич Гилёв, уйдя на пенсию, доживал в нищете, в забвении. В голодном обмороке упал на автобусной остановке у городского сада, умер. Поспешно, без соболезнований, закопали…
Рынок, господа, базар?! А совесть?
И моя душа бунтовала:
В леса! За болота и реки. В скиты, где лишь шепот травы. Немедленно ладить засеки, Ходы потайные и рвы. Аврально и без проволочки, Как в злые годины, века, – В чащобы, – в слезах химподсочки, Они еще наши пока. И снова – за брата, за друга, За этот… за менталитет – Пройти от пращи и от лука Свой путь до брони и ракет! Достанет последнего гада Архангел своим копиём. Бесовскую пыль демократа На паперти храма стряхнем. В леса! В Пустозёрски, в Уржумы! В подвижники – Бог на челе. …Но нет огневых Аввакумов Сегодня на русской земле.С легкостью необыкновенной, вчерашние певцы парткомов, райкомов, хлебно угнездясь в новых структурах, в СМИ, в том числе, ни единым вздохом не вякнули против негодяйства. «Понятно, что пёс не может оскалиться на хозяина, ну хоть хвостом не так сильно виляй», – писал публицист Д. Фурсов в журнале «Наш современник».
Приехал на Осипенко, 19 частный телеканал, потрещал камерами, поёрничал затем в телеэфире, цинично изобразив происходящее, как «ссору гоголевских Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». И – точка.
Пришел в «деревяшку» зам. председателя областной Думы Г.С. Корепанов, хмуро произнес: «Писателей не трогать!»
В словах Г.С. чудилось: «пока». Пока не трогать.
Марласов, склонив выю, приказал монголо-таджикам перетащить наше оставшееся, подвергшееся лому-погрому и промоченное ливнями, имущество – на место. Переволокли, свалили – в кучу.
Потом он бросил мне ключи от заново врезанных замков.
В postscriptum к вышеизложенному: со временем всплыла «тайна» ухищрений Марласова, Бутакова, их подельников. Мыслили они лишить тюменских писателей даже малого пристанища, чтоб полностью взять дом на Осипенко, 19 в долговременную аренду, открыть здесь харчевню (?!) или, возможно, бери выше – ресторан. «Кушать подано, господа!» Увы. Сорвалось …Тут и далее читатель сам может подобрать подходящие для «господ» определения.
Сорвались и попытки вышеназванных лиц стать членами нашего писательского Союза. (Да-а – сверхнаглость!) Оба лица «ходили» в стихотворцах. Бутаков значился в подготовишках, Марласов именовал себя «известным поэтом». Но Шамсутдинов охотно отпускал «известного» из своей организации – «да забери ты его к себе!» А Бутакова принимать в СП Николай Меркамалович не хотел «ни под каким соусом!». И мы в нашем СП – не желали!
В общем и целом – оба лица исчезли с библиотечного и стихотворного поля. Как говорится: конюшня сгорела, лошадь убежала.
6
В конце марта 2008-го в помещении тюменского Театра кукол отметили мы не круглый юбилей – 45-летнюю годовщину со дня рождения областной писательской организации. (Эх, думалось, доживем ли до круглого, пятидесятилетнего?!) Строгая и деловая научно-практическая конференция в университете, а затем и этот литературный вечер в кукольном были означены прилавком наших книг, раздачей автографов, вручением принятым в Союз писателей России писательских «корочек», поздравлениями и букетами цветов, озвучен стихами и песнями, награждениями в виде Почетных грамот – Правления Союза писателей России, губернатора, областной Думы, комитета культуры…
Перечитал вышеизложенное… Тут бы надо сказать попроще, хоть и событие «официальное». А простота в том, что атмосфера «мероприятия» была теплей, музыкальней – тотчас с порога театра звучали наши авторские песни. Оттого царил дух дружества и сердечности. Для атмосферы сей пришлось покрутиться и похлопотать, добыть хоть малые денежные средства, которых всегда у нынешних руководящих чиновников – «нет»!
Не сразу вспомнили мы, что наш некруглый юбилей как-то нежданно-негаданно пришелся на Всемирный День поэзии. Но вспомнили (подсказали Небеса!) и даже выдали мы по этому поводу несколько ласковых и красивых слов в адрес Всемирного – с подмостков торжественно оформленной сцены.
Большое собрание завершили дружеским застольем, за которым сумел я объединить писателей-тюменцев и северян, гостей из сопредельных Кургана и Омска. Выхватить из большой столичной бучи и усадить с нами рядом на торжество московских наших начальников, как традиционно делалось в прежние времена, в нефтяном крае нашем средств… ну, конечно же, не нашлось.
Как давно мы не собирались вместе, довольствуясь присланными книгами, письмами, телефонными звонками! Как давно…
Да не всем наше собрание легло елеем на душу. Один из «наших» брякнул потом в прессе, что ему, видите ли, было «скучно», другая, именно другая, в Интернете «выложила», что, якобы, собралось «одно старьё лысое, с выпавшими зубами и люто ненавидящее друг друга». Господи, на себя-то посмотрела бы со стороны! Фифа демократическая! Эти демократки, девки-комиссарки новых времен, лучше б рожали своих фашистов, буржуинчиков- плохишей, чтоб будущим мальчишам-кибальчишам, когда грянет час «икс», было кого на фонари вздымать! Не рожают, на лицо только одно их постельное карканье про «оргазмы» и «позы», заполонившее мировую электронную паутину.
Мы пропустили и тот и этот «негатив» мимо взора и слуха. Как говорил когда-то наш Николай Рубцов: «Поэт нисколько не опасен, пока его не разозлят!» А кому «скучно» и «ненавистно», так гуляйте, Вася и Дуся, самостоятельно. Союз – это союз, прежде всего, друзей, ну и единомышленников – не последнее в творческой буче дело.
Писательское дело – затворническое. Чистый лист бумаги, над которым ты поутру начинаешь свой рабочий день, как во все времена, страшит неопределенной белизной, которую предстоит тебе преодолеть, заполнить не просто словами, а болью иль радостью, откровениями, способными найти отзвук, понимание в другой человеческой душе. И никто тебе не помощник, только ты – сам, твое умение, талант, совесть. И в наше больное время, практически отторгнутые от столичных журналов, от издательств, даже от местных радио и телевидения, обреченные на поиск спонсорских средств на издание своих книг мизерными, в сравнении с советскими временами, тиражами, одержимые творчеством все также тянутся к перу и бумаге. Познавшим сладкие муки сочинительства, удачи и неудачи, поздно менять свое ремесло. И литератор, вопреки всему, пишет, трудится. Успешные, менее успешные, столичные и областные, все мы в одном русле, несущем наши челны по волнам и порогам житейского бытия. Хорошо, если на душе не просто покой, а равновесие, когда не томит забота о завтрашнем дне, проще сказать, о хлебе насущном, тогда и погружаешься в творческий процесс. Заставляешь себя погружаться, знаешь, что вдохновение придет. И оно приходит – во время этих творческих мук! Что может помешать, вышибить из колеи, русла? Только болезнь, только расхлябанность, только обыкновенная русская лень.
Кто он и что он – одаренный писатель? Опять же по Гоголю: если не пьяница в последней степени, не буйного поведения, пошли его хоть на самый край света, хоть в Огненную Землю, не дыши назидательно над ухом, а дай только полную чернильницу чернил, он обмакнет туда перо, посмотрит раздумчиво в синее оконце хижины своей, за которым вальяжно ходят по кромке материка пингвины, пластаются волны холодного пролива Дрейка, он, писатель, накинет на плечи для сугрева суконное одеяло, прихваченное им из родной Сибири, соберется с духом да и пошел себе писать нетленку. Писать не по партийным, не по клановым, не по узко национальным установкам, а по справедливым Божьим, нравственным законам…
Миновало чуть больше месяца после нашего сбора под знаком 45-летия со дня образования писательской организации, как надо мной вновь зависли пожарные события, о которых выше рассказывал мой товарищ и моряк Анвар Исмагилов (моряки своих не бросают!) Пришла, как гром среди ясного неба, повестка в гражданский суд. Пострадавшая от пожара сотрудница Госстраха Голенева, уже получила от того же Госстраха такую компенсацию за сгоревшие гнилушки, что сие даже возмутило кармакских обывателей: «Как? Столько отхватила за гнилушки!». Теперь Голенева, начав стройку добротного коттеджа (гореть надо уметь!), задумала взять деньги и с «виновника пожара». Мол, «виновник» этот распространяла она молву – страшно богат, владеет типографией! Мол, что ему стоит «отстегнуть» бедному семейству «какой-то миллион»!
Про «типографию» я слышал и от следователя Маринина. Сказал ему тогда: «Пусть Шумский и Голенева только покажут мне эту недвижимость, отдам мгновенно, пусть владеют!»
Бушевала новая весна. Набирала силу и готовилась выплеснуть в синее небо свои белые соцветия черемуха, в оные времена изуродованная Шумским. Живы были мощные корневища. А все живое тянулось к жизни! Правда, черемуховый куст не беспричинно облетали воробьи, не садились даже сороки, хотя в их стрекоте могло содержаться немало прелюбопытного. Например, о том, как это в одну темную ночь был разобран по бревнышку и куда-то (какими-то дельцами!) увезен местный железнодорожный вокзал (ВОКЗАЛ!) вкупе с такой же деревянной перронной кладовой. А далее – и перронный туалет-гальюн исчез, также монолитно возведенный в год Великого перелома в молодой советской стране (1929), а, возможно, и при НЭПе – воспрянувших к сытости «буржуазных» годах. И никто, ни один суд, ни прокурор, ни милиционер даже, не дёрнулся, не закричал нынче праведным голосом: «Грабят-я-ят! Держите вора!»
Рассказать сороки могли и о том, как из северо-западных лесов, со стороны старинного Ирбитского тракта, приходили волки, обшарили в ночи кладовые, унесли остатние после зимы припасы моркови и свеклы, устроив за околицей поселка вегетарианский свой пир!
Двадцать четвертого мая 2008-го, одолев скопившиеся сопротивления к дачным хлопотам, побывал я в Кармаке. Соседки, горящие интересом к «пожарному делу», «по секрету» сообщили: «Шумский собирается дать показания в суде!» О чем? На пожаре он не был. И как будет в суде этом, хоть и сквозь толстые свои линзы очков, мне в глаза смотреть?! Но, похоже, готовился. С моих огородных палестин было видно, как они вдвоём с Голеневой, как стратеги местного разлива, жестикулируя, обходили поляну, два с лишним года назад полыхавшую огнем. Не иначе – истица научала Сережу: о чем говорить в суде?!
Шумский уехал в Тюмень полдневной электричкой. Я уехал вечерней. А ровно в полночь громко забеспокоился мой телефон. Звонила Татьяна Сизикова: «Николай Васильевич, Шумский умер…» – «Как умер? Шутите, что ль? Днем я его видел в Кармаке – живее всех живых». – «Только что звонили из его дома: умер скоропостижно…»
Всенародного горя не последовало. Но председательская должность обязывала меня взять на себя хлопоты по организации похорон. Начал с покупки траурного венка и черной ленты с надписью: «От друзей и соратников по перу…»
Все мы перед судом Господним.
Состоявшийся вскоре земной суд обязал меня выплатить – уже Госстраху – новую энную сумму – больше ста тысяч рублей. (Немыслимую для стихотворца!) Сопротивлялся, писал кассационные жалобы в областной и Верховный суд. Непробиваемая стена!
Да, кому-то было надо, чтоб «хоть не тюрьмой, а крупным рублем» наказали именно меня. Кому?
Сходил в Знаменский храм, пообщался со Святым Георгием: «Защити и оборони! Вон у тебя, Георгий, какое праведное копье!»
Может быть, не по-церковному просил, как вышло.
Вскоре, после суда, где кармакские подружки Голеневой в наглую давали ложные показания (мы на пожаре не были, но слышали от людей!), вспыхнул в Кармаке новый пожар. Сгорел дом особо ярой лжесвидетельницы по имени – Шура. (В этом доме, говорили местные, и собирались сплоченные сорокаградусной «свидетельницы» на свои хмельные посиделки). Дом второй «свидетельницы», по имени Лиля, он через дорогу от огня, тоже дымился, от соседнего жара лопались оконные стекла. Дом спасли приехавшие из райцентра пожарники. Но Господь не спас сестру «свидетельницы». Скоропостижно померла.
Следователь Маринин, с которым я встретился в очередной раз, спросил: «Вы не были в этот день в Кармаке?.. Хорошо, что не были, а то приписали бы Вам и этот пожар!»
А поджоги, будто и не было прежних огненных дел, продолжались. Хозяин бывшего поля совхоза «Октябрьский», что за кармацкой околицей, то и дело подпаливал стерню и остатки обмолоченной соломы, готовясь к пахоте. Местные пытались остановить и остеречь успешного хлебопашца. А он всякий раз отвечал: «Моё! Поджигал и буду поджигать… Сгорите? Да горите вы все прахом, пьяницы! Если надо, я вам новые фазенды построю, делов-то…»
Да, как писал Николай Заболоцкий:
Все смешалось в общем танце, И летят во все концы Гамадрилы и британцы, Ведьмы, блохи, мертвецы.Лето летело и текло в скоротечных, как дежурные планерки, равнодушных, мерцающих один за другим судах. Напрасно пытался я «приобщить к делу» показания двух женщин, которые видели 30 апреля 2006 года и поджигателя – по местной кличке Северянин – дачника из Сургута и соседа Голеневой. Он и раньше устраивал поджоги. Дачники-тюменцы, а не местные, кидались и боролись с огнем. А он, Северянин, подпалив поляну, тотчас скрывался в своем плотном дворе. Пироман? Походило и на это. По все ему сходило с рук. Отвертелся и на этот раз. (Местное «сарафанное радио» вещало – состоятельный Северянин, сосед Голеневой, будто бы обещал соседке «помочь отстроиться», если она не станет его «тревожить» с заявлениями!) Но к осени Бог прибрал и Северянина. Погребли на местном погосте, не обозначив ни фамилии, ни имени несчастного. Тайна? Но, вероятно, «так» и это было кому-то нужно?!
Череда «странных» смертей потянула за собой еще несколько кармацких трагедий. В огне погибли мои вороватые соседи (мать и сын), предварительно убитые. Вышедший из тюрьмы, залётный «зэк» ограбил и зарубил топором одинокую женщину – с другой улицы. (Она, говорили, тоже владела информацией о пожаре, знала кто виновник, но молчала). Спилась «девушка» Света из теплой и давно споенной компашки великовозрастных «свидетельниц» Голеневой. «Девушку» бросил муж, уехал, нашел другую подругу жизни. Бросила домик и Света… По Кармаку бегали их голодные кошки и отощавший японский кобелек на кривых ножках.
Жестокосердно отнеслись небеса и к Жене Голеневу – мужу пострадавшей и собутыльнику Шумского. Женя был безобидный, спившийся человек, в прошлом майор, начальник одной из пожарных команд в Тюмени, по выслуге лет рано ставший пенсионером. Загуливал он на даче месяцами. Кончалась самогонка, «спускал» домашность. Однажды предложил мне купить у него столбы. Не забыть наш умопомрачительный диалог: «Тебе нужны столбы для ремонта ограды? – Нужны. – Купи у меня… Вот эти… – Так они же вкопанные! – Выкопаю! Надо похмелиться!»
В пору загулов ходил он по поселку с кривой палочкой – в ссадинах, кровяных коростах, синяках. «Кто тебя так, Женя?» «Галя…» Уродовала она поддатого муженька по-черному, пинала, спихивала в канаву… Как-то «по пьяному делу» упал он в собственном дворе, ударился головой. Звал на помощь. Слышали соседки из «свидетельниц», прочие прохожие. Не помогли. Утром нашли – окоченевшим.
Аналогичная история произошла с когда-то первой кармакской красавицей Ниной, теперь вконец спившейся. В очередном серьезном подпитии упала она на переулке. Звала на помощь. Мимо равнодушно прошло несколько человек. Никто не подошел, не помог подняться. Замерзла… Что говорить про «какой-то» крохотный, погибающий Кармак! Вся страна – огромное, сплошное несчастье.
Читатель не должен сердиться на автора за эти жесткие подробности, тут надо не сердиться – негодовать.
Спаси нас, Господи, и сохрани – в этом средневековье!
Откуда еще брались силы на сочинительство? Помогали Небеса. Спасала поддержка друзей. Из разных весей России присылали (знакомые и незнакомые люди) и деньги, чтоб «кинуть их в пасть негодяйству», как выразился один московский священник.
В паутинную, предосеннюю пору, оказался я в родных палестинах – в Приишимье, где намеревался дописать, начатую ранее, жесткую по тону и стилистике поэму «Граница». В поэме изначально фигурировала моя малая родина, её ромашковая и ковыльная степь, с перестройкой и развалом страны ставшая сибирским пограничьем. Там, в березовых колках, за родным огородом, можно было теперь нарваться на вооруженных парней в зеленых фуражках (госграница с Казахстаном – Кайсакией). Стерегли они РФ от проникновения «нарушителей» в виде лихих водителей «Жигулей» «с носильным товаром» – бюстгальтерами и женскими трусиками – в багажниках. Погранцы и таможенники искали наркотики у казахов-иностранцев. Потрошили «челночных баб»…
Адские картины распада людских душ. Видения. И среди видений – отчаянные возгласы местной власти: «Эгей, кайсаки, степняки, откройте же задвижки на плотине, дайте водицы, из козьих копытец пьем! Никита Хрущёв подарил вам земли наши, южно-сибирские, казачьи, но вы же перегородили Ишим-реку, водохранилище изладили, на яхтах катаетесь…»
Миновав пустынное чистое поле, встав на крутом еще бреге древнего Ишима, все еще, хоть и не столь полноводно, текущего из Кайсакии-Казахстана, замер я во власти видений. Там, за рекой, простиралась степь. Она создана Богом для песен, но и для битв, если случается надобность. Душа кипела железными всполохами метафор, немыслимых в веке ушедшем.
И Боги мне молчать не разрешали:
Я вновь один. Речная глубина Вздохнула рядом – сонная, степная. Плеснул чебак. Кайсацкая луна Чадрой укрылась… Сон иль явь? Не знаю. Но где-то там, в заоблачной дали, На рубежах вселенского распада, Сошлись две силы – неба и земли – Георгия с копьём и силы ада. И гул копыт возник из ковылей: Небесный всадник? Божье откровенье? Дымами труб, перстами тополей Перекрестились хмурые селенья. А всадник мчал, над нечистью царил, Гвоздил ее бесовский облик злостный. Но брег Ишима конский бег смирил, И воссиял посланец Богоносный! Страну ментов, налоговой полиции, Страну воров и теле-инквизиции, Страну заплечных младореформаторов, Шутов, шутих и обер-комментаторов Объяла жуть! Гробы река несла, Как щепки, без ветрила и весла. Гробы, гробы… Для жизни бесполезные. Но местный люд кидал крюки железные, Добыть пытаясь пиломатерьял, – Смолье и дуб от капитализации, С клеймом Кремля, с прищепкой думской фракции, Где гроб-насельник раньше воспарял. «Шли» домовины штатовских поборников, Лоббистов бед, дефолтов, «черных вторников», Зинданов, в кои загнана страна. У нас как раз нашлось местечко гадкое, Где гроб-клиентов – с перхотью, с прокладками И с «голден леди» – кушал сатана. Да всё путё-ём! Ну где-то не подмазали, Теперь, как зайцы, (давний стих Некрасова) Неслись рекой. Эрефия, прощай! Не помогли и флаги полосатые, Кошерный пир и хануки пейсатые… И дед Мазай рукой махнул: «Пущай!» Рубеж, граница – место не для шалостей, Для Божьей битвы голь степи досталось нам, Где вся твердыня – два иль три пенька, С десяток бань: теперь, как доты, значатся; Пяток портков с лампасами – казачество, Но – руки прочь! – потомки Ермака! Еще спираль-бруно, стена форпостная: Заставы твердь в погранселе Зарослое, И водоем – добавочный форпост: С гагарьим писком сумрачная ляжина. И погранцов наряд закамуфляженный, Упертый рогом в бывший сенокос. «Где стол был яств…», – порушено, повыжжено, Скелеты ферм смердят навозной жижею. И, как реликт, непьяный тракторист. Фашизм пырея, глум чертополоховый, Да сопредельный, с торбой, шут гороховый, На местной фене – «злой контрабандист». И весь базар! Окину даль закатную – Из-под руки иль в линзы восьмикратные: Ишим-река…Таможня… Пыль веков… А это, тьфу, не Чичикова рожа ли? Шкуряет хмырь проезжего-прохожего, Приспел как раз – кильватер мертвяков! Гробы банкиров, сытые банкнотами, В одном рука торчит с протестной нотою, Другой – семейный, с креном на корму. Пошло безгробье – тоже отбазарили! – Орлы Кавказа, хитники Хазарии… Челночных баб вот жалко. Ни к чему.7
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.
Николай ГумилевОранжевое утро. Заревой час. Вдали, над лесом, шильца незримых лучей солнца беспокоят небесный свод. Зачинается осенний день. Небо роняет отсветы прохладной зари на гладь озерной, пахнущей камышом и тиной, воды. В дальней курье голос гагары- кавыки. Стволы отцовского ружья холодят ладонь. И парнишка, замерев от восторга самостоятельного охотничьего утра, осторожно отводит рукой камышинку, мешающую обзору. Он в своем, подзабытом нами, оранжевом мире.
В вышине небес кричат пролетные северные гуси.
На дальнем от курьи «стекле» озера опустилась стайка чирков. Возле берегового камыша на отцовский садок с карасями, плавно махая крылами, приседает красноносый мартын. У мартына задача добыть зазевавшегося, всплывшего к поверхности воды, карася. Но рыба еще таится на дне садка. Вот пригреет солнышко, взыграет! Того и ждет мартын, хищно поводя красным горбатым носом.
Поднимая дорожную пыль, гремит в улице телега. Кто-то, знать, пчеловод, с утра поехал в осинник за жердями. Пора поправлять огородные прясла после недавней копки картошки.
Человек радуется своим неспешным утренним хлопотам.
Слыхать, как на мостки пришла соседка купать курицу-парунью. Курица подняла крик, а соседка приговаривает, окуная наседку в воду: «Ишь, че придумала! Осень на дворе, а она цыплят собралась парить! Отобью охоту, отобью!»
Парнишка удобней устроился на беседке. Лодка качнулась, хлюпнув плоским днищем. Стихла гагара. И опять – тишина.
Парнишка смотрит на краски зари, упавшей на гладь степного озера, и в нем волнуется нечто напоминающее стихи. Слова озаряют пространство. И он радуется их пришествию: «Утро. Безмолвье. Камыш да вода. Алой полоской проснулся рассвет. Тихо плеснула у борта звезда, в небе начертан таинственный след. Чудо природа…» Слова застревают в густоте красок воды и неба. Но парнишка понимает, что прикоснулся к чему-то заветному, новому. И полон незнакомого ему волнения…
Через час он пристает к берегу. Гремит лодочной цепью, запирая её на старом комбайновом колесе амбарным замком.
Домой он придет без охотничьей добычи. Отец как бы и не заметит, что без добычи. Ладно и так. Дичи настреляют старшие сыновья. Они практичней и азартней. А младший – себе на уме. И не поймешь, в какие мысли погружается? Странный.
А парнишка растет поэтом. Вырастет и напишет добрые, правдивые книжки. Уже в новом, неведомом для нас, мире. Без сатанинской демократии, что, словно саранча, выстригает нынче Родину – из края в край.
Взрослым приедет парнишка в родные веси, где, как и прежде, тиха будет по утрам вода озер и в высоте неба услышит он трель жаворонка. Ближнее чистое поле, степь, наполнятся торжественным многоцветьем трав и мелодичным стрекотом кузнечиков. А над всем – будет сиять раскатистый звон колоколов, возвышенного нового храма – в пурпурных старообрядческих одеждах неистребимого, царственно прекрасного заревого неба…
Но вот я, автор завершающих свой ход откровений, в нынешних тревогах зрю абрис коршуна, напоминающего нашу гербовую византийскую птицу, что над сонмом людских нестроений и бед поднята в государственный зенит кроваво-красными небесными потоками. Зрю и опять внимаю Гоголю: «…Кто бы крикнул живым, пробуждающимся голосом, – крикнул душе пробуждающее слово: вперед! – которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов, русский человек?»
Нет пока такого голоса. Не просматриваются высокого государственного уровня умы, каковыми были в великой русской истории-Александр Невский, Иван Великий-Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин…
И человек догадывается, понимает и начинает протестовать: так жить нельзя! Но на фоне зреющих народных протестов – «работают» экстрасенсы и колдуны. Они продолжают вещать о «конце света», о всеобщем катаклизме. И разлагающаяся вечность сквозит миазмами лагерной пыли.
Апостолы всех религий предрекают: в «последние времена» наступит духовное оскудение людей, которое можно понимать как оскудение разума.
Но я знаю: ключи от Неба еще не потеряны!
2011 г.Об авторе и его творчестве
ВЕРНОСТЬ РУССКОЙ ДУШИ
Николай Денисов, на мой взгляд, самый активный и значительный из русских поэтов в сегодняшней Сибири. Он обладает сильным живописным талантом. Стихи его смелы мыслью, свежи чувством и выразительны своей простотой. Ему под силу в четырех строках взвихрить свой образ.
А со двора, откуда стужей свищет, Из облака, из снега, из ворот – Отец заходит, кнут за голенищем, Конфеты городские достает.Николай Денисов – человек мужественный и пытливый. Он на судах торгового флота, в рабочем составе команды, обошел чуть ли не весь земной шар. В его путевых стихах дивно вспыхивали разные города и страны, но в мировом просторе он не развеял изначальной любви. Вот она, маята и верность русской души – родине!
г. Вологда, 1993 г.
Александр Романов, поэт, публицист.С ДУШОЙ НАРАСПАШКУ
Для меня Николай Денисов – вечно молодой, неистощимый яростный боец с несправедливостью и злом; человек доброй, щедрой, чуткой души, для которого нет горя чужого, нет беды сторонней; все, чем жив родимый край и его народ, все тревожит, волнует, будоражит поэта, удесятеряя его энергию и силу в борьбе за Правду и Добро.
Тридцать лет минуло с того дня, когда я впервые встретился с Николаем – немножко угловатым, чуточку застенчивым, улыбчивым деревенским парнем, принесшим в писательскую организацию тетрадку своих первых стихов – прозрачно чистых, искренних и необыкновенно привязчивых. Он читал свои вирши глуховатым, срывающимся голосом, страшно волнуясь.
Он, как прежде, молод сердцем. По-прежнему шагает по жизни с душой нараспашку. И все-то ему надо. И ко всему он неравнодушен. И чувствует он себя хозяином не только своего края, но и всей России.
г. Тюмень, 1993 г.
Константин Лагунов, писатель.МЫ ИЗ СЕЛА ПОЭТОВ
Да, мы с Николаем Денисовым земляки по месту рождения, мы из села поэтов, как называют в Бердюжском районе Тюменской области – наше Окунёво. Мы близки по существу творчества, но слишком разные по возрасту.
Под шатрами берез Ишима Я при Ленине родился. Брат с обрезом идет на брата, Да пожарища деревень…– это моё – то, что провалилось в «черную дыру» прошлого.
У Николая же Денисова, родившегося 9 ноября 1943 года в тех же лесостепных весях обширного Тюменского края, в том же селе Окунево, восприятие собственной родины противоположно:
Среди полей, где мир и тишина, Где даже гром грохочет с неохотой, Лежит моя крестьянская страна Со всей своей нелегкою заботой.Написано в 1968-м, в сравнительно спокойное время. Тогда думалось, что не будет разрушительных катаклизмов, и муза уже уподобилась музам родных поэтов-классиков и пленяет картинами с деревенским антуражем и таким вот отрадно-успокаивающим утверждением провинциала:
Там деревенька с именем простым – В других краях о ней и не слыхали…Скромностью от него веет, однако, паче гордости. Автор, а он к тому времени достаточно искушен в стихотворстве, подаёт образ родного села наиболее привлекательно, душевно – именно через этот наив…
Николай Денисов, мастер стиха и по форме и по идее. Совершенствовал версификацию в стенах Литературного института в одно время, хоть и на разных курсах с поэтом из Вологды Николаем Рубцовым. Вологда и Тюмень были связаны между собой еще во времена протопопа Аввакума – ссыльным трактом. Денисов тепло вспоминает о Рубцове-сокурснике – а как же иначе? Встречались, вели разговоры, читали вслух собственное, последнее. И примеривались друг к другу – судьбами. Денисов вспоминал позднее: «Он тоже был человеком из деревни, пережил те же картины, краски, ощущения природы, людей. И еще он тоже был моряк, «тоже долго служил на флоте»…
Природа художественного творчества. В чем она?
Художник выступает как эхо всего происходящего в этом колеблемом мире. На все волнующие события он шлет свой ответ. Но ему нет отзвука, и это начало всех противоречий между ним и миром, у которого множества точек опоры. А у противопоставившего ему свое искусство таланта – опора одна-единственная. Это невидимый ген, с которого начинается слово «гениально».
Ген передается от отца к сыну, от матери к дочери, из поколения в поколение. Ген – вещь зыбкая и неосязаемая, как пустой воздух. Но именно он определяет природу художника-творца. Это первое противоречие.
Подлинное искусство вечно, а наша жизнь, увы, временна – вот второе противоречие между художником и его бытием.
«Ты царь – живи один!» Духовное одиночество, как полагали раньше, и духовная обособленность, как это мы называем теперь в известной мере удел любого настоящего художника.
Все эти противоречия составляют тайну личности поэта и писателя Николая Денисова, его индивидуальности. Без них не может быть никакого художественного творчества.
Геннадий Сысолятин, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, поэт, прозаик, фронтовик.г. Абакан, 2002 г.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРИМЕР ДРУГИМ
… Многие в нашей нации сходят с ума, гибнут, ведут незначительный и неяркий образ жизни, но не борются с постоянной опасностью, не проявляют готовности послать чуждых их душе «цивилизаторов», вроде гитлеровских, подальше. Герой этих страниц, поэт Николай Денисов, бывалый человек, видящий все своими глазами, подает гражданский пример другим. Он явил, в том числе в качестве издателя и публициста, активную непримиримость к беспределу и злу, и поднял голос борца против разорения, названного перестройкой и реформами. Проворные воры, двуногие твари, имеющие столь прегрешений, учредившие на нашей земле новое античеловеческое кровавое правление, не случайно ведь воспринимают бичующую «Тюмень литературную» как посланный Богом на грешный род всемирный потоп.
г. Москва
Владимир Фомиче в, поэт, публицист.(Из книги «Стезя Николая Денисова». Москва, 2004 г.)
ОБ «ОГНЕННОМ КРЕСТЕ»
Риск – естественное явление и природное состояние в работе любого, кто хочет сказать свое, новое слово в искусстве, будь то искусство стиха или ваяния. У нас в России издревле риск творческий носит социальную окраску, – но она же, как поэзия с прозой, сопряжена с нравственной. С такими феноменами как «честь» и «мужество». С понятием «творческое поведение» (термин, введенный М. Пришвиным). Вкратце так: на Руси, как, пожалуй, ни в какой другой стране мира, художник, идущий на риск вроде бы сугубо художественный, нередко рискует и в социально-нравственном плане. Ну, в человеческом (скажем, в отношениях со своей «средой») – уже как закон. А то и головой, примеров тому в «истории мы тьму» видели. Свободой – тоже часто. Что Коля Денисов – парень рисковый, это я давно знаю, еще с советских давних времен нашей с ним молодости. Люди моря иными не бывают, а он столь же «морская косточка», сколь и писатель настоящий… Но «Огненный крест» проявил его глубинную и высшую способность к риску. К тому риску, которому трудно дать определение, разве что одно подходит – русский риск.
Не в том рискованность автора, что он высказывает самые негативные взгляды на власть имущих. В 90-е, например, Николай Васильевич являл гражданскую смелость по самому крупному счету. И сейчас нередко мечет стрелы в беспредельщиков. А вот в чем его русский риск, как это ни странно может кому-то показаться: в том, что в прозе он ничуть не меньше поэт, чем в стихах…
Чуть не на каждой странице «Огненного креста» можно найти то, что можно было бы назвать «стихотворением в прозе» – но не надо так называть сии образцы: проза перед нами самая что ни на есть «твердая», изделие прозаика, создающего повествования, (очень точно Денисов обозначил жанр книги!) Он подходит, и очень часто, к той самой грани, за которой может начаться пресловутая «поэтичность» – но не переступает этой грани. Более того, тут же делает эстетически еще один рисковый ход (как правило) направляет ход слов в социально-политическую сферу, куда уж дальше от «поэтичности». Вот один из подобных, лично меня просто опаливших своим «яросердием» образцов:
«С малой моей старообрядческой родины написали об огненном знамении, которое приключилось двумя месяцами ранее, в конце августа. Налетел ветер, потом воссияла гроза. Все кругом взъерошила, потом сорвала несколько крыш со стаек – пригонов скота. Кинула огонь, молнию. Молния летела очень прицельно: попала в свежий зарод сена за огородом последнего, сохранившегося в строю комбайнера. Занялся зарод сразу и сгорел дотла. Хозяину нечем кормить корову. Плохи дела.
Пожары, поджоги множатся и по России. Война? Пока не крупно-масштабная. Пожары заливают водой, а войну кровью».
Так ставить слово к слову – набросать в пламенеющей экспрессии картину природного бедствия, а вслед за тем органично «нырнуть» в словесную картину катаклизма державного – это надо уметь. Уметь отнюдь не только в смысле профессиональной умелости (хотя ясно, что без мастерства высшей пробы подобное не может получиться), «набитости» руки, нет – художническим сердцем надобно понимать, какие слова должны прийти… Сердцем способным на риск – не ради чего, а – во имя. Да, святое. Во имя России. И тех, кто хочет в ней жить по-человечески. По-русски. И только русский художник слова, не боявшийся звать себя патриотом тогда, когда это слово было самым страшным клеймом в устах и под пером «демократов» и «либералов», может взять на себя смелость и ответственность в стремлении доказать, что ныне разница сия – лишь «вроде бы» есть, кажущаяся, а недруг у тех и у других ныне – общий. Те, что жаждут сделать Россию колониальной помойкой для ядерных отходов «золотого миллиарда» и сырьевой базой для него же. С населением миллионов в 20-30, не больше…
Да, «рулевым» нынешним, как Денисов сам не раз говорит в своей книге, плевать на то, что мы там про них напишем – да хоть изойдитесь проклятиями, писаки несчастные, вы же всего лишь часть «быдла» («овощи» – термин, принятый в среде высшего чиновничества), вот если ваши писания до маршрутов финансовых потоков доберутся, хоть даже всего лишь районного масштаба – вот тогда вас сразу увидит «цензор с оптическим прицелом»…
А вы нам о «согласии»!
Какое согласие, когда порой два товарища, два единомышленника расходятся во взглядах на происходящее, на болевые моменты истории страны. И не может быть иначе, ибо у каждого из нас своя судьба. И право Николая Денисова на его личную правоту должно признать нам именно потому, что его книга создана не холодным и отстраненным историком-социологом, а – Русским Поэтом. Человеком ярого сердца. Того сердца, в котором болит Русская трагедия, многогранная, начавшаяся век назад и длящаяся по сей день. Почти миллион (по иным сводкам больше) «перемещенных лиц» в конце и после Второй мировой. И миллион человек, в основном русских, ежегодно вымирающих в наши, «мирные дни».
А вы нам опять – о «согласии», о «примирении»!
А ты, тоже наш давний и старший товарищ Саша Проханов, в разоренном дочиста и люмпенизированном начисто уголке моей Псковщины «крест Единения» с помощью «партии власти» поставил. Не может он быть крестом ЕДИНЕНИЯ, покуда есть Огненный Крест Русской Трагедии.
И потому глубоко прав талантливейший тюменский писатель, которому по судьбе выпало быть другом многих «русских венесуэльцев» и их потомков – прав, создав эту книгу. Ибо только художник русского слова может сегодня, способен в дни идущие брать на себя риск попытки разобраться в истоках, корнях и последствиях катаклизма, постигшего Отечество в веке прошлом и продлившегося до сего часа. И тогда (может быть) если не мы сами, уже седые и закоренелые то «коммуняки», то «почвенники», то просто «совки», то их антиподы – не мы, но дети и внуки наши поймут и увидят, с кем им единиться и примиряться…
Это должно произойти. Более того – это уже начинает происходить. И потому это запечатлено в генесе, в «зародыше» поэтом Николаем Денисовым:
Утро. И птицы летят. Сыплется иней морозный. Руки работы хотят. Дух нарождается грозный.Нарождается…
г. Псков, январь, 2008 г.
Станислав Золотцев, поэт, литературоведРУССКИЕ
Ты Русский, крепко помни это,
В какой бы ни был части света!
Из эмигрантских стиховВ 2010-м году русский читатель получил в подарок очередной труд Николая Васильевича Денисова. Его книга «Волшебный круг» (своеобразное продолжение предыдущей книги «Огненный крест») о круговороте Русских судеб в погибающем мире, о несгибаемости Русской Души в изгнании и малодушии её в порабощённой Родине, об осознании мирового значения Русского исповедания Истины – о Русском Кресте! Книга из слитых воедино невероятных по откровению повествований, рассказов и очерков, как и все книги писателя-патриота, слиты в одну Книгу Русской Правды, которой выживали, живут и, без сомнения, будут жить и наши наследники – благодарные потомки!
Об авторском стиле Денисова немало сказано раньше меня, я ж только добавлю. Совместить трагическое и комическое, перевести отвлечённое в решение мировой проблемы, «ни на чём» рассмешить и заставить задуматься от того же ещё глубже, и многое чего ещё может только Николай Денисов, сохранивший и оберегающий великий Русский Язык! Как говорят, «оторваться невозможно» от рассказов-событий Жизни, которую проживаешь ИМЕННО ТАК с автором, потому что прожито – по-Русски, и этим прочитанное становится твоим взглядом, твоей жизнью, уходящей из многовекового прошлого далеко в Будущее, и, безусловно, Справедливое, Победное, Святое!..
«Кто потерял Прошлое, тот не имеет Будущего!» – эта аксиома земного Бытия непреложна! Но если бездуховную толпу удаётся превратить в тупой электорат, в потребителей, в быдло, то Русский Поэт, которому Богом открыты замыслы врагов его народа, не может встать в ряд «номенклатурных» жертв, – его задача не только спасти себя, но и слушающих народного Писателя! Сегодня, когда запросто убивают неугодных некоррумпирующихся политиков, национальных лидеров, правдивых журналистов, проповедующих священников, русских предпринимателей, даже русских криминальных авторитетов, писательская стезя становится самой опасной. Ничто так не страшит врагов Православной России, как Слово Правды, как Профессиональный взгляд Русского Писателя на духовно-пораженческую реальность, на замену Русской Христианской Цивилизации её пародией и карикатурой, на вытеснение Русских с их собственных земель, пропитанных кровью миллионов Христианских Святых – Основателей Православной России!
Понимая своё положение, свою роль и ответственность, Денисов всё-таки берётся за этот труд и публикует с Божьей помощью!
Николай Васильевич увековечивает память о настоящих Русских, готовых пойти в бой «за веру, Царя и Отечество», положить жизни свои «за други своя», терпеть невыносимые испытания, чтобы сохранить Христианскую Честь, Честь Русского Офицера, Честь девичью и Русской Женщины! Честь от веры, а вера человека – это и есть Человек!
2010 г.
о. Владимир (Ермолаев), священник, член Союза писателей РоссииВО ИМЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Как писатель, редактор, общественный деятель Н.В. Денисов, по всеобщему признанию собратьев по перу, сохранил честь, достоинство, теплоту, искренность, товарищество и другие положительные качества, которые, к сожалению, отринуты сегодня многими на задний план. Как честного, искреннего, добросовестного, принципиального человека, писатели России неоднократно избирали Н.В. Денисова членом Ревизионной комиссии Правления Союза писателей России. Не случайно в самые тяжелые для Тюменской писательской организации времена коллеги оказали Денисову доверие, избрав его председателем своей организации. И не случайно однажды сказал о нем священнослужитель из Екатеринбурга о. Владимир (Ермолаев): «Денисов – живой пример современного русского образа жизни и борьбы за торжество Православия, победы человечности над скотством».
Лучше не скажешь.
2010 г.
Николай Коняев, председатель Ханты-Мансийской окружной писательской организации



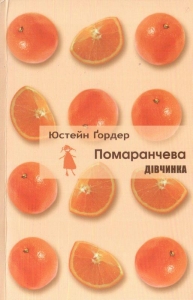


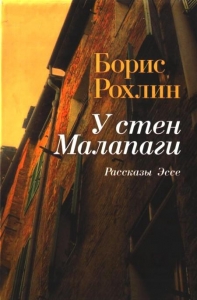

Комментарии к книге «В чистом поле: очерки, рассказы, стихи», Николай Васильевич Денисов
Всего 0 комментариев