Иван Шипнигов Нефть, метель и другие веселые боги
© Шипнигов И. В., 2016
© Издание, оформление. ОО Группа Компаний РИПОЛ классик», 2016
***
Каждое утро я встаю, пью кофе, смотрю в окно и ненавижу книги. Одиннадцать лет. Каждый день и даже во сне я ненавижу книги и ищу истории, которые могли бы ни много ни мало… изменить мир. Мой мир, ваш мир, наш мир. Превращаю истории в кирпичики из бумаги и картона, кирпичики побольше и кирпичики поменьше, потолще и потоньше, черные и белые (только не горелые)…
Толстой. Достоевский. Гоголь. Ну, Булгаков. Ну, Чехов. Висят над школьной доской, пылятся. Их профили выбиты на медальках, напечатаны на конфетных фантиках, отлиты в бронзе, высечены в мраморе. А есть другие. Без фантиков, мрамора и даже без школьной доски. Неизвестные, не знакомые ни мне, ни вам (порой до самого выхода тиража из печати), но похожие друг на друга в одном: у них за душой есть классные истории.
Эти истории могут стать для вас… ничем не стать. А могут – утешением, советом, помощью, путешествием куда-то, откуда вы вдруг все увидите в невероятно четком свете и тут же все поймете, как будто знали всегда. Написанные из радости и боли, но никогда – из равнодушия. Из любви и ненависти, но ни разу – из душевного холода.
Берите, читайте или просто пролистывайте. Мните, разглаживайте, загибайте и отбивайтесь от (подставьте каждый что-то свое). Забудьте сразу по прочтении или запомните навсегда.
А я… я найду еще;)
Ваша Юлия Качалкина
У меня дома всего пять книг. Большая, маленькая, синяя, коричневая и… Мураками! Я не очень помню, кто автор у четырех из пяти, а с Мураками я люблю пить вискарь и слушать джаз.
Главное, зачем мне нужны эти книги дома – затем, что я их люблю перечитывать. Вот эта – про любовь и прощение, вот эта – по приколу, а вон та – про то, что грустное на самом деле часто – очень смешно – помогает не драматизировать всякую житейскую фигню.
Для меня книга – это кино, которое я сам режиссирую в своем воображении. Ни больше ни меньше. Посмотрел, получил эмоции и дальше ищешь что бы такого «снять». Меня интересует только история. Хорошая и хорошо написанная. И, желательно, не про вселенскую тоску, какое бы имя ни стояло на обложке и какие бы литературные премии книга ни получила.
Вообще не понимаю, зачем литературу сделали знаменем снобизма. Я обычный нормальный читатель, и я хочу просто развлечься. Хоть с Чеховым, хоть с этой, в черной обложке.)
Лишь бы история была клевой, и автор не зануда)
Владимир Чичирин, обычный читатель.
У меня никогда не было книжных полок, но я всегда покупала книги и закапывала их по углам в квартире, заваливала столы, набивала ими пакеты и откладывала на время, пока не приобрету большие такие, высокие книжные полки. Когда они появились, книги легли на них все своей массой и… застыли во времени, в ожидании, когда я их возьму и перечитаю. А я не брала и не перечитывала, некоторые даже ни разу не открыла. И стою я теперь периодически, любуясь на полки, и не поднимается у меня рука, чтобы нарушить порядок. И я стала думать, почему так: вроде бы все как надо – есть коллекция, живущая в уютном месте, а интереса прочесть нет, что случилось? И поняла, что случилась жизнь: «постарели» эти книги, а я как бы «помолодела». И неохота мне читать ладно скроенные по шаблону произведения, открывать одни и те же угрюмые обложки НАДОЕЛО. Хочется легкости «книжного бытия», хочется по-настоящему талантливой литературы, умеющей простым и веселым языком сказать о любых вещах, даже мрачных.
Теперь у меня есть книжные полки, и, хотя я знаю, что когда-нибудь и это новое осядет тяжелым нечитаемым грузом, я готова произвести революцию: повыбрасывать сегодняшнее избитое старое и поселить там то, что действительно будет пусть временно, но «работать» на меня – с удовольствием читаться…
Ольга Байкалова, пока лояльная коллега
Нефть, метель и другие веселые боги (рассказы)
Мавзолей
Когда последние посетители уходят и двери Мавзолея запираются, Владимир Ильич на всякий случай тихо лежит еще минутку, потом потягивается, открывает глаза и встает. Бодро спрыгнув со своего одра, он одергивает костюм, поправляет великолепный галстук в стиле «британский парламент», в горошек такой, и, потирая руки, энергично говорит в черную пустоту своего жилища:
– Надежда Константиновна, а не попить ли нам чайку?
Из полумрака тут же появляется женщина, одетая и загримированная таким образом, чтобы быть максимально похожей на госпожу Крупскую. Несмотря на высокую зарплату и немалый опыт работы, она до сих пор не может справиться с волнением первых минут, и глаза ее некоторое время сохраняют испуганное выражение.
– Вам какого чайку, Владимир Ильич? – ласковым профессиональным голосом спрашивает она.
– А давайте английского, покрепче! – весело отвечает Владимир Ильич и усаживается за чайный столик.
Владимир Ильич очень любит пить чай, он пьет его подолгу и с наслаждением. Вождю нравится все русское: пузатые самовары, баранки, колотый сахар и душистые пряники, только чай русский не очень жалует Владимир Ильич.
– Говно это, а не чай, говно и глупость. Чай хорош английский, пора это запомнить каждому образованному человеку, – бодро произносит он, усаживаясь за столик с Надеждой Константиновной.
Несмотря на это, Надежда Константиновна все равно каждый день спрашивает, какого чая хочет Владимир Ильич – так сказано в должностной инструкции.
После чая Крупская обычно садится в углу и читает французский роман, а Владимир Ильич играет с солдатом в шахматы и часто, задумавшись над доской, начинает рассуждать:
– У Троцкого этой дряни набрались. Почитали бы лучше что-нибудь стоящее, Надежда Константиновна, Толстого хотя бы.
И делает блестящий ход.
Надежде Константиновне полагается отвечать на это печальным вздохом, в котором слышно сразу «строгий вы, Владимир Ильич, все придираетесь» и «куда мне в такие дебри забираться, я вот про любовь, про любовь лучше».
Солдат, играющий в шахматы с Лениным, обычно очень сосредоточен и даже угрюм. Когда было общее собрание всех военных Кремля, на котором решалось, кто будет обслуживать вождя, никто не хотел брать на себя эти дополнительные обязанности даже за предлагаемую высокую плату. В результате тянули спички. Сержант Мышкин, вытянувший короткую спичку при определении того, кто будет шахматным партнером Владимира Ильича, очень расстроился – он ничего не смыслил в этой игре и с детства боялся мертвецов. Майор Филин, его непосредственный начальник, весело хлопнул сержанта по плечу:
– Отставить страхи, офицер! Играть научим, а что до запаха – так там отдушки везде понатыканы, не заметите ничего!
Сержант месяц усиленно занимался в шахматной секции, был освобожден от основной службы и получал теперь жалованье в пять раз больше прежнего. Сейчас, играя с Ильичом, он старался на него не смотреть и не думать ни о чем, кроме игры, поэтому сидел весь сжавшись и молчал. Он давно бы нашел способ уйти с этой работы, но жена ему не позволяла – ждали второго ребенка, нужны были деньги. Ленину же было все равно, с кем играть, всех своих соперников по шахматам он весело брал за пуговицу и называл дураками, одного только Троцкого выделял:
– Сволочь был, конечно, сволочь и проститутка, но как играл, как играл! Гений тактики! Вот где он сейчас?
Вспомнив о Троцком, Владимир Ильич обыкновенно начинает тосковать, и часто это заканчивается каким-нибудь неприятным конфузом. Вождь забрасывает все свои обычные занятия и ходит кругами по Мавзолею, напряженно вглядываясь в полутьму вокруг себя. Однажды он ходил так целый день, а к вечеру спокойно подошел к одному из солдат охраны и вдруг вцепился ему в шею, визгливо крича:
– Ты, гнида! Ты Крупскую обижаешь! Ты Троцкого ледорубом! Я все знаю, все! Коллективизация твоя говно, говно и глупость, ограбил страну, бескультурная скотина!
Владимира Ильича еле оттащили, солдат получил неделю отпуска. Таких случаев было несколько. Обычный милицейский электрошокер всегда помогает.
Однажды Владимиру Ильичу удалось бежать, ненадолго, правда, но все же. Да, за все восемьдесят четыре года Ленин один только раз выходил за пределы Мавзолея. Он конечно же просился на волю каждый день, иногда даже плакал, часто впадал в бешенство и называл начальника охраны скотом и тупицей, но все было тщетно – наружу его никто не выпускал. Ленин шел на хитрость: говорил, что у него клаустрофобия и мышечные спазмы, и голова постоянно болит, и что непременно нужно подышать свежим воздухом; приходил врач, слушал больного, говорил свое обычное: «Да вы, батенька, мертвы, куда уж вам болеть. Симулируете, голубчик» – и уходил, а Владимир Ильич каждый раз слышал эти слова словно впервые и очень расстраивался, наружу больше не хотел и впадал в депрессию. А однажды побег его удался.
Случилось это так. В тот вечер Владимир Ильич чувствовал себя неважно и решил статью не писать, а диктовать Надежде Константиновне. Вождь удобно устроился на своем красном ложе, приподнялся на локте и, жуя баранку, начал:
– Сталин не подходит на пост генсека в силу своих личных качеств. Он груб, властолюбив и к тому же транссексуал. Я видел в ящике его рабочего стола женское белье больших размеров. Такой человек не может стоять у руля нашей партии, он неизбежно наделает ошибок и глупостей. Также он скотина, и я его ненавижу. Когда я умирал, он радовался. Он радовался, когда я умирал. Радовался он, когда умирал я. Я все время, всю свою жизнь умирал, а Сталин невежда, интриган и очень хитрый субчик. Сталина нужно отстранить от всех дел и сослать в могилу.
Привыкшая ко всему Крупская равнодушно записывала, лишь изредка переспрашивая: «Как, Владимир Ильич? Искажение курса?» Речь Ленина картавым ручейком однообразно журчала в тишине склепа. Дежуривший у входа солдат накануне не спал всю ночь и сейчас не выдержал и задремал, прислонившись к стенке. Ленин понял, что это шанс.
– Я в уборную отлучусь, Надежда Константиновна. Я быстро, – сказал вождь, спрыгнул с ложа и пошел к выходу.
Крупская лениво зевнула, кивнула головой и уткнулась в роман.
Дверь, через которую входят посетители, обычно не запирают, полагаясь на бдительность солдат. Ленин это знал. Скорее, скорее. Направо. Прямо, наверх. Налево. Уклон влево, товарищ Троцкий. Последняя прямая, проклятые ступеньки, почему их так много. Сердце сейчас не выдержит. Голову ломит. Очень, очень болит голова, она болит всегда, милая моя Надежда Константиновна. Пожалейте меня, вы же видите, как болит моя голова. Не бойтесь, Сталина мы скрутим. Скоро съезд, вы, главное, не забудьте письма передать, а то голова очень болит, и Сталин совсем обнаглел. Хамит. Скотина. Это он ступенек понаделал, я знаю! Не верю, что он умер. Сталин хитрый, он мог и договориться. Все! Дверь. Почему не открывается?! Заперли! Гады! Я ведь знаю, что она не заперта! Ах, на себя. Точно, простите. Свобода. Осознанная необходимость двери открываться лишь в одну сторону.
Над Красной площадью натянуто темное, невыносимо прекрасное небо с ласково мигающими огромными звездами. Людей вокруг не видно. Владимир Ильич хлебнул свежего воздуха, задохнулся и упал на колени. Отдышавшись, он встал и побрел прочь от усыпальницы.
Ленин гулял около часа. Ходил он только вдоль стен, чтобы в случае чего иметь возможность притаиться за любой из больших синих елей, растущих по периметру Кремля. Ленин успел рассмотреть строй почетных государственных могил, вытянувшийся неподалеку от Мавзолея. Дольше всего он стоял конечно же у могилы Сталина. Сначала Владимир Ильич довольно хихикал и даже пританцовывал, но внезапно погрустнел, когда на надгробие лениво опустилась старая одышливая ворона. Ленин сказал ей: «Дура ты, Надежда Константиновна», запахнул плотнее пиджак и пошел дальше. Было довольно холодно.
Решившись ненадолго отойти от стены, Владимир Ильич встретил романтическую пару, одиноко бредущую по пустой Красной площади, спросил у них, где поблизости можно купить хлеба и молока; влюбленные рассмеялись, попросили зачем-то сфотографироваться вместе, Ленин обиделся и вновь ушел в тень.
Мумию поймали около двух часов ночи. Побег Владимира Ильича наделал много шуму, военные звонили президенту, директору ФСБ. С солдатом, уснувшим на посту, уже разговаривала военная прокуратура. Комендант Кремля кричал на всех, кто попадался ему под руку.
Вождя обнаружили возле могил руководителей советского государства, к которым он вернулся, заскучав бесцельно бродить по брусчатке. Ленина нашли фээсбэшные кинологи с собаками. Животные выли и скулили, идя по следу вождя. Осветив прожектором серую фигурку, спрятавшуюся за голубой елью, спецслужбисты вызвали солдат, те образовали полукольцо и начали медленно сходиться, внимательно смотря вперед. Над военными лениво пролетела старая крупная ворона. Владимир Ильич Ленин стоял у стены, плача.
2008 г.
Капитал
Тот, кто собрал всех, подбросил копейку, прихлопнул ее на столе ладонью и посмотрел, что выпало. Оглядев сидящих за круглым столом, он тихо сказал:
– Просите, и дадут вам.
Все встали и разошлись.
Москву разделили на районы. Расходились от центра большими группами, ехали в метро, выходили по несколько человек на каждой станции и шли в город, а остальные ехали дальше. Добравшись до конца веток метро, садились в машины и ехали на окраины, за третье транспортное кольцо, и дальше, вглубь, в те холодные темные земли, где Москва незаметно превращается в Подмосковье. За день город был охвачен полностью. Каждый стоял на своей позиции и ждал звонка. В полночь приказ был дан, и началось.
Заходили в подъезды и коротко, вежливо звонили в каждую дверь:
– Здравствуйте, – говорили. – Будьте добры, отдайте нам ваши деньги.
Отдавали все. Пенсионеры, надев очки, щурились на свои кошельки и искали сбережения, припрятанные в шкафах, под матрасами, в ванных. С полок летели пыльные книги, между желтых страниц обнаруживались давно забытые и только сейчас потревоженные купюры. Деньги щурились на пенсионеров и с тихим жалобным шелестом выходили из своих укрытий.
– Возьми, сынок, все одно лежат, – говорили бабушки, протягивая пришедшим тонкие пачки старых мятых купюр. Старики же отдавали молча, глядя в пол, и тут же скрывались в своих квартирах.
– Спасибо, – говорили им.
Студенты отдавали весело. Рылись в шкафах, вытаскивали джинсы и майки, скидывали с вешалок рубашки и куртки, выворачивали карманы, расправляли мятые сотни, полтинники и десятки. Все без исключения просили подождать, бежали в ближайшие банкоматы, снимали остатки стипендий и бегом возвращались. Радостно протягивали пришедшим только что снятые деньги.
– Берите-берите, конечно. Сейчас еще в одном месте посмотрю, кажется, валялась мелочь.
Собирали мелочь, ссыпали в пакеты и в банки из-под кофе и отдавали все до копейки.
Офисные работники вели себя несколько иначе. Медленно открывали, долго смотрели на пришедших, потом деловым тоном спрашивали:
– На развитие?
Пришедшие молча кивали и раскрывали мешки. Представители среднего класса будили мужей и жен, вместе вспоминали, где спрятали тринадцатую зарплату. Детей отправляли к банкоматам. Давали им все банковские карты, что были в доме, писали на бумажке пин-коды и просили:
– Побыстрее. Это важно.
Сонные школьники торопливо одевались и бежали на улицу. Мерзли в длинных очередях, встречали там своих знакомых.
– На развитие?
– Да, это важно! – говорили все вокруг.
Представители малого бизнеса приглашали ночных гостей в дом, вежливо предлагали кофе или выпивку. Сборщики неизменно отказывались.
– Без лишних слов, пожалуйста. Мы ждем.
Малый бизнес тут же извинялся и отдавал – быстро, слаженно, аккуратно. Владельцы закусочных, автомоек и киосков в банкоматы никого не посылали, а просто отдавали свои карты, прилагая к ним бумажки с пин-кодами. Наличные тщательно пересчитывали и складывали в мешки.
– Мелочь надо? – спрашивали они у сборщиков.
– Надо, – отвечали те.
Богатые люди отдавали с радостью. Казалось, они всю жизнь ждали этого момента. Богатые открывали свои сейфы, складывали в принесенные сборщиками мешки толстые пачки долларов, рублей и евро, клали в конверты банковские карты и ровным, спокойным почерком приписывали пин-коды.
– Машину продать? Квартиру? А то еще дом под Москвой есть, смотрите. И долг, нам должны сейчас довольно много, хотите, мы позвоним? – с надеждой в голосе спрашивали богатые люди.
Сборщики и с ними были немногословны:
– Нет. Только то, что есть сейчас.
Подходили к каждому бомжу, прячущемуся на вокзале от ментов, сидящему у метро, спящему на скамейке в парке.
– Пожалуйста, отдайте нам ваши деньги. – Сборщики были одинаково вежливы и холодны со всеми. – Это важно.
– Деньги? Вот тебе деньги! – хрипели бомжи, выгребая из карманов мелочь. – Мишка, проснись! Деньги отдать надо, – толкали бомжи своего приятеля Мишку, спящего рядом в позе эмбриона.
Мишка просыпался, секунду смотрел на товарищей пустым новорожденным взглядом, потом оживал и радостно скалил зубы:
– Вона, какие у меня деньги! Бери!
И вытаскивал из карманов две стершиеся десятки.
Очень богатые люди, увидев сборщиков, радовались больше всех. Они уже слышали что-то о том, что происходит в Москве, и были готовы. В прихожих квартир стояли мешки, набитые заранее снятыми со всех счетов деньгами.
– Вам помочь вынести? – спрашивали очень богатые люди у сборщиков.
– Нет, спасибо. Мы сами, – отвечали те, забирая мешки.
Очень-очень богатые люди приглашали сборщиков в дом, усаживали их за стол и предлагали обсудить проблему.
– Дело в том, что в данный момент у нас нет необходимого количества мешков, чтобы разместить в них все обналиченные средства…
– Мешки есть. Не хватит – купим. Показывайте где.
Очень-очень богатые люди удивлялись, с какой легкостью решается проблема нехватки мешков, и приглашали сборщиков в комнату, где была сложена вся наличность:
– Пожалуйста.
– Спасибо, – отвечали сборщики, с завораживающей быстротой укладывая деньги в мешки.
За всю неделю, что шла операция, было зафиксировано всего два случая столкновения сборщиков и населения. В первом из них один олигарх отказался отдавать сборщикам деньги, ссылаясь на то, что такой вид валютно-денежных операций, подразумевающий простой отъем капитала, является незаконным. Сборщики аргументировали свою позицию:
– Мы не отнимаем у вас, не говорите так. Нам неприятно это слышать. Мы просто вас просим: пожалуйста, отдайте деньги.
Олигарх подумал немного.
– Да, конечно. Я был не прав. Простите меня.
В другом случае одна пенсионерка, старая, но очень бодрая бабушка, крикнула через дверь:
– Пошли прочь, сволочи! Не отдам.
Сборщики очень тихо и вежливо сказали:
– Пожалуйста. Это важно.
Через минуту бабушка открыла дверь и поставила на порог трехлитровую банку, набитую мятыми купюрами и грязными монетами:
– Чего уж тут, правда. Берите.
В магазинах опустошались кассовые аппараты, в банках команды сборщиков устраивали конвейеры, передавая друг другу мешки с деньгами и складывая их в машины. Прохожих останавливали повсеместно:
– Отдайте нам ваши деньги, пожалуйста.
Прохожие вытаскивали кошельки, рылись в карманах. Кто-то по глупости своей, по незнанию ситуации предлагал плеер, телефон, сумку с ноутбуком, но сборщики над этими людьми не смеялись, а с профессиональной вежливостью отвечали:
– Нет. Только деньги.
Отдавали.
В течение первых трех дней операции Москва волновалась, в следующие три дня остывала и успокаивалась. Сначала было много разговоров – как, а ты отдал, конечно, отдал, они же просят «пожалуйста», как не отдать, это важно. Потом разговоры надоели, и всем стало скучно. Беспорядков, погромов, шествий, драк, резни, массовой истерии, нашествия инопланетян, образования новых религиозных сект и финансовых пирамид, митингов, столкновений с милицией и художественных перфомансов замечено не было. Все были спокойны. В центре движение остановилось почти сразу, ближе к окраинам, куда еще не добрались сборщики, люди еще заправляли машины и ездили в офисы. Продуктовые магазины еще работали, книжные уже закрылись. Водку еще можно было купить, косметику – уже нельзя. Город понимал, что скоро все закончится. Некоторые зачем-то прощались с родственниками.
– Почему? Почему ты уходишь? Ведь у нас просто попросят денег! – удивлялись жены, глядя на собирающих чемоданы мужей.
– Ты не понимаешь. Нам придется отдать, – отвечали мужья.
Дети внимательно смотрели на своих родителей.
Однако, несмотря на некоторую смуту, царившую в умах в те дни, все было спокойно и правильно.
Деньги тем временем свозили во Внуково. В аэропорту с самого начала операции работала команда сортировщиков. Они разбирали купюры и монеты, складывая тысячи рублей с тысячами, сотни долларов с сотнями, монеты по пять рублей с такими же монетами. Каждую категорию грузили в отдельный самолет. Автобусы, раньше возившие пассажиров от здания аэропорта к самолетам, делали сейчас то же самое с деньгами. Запах выхлопных газов и керосина, запах асфальта, резины и туалетной воды сортировщиков перебивал один-единственный тяжелый, страшный, мертвый, сладкий запах – запах денег.
В воскресенье все было кончено. Грузили последнюю партию денег. Начальник команды сборщиков огляделся вокруг, посмотрел под ноги, поднял блестящую копейку и бросил ее в последний мешок, который вез последний автобус на борт последнего самолета.
– Поздравляю, господа, – сказал начальник. – Дело сделано.
Однако ни возгласов, ни аплодисментов не последовало. Тысячи людей, стоявших в это время на взлетной полосе, остались холодны и спокойны. Самолеты начали взлетать, и от рева сотен моторов словно что-то окончательно сломалось, оглохло и расплавилось в воздухе этого города. Когда последний самолет с деньгами оторвался от взлетной полосы, асфальт во всем городе тут же едва заметно посерел и стал покрываться тонкими трещинками, деревья стали быстро засыхать, а здания на глазах ветшать. На улицах не было ни души. Москва стала легче на двадцать один грамм.
Жители Юго-Запада могли наблюдать из своих окон, как в воздух поднимается самолет за самолетом, как из города улетают тонны денег. Посмотрев минуту в окно, москвичи шли на кухни, открывали холодильники и доставали то, что там осталось.
– Ужинать, все идем ужинать! – ласковыми голосами звали хозяйки к столу свои семьи.
Никто во всем городе в этот вечер не задал ни одного вопроса и не исторг ни единой пошлости вроде «будет день, будет пища».
– Мам, передай, пожалуйста, хлеб, – просили дети, и матери передавали.
– Просите, и я дам, – улыбались матери.
А самолеты летели каждый в свой пункт назначения и сбрасывали там тяжкий свой груз. Сутки по всей стране шел денежный дождь. Раньше всего он пролился в европейской части страны, жителям Дальнего Востока пришлось ждать дольше всех. Миллионы купюр и монет сыпались на головы россиян, устилали города и деревни. Человеческих жертв зафиксировано не было, не пострадал и животный мир (монета достоинством в пять рублей, сброшенная с большой высоты, может, конечно, оставить синяк, но серьезных травм опасаться не стоит). Никто из-за денег не дрался, каждый понимал, что хватит всем. Прикрывшись зонтиками и чем придется, люди выходили из домов и внимательно смотрели вверх, туда, за горизонт, за край беременного снегом и золотом неба, откуда вот-вот, уже через минуту, судя по гулу моторов, должно было появиться их счастье. И счастье появлялось.
За все это время во всей стране лишь однажды люди поспорили из-за денег, но и то в шутку, скорее из баловства, чем от жадности. В одной сибирской деревне отец с сыном заканчивали убирать двор. Все деньги были собраны и унесены в дом, и сын, подметая истоптанный двор, случайно заметил в мусоре новенькую копейку. Улыбнувшись, он положил ее в карман, но отец заметил это и строго спросил:
– Что нашел? Деньгу утаиваешь? Ну-ка, показывай!
– Ерунда это, отец, копейку нашел. У нас сейчас вон сколько денег, что нам копейка-то?
– Давай-давай, доставай свою копейку! – настаивал отец, сдерживая улыбку.
– Ну ладно, – решил подыграть ему сын. – Подбросим: орел – твоя будет, решка – моя, значит, копейка.
Сын положил монетку на ноготь большого пальца и резко подкинул ее вверх. Копейка отчаянно блеснула на солнце и упала где-то далеко, и сколько ее ни искали, найти так и не смогли.
– Да и черт с ней, – сказал отец и пошел в дом.
Сын посмотрел на небо, закрыл глаза, быстро прошептал что-то и пошел следом.
2008 г.
Нефть, метель и другие веселые боги
Случилось так, что под Красной площадью в районе Мавзолея нашли месторождение нефти. Не то чтобы особо крупное, но тоже ведь деньги, какие-никакие, но деньги. Суровые нефтяники пришли в Кремль, навоняли в коридорах власти мазутом, натоптали на дорогих коврах, сели в своей грязной нефтяной спецодежде на удобный просторный диван и, зевнув, бросили небрежно:
– Бурить.
Власти забеспокоились:
– Не надо бурить. Мы понимаем сложившуюся ситуацию и прилагаем усилия, но – не надо бурить.
– Смотрите, дело ваше, – еще раз зевнули нефтяники и ушли, по дороге случайно разбив большим разводным ключом фарфоровую вазу, в которой обычно лежали леденцы для гостей Кремля.
Нефть, до этого спокойно спавшая под брусчаткой, случайно услышала этот короткий разговор, проснулась и разволновалась.
– А что. Наверное, надо бурить, – булькнула нефть. – Ильич, ты как?
Владимир Ильич, которому только что с большим трудом удалось уснуть, рассердился, погрозил кулаком жирному голосу из-под земли и нервно проговорил:
– Не надо бурить. Ты не нефть нации, а говно. Лежи себе спокойно и мне не мешай.
Нефть, услышав такие слова, обиделась. «Сколько, – капризно поджав губы, думала нефть, – лежишь под землей, скучаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Надоело».
Нефть подумала еще немного, окончательно обиделась на всех и решила уйти навсегда. Разложила по карманам документы, кошелек и телефон, заперла дверь и отправилась восвояси. Итальянские и другие туристы от испуга неловко засмеялись, когда брусчатка под их ногами начала изгибаться, идти волнами и кое-где даже трескаться.
– Что это? – удивлялись туристы.
– Не знаем, – отвечали другие туристы. – Наверное, ремонтные работы в канализационной системе. У русских всегда ремонт.
Нефть обиженно текла все дальше и дальше, прочь из Москвы, на восток страны. «Да ну их, в самом деле, – думала нефть. – Хочется простого человеческого тепла. Сколько можно». В районе Ярославля у нефти кончились деньги. Просочившись на поверхность, она подтекла к ближайшей автозаправочной станции, воровато оглянулась, оценивающе посмотрела на всех работников с пистолетами, выбрала самого худого и грустного и тихо свистнула:
– Эй!
Работник, тоже оглянувшись по сторонам, подошел к нефти:
– Чего?
– Отойдем, – заговорщически шепнула нефть, отвела работника за угол и там продала ему немножко себя.
– Пива выпьешь, детей в цирк сводишь, – улыбнулась нефть, застегиваясь. – Все веселее.
– Ага, – тоже улыбнулся работник заправочной станции, довольно поглядывая на увесистую канистру. – Заходи, если что, еще. Бывай.
Нефть потекла дальше.
В это время суровые нефтяники пришли к власти еще раз.
– Ну, что? – лениво спросили они. – Бурить?
– Да нет же, нет. Не надо бурить, – улыбались власти, суетливо угощая нефтяников леденцами. – Везде – бурить, а здесь – не бурить.
– Ну, как хотите. Наше дело предложить, – дохнули нефтяники тяжелым бензиновым перегаром, взяли по горсти леденцов и ушли, снова случайно разбив мельхиоровым своим ключом еще одну вазу.
Спустя несколько дней нефть благополучно добралась до Урала и затекла просить ночлега в небольшую деревню под Екатеринбургом. Она мягко стучала своей нежной черной рукой в каждое окно, но по-прежнему ни в ком не встречала сочувствия. Строгие бабушки и легкомысленные девицы на выданье испуганно отодвигали занавески, смотрели в темноту и, не видя никого, отвечали одно и то же:
– Кого тут черт носит? Зима, кризис на дворе, уходи подобру-поздорову.
Нефть шла к следующему двору, все больше обижаясь на весь род людской. «И тут то же самое, – всхлипывая, думала нефть. – Люди, оказывается, везде одинаковые».
Нефть конечно же не догадывалась, почему ее никто не хочет пускать к себе. Чудо произошло тогда, когда нефть, совсем отчаявшись, подошла к последнему дому на краю деревни и от холода, страха и тоски решила сжечь себя и всю деревню заодно. Чиркнув зажигалкой, нефть осветила свое смуглое печальное лицо, и ее заметила баба Нина, шедшая в это время из коровника с ведром молока.
– Что ж ты по морозу-то в одной кофте гуляешь, детонька? – ласково и жалостливо заговорила она, открывая калитку. – Простудишься ведь! Ночевать тебе негде, выгнали из дому или как?
Нефть заплакала от жалости к себе, потушила зажигалку и вошла.
Нефть стала жить у бабы Нины и деда Николай Степаныча. Колола им дрова, возила воду, убирала скотину и в долгие зимние вечера развлекала стариков рассказами о столице.
– А дома там – ух! – вдохновенно говорила нефть, вставая со стула. – Огромные! Дорогущие! Хорошо, у меня давно свое жилье было, а ты пришлось бы комнату снимать – не купишь ведь никак!
– Да ну, – отвлекался от заплатки на валенке дед. – Как же люди-то там живут, раз не купишь?
– Так и живут. Мучаются, – печалилась нефть, но тут же снова вдохновлялась воспоминаниями: – А машины там – ух!
– Постой, детонька, – перебивала ее баба Нина. – А у тебя-то откуда жилье было?
– По наследству досталось, – скромно отвечала нефть. – Вообще, это долгая история.
– Да правильно, вон по телевизору говорят – дорого все, страсть! – сердился дед, грозя валенком красивой, спокойной женщине-ведущей.
– И не говорите! – возбуждалась нефть. – И там еще, там еще знаете что, – обиженно размахивала руками нефть и брызгала черными каплями вокруг, вспоминая прошлые обиды. – Там еще мертвец посередине площади лежит, он на меня накричал!
– Забудь про дурака, детонька. Теперь тебя никто не тронет, – успокаивала нефть баба Нина.
Так шло время.
– Бурить? – в третий раз спросили нефтяники, уже несколько раздраженно.
– Мы трезво оцениваем ситуацию и принимаем необходимые… – начали было власти, но нефтяники, строго стукнув ключом по столу переговоров, перебили:
– Бурить, мы спрашиваем, или нет?
– Не надо! Во всяком случае, мы подумаем, – быстро ответили власти.
– Как решитесь, сразу нам доложить, – сурово сказали нефтяники, выгребая из вазы леденцы. – Нам все больше кажется, что надо бурить.
Прошел год. У бабы Нины и деда Николай Степаныча, несмотря на их возраст, жизнь била ключом. Нефть фонтанировала идеями: как лучше утеплить коровник, где взять досок, чтобы поправить заваливающиеся ворота, где найти дров подешевле, чем заменить прохудившийся бак для воды в бане и так далее. Старики не могли нарадоваться на хозяйственную и трудолюбивую нефть.
– Внучка! Одна ты нам радость на старости лет, утешение! – утирала глаза платочком баба Нина.
Нефть улыбалась и вытирала со лба пот, отмывая черный блестящий пол.
Вскоре у стариков поселился сладкий синий газ – он всегда забывал открывать после себя форточку и любил поиграть с одуревшей измученной кошкой, по столу мягко стучало, оставляя маленькие вмятины в дереве, мутное сонное золото, холодные надменные алмазы хрустели под ногами, ленивая платина уклонялась от работы и все время лежала на печи, ссылаясь на тяжесть во всем теле, под лавкой тихо и печально распадалось ядерное топливо, а в огороде понемногу разрастались леса из ценных пород дерева. Старики смотрели на все это хозяйство и умилялись:
– Вот радость-то нам на старости лет, заместо внуков вы нам, родимые!
– Это еще что, подождите! – выстругивая топорище у печки, бодро говорила веселая лоснящаяся нефть. – Мы тут еще бизнес начнем, такие деньги закрутятся, о-го-го! Дом вам новый выстроим, обстановку заведем. Диваны, ковры. Вазы!
– Бизнес! – радовались баба Нина и дед Николай Степаныч.
По телевизору красивая женщина с полными нежными губами как раз произносила это слово. Когда не показывали женщину, то чаще всего показывали серьезных, напряженных людей, которые стояли и жали друг другу руки, а потом сидели вполоборота за столом и говорили что-то. Сверкали фотовспышки, изредка раздавались аккуратные аплодисменты. После говорили об урожае свеклы, а потом обычно показывали какого-нибудь самородка, который из пивных банок, собранных за тридцать лет, построил модель первого советского самолета.
– Бизнес! – повторял дед, смотря то на красивую женщину, то на валенок, на который он ставил заплатку.
Шла очередная зима. Снаружи носилась метель, снег хоронил под собой двор и крыльцо, ворота скрипели и ныли от страха и тоски, сражаясь с тем, кто вечно пытается пробраться внутрь.
***
– Бурить. Последний раз говорим: бурить, – тоном, не терпящим возражений, сказали нефтяники и для острастки нарочно разбили тяжелым разводным ключом вазу с леденцами.
– В сложившейся обстановке мы считаем… – начали было власти.
– Бурить, и никаких. Надо.
– Хорошо, хорошо. Бурить так бурить, только мы посмотрим, сколько там, ладно? – сказали власти, у которых уже кружилась голова от тяжелого нефтяного духа.
– Смотрите, кто ж запрещает, – насмешливо ответили нефтяники, хрустя леденцами.
Власти торопливо накинули пальто, попросили у нефтяников ломик и вышли из кабинета. Спустились, покинули здание и выбрались на Красную площадь. Было довольно холодно, кажется, собиралась метель. Встав в самом центре площади, власти опустились на колено и принялись нервно, торопливо ковырять брусчатку. Вытащив четыре камня, власти заглянули в маленькое квадратное отверстие и увидели там одну темноту.
– Эй! – в отчаянии крикнули они туда. – Эй! Где ты?
– Сколько можно? Мне дадут поспать или нет? Ходят тут, кричат. Прочь! – раздался откуда-то раздраженный голос, и началась метель.
2008 г.
Симулятор
Виктор полез в карман за плеером, когда стюардесса упала на тележку с обедом. Все было почти как в кино: самолет сильно трясло, стюардесса лежала на полу и не пыталась встать, упала чья-то сумка, половина пассажиров визжала и орала, другая половина, состоящая в основном из стариков и детей, молча, с закрытыми глазами и строгими лицами крепко держалась за подлокотники своих кресел, чтобы не упасть. Виктор видел, как сидящий перед ним молодой человек, брюнет, стал полностью седым за то время, пока стюардесса умирала от разрыва сердца. Он не мог знать, что она умерла, но он был в этом уверен и думал сейчас только о стюардессе, о ее лакированных туфлях, надетых будто специально, чтобы лежать в них, а не стоять. Было, впрочем, одно отличие от того, что показывают в фильмах: кроме тряски, криков и непоправимо неправильного шума двигателей в салоне был слышен очень высокий, тонкий, пронзительный свист, даже не свист, а что-то среднее между свистом, визгом, скрипом и воем. «Надо было ехать на поезде. Надо было ехать на поезде», – возможно, решила пара пошляков, привыкших к комфорту, но в основном никто не думал, не плакал и не молился. Люди просто летели домой на праздник, к земле, где нет этого звука. Собственно, этот незнакомый звук и побудил Виктора достать плеер. Он надел наушники в тот момент, когда самолет начал входить в штопор. Так как трагедия была высокой, без приземленной возни возле ангаров, без неряшливого бормотания об отказе тормозов, благодаря тому, что самолет падал с высоты в десять километров, Виктор успел дослушать песню до первой фразы: «За окном…» За окном что-то лопнуло, свист дошел до немыслимой высоты, разбив иллюминатор, и Виктор ударился головой об арбуз. Арбуз разбился, на ушники вылетели из ушей. Виктор вскочил, отер лицо от арбузной мякоти и оглянулся.
Местность, в которой он находился, была огромным садом на берегу моря. Справа стройными рядами росли яблони, пальмы, березы, груши и вишни; участки, занятые деревьями, перемежались с арбузными и дынными грядами. Виктор как раз стоял на арбузных плетях. Слева начинался пляж. Песок был белый, мелкий и чистый, вода была самого голубого, лазурного цвета. Сочетания бывших на пляже людей были не менее карикатурны, чем соседство деревьев в саду: рядом с атлетическим брюнетом в солнцезащитных очках, садящимся на белый водный мотоцикл, пара дикарей в серых набедренных повязках возилась возле допотопной, наполовину затопленной пироги. Никого, казалось, странная обстановка не смущала: по пляжу с одинаковым удовольствием прогуливались строгие господа в сюртуках и с моноклями и юные блондинки в миниатюрных трусах. Чопорная дама, одетая в черное закрытое платье, сидела на циновке и присматривала за играющими детьми, а совсем рядом с ней загорелый парень, сняв с девушки купальник, яростно натирал ее золотую кожу кремом для загара.
Сзади кто-то улыбнулся. Виктор обернулся и увидел гологрудую девицу, на бедрах которой была повязка из листьев, а на голове – венок из ромашек. Девица ела персик. Своей наготы она не стеснялась. Во всем ее облике, словно нарочно напяленном кем-то поверх нормального человека, была потрясающая пошлость, такая, какую не показывают даже в самых слащавых фильмах. Соски, как и положено, нагло торчали в разные стороны («как у козы» – как в не лишенном штампов черновике человека), глаза ее были небесно-голубыми, волосы – пепельно-русыми, бедра округлыми, а ноги стройными и гладкими. Казалось, что ничего человеческого нет в этой великолепной женщине. Одна плоть смотрела на Виктора. Впрочем, если забыть о необходимости беловика, эта плоть сама по себе была довольно привлекательной.
– Привет, – сладко улыбнулась девушка и протянула Виктору руку. – Я Жанна. Будем дружить?
– То есть так оно все и есть, да? – со злым чувством точного узнавания проговорил Виктор.
Девица рассмеялась и побежала прочь, и розовые пятки Афродиты неглубоко уходили в песок. Виктор плюнул на этот песок. У него заболела голова, и он пошел в тень, в бар, который заметил в саду.
Вечером было общее собрание, на котором приветствовали новоприбывших. Организатор собрания, этакий менеджер среднего звена, подвижный молодой мужчина в розовой рубашке, прицепил на грудь Виктора беджик с надписью «Витя» и предупредил, что собрание пропускать нельзя, потому что на нем будут оговорены важные организационные моменты. Собрание проходило в большом прохладном доме с колоннами, в зале, похожем на пышный безвкусный московский кинотеатр.
Когда все расселись, менеджер вышел на сцену и небрежно, торопливо заговорил:
– Здравствуйте, дорогие новички. Меня зовут Слава, все вопросы по поводу размещения и проживания – ко мне. Я живу в этом здании на восьмом – седьмом этажах в номере 66. У вас всех будут такие же номера. Двухэтажные квартиры, да! Прошу не шуметь. По поводу питания прошу обращаться к Насте.
Слава показал рукой на девушку, сидящую на стуле с края сцены, та встала и слегка поклонилась. Девушка выглядела как типичная банковская служащая: одетая в белую блузку, черную юбку, туфли-лодочки и нежные колготки с блеском, она холодно, с отвращением улыбалась залу.
Зал молчал. Стюардесса, умершая еще до падения самолета, взялась за сердце.
– Ну вот и отлично! В общем, добро пожаловать, дамы и господа. Развлекайтесь, отдыхайте, много не пейте, за буйки не заплывайте. – Менеджер хохотнул. – Мементо море!
И, элегантно сбежав по ступенькам со сцены, Слава быстро пошел к двери, на ходу доставая мобильник. Виктор побежал за ним. Мужчины вышли на улицу, и Виктор схватил менеджера за локоть:
– Что это за комедия? Почему все так? Я… я не верующий человек… был, поймите! Все же не настоящее. Я знаю, я не умер, я выжил и сейчас лежу в коме в больнице. Эти картины у меня в голове. Так не бывает! Арбузы, девица эта… Сусальный рай. Почему?
Менеджер Слава отдернул руку, посмотрел сквозь Виктора и пошел быстрее.
– Да стойте вы! Поговорите со мной! – Виктор снова схватил менеджера за руку.
– Молодой человек, сейчас милицию позову. Руки, – зло сказал Слава. – Теоретическое осмысление происходящего проводится за отдельную плату. Читать не умеем?
Слава указал на щит наподобие рекламного, стоящий возле входа в здание с колоннами. Виктор был уверен, что раньше его там не было. На щите в ужасном, предельно безвкусном американско-московско-офисном стиле был изображен смущенный неофит с легким нимбом над головой и резиново скалящийся человек в розовой сорочке, который стоял возле проектора. Неофит протягивал менеджеру долларовые бумажки, а тот тыкал пальцем в презентацию Power point, на слайдах которой были изображены райские виды. Над этой картиной был слоган: «Фирма «Сирена» – твой надежный проводник в мире будущего!» Чуть пониже: «Узнай все о рае у наших консультантов в первый день и сэкономь двадцать процентов!».
Виктор тоскливо посмотрел на Славу:
– Откуда ж у меня деньги…
– А это что? – Менеджер указал руками за траву возле ног Виктора.
Тот опустил глаза и увидел доллары, разбросанные в большом количестве в радиусе метра от него. Виктор тут же подумал, что их тоже не было, когда он шел сюда. Он набрал в карманы побольше бумажек, и Слава позвал его за собой.
В баре они сели за столик, и Слава спросил:
– Вам прочитать обзорную лекцию или у вас есть конкретные вопросы?
– Я ничего не понимаю, – зажмурился Виктор. – Если я умер и это рай, то почему здесь все… так стандартно. Я не знаю, как объяснить. Я умер, да?
– Да, вы мертвы.
– Почему здесь все так пошловато, банально, вы можете объяснить? Почему этот рай построен по стандартным обывательским эскизам? Это мои детские представления о том, каким должен быть рай. Сад, лазурный берег… Мои образы вперемешку с чужими. Эта голая девица… Куда я попал?
– Понимаете, Виктор. Вы могли бы уже догадаться, что никакой посмертной жизни нет, нет настоящего «рая», нет конкретного «ада», а есть только то, что вы представляли себе при жизни. Объем, качество и степень детализации этих фантазий у всех разные. Вы о загробной жизни, насколько я понимаю, думали не очень много, в основном в детстве. Ваши образы сейчас воплотились, плюс вы видите небольшую примесь фантазий тех, кто был вам близок при жизни. Девица, с которой вы познакомились сегодня, это настойчивая, страстная фантазия вашего отца. К вашим пальмам добавлены березы вашей матери. Ну и так далее. Мне кажется, все очень просто. Вы поймете.
– А другие где? Те, кто верил в так называемый ад?
– Те, кого вы видели сегодня на пляже, и стюардесса из вашего самолета – это все, кто здесь есть. Это люди, чьи представления о «рае» приблизительно совпали. Остальные находятся в тех местах, которые они придумали себе при жизни. Причем есть места, отличающиеся от нашего совсем чуть-чуть. Например, те же сад и пляж, только люди все время ходят взявшись за руки, парами-тройками, и расцепиться никак нельзя. Они постоянно дерутся свободными руками, кричат друг на друга, царапаются и кусаются – сиамские близнецы ненавидят друг друга. Это у них вечная любовь. Кто-то попадает в компанию «Адама» и «Евы», постоянно едят разрешенные фрукты, смеются, радуются закатам и рассветам, радуются каждой букашке, заставляют играть с ними в прятки, догонялки и лапту, все время пристают со своими восторгами, это быстро надоедает… В общем, вам еще повезло. У нас нормальный такой курорт.
– Ад? Сковорода, черти, все дела?
– Естественно, есть и такое. У вас еще не самая тривиальная фантазия. Кто-то попадает на облако, где с ними разговаривает большой мужчина в белом халате, с картонной бородой и сверкающими глазами. Мы его называем Лектор. Он говорит своим гостям о добре, там, о долге, о любви к ближнему. И это продолжается вечно, и уйти никуда нельзя – он сразу же достает из рукава картонную молнию и угрожает. Да и куда вы уйдете с этого облака? Но это самый примитив, туда попадают обычно всякие неграмотные бабушки, старухи богомолки, религиозные фанатики, сектанты, очень маленькие дети, умственно отсталые. А если вы высоты боитесь? На облаке-то, представьте! – Слава рассмеялся и выпил вина. – Но кому-то нравится. Солнце постоянно светит, простор, небо голубое, самолеты летают.
Слава замолчал. Посидели минуту, послушали доносящуюся из танцевального зала музыку. Это была очень странная смесь из диско, латино и trance, причем этот коктейль звучал на фоне хоровых вставок на латыни и органных сэмплов. Закончился один трек, другой начался с густого баса, спевшего что-то протяжное, православное, с обилием полных «о», после чего композиция сорвалась в холодное упругое техно.
– И я буду здесь всегда? – спросил Виктор.
– Вечно.
– А как это происходит? Механизм вы можете объяснить? Что в реальности происходит?
– В реальности конкретно сейчас происходит вот что. Ваши немногочисленные останки лежат в морге, – что-то прикидывая в уме, заговорил Слава, и Виктор почувствовал, что все его тело внезапно зачесалось, – в пакетике, значит, левая нога ниже колена, правая сгорела, да… осколки черепа, несколько ребер. Все обгоревшее, естественно. Руки, тазовую кость не нашли. И в таком неинтересном виде вы сейчас лежите. Отдыхаете. А до этого происходила настройка души. Фантазируя на тему загробной жизни, вы проводили настройку своего внутреннего зрения, и благодаря этой настройке то, чем вы были при жизни, видит сейчас эти картины. Как в игровом зале – человеку кажется, что он летает на космическом корабле, расстреливает пришельцев из лазерного автомата и завоевывает мировое господство, а на самом деле он сидит в дурацком шлеме на голове и дергает руками, в которых зажаты маленькие черные джойстики. Со стороны это смешно, согласитесь.
– А те, кто не верил ни в какую вообще загробную жизнь?
– Ну они и растворились в черноте. Ясное дело. В момент смерти очень сильная боль, а потом все. До свидания.
– Такое возможно? – шепнул Виктор.
– Молодой человек, вы будто вчера родились!
– Я сегодня умер.
– Неважно! Конечно, это бывает. Сплошь и рядом. Знаете, сколько таких!
Мужчины помолчали.
– А как вы умерли? – спросил Виктор у менеджера.
– Я покончил с собой. У меня была ипотека, кредиты, и вдруг кризис тот, помните… ну, обычное дело. Повесился на трубе в ванной.
– Жена, дети?..
– Жена, дети. Живут еще.
– Слушайте, – вдруг громко заговорил Виктор, пододвигаясь на стуле к Славе, – а можно какой-нибудь ад посмотреть? Про рай я примерно понял, а вот ад – это интересно. А?
– Да, конечно. У нас есть одна запись, которую мы показываем всем интересующимся. Возможно, когда-нибудь выяснится, что это лажа, но пока все признают, что у этого видео большая степень достоверности. Увидеть это своими глазами мы не можем, и…
– Почему? – перебил Виктор.
– Потому что у каждого своя настройка. После смерти эти настройки уже не сбить. И эти сведения мы можем почерпнуть лишь из уст тех, кто умирал клинической смертью и вернулся к жизни с неповрежденным мозгом. Такое происходит редко, и обычно эти люди в промежуток между клинической и окончательной смертью стараются успеть представить себе как можно большой райских образов. Вот, мужик один показывал, все очень реалистично.
Сказав это, Слава достал из сумки маленький нетбук и, включив какое-то видео, развернул монитор к Виктору.
Камера показывала какой-то подземный склеп. В центре его стоял открытый гроб с красной обивкой внутри. Над гробом висела лампа, мягко и тускло освещающая комнату, так, что стены ее терялись в сумраке, и размеры склепа нельзя было в точности определить. По склепу метался маленький человек с белым лицом. На нем был хороший темный костюм и галстук в горошек. Человек беззвучно кричал, пытался сорвать с себя словно пришитый к шее галстук, бился головой об пол. Он принимался расцарапывать себе лицо, но вместо кожи его череп, казалось, был покрыт неизвестной прочной тканью, и поэтому ни единой царапины не оставалось на щеках и лбу этого человека. Забыв о лице, он вдруг бросался в темноту и ползал по невидимым стенам, обшаривая их. После опять выбегал в центр склепа, на свет, и снова принимался за свое невредимое лицо. Стоя на коленях, он то разевал в неслышном вопле рот, то сморщивался в жалобном плаче. Вскоре в помещение вошел спокойный солдат, подошел к человеку и ткнул ему в шею какой-то палкой, конец которой сверкнул слабым голубым светом. Человек дернулся и упал на пол. Солдат подхватил его под мышки, положил в гроб, поправил подушку, галстук, сложил ему руки на груди и вышел. Человек в гробу неподвижно лежал под лампой, издававшей мягкий, уютный свет. Стены склепа терялись во мраке.
В следующем эпизоде в пустой пивной тщедушный человечек с маленькими усиками протирал столы, уносил кружки, вытряхивал пепельницы и подметал пол. Поработав некоторое время, человечек вдруг бросил веник, неуверенно оглянулся вокруг и вскарабкался на стол. Утвердившись там, человечек весь как-то распрямился и словно вырос, стал больше и значительнее. Он крикнул что-то угрожающе-призывное и заговорил – лицо его задергалось. Лоб человечка мгновенно вспотел, глаза блестели жирным животным блеском. Он вскинул правую руку, и вдруг в зал из подсобного помещения вышел человек в фартуке и с палкой в руке. Человечек с усиками мгновенно съежился, спрыгнул со стола и кинулся к своему венику, но пришедший уже бил его палкой по голове, по плечам, по спине, бил не спеша и даже как-то лениво. Потом ударил его кулаком прямо в угольные усики и ушел, и тщедушный человечек, капая кровью из разбитого носа и всхлипывая, вновь взялся за уборку.
Виктор отдал нетбук Славе.
– Ну все, у вас больше нет ко мне вопросов? – спросил тот. Менеджеру явно не терпелось идти развлекаться.
Виктор кивнул и отдал ему все деньги, которые подобрал с земли.
– Кстати, зачем вам деньги, если здесь все и так бесплатно? Еда, жилье, напитки в баре…
– Привычка, что поделаешь, – вздохнул Слава. – В общем, отдыхайте. За буйки не заплывайте! – крикнул он, уходя.
Виктор вышел из бара и направился на пляж. По дороге он останавливался и начинал ощупывать свое лицо, чтобы не потерять связи с собой. Хотя, что и с чем не должно было терять связи, было не совсем ясно. Виктор сел у воды, закрыл глаза и принялся тщательно, в деталях представлять себе последнюю, окончательную тьму. Тьма плохо представлялась в деталях. Виктор понял, что напрасно занимается этим. Чтобы сбить настройки зрения, он надавил пальцами на глаза, но стало больно, и Виктор вспомнил, что имеется в виду внутреннее зрение. Тогда он посмотрел в себя.
Виктор увидел, как на горизонте в большом облаке зародилась молния. Она ударила почему-то вверх, в небо, а не в землю, и пропала возле маленького мигающего красного огонька, который медленно двигался на восток. Огонек погас. Виктор посмотрел вдаль и вскоре услышал далекий слабый взрыв. Равнодушно шумело море. Виктор встал и пошел назад в бар, туда, где слышны были голоса существ, подобных ему. Наступила полночь. Начался второй день.
2009 г.
Сигнал
«…хов. Это была программа «Пусть говорят» на Первом канале. Мы вернемся после рекламы – не переключайте», – скороговоркой прошипел телевизор, и на экране появились цветные картинки, сменяющие друг друга с утомительной для неподготовленного мозга быстротой. Если предположить, что у голоса ведущего и у этих ярких рекламных картинок есть сознание, и попытаться представить, как это сознание видит окружающий мир, то, наверное, стоило бы прибегнуть к сравнению с летающей в торговом комплексе «Охотный ряд» ласточкой. Этот образ так же дик, как и попытка приписать цветным картинкам какое-то сознание; но, если визуальный рекламный мир, не имеющий к жизни Нины Васильевны решительно никакого отношения, все же сумел прочно поселиться у нее в голове, то почему какая-то сумасшедшая ласточка не может вдруг выбрать в качестве среды обитания блестящий, слепящий, стеклянный, золотой, шипящий эскалаторами и пахнущий горячим шоколадом дом? Вот она мечется с этажа на этаж, шарахаясь от ювелирных бутиков и примериваясь к круглым шапкам в магазинах одежды, пугая соломенных девиц и радуя детей. Мужчина дунул в черную трубку с хвостиком. «Убили! Убили!» – решит ласточка, но, приглядевшись, все-таки узнает рацию. Испуг и восторг смешиваются в сложных пропорциях, сопровождая открытие новых пространств. Испург. Но в золотой, соломенной, кофейной пурге нет смысла прижиматься к асфальту – добычи нет нигде, вовсе.
Поэтому и задаемся вопросом: что чувствуют рекламные образы, вторгаясь в сознание Нины Васильевны? Если и допустить, что они себя «чувствуют», то в последнее время все более и более неуверенно. С начала января сигнал с каждым днем слабел. Нина Васильевна сидела перед телевизором и не моргала. В наступающей тьме ее глаза переливались, светясь отраженным экранным светом. Казалось, что женщина перед телевизором была мертва, но экран вернул ее к жизни: когда шипение и рябь скрыли большую часть изображения и звука, Нина Васильевна внезапно моргнула, встала и начала поворачивать антенну, пеленгуя морозный безжизненный космос вокруг в поисках живых картинок. Изображение чуть улучшилось; женщина обвинила в неполадках собирающуюся за окном метель и вернулась на диван. Вернулся и мужчина из передачи. Нина Васильевна погрузилась в созерцание диалогов (звук пропал совсем).
Тектонические сдвиги истории часто сводят с ума тех, кто слишком крепко стоит на земле. Не желая верить в то, что пол родного дома уходит из-под ног, не понимая, что стены, обрушившись, завалят так, что ни одна собака не найдет, упрямцы стоят у окна и с отвращением слушают музыку революции, доносящуюся с рупора на ближайшем столбе. Музыка со столба, музыка на песке – по отдельности это еще можно вынести, но как быть, если столб стоит на песке? Есть загадка еще чудовищнее: что делать, если ты сам сидишь на столбе, врытом в песок, и из рупора над твоей головой разносятся по стране затухающие сигналы старой жизни?
Обитателей Останкинской башни, не хотевших в ту зиму покидать тонущую мачту, эвакуировали силой. Естественно было бы подумать, что эти люди слишком любили место своей работы; но ведь бывает, что яростная любовь скрывает холодную ненависть, и Останкинская башня в таком случае оказывается единственным местом, откуда ее не видно. Но таких, впрочем, было немного, и большая часть работников телевизионного центра, забыв обычные коробки с офисным скарбом, бодро бежала вниз по нескончаемым лестницам – лифты уже не работали. Тектонический бунт в московской породе показывал величайший в истории фокус: в октябре 2009 года полукилометровая башня начала рывками оседать, не разрушаясь и не падая, а именно скрываясь под землей будто в специально вырытой шахте. Сейчас, когда едва начавшееся той зимой расследование остановлено и его результаты засекречены ФСБ на семьдесят лет, смешны фантазии некоторых конспирологов, лепечущих что-то о провале метро. Ясно, что копать нужно гораздо глубже. Естественно, нашлось много религиозных фанатиков, в основном одиноких женщин средних лет, утверждавших, что это мессия (мы пишем главные слова со строчной буквы для того, чтобы подчеркнуть нелепость и ненужность этих фантазий, а не из-за склонности к кощунству – в нашем случае кощунство имеет скорее грамматическую, чем религиозную природу) фокусом с исчезновением башни готовил почву (довольно безвкусный каламбур) для своего пришествия. Хочется спросить у этих остроумцев: уж не собирался ли он встать на место пропавшей башни и начать вещать? И, опять же, кто будет переводить?..
Один известный российский писатель, автор изящных, поэтичных и необыкновенно грустных конспирологических построений, посвятил исчезновению башни целый рассказ. В нем якобы проводилось собственное расследование, проливающее свет на истинный смысл произошедшего: сбежавший за границу офицер ФСБ поведал миру о том, что Останкинская башня на самом деле была замаскированной гигантской ракетой, и во время строительства под ней была вырыта огромная пусковая шахта – зеркальное отражение башни из пустоты (отражение из пустоты, а не башня – поясняет автор рассказа). Как всегда у этого талантливейшего человека, все сходилось: башня, строительство которой началось вскоре после первого полета советского человека в космос, только притворялась телецентром, а на самом деле была космическим кораблем, ждавшим своего часа. И вот она изготовилась к старту и скоро выстрелит в необозримое пространство, в котором затеряна наша планета, и начнется великая космическая Одиссея, целью которой будет контакт с далекими неземными братьями. (Нет, что-то все-таки не сходилось в том рассказе: одиссея? истинность факта полета в космос? И что, в конце концов, понесет эта дура иному разуму – «Камеди клаб»?) Рассказ был опубликован в журнале «НЛО» (литературная общественность тогда удивилась такому демократизму маститого автора). Злые языки язвили: жаль, нет литературного журнала Министерства обороны «ПВО». Шуточки из рассказа вроде «Чайная церемония». Тут Полоний, римский политический деятель и поэт (206–162 гг. до н. э.), оставим на совести автора.
В общем, башня погружалась в землю. После первых толчков даже пьяные оперативно покинули ресторан «Седьмое небо». Несколько упрямцев, о которых мы говорили выше, были эвакуированы милицией. Территория вокруг Останкинской башни была оцеплена внутренними войсками; президент лично приезжал на место ЧП и просил военных разобраться. Телевизионное вещание, понятно, сразу же прекратилось. Но не все.
Хитро прячась и нагло подкупая солдат из охраны, одна съемочная команда держалась еще недели три. Солдаты-срочники, привезенные из скучного Подмосковья, до болей в затылке напрягали глаза, рассматривая ходивших за оцеплением женщин, ухоженных, надушенных, со вкусом одетых, и, глядя на этих москвичек, страшно им было вспоминать тетю Нину, жалостливую повариху из третьей части. И представьте, что к такому солдату подходит ослепительная блондинка с густым, ленивым, будто бы постельным, утренним голосом, а у нее кроме голоса еще и глаза, и губы, и шея, и бедра, и черный лак туфель с открытым мыском, и женскую ступню с красным педикюром мучительно хочется положить себе в рот, – подходит и делает ему деловое предложение. Конечно, это невыполнение приказа, уход с поста, гауптвахта, военная прокуратура, трибунал, но… мы ведь в России живем, всегда можно договориться, карамельно тянет блондинка, и всем, кто мог бы тебя запалить, я предложила то же самое… Брешь в оцеплении пробита, крепость взята, в башню проникают продукты, оборудование, нужные люди. Солдат ждет разочарование, но они сами виноваты: из уклончивых постанываний блондинки совсем не следовало, что это будет именно она, и солдату дают другую блондинку, попроще, посуше, потверже, но он все равно не в обиде. Содрогание камер, вызванное оседанием башни, создавало величественный и даже пугающий эффект: казалось, будто земля сотрясается от могучих безжалостных фрикций этих обычных с виду ребят. Пользуясь нелегальным положением, съемочная команда не стесняла себя ничем и показывала все. В условиях быстро ухудшающегося качества вещания никто не смог бы разобрать, что это сержант Песков, а вовсе не Миша, который недавно расстался с Олей и теперь встречается с Ирой. Но Нину Васильевну основательные, про запас, совокупления не интересовали. У нее были свои, куда более тонкие отношения с Вертикалью: она чувствовала антенну, как никакая гетера никогда не чувствовала даже самый капризный фаллос. Во всей округе в телевизорах давно уже шипело одно лишь серое подрагивающее облако, и соседи ходили к Нине Васильевне причаститься когда-то красными диванами, не так давно оранжевым галстуком и родной, похорошевшей в черно-белой гамме львиной шевелюрой. Иногда удавалось выхватить кусочек перебранки и магнитофонные аплодисменты толпы – тогда накрывали стол и праздновали.
Другие брали упорством, небрезгливостью и паранормальными способностями. Так, ведущий одной из популярных утренних программ, пользуясь отсутствием редактора, объявил себя главой съемочной группы и предложил уйти всем, кто хочет, пообещав оставшимся тяжкие испытания, невиданную славу и железное здоровье. Сбежали почти все. С ведущим остался лишь преданный оператор, за время работы в программе проникшийся безмерным уважением к теперешнему начальнику. Безумцы заперлись в маленькой неприметной подсобке на самом верху (башня к этому времени ушла в землю больше, чем наполовину) и каждое утро честно давали материал в эфир. Если команду блондинки не могли поймать потому, что патрулям пришлось бы арестовывать самих себя, то в случае с этими партизанами солдатам мешала честная логика: если нас никто не подкупает, значит, им попросту нечего есть; значит, они уже вышли или выйдут скоро – выползут в голодном обмороке. Откуда солдатам из оцепления было знать, что все намного проще.
Миллионы людей каждое утро вплотную, до отеков на лбах прижимались к экранам, мечтая разглядеть, в каких именно пропорциях чудотворец сегодня смешивает кал и мочу. Радикальная простота коктейля переносила его за грань добра и зла. Все знали, что произошло с Останкинской башней, и понимали, что целитель поступает так по необходимости, но, видимо, постоянная подсознательная готовность к апокалипсису – будь то сигнал «Атом» или просто революция – заставляла людей не зарекаться даже от такого средства выживания. Каждые пять – десять минут камера начинала клевать носом. Заметив это, ведущий подходил с живительным коктейлем к оператору, слышалось тихое чавканье, перемежаемое глухими, лягушачьими спазмами сраженного пищевода, и камера выпрямлялась на следующие пять – десять минут. Так продолжалось с неделю, потом участок башни, где находилась каморка целителя, скрылся под землей.
Говорят, что в эти грозные дни можно было увидеть и другие программы. Говорят, что видели в прямом эфире человека в судейской мантии, отчаянно бьющего молоточком по голове милиционера, который эвакуировал павильон – налицо был конфликт судебной и исполнительной власти. Говорят, что видели в креслах государственных новостных дикторов людей, тревожно вещающих о многомиллиардных бюджетных распилах. Наверное, это были топовые блогеры, но точно можно сказать, что долгожданной «свободе слова» радовались только они сами: во-первых, что от этого изменилось, а во-вторых, Екатерина Андреева в сотни раз красивее. Говорят, что в тоннелях метро видели лысого голого человека, обладающего сверхъестественной силой: он останавливал поезда, гнул рельсы, расшатывал подземные своды, и эти невероятные способности будто бы развились у него от специальной укрепляющей диеты, состоящей из собственных испражнений. Про оператора никто ничего не слышал. Говорят, что кто-то подробно снимал костюмерную одной передачи, посвященной моде и стилю, и по ярлычкам, по необорванным ценникам, по общему виду вещей всем стало ясно, что там сплошной черкизон. Говорят, будто обиженный помощник Якубовича дал разоблачающее интервью, в котором рассказал, что все съедобные подношения игроков продаются на Савеловском рынке, а на вырученные деньги покупаются все эти чайники и миксеры, и что это сложная, отлаженная схема, и что там большие деньги. Говорят… Да пусть говорят!
Башня становилась все меньше. Ласточки летали все ниже. Одно мы знаем точно. Страна, лишенная поддерживающей сетки вещания, всколыхнулась и оплыла, как выдернутая из корсета молодящаяся толстая тетка. Страна чесалась, зевала, слонялась, шаталась, валялась, спала.
Только двое оставались на связи. Один не сдавался, другая не переключала. Оборванный, худой и грязный человек в когда-то оранжевом галстуке украл у охранника из проходной в ближайшем офисе маленький черно-белый телевизор. Поставил его впритык к антенне, включил спрятанную заранее камеру. Вытащил из пакета важный реквизит: рваную обшивку с красных диванов, расстелил ее вокруг. Привычно сделал отсчет и зачастил: «Это программа «Пусть говорят» на Первом канале!» Глядя на себя в телевизор, он знал, что кто-то его еще смотрит, и поэтому он должен вещать до последнего. Где-то очень далеко, в морозном безжизненном космосе, перед телевизором сидела Нина Васильевна. Она не моргала; в наступающей тьме ее глаза переливались, светясь отраженным экранным светом.
2010 г.
Французский поцелуй
Всемирная выставка инновационных технологий, проходившая в Москве в январе – марте 2010 года, забудется еще не скоро, если забудется вообще. В том морозном волшебном январе французский архитектор русского происхождения Эмиль Поташевич поставил величайший в истории архитектурный эксперимент: вокруг Останкинской башни он выстроил копию Эйфелевой. Французский ажурный чулок нежно облегал стройную русскую ногу, и даже пропорции длины примерно совпадали. Глядя на эти подсвеченные инеем башни глазами лилипута, невозможно было избавиться от величественной и волнующей иллюзии: женщина сидит на кровати, поджав одну ногу под себя, а другую, уже одетую, поставила на пол и сейчас где-то в ледяных облаках собирает в гармошку второй чулок. Кстати, слово «иллюзия» в те дни постоянно употреблялось в прессе; журналисты, в большинстве своем народ простой и не способный к стилистическим изыскам, наперебой вставляли это нехитрое словцо в свои статьи, принимая его за какой-то небывалый поэтизм.
Эмиль Поташевич в своих интервью не раскрывал главную тайну: кто заказал ему это башенное сочетание. Уклончиво и неясно говорилось о межправительственной договоренности, согласно которой в рамках года русско-французской дружбы планировалось осуществить другие, не менее масштабные проекты. Наш президент и в особенности премьер-министр дали в ту зиму массу интервью, но никто из журналистов и словом не обмолвился о башнях – наверное, все они от волнения забывали, о чем хотели спросить. Французы молчали тоже. Поташевич отвечал ясно лишь на один вопрос:
– Мы хотим сносить эту башню когда кончать выставка. Великий Эйфель не увидеть смерти своего детища (Поташевич произносил это слово с ударением на втором слоге), мы же выполнять свое обещание перед правительством и сносить после выставка.
– Но Останскинская башня не пострадает? – волновались красные от мороза журналисты.
– Вы не можете беспокоиться, ваша башня останется с вами. Вы дальше можете смотреть Петросьян, – улыбался учтивый француз, искренне желая сделать приятное русским друзьям, о вкусах которых он успел составить превратное, но не лишенное оснований мнение; но русские друзья принимали это за грубую злую шутку и обижались, и красная от мороза грудастая девица в кокошнике совала дорогому гостю хлеб-соль чуть ли не в лицо.
Вежливый француз принимал это за особенности русского обычая. Диалог культур все же не клеился.
По-настоящему он наладился в конце февраля, когда двойная башня начала непредвиденное и слишком поздно замеченное вещание.
Первой к Останкино потянулась московская молодежь. Студенты и студентки, несмотря на мороз, прогуливались возле архитектурного чуда, фотографировались, целовались. Многие девушки, не боясь застудить свои нежные придатки, ходили в чулках и, презрев условности, приподнимали полы пальто, демонстрируя фотографировавшим их парням расчерченные сетчатым узором юные бедра. На некоторых из них под чулками были теплые колготки, но все равно поток пострадавших от башен, вскоре хлынувший в московские больницы, начался именно с этого тоненького чулочного ручейка. Признаться, эти тихие московские девушки чересчур напоминали бы обыкновенных проституток, если бы не выражение девственной скромности, поселившееся на их лицах в те дни. Не боясь быть вульгарными, они были просто красивы; и кто знает, отчего так? Что за таинственные лучи так сильно изменили лица юных москвичек? Задумываясь над этими вопросами, мы рискуем отвлечься от нашего повествования.
Идиллия (еще одно слово, чрезвычайно популярное в те дни), впрочем, вскоре была грубо нарушена. К юным красавицам постепенно стали примешиваться трансвеститы. Вокруг стройной Останкинской башни, затянутой в ажурный чулок Эйфелевой, стали прогуливаться крашеные мужчины в узких женских пальто, из-под которых торчали кривые красные ноги с кожным раздражением от бритья. Надо ли говорить, что к этому времени Останкино стало культовым местом? Надо ли говорить, что началось ужасное?..
Вслед за придатками девушек начали страдать лица трансвеститов, и не от природы, а от рук человеческих. Трансвеститы довольно быстро были разогнаны крепкими парнями в беретах, и бабушкам с хоругвями ничего не досталось. Есть известный закон: идейная близость выявляет родство стилистическое. Сохранилось несколько интервью с прохожими, поясняющих эту мысль.
Корреспондент подносит микрофон ко рту парня в берете (тот морщится от слова «интервью») и спрашивает, как он относится к этой оригинальной и дерзкой идее – создать антропоморфный архитектурный образ, объединив две известные башни в одну постмодернистскую, нагруженную культурными смыслами конструкцию. Парень мучительно формулирует что-то про себя, несколько раз оборачивается в сторону башен (он стоит к ним спиной), затем с ненавистью смотрит в камеру и отвечает:
– Блядство это все. Блядство.
– Что, простите? – уточняет корреспондент. – Эти молодые люди, переодетые в женскую одежду, вызывают у вас такое неприятие?
– Да хуй с ними, с пидарасами, – устало, сокрушенно машет рукой парень. – Башни ваши – блядство.
Ролик обрывается.
Другое видео значительно короче. Гневная старушка ритмично плюет в сторону башен и выкрикивает как заклинание:
– Блядство! Блядство! Блядство!..
Конечно же в эфире всего этого не было; ролики были слиты в Интернет самими телевизионщиками.
Рискнем предположить, что десантники и бабушки с хоругвями были единственными социальными группами, у которых Эйфелево Останкино (возьмем это не уклюжее определение в качестве рабочего термина) вызывало лишь недовольство. Все остальные москвичи поначалу были рады башням.
Часто в те дни можно было наблюдать удивительные картины: в освещенных окнах многоэтажек счастливые раскрепощенные пары, вызывающе отдернув шторы, вовсю предавались французской любви. Женщины поскромнее, наблюдая в соседском окне, как энергично покачиваются взад-вперед силуэты коленопреклоненных девушек, никак не могли решить для себя, красиво это или уродливо, стоит попробовать или нет, а неуверенные в себе мужчины пытались на расстоянии прикинуть, так ли уж они неполноценны. Магия любви передавалась будто по морозному плотному воздуху, и нередки были случаи, когда двое одиноких соседей, несколько лет здоровавшихся возле лифта – он починил ей кран, она пришила ему пуговицы на рубашку, – вдруг одновременно выходили на площадку и, как школьники, стояли друг против друга, опустив взгляды. Последующая близость была настолько бурной, что люди забывали предохраняться, перейдя к классическому соитию, и не иначе как этим объясняется всплеск рождаемости, наблюдавшийся в ноябре того же года.
Но любое трогательное явление может неожиданно показать свою оборотную, карикатурную сторону. Ближе к лету московские проститутки вывели на рынок новую актуальную услугу. Клиенту предлагался уличный минет в антураже насаженных одна на другую маленьких башенок. Подобные сувениры пользовались популярностью у москвичей и туристов из Франции, но как только развлечение стало модным, башенки исчезли с прилавков – до сих пор эта тридцатисантиметровая тоненькая игрушка считается редкостью. После завершения основной программы клиенту за дополнительную плату предлагалась экстремальная сексуальная практика с использованием башенок (Останкинская была полой внутри, а на кончики обеих моделей можно было устанавливать специальные насадки, оперативно завозимые в московские секс-шопы из Германии, где их со страшной завистью к европейским и русским коллегам изготавливали). В полицию с самого верха поступило неформальное, но строгое распоряжение: обычных проституток, не предоставляющих новую услугу (таких было мало), не трогать вовсе, зато уличные минеты истреблять безжалостно и энергично. И озадаченные московские пэпээсники прочесывали ночные улицы, огороженные частоколом слипшихся парочек, и сотнями увозили проституток и заодно клиентов в участки, но от этого становилось только хуже: экипаж приехавшего автозака обнаруживал, что разнополые дежурные тоже заняты французской любовью с участием все тех же проклятых башенок, и вскоре участок наполнялся криками, стоном и смехом, и в общем бесстыжем гвалте уже трудно было разобрать, где сотрудники, а где – задержанные. Комнаты детей полицейских были завалены конфискованными игрушками, и когда жены и матери узнавали, откуда они, то с негодованием пытались выкидывать, но перед самым мусоропроводом у них вдруг сладко мутилось в голове, приходили странные мысли, и игрушки возвращались в квартиры, где тщательно мылись с мылом и использовались по назначению, никак, впрочем, не подразумевавшемуся их производителями. Множество измен, обвинений в распутстве и, наоборот, сексуальной зажатости разрушали семьи полицейских; но немало было и тех, кто впервые познал настоящую близость, страсть и доверие.
Мощно и прихотливо разросся рынок женского нижнего белья и обуви: носить простые сетчатые чулки, неточно подражающие узору творения Эйфеля – Поташевича, стало уже не модно. Дизайнеры разработали массу фасонов темных чулок и колготок с принтами, изображающими парижскую башню; тонкие телесные варианты имитировали голую ногу с бледной татуировкой в виде Останкинской. Вошли в обиход трусы с бантиками в форме двух крошечных переплетенных башенок. Застежки бюстгальтеров повторяли известный мотив, причем весьма оригинально: выступы на концах обеих матерчатых лямок делались металлическими, и они заменяли ушедшие в прошлое крючочки. Шпильки модных туфель обыгрывали ставший классическим образ. Бантики на балетках… впрочем, этот трогательный маркетинговый проспект можно продолжать бесконечно.
Мало кто из телезрителей понимал, что он наблюдает змею, кусающую самое себя за хвост: Эйфелево Останкино транслировало само себя, инструмент стал продуктом, средство – целью. Репортажи на фоне башен и панорамные съемки конструкции потеснили в сетке вещания даже самые популярные ток– и реалити-шоу. Стальной сетчатый каркас создавал помехи, и по экранам телевизоров ползли ажурные полосы, словно кто-то накинул на изображение увеличенную во много раз шелковистую паутину. Кроме того, отмечали самые чуткие, если не шевелиться и задержать дыхание, можно было услышать, нет, скорее почувствовать самой поверхностью мозга не то свист, не то гул, космический сквозняк, успокаивающий и наделяющий прохладной решимостью сделать все, что прикажет, нет, мягко посоветует находящийся в это время в эфире человек. К счастью это или нет, но акулы российского шоу-бизнеса не успели толком узнать об этой особенности вещания, и трагических последствий удалось избежать, если не считать всплеска промискуитета в молодежной среде и некоторого учащения случаев регрессии у больных шизофренией.
Вскоре обычное вещание прекратилось вовсе, и в отравленном воздухе над столицей безжалостно и мощно разнесся настоящий Сигнал.
Что бы ни говорили ревнители нравственности, ношение белья с башенной символикой и даже эротические эксперименты с игрушечными моделями можно считать безобидной причудой. Но изменения в психике людей, наблюдавшиеся к концу первого года существования проекта, уже вызывали опасения. Все больше не склонных к ипохондрии людей жаловались на тошноту, головные боли и кошмары, образное наполнение которых зависело от навязчивых идей конкретного пациента. Группа ученых Московского НИИ психиатрии в начале 2011 года выпустила сборник наиболее интересных клинических случаев, сопровождаемых комментариями. Так, женщина сорока пяти лет, с хроническим алкоголизмом второй стадии, была неоднократно госпитализирована при попытке суицида. По словам близких, когда-то она работала оператором на колесе обозрения на ВВЦ, и примерно через год после постройки Эйфелева Останкино ее вдруг стали беспокоить сны о старом месте работы, откуда она была уволена за пьянство. Женщина отправилась на ВДНХ и, увидев с высоты аттракциона двойную башню, попыталась разбить стекло кабинки и выпрыгнуть вниз, но была остановлена другими пассажирами. В течение месяца это повторялось шесть раз. В сумеречном состоянии она тихо бормотала одну и ту же фразу: «Увидеть Париж и умереть». В моменты просветления она описывала врачам открывшийся ей вид на Париж так детально и точно, что даже повидавшие всякое психиатры смущались, сверяя рассказ пациентки с фотографиями и картами французской столицы: за границей женщина никогда не бывала.
Меж тем и так поляризованное русское общество стало угрожающе раскалываться на два лагеря. Прозападно настроенные либералы утверждали, что стоит продолжить эксперимент и сочетать русские красоты с другими европейскими достопримечательностями законным архитектурным браком. В блогах шли бурные споры, в которых либералы пытались доказать, что такая культурная прививка поможет российской власти избавиться наконец от феодального мышления, встав на европейский демократический путь развития, и воспитает в русском человеке свободомыслие, самоуважение и толерантность. Эстетика, торжественно формулировали они, рождает этику. Женщины, придерживавшиеся подобных взглядов, решили начать с себя, и как они были прекрасны на каблуках в виде перевернутых лакированных башенок!..
Либералов поддерживал теперь уже всемирно известный Эмиль Поташевич, но вряд ли его интересовала идеология: похоже, что он был из тех безумцев от искусства, что готовы на любые жертвы ради воплощения своих потрясающих замыслов, и, родись он на полвека раньше, возможно, его ждала бы блестящая карьера в Третьем рейхе или в Политбюро ЦК КПСС. Одно из его выступлений можно считать официальным началом последовавшей вскоре общественной конфронтации. На одном из приемов в московской мэрии, посвященном завершению года русско-французской дружбы, Поташевич, размахивая бокалом с шампанским, рассказал, что у него готов новый проект – размещение внутри Шуховской башни уменьшенной копии парижского небоскреба Монпарнас – и что якобы уже есть договоренность с правительством. После этих слов в банкетном зале вдруг наступила тишина; либеральные обозреватели, оказавшиеся в тот вечер в явном меньшинстве, жидко зааплодировали, но были прерваны криками и руганью преобладавших там патриотически настроенных журналистов. Запахло скандалом, и прием был быстро свернут. На улице архитектора окружили разгоряченные фуршетом патриоты, и тогда Поташевича впервые сильно побили; полиция едва отняла его у негодующей прессы.
В тех же блогах и на радио, вещание которого, к счастью, велось по-прежнему, патриоты и государственники требовали Эйфелеву башню уничтожить, а Поташевича привлечь к уголовной ответственности. (О том, чтобы преследовать тех членов российского правительства, что юридически сопровождали и материально обеспечивали строительство комплекса, как-то не говорилось.) Бедный Эмиль со своими усиками а-ля Эркюль Пуаро представлялся им могущественным злым демоном, присланным с Запада для морального разложения русского человека. Наиболее цивилизованные патриоты предлагали как можно скорее разобрать башню, вернув городу привычный архитектурный облик, и тут они неожиданно нашли сторонников в Архнадзоре; все остальные угрожали начать немедленную расправу над французскими туристами и картавящими русскими женщинами, «неподобающе», как они утверждали, одетыми в чулки и туфли с башенками. К требованиям патриотической интеллигенции тут же присоединились домохозяйки и футбольные фанаты, в связи с прекращением вещания вот уже третий месяц лишенные своих главных удовольствий, и тогда власть решила действовать, не желая ссориться со своим основным электоратом.
Было официально объявлено о скором начале демонтажа конструкции Поташевича, который, побывав в больнице после пресс-конференции в Центральном доме литераторов, не выходил теперь из своей съемной квартиры на Ярославском шоссе, неподалеку от Лосиноостровского парка. К Останкино подогнали строительную технику, и Поташевичу из окна его скромной квартирки был виден огромный башенный кран, похожий на памятник Петру на Стрелке. Уже на следующий день либеральная интеллигенция организовала митинг протеста у башенной конструкции. Люди с бледными и решительными лицами держали вызывающие плакаты: «Что, если не башня?», «Не раскачивайте башню», а один плакат, ни к кому конкретно не обращаясь, болезненным Caps Lock-ом гневно клеймил кого-то: «ГЛАВАРЬ АДМИНИСТРАЦИИ». Полиция привычно завинтила протестующих. На другой день патриотические противники комплекса провели свой митинг, скандируя лозунги «Чемодан, вокзал, Франция», «За честное Останкино» и «Единая башня – башня жуликов и воров». Полиция, злая на начальство и граждан из-за уличных минетов с башенками, завинтила и их тоже, и футбольные фанаты, не привычные к такому обращению, были искренне удивлены и впервые в жизни серьезно задумались. Но впрочем, выступления и тех, и других прошли впустую: техника мирно шумела, будто готовя что-то для демонтажа, смуглолицые рабочие в оранжевых спецовках ходили взад-вперед с какими-то трубами и палками, поток трудовых мигрантов из Средней Азии немного увеличился, на ВДНХ открылось несколько новых точек торговли опиатами, но по сути с Эйфелевым Останкино ничего не происходило.
Сначала просто украли деньги, выделенные на работы. Потом один генерал полиции объявил окрестности башни местом, представляющим историко-архитектурную ценность, и за то, чтобы не проводить там раскопки, потребовал крупную взятку. Прорабы отказались платить ввиду очевидной абсурдности требования, и тогда коррупционер пригнал студентов-историков, которые пили пиво на выданные генералом деньги, играли на гитаре и делали вид, что что-то копают. Генералу пытались объяснить, что проект государственный и платить ему в любом случае никто не станет, тем более что работы все равно будут проводиться высоко над землей, но тот с шизофренической настойчивостью не желал ничего понимать и только заигрывал с симпатичными студентками. Тогда начальник работ прямо пожаловался в Администрацию президента, где возмутились и немедленно повысили генерала в должности, переведя его в другое управление. Деньги выделили снова, но тут оказалось, что техника стара и неисправна, а рабочие-таджики не умеют с ней обращаться, и был один странный несчастный случай, когда бульдозер, вдруг словно сойдя с ума, долго кружился на одном месте, все углубляя воронку вокруг себя, пока не провалился под землю.
Выделили средства на закупку новой техники, но их тоже украли. Опять кого-то повысили в должности, снова дали денег, купленная строительная техника оказалась почему-то французского производства, и опять были разнообразные митинги, доведенная до бешенства полиция, задержания, война в блогосфере и множество сломанных каблуков в виде перевернутых лакированных башенок. Все это безобразие продолжалось еще почти год, но башенный комплекс оставался нетронутым, добавьте сюда все нарастающее число людей с нарушенной психикой, небывало разросшуюся проституцию, стремительную романизацию Москвы (даже в электричках теперь играли не иначе как аккордеонный шансон, а дворовые алкоголики перешли на красное вино и шампанское и сыр в качестве закуски, привычный им еще с советских, плавленых времен). Но нам кажется, что Эйфелеву башню не демонтировали по тем же простым и понятным любому русскому сердцу причинам, по которым новогодняя елка иногда может простоять в квартире до мая.
В июне 2012 года леворадикальные патриоты решились на жесткие меры. В Филях в районе станции метро «Кутузовская» на конспиративной квартире разместился штаб сопротивления. Предоставил помещение, трехкомнатную квартиру с дорогим ремонтом, и осуществлял общую материальную поддержку повстанцев некто Кравченко, сорокалетний предприниматель, производивший творожно-шоколадные сырки. Из материалов следствия стало известно, что Кравченко был движим личными мотивами: он с юности мечтал эмигрировать во Францию, где прикупил уже симпатичную дачку в готическом стиле, и, заработав в нулевые много денег и спрятав часть за границей, как полагается, он был уже готов к отъезду, как началось это башенное безобразие, вмиг опоганившее его хрустальную грезу. Смысл жизни был утерян, к тому же сырки почти перестали приносить доход: чиновники наглели все больше и, будучи вынужденными оплачивать собственные дачки за рубежом, требовали немыслимых откатов. «Как будто всю жизнь мечтал открыть Америку, но приплыл нечаянно в несчастную занюханную Индию, с ее болезнями, кастами, коровьим говном», – поэтизировал Кравченко на допросах. Его судили по статье «терроризм», но, ввиду отсутствия реально причиненного кому-либо вреда, он отделался шестью годами заключения. В камере по его просьбе даже установили большой плазменный телевизор.
Фанатики, к которым быстро примкнули националисты, хотели просто взорвать обе башни. Трудность заключалась в том, что члены штаба долго вели переговоры с представителями чеченского подполья на предмет закупки нескольких смертниц, но им объяснили, что, во-первых, для подрыва башен будет недостаточно того количества пластида, которое смертницы смогут пронести на себе, а во-вторых, как утверждали боевики, Чечня в последние годы твердо встала на цивилизованный путь развития и уничтожать гламурный символ западной буржуазной демократии не входит в их планы.
Тогда отечественные фанатики решили действовать самостоятельно, но их ждала неудача. Таксист, перекусывавший в машине поздним вечером в районе Останкино, оказался чересчур внимательным и вовремя заметил припаркованные «жигули» с заклеенным бумажкой госномером и несколько кулей с торчащими из них проводками у одного из оснований копии Эйфелевой башни. Вызвали саперов и полицию, башни были спасены. В рамках объявленного плана-перехвата под кодовым названием «Шансон» были арестованы непосредственные подготовители теракта.
На новую порцию такого количества взрывчатки денег Кравченко уже не хватало, и оставшиеся на свободе радикалы решили сменить тактику. Как и было обещано ранее, французские туристы и просто картавящие женщины стали подвергаться ночным нападениям, грабежам и издевательствам, а башенный комплекс страдал от актов вандализма (особенной наглостью запомнился случай, когда красной краской на большой высоте было нанесено все то же любимое патриотами слово «блядство»). В полицию стало поступать множество заявлений от пострадавших граждан, и чаша терпения московских правоохранителей переполнилась. Решено было вычистить заразу под самый корень, и начальник столичного ГУВД с чудесной фамилией обратился на самый верх. Там поддержали его идею привлечь к наведению порядка армию. Забегая вперед, горестно сообщим, что это решение было едва ли не главной ошибкой российского руководства за два последних года.
К августу 2012 года в Фили были стянуты силы подмосковных пехотных и пограничных частей. Солдаты и офицеры были расквартированы в районе станций метро «Багратионовская» и «Смоленская». Военным был дан приказ в связке с полицией вести круглосуточное патрулирование прилегающей территории, жестко пресекая хулиганство и разбойные нападения, которым подвергались теперь уже все подряд. Но то ли магия любви подействовала и на суровых мужчин в форме, то ли общее разложение российской силовой верхушки достигло критического предела, но с введением войск в Филях к общему разгулу преступности добавился еще и обыкновенный армейский разврат самого пошлого, курагинского пошиба. Солдаты-срочники немедленно стали заводи ть шашни с женщинами, и утратившие было актуальность уличные минеты с башнями вновь стали популярны. Офицеры вместо патрулирования и арестов целыми днями просиживали во французских кафе, в огромных количествах поедая устриц и запивая их ледяным шампанским. Полицейские, обнаружив очередную веселую пирушку в парижском стиле, готовы были плакать от отчаяния: полицейский офицер не вправе приказывать военному. Разврат принимал самые утонченные формы: полк крутобедрых красавиц пограничных войск ФСБ прямо в парадных мундирах выплясывал в дорогих кабаках канкан, и под задиравшимися юбками на секунду мелькало белье со все теми же проклятыми крошечными башенками, придававшее их обладательницами дьявольскую сексуальность. За месяц офицеры российской армии наделали в этих кафе огромные долги, которые потом вынуждено было заплатить правительство.
В конце августа все завершилось так же неожиданно, как и началось, но печальное эхо тех событий до сих пор звучит в разговорах и воспоминаниях. Седой и трясущийся от пережитого Поташевич написал жене, велев продать их участок под Парижем и перевести ему все деньги. Та, напуганная новостями из России и долгим отсутствием мужа, выполнила его просьбу. Тогда архитектор по тем же каналам, по которым действовали ранее леворадикальные патриоты, купил взрывчатки и старый «КамАЗ» и все-таки осуществил тот дерзкий и трагический план. Возможно, Поташевичу помогло как раз то, что он никак не конспирировался: о душевном здоровье несчастного француза к тому моменту говорить не приходится, а полиции было не до охраны комплекса. Поташевич просто загнал грузовик под одно из оснований конструкции, и мощный взрыв подкосил обе башни. Говорят, что он выступил в качестве смертника, взорвавшись сам; тело его не было найдено, и там след Эмиля Поташевича теряется окончательно.
Москва словно опомнилась от длинного, нездорового, подробного сна. Новый телецентр решено было строить в другом месте. Станции метро в Филях переименовали, убрав из названий слишком откровенные, ставшие болезненными исторические коннотации. Солдаты и офицеры, устроившие безобразие в том районе города, подверглись психиатрическому освидетельствованию, и врачи нашли, что те действительно плохо могли отвечать за свои действия, и военная прокуратура особо не свирепствовала. Все-таки у русских людей человек с оружием, устраивающий с товарищами безумную пьяную сексуально-гастрономическую оргию, вызывает не страх, а скорее восхищение, смешанное с завистью, и самыми частыми словами военных в те дни было устало-довольное: «Хорошо погуляли!» Страна постепенно приходила в себя.
В Останкино устроили мемориал. Башенному комплексу поставили небольшой памятник, сделанный по эскизам, найденным в бумагах Поташевича. Две стройные башни высотой примерно два метра навсегда сплелись в изящном бронзовом танце. К мемориалу до сих пор приходят с цветами печальные девушки. Они повязывают на оградку свои чулки, надевают на прутья решетки туфли с каблуками в виде перевернутых лакированных башенок, заплетают банты из лямочек бюстгальтеров, наливают в стаканчик шампанского, прикрывая его ломтиком сыра. Самые нежные из них даже оставляют на памятнике алый след прощального, все объясняющего поцелуя.
2010–2012 гг.
Тополя (День Победы)
Когда солнце садится и пыльный воздух начинает понемногу остывать, я выхожу на балкон. Каждый день весь май, а потом целое лето, около восьми часов вечера я выхожу на балкон и смотрю на мои тополя. Дети доигрывают последние игры во дворе, подростки выходят на вечернюю прогулку, мужчины в белых растянутых майках сидят на скамейках с бутылкой пива, с сигаретой, просто так – смотрят в землю, вздыхают, молчат. Обязательно где-то стучит по асфальту звонкий мяч. Еще один день прошел, и ничем он не отличается от вчерашнего и не будет отличаться от завтрашнего. Молодые матери с колясками, старухи, собаки, дворовые алкоголики – все в этот час сближаются, становятся родными, смотрят в землю и молчат. Еще час, и начнет темнеть, и начнется обычный ежевечерний спор стариков с молодежью; пока же можно подумать о завтрашней жаре, о пыльных сандалиях, о прохладе и сумраке маленькой квартиры, о холодке перил в подъезде, о неизменном коленкоре входной двери, которые одинаковы у всех. Мы, поленившиеся уехать на дачу и оставшиеся сидеть на скамейке во дворе, знаем: нет никого счастливее нас. У нас есть тополя.
Никто, кроме нас, городских, ленивых, пыльных, не знает ничего о тайной жизни тополей. Деловые, сердитые, всегда занятые, носящиеся по курортам и дачам с чемоданами и билетами – вы, несчастные, слишком устаете для того, чтобы замечать подробности тополиных движений. Вы слишком заняты для того, чтобы интересоваться их судьбами. Для вас я выхожу каждый день на балкон, чтобы когда-нибудь рассказать вам, что вы потеряли, о чем вы никогда не узнали бы, если б не я.
Эти три старых тополя возле гаражей Петренко и Самойловых появились здесь совсем недавно. Неделю назад я, запомнив в очередной раз планировку двора, лег спать, а утром, выйдя на балкон, чуть не упал с него, подпрыгнув: три могучих красавца стояли там, где вчера вечером было пустое место. Возле новых тополей уже толпились почти все жители нашего дома, кроме немощных старух – их выведут познакомиться вечером, по холодку. Я натянул шорты, накинул рубаху и помчался вниз, прыгая через пролеты. Растолкав толпу (на меня никто не подумает обидеться), я с разбегу обнял средний тополь.
– Новые! Новые! – кричал дядя Толя. – Ночью прибыли! Откуда, интересно?
Дядя Толя был уже хороший. Он конечно же не мог упустить случая и сразу же, с утра, начал отмечать прибытие новых тополей. Сейчас, на полуденном солнце, его развезло, и поэтому он вел себя так глупо, спрашивая, откуда тополя. Мы всегда знаем, откуда они прибывают и куда потом уходят, но мы не имеем права говорить об этом вслух.
Дядя Толя нашел себе еще двух собутыльников, и они отправились в универмаг. Все понемногу разошлись, вздыхая от счастья. Я покинул тополя последним. Я уверен, что завтра их здесь уже не будет. Я стою на балконе и не отрываясь смотрю на них. Мне больше нечего делать. Я прощаюсь с ними.
А этот гигант высотой с наш пятиэтажный дом стоит долго, уже около месяца. В июне он один засыпал своим пухом весь наш двор. На него повесили качели – это не считается кощунством, главное, не сильно повредить кору. Теперь дети взлетают на этих качелях под самую крону. Воображаю, как это должно быть приятно – и детям, и ему. По поводу этого тополя было даже что-то вроде собрания жильцов нашего дома. Кто-то высказал осторожное, наглое, невозможное предположение, что, может быть, тополь останется здесь навсегда. Половина жильцов подняла его на смех и ушла, а оставшиеся подумали и решили построить вокруг тополя песочницу с грибком, чтобы тополь наверняка остался с нами. Отец и сын Кузнецовы уже привезли на своей машине доски и начали сколачивать ограждение для песочницы. Многие считают их чуть ли не еретиками. Я же молча стою на балконе, смотрю на Кузнецовых и представляю, как же, наверное, хорошо прикасаться ладонью к нагретой за день белой душистой доске.
Если внимательно ходить по городу, тоже замечаешь массу передвижений. Вот этот скверик возле универмага уже опустел – с десяток тополей ушли ночью, никем не замеченные; рабочие в оранжевых куртках уже крепят на столбы рекламные щиты, на скамейке, теперь безжалостно освещаемой солнцем, спит бомж. Горожане, удосужившиеся взглянуть на эту картину, почти никогда не замечают, что привычных тополей нет. Некоторые, не до конца утратившие связь с реальностью из-за своих поездок и покупок, смутно припоминают, что раньше здесь стояли чудесные деревья, а теперь нет даже пеньков, но тут же забывают свою короткую тревожную мысль, гонят ее прочь от себя, как легкую тень возможного сумасшествия, и идут дальше, как зомби. А рабочие? А что рабочие – им все равно; трудно требовать внимания к каким-то тополям от людей, в июльский полдень вынужденных крепить дурацкие рекламные щиты. Возможно, бомж заметил исчезновение этого скверика. Да точно же, он видел прошлой ночью, как десять тополей тихо сдвинулись с места и пошли на восток, но что с него взять? Он не пил уже третий день и в ту ночь, возможно, дрожал на этой скамейке, обрывая ногти о дерево, белея, блюя, перебирая ногами на месте: нет, нет, нет, только не это, помилуйте, простите, помогите, не надо. Снова белочка – легко прыгнет в его потухающем сознании горячая, оранжевая, полыхающая мысль. Но никакой белочки на этот раз не будет; Бог милует, рабочие дадут на пиво, и в этот вечер он навсегда забудет про тополя.
Некоторые старожилы нашего дома, с детства привыкшие наблюдать за тайной жизнью тополей, любят рассказывать страшные байки. Когда я стою вечером на балконе, навсегда запоминая двор, которого завтра не будет, я слышу обрывки таких разговоров. Я спускаюсь и подхожу к сидящим на скамейке старикам. Основную часть самоубийств и поножовщины в городе наши старики объясняют передвижениями тополей. Им не все верят, но благодаря тому, что большинство взрослого населения нашего города крепко выпивает, аргументация стариков звучит убедительно.
– Был у меня приятель, – былинно начинает дед Макар Петрович. – Служили вместе, потом после войны столярили вместе на мебельной фабрике. Диваны, там, шкафы, табуретки; для себя, налево, чего греха таить, костыли делали. Калымили. Хороший Алексеич был мужик, крепкий. Всю войну, считай, прошел, два раза ранен был. В плен чуть не попал, от троих немцев отбился, ногу потерял. Когда перестройка эта ваша началась, про нас, ветеранов, забывать начали. Мне-то что, у меня семья есть, старуха моя, внуки, да и не привык я прошлым жить. Забыли войну и тех, кто в ней победил, – так и черт с вами, вспомните потом, когда поздно будет. Алексеич, приятель мой, не такой был. Все орденами своими потрясать любил, в магазин за хлебом иначе как в форме не выйдет. Смешно же, правда: дед в форме, с костылем, в очереди стоит и Горбачева поносит почем зря. Потом Ельцин этот… Ну и начал он попивать, в общем. За два года спился как я не знаю что: руки трясутся, рожа опухла вся, денег нет постоянно. У меня занимал, а я что, богач, что ли? Жалко его было, так что сделаешь: и разговаривал я с ним, и ругал его последним фронтовым матом, и лечиться его пробовал уговорить – все попусту. Однажды пил он месяц подряд. Мужик-то крепкий был, говорю, да в такие годы любому запой опасен. Решил он тормознуться, два дня не пил, а на третьи сутки и случилося это… Выглянул в окно, а там под фонарями тополя маршируют… Он, значит, кинулся костыль искать, а костыля нет нигде – мало ли где он его по пьяни-то бросил. Нет костыля, спуститься по лестнице он не может, и тут и накрыло его окончательно: решил дед, что костыль его в одном из тополей заключен и что, значит, надо дерево нужное найти, остановить и костыль тот заново выточить… Прыгнул он в окно с пятого этажа. Врачи потом сказали, что допился он до чертиков, а я вот уверен: не ушли бы в ту ночь тополя, не было б такого. Крепкий был мужик, Алексеич-то…
Мы не верим деду Макару. Тополя не такие. Они не могут причинить зла никому. А Макар Петрович тихо спорит: не понимаете вы, мол, ничего – тополя сами по себе не могут делать зло, и чтобы случилась беда, нужны особые условия. Мол, дед тот если бы не пил, случилось бы такое? Нашел бы костыль да и спустился бы по лестнице, да пришел бы ко мне, а я бы его успокоил. А так – беда, грех…
– А когда Ганнушкин из третьего подъезда жену свою зарезал, это тоже тополя, да? – пристаем мы к деду Макару.
– А кто ж еще-то, – отвечает он нам. – Они же, Ганнушкины-то, поселились у нас недавно, не успели еще привыкнуть. Помните, вон там, возле мусорного контейнера, стоял красавец такой?
– Помним, помним, – дружно киваем мы.
– Ну вот. Он же тоже выпить любил, и у него на этой почве мания появилася, что жена ему изменяет. Скандалы-то эти, крики-то помните?
– Помним.
– Ну вот. Тогда тоже из запоя он выходил. Поругалися в очередной раз, с кулаками на жену он кинулся. У нее терпение лопнуло, она вещи начала собирать. Да не успела… Взял он ее чемоданы да и понес их в мусорку, выкинуть, значит, со злости-то. Идет, а на него тополь тот надвигается, и листва как будто шелестит: «Шлюха… Шлюха… Шалава…» Шур-шур-шур так, страшно шуршит. Ну он и побежал домой, взял нож да и зарезал ее. Шлюха, мол – и зарезал.
– А откуда вы знаете-то все это, Макар Петрович?
– Так тополя мне и шепнули, – строго, таинственно отвечает дед.
Мы ему не верим.
Дед Макар не один такой. Другие наши старики тоже любят что-нибудь страшное рассказать. Один говорит, что в стране бедность такая оттого, что все деньги правительство тратит на содержание и перемещение тополей. Другой старик убежден, что продажные генералы торгуют тополями с врагами, в основном с США, и скоро всех нас завоюют. Третий говорит, что метро в Москве предназначено не для того, о чем все думают: на самом деле это подземные туннели для секретных перемещений тополей, а поезда с людьми там ходят для отвода глаз. Макар Петрович в целом с ним согласен, только спорит по одному вопросу: метро это раньше только для тополей и работало, и на улицах спокойно было – все под землей перемещалось, а потом Ельцин тополя наружу вывел, и беда началась: люди с ума сходят, из окон прыгают. А в метро теперь люди на поездах ездят, но вот толку-то от этого… Василий Павлович, бывший шахтер, любит рассказывать, что у них однажды в бригаде такое было: послали их на новый участок, они в первую шахту спустились, а там – старый тополь! Верхушка вся обломана, кора потрескалась. Вызвали начальство, а начальство приехало не одно, а с «людьми в штатском» и с генералами какими-то. Шахтерам этим тогда единовременно выдали годовую зарплату и взяли с них подписку о неразглашении, и своего прежнего начальства они с тех пор не видели. Да и шахты той больше нет – голое ровное поле. Хотя казалось бы, что такого – обычный старый спиленный тополь…
– А кто все-таки тополя придумал, Макар Петрович? – спрашиваем мы в очередной раз, предвкушая свою стремительную победу над хромой логикой старика.
– Так Сталин придумал, – в который раз отвечает глупый дед.
– Так при Сталине-то тополей не было! – торжествуем мы. – Они же как раз в перестройку, которую вы так не любите, разрабатываться начали!
– Дураки вы, – обижается дед. Завтра он забудет свою обиду, и ежевечерний разговор на скамейке во дворе начнется заново. – Тополя были всегда. Вы просто за деревьями леса не видите, как в народе говорится. Тополя всегда были, а Сталин придумал их сделать такими, ну… такими, какие они есть сейчас. А что их в эти скорлупы нарядили да возят на МАЗах по Красной площади в День Победы, асфальт только портят – это ваши современные придумали, как их там… Позорище, да и только. Тополь, красавца, в железную сигару обрядить да на машине по улицам возить на потеху Западу – это ж позорище! Как медведей раньше по улицам водили. Такую красоту спрятали! Весь пух, все, почитай, ветки в железе! Не пахнет ить он больше в машине-то этой! Ироды…
– Наоборот! – кричит кто-то из молодых. – Деревья с ветками – это и есть маскировка, а настоящий тополь как раз такой, какой по Красной площади возят. И пух специально – чтоб не подходили близко, противно же!..
Сейчас разгорится обычный спор. Молодые будут посмеиваться над дремучими старческими байками, старики будут упрямо покачивать головами. Кто-то заплачет, вспоминая, как пахли почки этих деревьев раньше. Но я никогда не участвую в споре. Мне неинтересны эти мелочи – кто придумал тополя, кто их «испортил», кто прячет их в железных сигарах, превращая прекрасные деревья в стальных монстров, в гладкие мини-башни. Мне даже неинтересно, кто распоряжается их судьбами, кто возит их из города в город, из деревни в деревню, из одного края моей страны в другой. Я знаю, что они есть, и этого мне достаточно. И еще я знаю, почему в июне все города полностью засыпаны тополиным пухом и почему нельзя отличить одно дерево от другого: потому, что тополя никогда не стоят на месте.
Когда солнце начнет садиться, я поднимусь к себе домой и выйду на балкон. Не замечая доносящиеся снизу крики, я обопрусь о перила и начну внимательно осматривать двор. Кузнецовы уже привезли откуда-то грибок. Завтра решено его ставить: старики говорят, что этот могучий красавец уже никуда не уйдет, что прошел его век. С ними как всегда будут спорить. И правильно – даже отсюда, с балкона, я чувствую, что и этот тополь скоро покинет нас. Мы опять будем ждать новых гостей. Интересно, где делают такие грибки для детских площадок? Я тщательно запоминаю двор. Одинокий исполин уйдет, и те два молодых деревца тоже скоро уедут. Вот здесь хорошее место, у второго подъезда: там можно ждать три-четыре новых дерева. Когда они придут? И почему я почти никогда не ошибаюсь в своих предсказаниях? Не знаю. Зато я твердо знаю, что по моей стране, защищая границы, скрываясь от чужой разведки, заметая следы и путая и пугая врага, постоянно ездят большие прекрасные тополя.
2010 г.
Министерство
Первым, кого он увидел, войдя в своей скромной серой куртке в здание Министерства, был плотный чиновник с угрюмым государственным лицом много лет держащегося на грани алкоголика, в хрустящем синеватом костюме и сверкающих ботинках. Чиновник вежливо изогнулся, пропуская его вперед, и с ласковой улыбкой, не идущей его серому обвисшему лицу, заговорил с женщиной. Одетая во все черное чиновница сквозь зубы улыбалась своему собеседнику, показывая мелкие очаровательные морщинки рано начавшей стареть тридцатилетней женщины, и ее черные крашеные волосы, черные чулки и черные туфли блестели в свете синих ламп вычурным черным стальным блеском, каким блестит, осененный синим спецсигналом, лакированный «Мерседес-Гелендваген». Он засмотрелся на чиновницу.
Он попал в Министерство случайно и не думал, что задержится там надолго – он никогда не думал, что его ожидает судьба клерка, писаря делопроизводства. Но ему постепенно начала нравиться эта скучная работа, потому что она хорошо отвечала потребностям его сухой дисциплинированной души. Нужно было вникнуть, какие бумаги необходимы для дела и какие инстанции должна пройти каждая из этих бумаг, и не спеша сопровождать пакеты в их круговом движении по этажам и инстанциям, заботясь только о том, чтобы не потерять что-то важное, с визами директоров департаментов и подписями далеко живущих людей. В течение первых нескольких недель было трудно, он сильно уставал, не умея и не смея отказаться от поручений, никак не связанных с его обязанностями и выполняя их с присущей ему туповатой добросовестностью. Но вскоре он почувствовал дух Министерства, пригляделся к тонким аппаратным играм и через два месяца уже вполне мог отвечать мрачной юристке, просящей его сбегать на верхний этаж за госконтрактами: «Я не могу вам помочь. Сейчас приехали екатеринбуржцы с «Экскаватором», они говорят, что мы им протокол согласования цены неправильно составили. Так что – горим».
Это была ложь, но такая, что оказывается ложью только при рассмотрении дела во всех мелочах; в целом же это звучало угрожающе-туманно, и мрачная юристка, чей отдел как раз проверял протоколы согласования цены, знала, что нельзя составить неправильный протокол, но, не будучи уверенной в своих подчиненных и чувствуя привычный туман общего министерского бардака, оставляла его в покое.
«Экскаватор», «Кактус», «Липа», «Бамбук» – такими невинными шифрами обычно назывались конкурсы, в результате которых заключались госконтракты и выделялись средства. При всей своей склонности к госслужбе, он странным образом был наделен некоторым извращенным художественным чувством, словно его сухая бумажная внутренность, о которую и так можно было порезаться, была посыпана мелкими осколками чьего-то разбившегося о бутылку писательского таланта. Он, уча канцелярит, подолгу проговаривал про себя словосочетание «выделение средств» и представлял, как кто-то плотный, хрустящий и синеватый, похожий на встреченного в первый день чиновника, натуживается, откидывает полы пиджака, и там, сразу под рубашкой, – о Господи! – ржавые спицы, облезшие шестеренки, надтреснутые подшипники, и в этих лиловых масляных кишках, проворачиваясь и гудя, образуется что-то тягучее, склизкое и живое, и капает по желобу в желтый эмалированный таз, откуда уже выпаривается до состояния хрустящих синеватых банкнот. («Материнский капитал» вызревал в ячейках яичников встреченной в первый день черноглазой чиновницы, о которой он думал постоянно.)
С этим пугающим, извращенным удовольствием он смотрел на цены госконтрактов и на объемы средств, выделяемых на пресловутые госзакупки. Приехав из нищей провинции, он хорошо знал, насколько ограблена и опустошена страна, и, обслуживая очередное воровство очередных миллионов, выводимых из бюджета под видом разработки новейшего анализатора мочи (шифр: «Мальчик»), он ощущал себя клапаном в сливном бачке унитаза. Сверху его дергала невидимая всесильная рука, снизу шипел, уносясь навсегда, поток выделяемых средств – а он был как бы не при делах, и от этого его больное художественное чувство пьяно плясало. Кроме того, его радовало гаденькое сознание своей призрачной власти: вот он сейчас пойдет в туалет и потеряет эту вроде бы непримечательную бумагу, и никаких денег не будет.
Сам по себе он был честный человек и знал, что никогда не украдет. Он продвигался все выше по службе благодаря трудолюбию и интуиции, перемещаясь с этажа на этаж. В самом начале министерской карьеры он работал на третьем этаже, кабинеты которого выглядели как классический частный офис: светлые компьютерные столы, принтеры, кресла на колесиках, корзины для бумаг с использованными чайными пакетиками внутри, девушки в туфлях-лодочках. Чем выше с годами он поднимался по службе, тем строже, суше и государственнее становился окружающий его интерьер: темнели и тяжелели столы, народные жалюзи сменялись начальственными плотными шторами, ковры делались все толще и глуше, мешки под глазами мужчин отвисали все ниже, каблуки чиновниц делались все выше, и кожа их покрывалась маленькими нежными морщинами тем больше, чем тщательнее они за собой ухаживали, чем лучше они пахли и выглядели; и вот уже везде висит портрет президента, и вот он начальник. Чем выше с годами он поднимался по службе, тем больше он пил. Он помнил отца-алкоголика и знал, что ему нельзя, и старался ограничиваться пивом, вином, коктейлями; но все чаще хотелось напиться, и наваливалась тяжелая грубая страсть к черноглазой чиновнице, которая была замужем и много раз уже отказала ему, и являлось еще что-то непоправимое, летала по комнате некая серая тень, от которой, видимо, и сбежал в свое время в окно плохо привязанный санитарами отец. Тогда он доставал фотографию чиновницы, долго смотрел на нее и, вспотев, бежал покупать дорогой коньяк, потом еще и еще, и кончались наличные, и он не мог дойти до банкомата и выскребал из карманов мелочь, чтобы купить бутылку самой дешевой водки, и сердце у него в груди обиженно ревело изношенным мерседесовским мотором. Глухо болел несколько дней; сначала просил отгулы, потом просто перестал звонить по понедельникам – никто не смел спросить, почему он не приехал сегодня. Жил он один.
Он знал, что коллеги воруют, и мог бы при желании выяснить, откуда у соседа по кабинету новая недвижимость за границей или очередной «гелендваген». Но его это не интересовало. С годами он отяжелел, и его извращенное художественное чувство несколько отупело; он так ничего и не украл, на жизнь ему хватало зарплаты, которую он долго и удачно вкладывал в покупку недорогих квартир в Москве, сдаваемых им теперь. Он никому не мешал, и его пока не трогали. Но он чувствовал себя теперь не клапаном в сливном бачке, а самим бачком: в пространстве его полномочий совершалось то, что само по себе было противно ему, он видел теперь весь унитаз, туалет целиком, руку и даже больше – хозяина этой руки. Сначала его отупевшее художественное чувство вяло забавлялось тем, что в рамках производимых им действий выделяют и сливают средства, а он по-прежнему вроде как не при делах, но со временем стало слишком страшно каждый день видеть хозяина руки, для опрокидывающего движения которой он долго и терпеливо набирал в себя воду, и появился еще один повод напиваться. Он опрокидывал рюмку за рюмкой, набирался дорогой водкой пополам с дешевым коньяком и с ужасом думал о том, что когда-нибудь придется пожать эту руку и пойти в баню с ее хозяином.
Однажды она зашла к нему в кабинет, одетая в первый раз на его памяти в серое, а не в черное платье, и просто сказала:
– Я развелась.
Он уловил краем глаза, как по стене слева и сзади метнулось легкое серое облако, и вдруг испытал забытое юношеское переживание идиотского веселья, которое дарило ему его художественное чувство, перебиравшее во рту очередной дурной каламбур: «Она развелась… развелась… Не она развелась, а она развелась; я разводил ее, и она развелась!» Тут же он устыдился грубости этой ненужной мысли и встал ей навстречу.
Они поехали к нему и напились вместе – она оказалась едва ли не большей любительницей водки и коньяков, чем он, – и был вялый, короткий, неоконченный секс, и они мгновенно уснули, словно смертельно утомленные долгим совместным трудом, и, проснувшись утром, он обнаружил, что без макияжа ее кожа почти такая же серая и мятая, как у него, и он понял, что любит ее, и они провалялись весь день в постели, и впервые за много лет он был счастлив. В понедельник они вместе не пошли на службу; он снял почти все деньги со счетов, оставив немного на жизнь, и купил наконец «гелендваген».
– Я не могу принять такой подарок, – сказала она, блестя глазами и туфлями в тон лакированному кузову.
– Все равно, теперь мы будем ездить на нем вместе.
Во вторник ему передали записку. В ней говорилось о том, чего он так боялся: его приглашали. Правда, не в баню.
Дежурный адъютант открыл двери:
– Вас готовы принять.
Он вошел.
– Присаживайтесь, присаживайтесь, – доставая ложечкой лимон из чая, сказал хозяин кабинета.
Он устроился в кресле, помолчал немного и тихо спросил:
– Зачем вызывали?
Хозяин кабинета аккуратно засмеялся и начал ходить взад-вперед перед своим столом, поедая куски лимона из чая. Казалось, что у него этих кусочков там бесчисленное количество, он ел их один за другим, доставая из своей бездонной чашки.
– Я вас не вызывал, – весело жуя лимон, говорил хозяин. – Я попросил вас, чтобы вы приехали ко мне, так сказать, на чашечку чая, скрасили мое одиночество. Просто поговорить, знаете. Скучно мне. Сижу я тут целыми днями один, решаю вопросы, и словом перекинуться не с кем… Да, чаю?
Он коротко кивнул. Он понимал, что это невежливо, но сделать с собой ничего не мог – открыть рот не был сил. Через несколько секунд вошел адъютант и поставил перед ним чашку чая и вазочку с сахаром. Лимонов не было.
– Угощайтесь. О чем я, собственно, толковал? – продолжил хозяин. – Да, одиночество. Позвал я вас просто поговорить, потому что мне скучно здесь. Все дела, дела, бумаги, звонки… так и человеческий облик потерять недолго. Друзей у меня нет. Ничего, что я жалуюсь вам?
На этот раз он, понемногу избавляясь от страха, нашел в себе силы произнести:
– Нет, что вы, мне очень интересно.
Хозяин нежно и застенчиво улыбнулся и осторожно сел в кресло.
– Спасибо. Спасибо вам, друг! В наше время так сложно найти понимание у людей. Все куда-то бегут, все заняты и сердиты, слово доброго никто не скажет… – Он чуть задумался, однако тут же достал из чашки новый кусочек лимона и взял себя в руки. – Извините еще и за то, что оторвал вас от работы. Да, работать для вас сейчас гораздо важнее, чем выслушивать жалобы скучающего чинуши, запертого в кабинете на ответственной работе. Но потерпите же чуть-чуть! Позвольте мне просто поговорить с вами, раз уж вы здесь. Не охране же мне все это излагать. Собственно, что тут излагать: как вы думаете, может ли человек, работающий в некой структуре и несогласный с устройством этой структуры, продолжать свою карьеру в ней?
Он молча сглотнул.
– Или, – продолжал хозяин, – он должен пересмотреть свое отношение к устройству организации, в которой он вот уже столько лет беспорочно трудится?
– Я… я собирался уйти в отставку, – выдохнул он.
Хозяин искусно изобразил, словно поперхнулся лимоном от удивления:
– В отставку? Вас?! Ценнейшего работника? Столько знающего, обладающего таким опытом? Да где же мы найдем вам замену, родной вы наш? С ума сошли: вас – в отставку?! Ступайте работайте.
Когда он выходил, в спину ему донеслось:
– Спецсигнал в Управлении получите, на вас выписано.
Он остановился на секунду, хотел что-то сказать в ответ, но раздумал и вышел. Садясь в свой «гелендваген» и не попадая ключом в замок зажигания, он вдруг понял, чем он является теперь: тем, что уже начало свой путь к унитазу и что скоро сольют, если он изо всех сил не притворится, что он на самом деле не то, что следует слить, а другая, полезная субстанция. Его художественное чувство никак не отреагировало на эту грубую метафору, и он шепнул:
– Застрелюсь.
Запершись в квартире, он неделю пил. Комната, где он терял сознание на полу, выпив очередные пол-литра, была завалена пустыми бутылками из-под водки и лимонной кожурой. На столе лежал пистолет, купленный на всякий случай три года назад у знакомого капитана ФСБ. Каким-то чудом он не застрелился случайно; телефон он выключил, о черноглазой чиновнице старался не думать. В Министерстве он научился избегать потенциально опасных людей; теперь он применял этот навык в отношении человека, для которого сам представлял опасность. В первую трезвую ночь понедельника он сидел неподвижно, подперев голову руками, и молча смотрел на пистолет. В пять часов утра он вдруг вздрогнул, встал и начал ходить по комнате, сначала медленно, потом все быстрее и наконец зашептал и лаково заблестел глазами в темноте. Его художественное чувство работало, как никогда, мощно:
– Действительно, ведь это будет гениально! Смерть чиновника. Смерть… смерть чиновника… ведь я чиновник! – Он засмеялся, радуясь холодным стальным бликам, неизвестно откуда взявшимся на стенах. – Не снимая вицмундира, умер. Лег и, не снимая вицмундира, умер. А я сниму костюм, и все спросят, почему голый, а я отвечу, как есть: так в бане же был, вы что! В баню к хозяину ходил… А потом, ведь нужен авторитет, нужна моральная чистота, чтобы взять в заложники. Невинных людей… Я выйду и скажу им: смотрите, я чист перед вами. Я в… в… в баню ходил. К хозяину!
Он еле смог выговорить последнее слово и упал на пол, сотрясаемый истерическим смехом. Светало, по улице проехал одинокий черный автомобиль с зачем-то включенной мигалкой. По стенам комнаты плотно метались серые тени.
Отсмеявшись, он два часа неподвижно лежал на полу, тяжело дыша. Потом встал, побрился, выбрал чистую сорочку, повязал галстук, надел хрустящий синеватый костюм, заложил пистолет за брючный ремень и поехал в Министерство.
На входе он увидел ее и остановился, пораженный чем-то самым важным в своей жизни, что он давно забыл и только сейчас начинал вспоминать. Она пока не видела его, и он вежливо изогнулся, пропуская вперед молодого человека в серой куртке. Она медленно повернулась, узнала его, и ее губы от страха сложились в нечто похожее на презрительную улыбку, показывавшую мелкие очаровательные морщинки рано начавшей стареть тридцатилетней женщины, и ее черные смородиновые глаза, черные крашеные волосы, черные чулки и черные туфли блестели в свете синих ламп вычурным черным стальным блеском, каким блестит, осененный синим спецсигналом, лакированный «Мерседес-Гелендваген». Он шагнул к ней, по привычке любуясь ею, и механически улыбнулся и заговорил что-то, но вдруг увидел, что молодой человек в скромной серой куртке стоит неподалеку и откровенно разглядывает ее, и он вдруг вспомнил все, что должен был вспомнить, и огромная серая тень метнулась в последний раз и накрыла его целиком, и он выстрелил, и черные, стальные, синие, лаковые, ласковые блики погасли навсегда, и звук выстрела гулко растворили в себе тяжелые мраморные своды Министерства.
2012 г.
Рантье
Нина Васильевна приличная, уважаемая женщина. Нина Васильевна встает рано утром, обматывает поясницу шарфом, ставит чайник, варит себе яичко. Включает телевизор: «Доброе утро». Утром обязательно новости. В новостях всегда показывают серьезных, напряженных людей, которые стоят и жмут друг другу руки, а потом сидят вполоборота за столом и говорят что-то. Нина Васильевна любит новости, в них всегда все расскажут и объяснят, что к чему и откуда что берется. Без телевизора никуда, ложись и помирай. Живет Нина Васильевна в скромной однушечке на улице Кравченко в Москве.
Чайник вскипел, яичко сварилось, Нина Васильевна надела поверх шали синее плотное платье, ноги, помнящие каждый шаг, что ступили за эти шестьдесят пять лет, спрятала в шерстяные носки и теплые войлочные туфли. Позавтракала, накормила кошку, полила цветы, протерла пыль со стенки, мимоходом, как всегда, остановилась возле серванта, засмотрелась на фотографию Андрея: восемь лет уже как умер, а все привыкнуть не может. Ну, ладно! Утренняя церемония, основа миропорядка и гарантия стабильности – порядок должен быть прямо с утра, – совершена, пора браться за настоящие дела! У нас сегодня много дел, ох, многонько! За окном, как всегда, шумела стройка, приветствуя новый день Нины Васильевны фейерверком свариваемых труб.
Сбербанк, за свет заплатить. Живодеры. Сами жрут в три горла, а мы отдавай им последнее. Поругалась с каким-то молодым нахалом в розовой рубашке и наушниках, что пролезть хотел без очереди. Сказано: бери талончик и сиди, пока не позовут! Нет, позатыкают уши свои затычками и лезут. Наплодились. Ну, кое-как отдала последние кровные, обругали, так хоть не задавили, и на том спасибо.
Теперь – на почту, дочке позвонить по межгороду. Хоть и не стоит она того, неблагодарная, а все равно надо голос родной услышать. Любят они, ох, любят по заграницам разъезжать, будто олигархи какие. Как поженились, так, почитай, и ездят два или три раза в год. Все на Бали, на Бали. Через пару дней после свадьбы при ехала к ним, проведать хотела, помочь, может, чего, пирог привезла, все утро с больной-то спиной над ним горбатилась, а открыл ОН, в простынь кутается: вы чего же, мол, Нина Васильевна, без звонка, как снег на голову? КАК ЧЕГО?! Это что же, теперь мать дочь родную и увидеть не может? Тут и сама Лена из спальни выбежала, тоже почти голая: мама, ты прости, мы сейчас очень заняты, собираемся в медовый месяц. В месяц, значит, медовый. Молодцы какие. Собираются. НУ, А Я КАК ЖЕ?? Еле отпоили тогда валокордином Нину Васильевну. Два месяца не разговаривали. Потом помирились.
Не отвечает дочкин номер, попусту трещит телефон в пустом, чужом, молодом, похабном, до потолка, до краев залитом солнцем гостиничном номере! Ушла, наверное, с НИМ, гулять да деньги просаживать, больше у них ничего на уме нету. Ну, мы люди не гордые, попозже позвоним еще. Так. Теперь в поликлинику.
В поликлинике поднатужились и придумали особенное гнусное унижение для Нины Васильевны. Какой-то «дневной стационар», что ли, для работающих граждан, желающих посетить врача утром, до службы. Это значит, что всякая приезжая сволочь возьмет квиток и, локтем отпихнув Нину Васильевну, пролезет в заветный кабинет без очереди и засядет там на целый час. Ему, мол, на работу надо, не может он в очередях сидеть. А Нина Васильевна просто так, значит, гуляючи сюда пришла? У нее дел никаких нету? Сиди жди в душном темном коридоре, пока сердце не прихватит, глаза пыльной паутиной не застит? А все почему: потому что теперь только приезжим и жизнь в Городе, и мэр у нас приезжий, и даже президент и тот приезжий, и все-все главные начальники понаехали, черных машин понакупили и стоят в пробках, нарочно, по злобе своей холопской не пускают троллейбус Нины Васильевны, гудят, травят ее газами: мы, мол, тут теперь хозяева, а вы сами помирайте как хотите, мы вам не мешаем. Демократия. Кое-как отсидела очередь, уж обед наступил, когда Нина Васильевна вышла от терапевта с рецептом. Теперь в аптеку: успеть ли до обеда?.. Все никак не привыкнуть, что обедов теперь почти нигде нету, все работает хоть круглые сутки. Конечно, если им заняться нечем, то можно и без обеда. Купила Нина Васильевна в аптеке рядом с поликлиникой нужные лекарства, опять полпенсии отдала. Просто слов никаких нет.
Вот и замелькали, закружили от ежедневного расстройства и унижения черные мушки перед глазами, закружили и стали жиреть, разрастаясь: уже не мухи, а черные пульсирующие точки, дверные глазки, обзор того света, дырки в порченой дешевой оболочке фальшивого картонного мира. Присела на скамейку, отдышалась, всплакнула немного. А чего всплакнула-то? Ну, неблагодарная, да, вышла замуж, сбежала, бросила и лежит теперь где-то, развратная, скользкая, вся в меду, с ним, холодным, страшным, строгим. Но все равно, родная ведь душа!.. Ладно. Половина дел вроде бы сделана, теперь – к Прокофьевне в гости.
В метро нет, метро это нам ни к чему. Там только эти, в розовых рубашках и с затычками ездят, кто не успел еще машину купить. Задавят, затолкают, места не уступят, обхамят – этого и наверху, слава богу, хватает. Лучше на троллейбусе: хоть и медленно, но безопасно, опять же, разговориться всегда можно с кем-нибудь, всегда есть хорошие женщины, с которыми можно и про цены, и про приезжих, и вообще про жизнь. Щелкает электромотором троллейбус, везет Нину Васильевну в гости к последнему в Городе человеку, который ее понимает, и так же щелкает и каждую минуту рискует остаться без искристого питания сердце Нины Васильевны.
Да, не узнать Москву! Ни деревца, ни лужайки, ни воздуха, ни просвета в далекий дым лесов, один бесконечный, все расширяющийся бетонный муравейник для тех, кто приехал, впился, вцепился и не оторвешь его, хоть вырви все ногти и выбей ему все зубы: он будет работать всю жизнь, носить розовую рубашку, травить Нину Васильевну выхлопами своей машины, рассчитается наконец за этот гроб с евроремонтом на пятнадцатом этаже и умрет, оставив все детям, а те родят своих детей, жить опять станет негде, и начинай все заново. Хоть и сволочи эти приезжие, а все-таки иногда, в троллейбусе, в тихую минуту жалеет их добрая Нина Васильевна.
…Прокофьевна блинов напекла, чаю в цветастом чайнике заварила. И пошли разговоры! Кто что по телевизору видел: говорили, что в мясе одни сальмонеллы и химикаты, что покупать ничего нельзя, потому что людей нарочно травят, что в котлете нашли человеческий палец, что от мобильных телефонов идет сильное излучение, что те, которые на Чистых прудах сидели, американские агенты и что им заплатили много тысяч долларов, – а если заплатили, так можно ведь и не работать, правильно? вот и сиди сколько хочешь, бездельничай, – и что парад планет ничем хорошим не закончится: жди беды, это уж верно. Обсудили и лекарства, и цены, и плитку (ходить невозможно же), и дневной стационар, и дворников-гастарбайтеров (грязь от них, опасность и наркотики), и нового мэра: сидел бы у себя в тайге или откуда он там, что ему в Городе делать? О чем еще двоим старым людям говорить, если у них никого, кроме друг дружки, и не осталось? У Нины Васильевны хоть дочка есть, пусть и пропащая, неблагодарная, а Прокофьевна так вообще одна на всем белом свете: детей не было, муж умер. Жаловалась Прокофьевна с опаской, наклонялась к самому уху: приходили к ней, мол, какие-то люди ласковые с бумагами непонятными, предлагали обменять ее трехкомнатную квартиру – «Куда вам одной такие хоромы, это ж сколько убирать» – на поменьше, с полным пансионом и уходом в случае наступления страхового случая по состоянию здоровья, об чем распишитесь: вот здесь. Прогнала их Прокофьевна, ибо наслышана о жуликах, черных риелторах, что и перед убийством не остановятся, если надо будет. Теперь страшно. Живет Александра Прокофьевна на Ленинском проспекте.
Ох, квартиры, эти квартиры! Все бы им квартиры!.. Как раз время подошло Нине Васильевне ехать по последнему, самому важному делу, связанному как раз с квартирой. Сдавала она оставшуюся после матери (сама жила в мужниной) двушку на улице Обручева, что приносило ей немало хлопот и расстройства. Ведь это что за люди! Они же не понимают, что их об-ла-го-де-тель-ство-ва-ли! В Городе живут, в тепле, в уюте, все необходимое есть, не тревожит их Нина Васильевна, плату берет божескую, а они только и знают, что гадить да нос воротить: мол, дорого берете, Нина Васильевна, мол, вламываетесь без звонка по утрам в выходные, мол, съедем мы отсюда. «Вламываетесь» – это что же, теперь свою квартиру и проведать нельзя?! И когда же ездить туда, если не по выходным?! Нина Васильевна хоть и на пенсии, но у нее все равно дел невпроворот в будни, не то что у этих молодых, которые только в компьютер пялиться и умеют. Снимали у Нины Васильевны квартиру две подруги, молодые девушки: Настя и Лена.
Нина Васильевна вышла на родной с детства остановке – правда, поперестроили все вокруг, – доковыляла до подъезда, долго ждала лифта. Долго жала на кнопку звонка. Наконец открыла запыхавшаяся Настя:
– Нин Васильевна, вы что ж не предупредили! Я совсем не ждала вас… я бы…
Так. Не ждала. Спокойно, значит, живем. Как у себя дома.
Нина Васильевна молча прошла в комнату Насти, которая побольше. Там на столе горкой стояла только что вымытая посуда, блестело несколько запотевших бутылок. На диване сидели, спрятав руки между колен, двое худых юношей в очках. Таак.
– Настасья, – очень ласково спросила Нина Васильевна, – а Лена где?
– На работе еще, Нин Васильевна. А я вот… по раньше.
– Праздник какой у вас, что ли?
– Так ведь… диссертацию я дописала, Нин Васильевна. Отметить вот хотим.
«Врет ведь, все врет, – думала Нина Васильевна. – Хахалей-то если водить, какая там диссертация».
– Молодые люди, – самым приторным голосом, каким только можно, обратилась она к сидящим на диване, – а вы давно тут живете? У девочек?
Молодые люди вздрогнули и глубже спрятали руки между колен. На кухне, куда только что ушла Настя, упала и округло зазвенела по полу кастрюля.
– Да что ж вы за человек-то, Нина Васильевна! – примчалась Настя. – Никто у нас не живет! Гости! Гости у нас!!!
– А мы договаривались насчет гостей.
– Нет, мы не договаривались насчет гостей! – Настя ошпаренной кошкой метнулась к шкафу, вытащила договор. – Здесь что-нибудь написано насчет гостей?! Покажите!
– А это все равно. Мне женщины у подъезда сказали, что молодые люди у вас третий месяц живут.
– Это вздор! Это вздор и пошлое вранье!!! – по-книжному закричала аспирантка Настя. Молодые люди соскочили с дивана и жались друг к другу в углу возле шкафа. – В конце месяца. Нет, на следующей же неделе. Мы съезжаем отсюда, а вы, вы возвращаете нам остаток, ясно???
Нина Васильевна удовлетворенно направилась к двери, которая все это время оставалась открытой. Ну вот что за люди, а? А если попрут чего? Казенное добро у Нины Васильевны в квартире, что ли? Никуда они сами не съедут, а она их не станет выселять, знала Нина Васильевна: хоть и вздорные девицы, а лучше, чем с детьми или с животными, все чище. Но острастку дать надо, чтоб порядок помнили.
Еле добралась домой от усталости Нина Васильевна. Разогрела борщ, переоделась в домашний халат. Ой, батюшки, время, время! Включила телевизор: «Поле чудес»! Как раз успела. Только что представили игроков, и женщина, похожая на Прокофьевну, вручала Якубовичу положенные домашние закрутки. А мы-то когда на дачу поедем, ведь засохло все, поди? Или дочка с зятем так и проездят все лето по морям, а мы на зиму без ничего останемся? Загадали сложное, хоть и короткое: египетский фараон, обреченный вечно строить в одиночку свою пирамиду. Ну, это не для нас; как раз началась реклама, Нина Васильевна пошла на кухню поставить тесто на завтра, испечь пирожки. Когда вернулась, реклама уже кончилась, слово с одного раза отгадал какой-то очкарик, всю игру испортил. Что за слово, Нина Васильевна увидеть не успела. За окном издевательски громко шумела стройка: круглыми сутками строят! Все им мало, вот еще одна оранжево-белая жилая свечка. Понаедут менеджеры в розовых рубашках, заверещат сигнализации их катафалков, совсем жизни не станет. Нина Васильевна закрыла балкон, задернула шторы, неподвижно уселась на диван и, почти не моргая, стала смотреть передачу.
Утром опары на столе не оказалось. Нина Васильевна повертела в руках пустую чистую кастрюлю, поругала сама себя: вот пустая голова. Старость не радость! Шторы были раскрыты, в распахнутую балконную дверь лилось яростное июньское солнце, деловито тарахтела стройка. Нина Васильевна с удовольствием подышала еще прохладным воздухом, дверь оставила открытой: пусть. Сварила яичко, засобиралась на рынок за цветочной рассадой. На площадке встретила нового жильца, который снимал квартиру у эмигрантов: молодой, но уже начавший седеть брюнет, всегда здоровается, музыку не включает, женщин не водит. Странная личность, будто скрывает что.
Проторчала на рынке, потом сразу с порога пошла отчищать от унитаза засыпанную заранее порошком ржавчину. Уже вечерело; усталая Нина Васильевна зашла на кухню, твердо решив на этот раз не отвлекаться и все-таки поставить опару, и схватилась за дверную колоду, попятилась назад: на столе, жирно выдавившись из кастрюли, лежало тугое серое тесто. Позвонила Прокофьевне, та давай утешать: старые мы с тобой, Васильевна, память никудышная, ты выпей валокордину да и пеки свои пирожки. Поставила да забыла, чего пугаться-то? Кое-как успокоилась Нина Васильевна, напекла пирожков, открыла балконную дверь, высунула остужаться.
Неладное что-то началось с того дня. Моя посуду или возясь с цветочной рассадой, Нина Васильевна иногда вдруг слышала одной кожей что-то живое, воздушное, трепетное, чувствовала чей-то пустой внимательный взгляд на вдруг зачесавшихся плечах, терпела, тверже терла тарелки, глубже вкапывала нежные ростки, но не выдерживала и, обернувшись, видела – видела? померещилось? – остаток расплывчатой черной тени, метнувшейся в комнату. Пропадали мелкие вещи, сливалась из раковины вода, где замочена была пригоревшая сковородка, каждый день под другим углом смотрела на Нину Васильевну фотография мужа. Она зажигала свечи, брызгала на стены святой водой из припасенной бутылки, читала молитвы, смутно понимая, что это все не то. Квартира становилась как будто меньше и грязнее, хотя в чем именно заключались пугающие перемены, сказать было трудно.
Александра Прокофьевна посоветовала знакомую гадалку, которая якобы сможет прочистить ауру.
– Только вот… – замялся в телефонной трубке как будто незнакомый, слегка одеревеневший голос, – у меня тоже…
– Что? – воскликнула истомившаяся Нина Васильевна.
– Нет, ничего. Записывай номер.
Пришла гадалка, увешанная бусами, браслетами и перстнями, приседая и поминутно шикая на и без того затихшую Нину Васильевну, прошлась по комнатам. Потом поводила руками по воздуху, стукнула в туалете по вентиляционной решетке, сожгла вонючую травку.
– Домовой у вас шалит – вот оно что.
– Домовой?!
– Обидели, значит. Гости шумные были? Незнакомые? До утра сидели? Надолго уезжали? Тараканов дихлофосом травили?
– Да что вы такое… гости. Какие у меня гости!
– Ну, значит, словом недобрым или еще чем. Мириться надо.
– Как мириться? С кем? С девочками?
– С какими девочками? – Гадалка деловито порылась в сумке, достала какие-то разноцветные шнурки и пошла раскладывать их по углам. – С домовым мириться вам надо. Я вам обереги положу, а вы, на ночь или когда из дома уходите, обязательно еду оставляйте на столе.
Нина Васильевна отдала гадалке три тысячи рублей из заначки. В домового, конечно, она не верила, но все же, заперев за шарлатанкой дверь, поставила на стол тарелку со вчерашними макаронами и сосиской.
Села на диван, включила телевизор: Малахов! Чуть не пропустила. Оцепенело растворила взгляд в экране. В программе обсуждали наследство какого-то актера, состоящее в основном из трехкомнатной квартиры на Остоженке. Умирая, актер завещал все сиделке, а жене и дочери не досталось ничего – так, гроши, какая-то гнилая дачка в дальнем Подмосковье. Заплаканная дочь актера сидела между священником и депутатом Мосгордумы и говорила о своей любви к умершему отцу и о продажности московских судов. Депутат задумчиво кивал, священник сопел в бороду, ведущий криком усмирял рвущуюся с противоположного дивана крашеную бешеную тетку, выдававшую себя за психолога. Глава ассоциации риелторов успевал сказать только: «Позвольте, позвольте, я как глава…», остальные его слова сминались в гвалте, и нужно было начинать заново. Нина Васильевна, измученная тревогой, впервые не досмотрела передачу и пошла спать: звук и изображение в последние три дня почему-то все ухудшались.
Утром она зашла на кухню и вздрогнула: тарелка была пуста и измазана кетчупом, хотя никакого кетчупа в макароны Нина Васильевна не добавляла. Более того, в ванной на полу лежали грязные носки, в стакане для зубной щетки хищно блестел мужской станок для бритья. Нина Васильевна застонала, наскоро оделась и, забыв подвязать спину платком, помчалась на Обручева. Долго звонила в дверь, ей никто не открыл. В смятении она не сообразила, что сейчас утро и девочки на работе, но, даже осознав это, она все равно пришла в ярость: как они сссмеют! Ведь их облагодетельствовали!..
Поехала к Прокофьевне. Там вместо утешения она встретила ужас гораздо больший, чем в собственной квартире: вместо входной двери, роскошной старой трехметровой двери, зияла пахнущая борщом дыра. Озабоченно переступали через мусор разрушенного дверного проема эмчеэсовцы, писал что-то в папке тощий участковый.
– Сменили, смениилиии! – рыдала Александра Прокофьевна как по покойнику.
– Что сменили?.. – прошелестела Нина Васильевна. Перед глазами было мутно, и униформа спасателя, сматывающего какие-то провода, показалась ей строительной робой.
– Пришла… с рынка… – икала Прокофьевна, наступая, – замок. Ключ. Не входит. Слесарь. Открыть не смог. Говорит, нет там замка вообще. Одна скважина для виду. А внутри стена сплошнааяяя!!!
Александра Прокофьевна завыла и вдруг легко, как девочка, села на пол. Полицейский торопливо достал мобильник и стал вызывать «скорую». Нина Васильевна, чувствуя, что ошалелая голова может выдать что-то совсем ненужное, если еще хоть минуту продолжить смотреть на эту дыру в толстой стене на века построенного сталинского дома, поехала к себе.
Выходя из лифта, который останавливался на пролет ниже ее площадки, она услышала, как скрипнула, закрываясь, дверь – ее дверь. Навстречу ей спускался озабоченный молодой мужчина в розовой рубашке. Нина Васильевна кинулась было за ним, но куда там: застучало сердце, плюшевыми стали ноги. Замок поддался не сразу, потому что Нина Васильевна слишком резко дергала ключ, но вдруг с привычной плавностью спрятался в двери железный запирающий брусок, и Нина Васильевна ворвалась в квартиру. Тарелки на столе не было; вымытая, она стекала свежими каплями в шкафу; носков на полу в ванной не было тоже, зато на батарее сушились легкомысленные, с фальшивым, нарисованным якобы чулочным поясом женские колготки. Нина Васильевна вызвала «скорую».
Проспав на следующий день после уколов непривычно долго, Нина Васильевна проснулась с ясной головой, уже твердо зная, кто во всем виноват. Не прикасаясь ни к чему, не завтракая и не убирая, она неподвижно просидела весь день перед почти не работающим телевизором, глотая одну за одной шипящие передачи и рябую рекламу и дожидаясь вечера. В семь часов поехала на Обручева.
Открыла ей Лена, которая, в отличие от нервной Насти, не кричала, не потрясала бесполезным договором, а спокойно, с поджатыми губами, сосредоточенно презирала Нину Васильевну. Нина Васильевна хотела было по привычке ввалиться в квартиру, пойти, не разуваясь, по комнатам, зашарить глазами по углам и полкам, но Лена осталась стоять в дверях, не пуская.
– У вас что-то срочное? – ледяным тоном спросила она. – Если нет, то я занята, и в другой раз, пожалуйста, предупреждайте о своем визите заранее.
Нина Васильевна задохнулась, мелко затрясла поднятой над головой сумкой, зашептала, хотя ей казалось, что она кричит на весь подъезд:
– В свою, свою квартиру… не зайти! Об-ла-го-де-тель-ство-ва-ла! А они, они… гадят, подсовывают, крадут вещи… По миру пустили!
Лена слушала, разглядывая ногти с белыми краешками на розовых, как у ребенка, пальцах. Это показное равнодушие вызвало в Нине Васильевне новый приступ ярости, на этот раз давший ей сил из последних, военных, смертных запасов, и она закричала уже по-настоящему:
– Воооон!!!
Лена с сожалением отвлеклась от своих ногтей:
– Вы хотите расторгнуть наши отношения? Хорошо, в двухнедельный срок мы освободим квартиру. С вас к этому времени остаток за месяц плюс залог, итого пятьдесят одна тысяча рублей. До свидания.
И захлопнула дверь.
Нина Васильевна на том же последнем запасе сил, который никак нельзя было тратить, доехала до дома, легла и больше не вставала. Отбойный молоток бил в самое темя, строительный кран раз за разом опрокидывал кровать, бетонная пыль заполнила легкие. По квартире, стуча дверцами шкафов, скрипя передвигаемой мебелью, шурша коробками и полиэтиленом распаковываемых вещей, бодро ходили легкие черные тени. Ковров на стене уже не было, в серванте вместо стопки тяжелых салатных блюд сверкали тонкие винные бокалы, фотография мужа была перевернута лицом вниз. Слышался тревожный женский голос; ничем так сильно не может быть озабочена молодая жена, как самыми простыми бытовыми вопросами: где что будет?
Через некоторое время Нина Васильевна проснулась.
Дочь с сожалением уронила журнал, встала, потянулась и присела на кровать.
– Мама, как ты? Я так за тебя волновалась, – сказала она, сдерживая предательскую зевоту, которая собственной энергией выдавливалась из накрашенных губ, как взошедшее тесто из кастрюли.
Нина Васильевна рассмотрела светло-зеленые стены, капельницу с полупустым прозрачным пакетом, увядшие цветы на тумбочке. Лена рассказала ей, что произошло чудо: соседи вовремя заметили распахнутую дверь ее квартиры, зашли и вызвали «скорую». Еще немного – и… впрочем, нельзя, нельзя тебе, мама, волноваться.
– Отвези меня домой, дочка, – сказала Нина Васильевна. Ей было хорошо. Хотелось двигаться, работать, заботиться о ком-то.
– Завтра, мама, завтра. Сегодня еще доктор посмотрит.
На следующий день дочь отвезла Нину Васильевну домой. Когда они вышли из лифта, Лена предупредила, что ходить нужно тихо, потому что Владимир очень устал после рабочего дня, теперь спит и тревожить его нельзя. Нина Васильевна закивала: конечно, конечно.
Когда они вошли, молодая блондинка, не сразу повернувшись к ним, молча приложила палец к губам и снова приникла к ноутбуку. Нина Васильевна тихо, очень тихо, тихохонько скользнула в свою комнатку и села на продавленную кровать. Кровать плаксиво скрипнула, и Нина Васильевна испугалась. Таня опять ругаться будет. Владимир отдыхает. Владимир работает менеджером, носит розовые рубашки и сильно устает, скоро он купит черную машину, ему нельзя мешать. Все же облагодетельствовали они старуху на старости лет, взяли на пропитание, куском лишним не попрекнут! Помру – вся площадь их будет. Что-то последнее, пустяковое царапало мозг, не давая погрузиться в полный покой автоматической заботы о благодетелях. Дочь? А, что дочь, какая дочь? Дочери нет, она уехала на далекие острова, ее вообще никогда не было. А Таня с Володей раскошелились, сиделку в больницу ей наняли… а так бы как, без сиделки-то?
Блестел вымытый пол, Нина Васильевна варила борщ и пекла пироги, с удовольствием осознавая не преложную истину, гарантию стабильности, основу миропорядка: если тесто поставить, пироги будут. А не ставила – так и не будет ни теста, ни пирогов. Что неясного-то?
Однажды, смотря повтор передачи с Малаховым про сказочно богатого умершего актера и понимая, что мнимая «дочь» – это та самая сиделка и есть, которая всех обманула и хочет кроме квартиры еще и дачу, изумрудный дворец о трех этажах, замок с видом на озеро, хоромы с золотым петушком на коньке, Нина Васильевна вспомнила номер троллейбуса и зачем-то, когда Тани с Владимиром не было дома, поехала в едва знакомое место, где играла когда-то девочкой, строила в песочнице домики, селила туда пузатых круглоглазых кукол – а, все не то, ничего не было, все забылось, перестроили район, приснилась жизнь, – долго жала на кнопку звонка, и ей открыла незнакомая беременная женщина. Из квартиры густо пахнуло детскими пеленками и сосисками с кетчупом; шизофренически бормотал телевизор, примирительно заканчивал шипеть только что опорожненный бачок унитаза.
– Прежние жильцы где? – спросила Нина Васильевна, словно включила и тут же выключила магнитофонную запись.
– Снимаем у них. Они на Бали сами живут. А вы кто?
«На Бали. Молодцы какие!» – обрадовалась Нина Васильевна, молча повернулась и медленно пошла вниз, не отпуская перил. Отсюда и до Ленинского можно, знаем, все-таки всю жизнь в Городе прожили, не то что иные, которые приезжие, не будем показывать пальцем.
Дверь квартиры Александры Прокофьевны открыла другая беременная женщина, но по ее нарядному платью, аккуратному – средь бела дня-то! – макияжу, по тонкому запаху чистого жилья, по благородному молчанию выключенного (на самом деле отсутствовавшего) телевизора, по другим неуловимым, но бесспорным признакам можно было понять, что здесь живут сытые, спокойные, легкие люди. Господа.
– На Бали? – Нина Васильевна через плечо хозяйки попыталась заглянуть в квартиру, где она столько раз была в гостях.
– Какие еще бали? – угрожающе-лениво растянув фразу, неожиданно грубым голосом сказала женщина. – Бабушка, нам подать нечего, вы к соседям позвоните.
И захлопнула дверь.
Нина Васильевна спешила домой: скоро Таня с Владимиром придут, а ужин-то не готов. Как быстро строят-то!.. У нас много дел, ох, многонько! Нина Васильевна строгала салат, разогревала борщ, собирала и закидывала в новенькую стиральную машину, держась за перевязанную поясницу, носки и рубашки Владимира. В ванной, заранее, в нетерпении, отремонтированной молодыми – Нина Васильевна понимает, что все смертны, все, понимает и не обижается, – висело веселое, с бантиками и котятами, Танино белье. Вот его не трогать – ругаться будет.
Нина Васильевна вышла на балкон и залюбовалась розоватым августовским закатом, зажигавшим оранжево-белые свечки новых домов, которые просвечивали нежнейшим торжественным светом, обещанием крыши над головой, навеки своего дома, права собственности на счастье. Внизу уже ездили первые крошечные черные автомобили. Все ближе гудели краны и перфораторы. Быстро сужалось кольцо из все подступавших жилых небоскребов с пирамидальными крышами, и до самого горизонта расстилался великий, нескончаемый, на глазах вырастающий из ничего вечный Город.
2012 г.
Итальянская спальня (повесть)
Я так и не смог купить квартиру, поэтому купил себе спальню. Я столько раз представлял «свой угол», что он для меня навсегда стал буквальным притоном, конкретным понятием. Усилием мечты я загнал себя туда: за картонной перегородкой, за шторкой, у печки, под лавкой, на сундуке, рядом с мышеловками; посмотрим варианты подешевле: можно в чулане (нашел на «Циане»), на ларе с мукой, на бочке с капустой, а можно вообще на улице, под крылечком, у будки с собакой – зато воздух у нас хороший, – и еще дальше, за самый МКАД, мрак, ад, за край возможной человеческой бесприютности: замерзающий бомж в картонных латах из-под холодильника, совсем задубелый морг – отопление у нас барахлит, так потому и сдаем задаром – и в самый конец, в могилу, хлюпающую осенней кирпичной глиной, в которую все вернемся, потому что оттуда и вышли. Много ли человеку земли нужно. Метр на два, зато свое.
Но я не умирал, я жил, работал и зарабатывал и к тридцати годам решился на оригинальный аналог греха, к которому прибегают другие усталые, потерявшиеся, в темноте на ощупь не узнающие собственное лицо мужчины, идущие к ненастоящим, латексным, нарисованным в глянцевых каталогах женщинам (вот, кстати, обронить по дороге: латексные латы все же точнее, прочнее, чем картонные. Картонные – крылья). Они уже не могут жениться, потому что окончательно вросли в свой прокуренный, пропитый и проигранный уют квартир, доставшихся им в результате чудесных гальванических упражнений умирающей бабушки и прекратившегося государства. Я же решил зажмуриться еще лет на пять, не подписывать пораженческих договоров о пожизненных контрибуциях и купить себе пока что спальню. Не комнату. Просто спальню.
Это была самая прекрасная на свете Итальянская Спальня. Большой мебельный магазин был похож на трудолюбиво, беззаботно и бесконтрольно отреставрированный отечественными гастарбайтерами Дворец дожей в Венеции. Завитые в окаменевшее пирожное столбики и ножки кроватей, позолота, как на воротах в храме Христа Спасителя («…на воротах сегодня – позолота». Да, телевизор большой еще взять), львиноподобные и гривообразные изголовья, на которых, не стыдясь, вполне можно умирать настоящему дожу, белые настольные лампы, светящиеся изнутри оттенком, который может дать только мутно-розовый профиль взволнованной девственницы на самом торжественном августовском закате – именно у такой лампы ей пристало сидеть в пеньюаре, составляя самые нежные письма о верности на самом белом, изящном, тонком «Макбуке». Короче, я решил, что беру.
Озвученная цена, однако, сразу же заставила меня подумать о том, что за эти деньги к спальному гарнитуру должно прилагаться что-то действительно бесценное, то есть не имеющее цены, например живой человек. (Когда я, провинциал из нищего детства, думал о ценах на настоящую отдельную квартиру, то любил представлять, что за такую плату прилагается нечто вроде бессмертия или невидимости. Недвижимости, ударение пусть каждый ставит, как захочет.) Но деньги все-таки были, и я купил спальню. Дело было поздней весной.
***
Как раз выкрасили подъезд, и курьеры, заносившие кровать, с угла которой сползла защитная пленка, немного запачкали ее первозданный мутно-розовый эпителий серой жэковской краской. Потом никак не получалось открыть ту вторую створку в грузовом лифте, что предназначена как раз для перевозки крупногабаритной мебели. Она ведь всегда с таким трудом открывается, и никто не знает, зачем створка вообще нужна. Поцарапали пирожный столбик, что-то хрустнуло, как протез на параде, однако больше неприятностей не случилось, и вскоре спальня начала размещаться в единственной комнате моей съемной (парадокс, достойный лжеца) квартиры, которая раньше бывала гостиной и кабинетом, столовой и кухней, и всегда, постоянно, спальней, периодически становившейся гостиничным номером. Но теперь ей предстояло быть только спальней, все остальные потребности и отправления, пожалуйста, где-нибудь в подъезде, у мусоропровода. Комнату я вымерил и заранее освободил, мебельный комплект подбирал долго, поэтому через несколько часов все стало на свои места, рабочие ушли, и я остался в своей спальне. Мечта сбылась, делать было нечего, я упал на свою немыслимую, неприличную, разве что не с балдахином, кровать и заснул.
Проснулся я поздно ночью и, сразу же, повернувшись, вскрикнул от испуга. На кровати рядом со мной, опершись на локоть и согнув одну ногу, как в самой элитарной, отталкивающей рекламе, лежала темноволосая девушка в черном белье, с резкими скулами, дистрофическими ключицами и боксерским, неженственным животом. Каждая деталь ее капучинного тела сама по себе была стертой и скучной, как старая лыжа, извлеченная из тамбура подъезда, однако общий образ по закону глянцевой рекламной фотографии складывался вполне себе милый и хрупкий до хрусткости. Ноги ее, правда, были восхитительными, но женские ноги всегда самая важная и завораживающая часть анатомии, независимо от остальных подробностей организма. Лежала она неподвижно, исподлобья глядя куда-то поверх меня.
– Ты кто? – спросил я, окончательно проснувшись и вскочив с кровати.
– Натали, – угрюмым голосом криминального подростка ответила девушка.
– Имбрулья? – произнес я автоматически.
– Какая еще в пизду имбрулья. Спать давай.
И отвернулась к стене, позу приняв, однако, еще более изящную.
Она действительно тут же заснула, и, решившись осторожно коснуться ее плеча, я убедился, что она живая и теплая. Я был настолько напуган, что решил дождаться утра и тогда все выяснить. Заснул не скоро, на полу в кухне, на старом матрасе. Первую свою ночь моя итальянская спальня провела без меня.
***
Когда я проснулся, девушка была неподвижна в своей развратной рекламной позе. Глаза ее казались сделанными из фальшивого изумруда. Я снова тронул ее за плечо – она, в своей гробовой гламурности, однако, была по-женски теплой и мягкой. Отводя руку от ее плеча, я случайно коснулся ее соска, шелково светлевшего под короткой черной ночной рубашкой (терпеть не могу слово «пеньюар», слишком идиотскими оказываются его составные части, когда слово неизбежно разрубается пополам моим неутомимо работающим языковым чувством). Видите, я держу себя в руках: в ключевой для повествования момент я умудряюсь вставить каламбурную рефлексию. Когда я задел сосок, девушка вдруг ожила, легла на спину, приподняла коротенькую полу рубашки, взяла меня за руку и притянула к себе. До этого я слишком долго держал себя в руках – «монашеский каламбур» от автора этого приема замедления, которым я сейчас воспользовался. И я воспользовался: с ослабевшими коленями и напрягшимися чреслами я лег на Натали. При всей невозможности ситуации я, тем не менее, задал самый практичный вопрос:
– А тебе можно… без?..
– Можно, можно, я предохраняюсь, – прошептала Натали, дыша молочным, карамельным, сливочным теплом, которое источают настоящие женщины при поцелуях.
Изнутри она оказалась чуть зернистой, мутно-розовой на ощупь, что тоже свойственно некоторым живым женщинам. Наконец, самым потрясающим было то, что по ее лицу мягко проносились тени тех, с кем я был раньше, – как в операционке «андроид» мелькают иконки приложений, показывая все возможности устройства. Я гладил ее губы большим пальцем справа налево. В копии той, которой никогда не существовало, были заключены другие копии тех, кто жив теперь вечно в памяти моего тела, и к обычным ощущениям примешивалась слезливая пьяная грусть расставаний. Натали оказалась идеальной подругой: как только у меня перед самым концом подступило известное восторженное мужское желание смять, раздавить, задушить это слабое мокрое тело, она тоже затряслась вполне натурально. Потрясение от происходящего обессилило меня, и мы тут же заснули, на этот раз вместе, в моей итальянской спальне.
Она была самым странным существом, которое я когда-либо видел. Понятие «существо» очень ей шло: она не была, конечно, живым человеком, но и не являлась куклой. Я так и не смог выяснить, кто она на самом деле и откуда она взялась. Вскоре привычка совместной жизни заставила меня забыть об этом вопросе. Как интересно я описываю: как будто в нашем случае есть что-то необычное, отличающееся от других историй знакомств…
Целыми днями она лежала в постели, своими фальшивыми изумрудными глазами завороженно глядя в никуда. Позы ее менялись как набор случайных заставок на рабочем столе в Windows 7 – каждый раз именно тогда, когда я отворачивался. Оживить ее можно было только одним способом: в первый наш раз она сообщила мне, что разбудить ее можно прикосновением к соскам или к лобку. После этого она привлекала меня к себе, и когда все кончалось, впадала в свой глянцевый ступор через пару минут. Поначалу меня, давно голодавшего, все устраивало, мне чудом досталась идеальная мужская игрушка, и я по несколько раз за ночь штурмовал ее кофейную крепость, увенчанную нежным сердечком из пены. Известный женолюб Сильвио Берлускони, наверное, также никогда не мог устоять, дыша теплым, летним, пляжным запахом девичьих плеч.
Через неделю мне удалось задержать Натали в сознании на пять минут дольше, чем обычно. Я спросил, не хочет ли она заняться чем-то другим, например прогуляться завтра вечером.
– Я не знаю, что значит «прогуляться», – медленно ответила она. Глаза Натали уже стекленели.
– Как? Вообще не знаешь?! – глупо спросил я, хотя уже понимал, что ее механическое сознание ограничено пределами спальни. Я начал объяснять, как ребенку: – Гулять – это когда выходишь из дома и просто идешь по улице, разговариваешь и дышишь свежим воздухом. Можно зайти посидеть в кафе, выпить капучино.
– Капучино? Да, что-то такое я помню.
Глаза Натали впервые за время нашего невероятного знакомства приобрели живое, напряженное и непонимающее выражение. Скоро она застыла, а я еще долго гладил справа налево большим пальцем ее похолодевшие, выпитые до зерновой горечи губы.
На следующий день, вернувшись с работы, я обнаружил, что квартира пуста. В панике выбежал на улицу, громко звал Натали, забегал в каждую арку двора, набрасывался на прохожих – не видел ли кто девушку в… новая волна ужаса накрыла меня, когда я понял, что у нее нет никакой одежды, кроме ночной рубашки. Еще я вспомнил, что на столике в прихожей лежал второй комплект ключей, оставшийся от гостившего друга. Как она вышла, зачем, куда?.. Пробегав по окрестностям до полуночи, я брел к дому, и глаза у меня были, наверное, такие же стеклянные, как у моей механической Натали, которая исчезла так же внезапно, как и появилась.
Когда я дошел до дома, Натали стояла у подъезда. Кофейно-сливочные ноги ее были располосованы и окровавлены – сразу стало понятно, что на нее напали собаки. Она тряслась и плакала. Я обернул ее своей курткой, взял на руки и занес в подъезд.
Дома я со слезами радости и жалости обрабатывал ее раны перекисью водорода, целовал ее ноги, укутывал в одеяло на нашей итальянской кровати. За эту несчастную прогулку Натали заметно переменилась. Вполне осмысленно и живо она рассказывала:
– Ты вчера рассказал мне о прогулке… Я захотела этот темный горький напиток… Прогуляться, в кафе. Я начала вспоминать, как сидела однажды в таком месте, в другом городе, там вокруг было много темноволосых людей, они громко и быстро говорили и размахивали руками. Я тогда понимала, а сейчас все забыла. Здесь все такое серое. Серые дома, серые стены, серые лица. Серое небо, очень серое небо. И я решила вспомнить. Вышла, и на меня бросились собаки. Было очень больно. А теперь мне не больно. С тобой хорошо, не страшно.
– Но ты же была в одном белье? – зажмуривался я от страшной догадки. – Тебе было холодно? И… другие мужчины… не успели с тобой ничего сделать? Ну, плохого? Против твоей воли?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда готова, ты же знаешь.
Я почему-то подумал, что бешенство от укусов собак ей не грозит.
***
С этого дня Натали, как выздоравливающий больной, начала понемногу вставать. Долго смотрела в окно, потихоньку бродила по комнате, а однажды даже приготовила нехитрый ужин: отваренные, небрежно откинутые макароны, в которых плавало слегка поджаренное яйцо. Все чаще, возвращаясь вечером домой, уже из тамбура я слышал авиационный вой стиральной машины.
Я много разговаривал с ней, рассказывал о жизни в городе, о своей работе – переплавлять одни знаки в другие, текстовые в денежные, – купил ей белый тонкий «Макбук» и научил пользоваться Интернетом. Она скоро завела страницу на Фейсбуке и немедленно попросила сфотографировать ее для аватарки в любимой развратно-рекламной позе в постели. Я сфотографировал, но обрезал снимок по плечи. После долгого спора она все же согласилась на это – кажется, мне удалось объяснить ей, что такое ревность.
В ближайшую субботу мы пошли в большой торговый центр возле издательства, где я работал. Это была первая наша совместная прогулка, и Натали восхищенно разглядывала умытую недавней грозой Москву. На пересечении Земляного вала и 1-го Сыромятнического переулка возле Курского вокзала черный блестящий BMW X5 упругими мягкими фрикциями плавно толкался в бордюр тротуара, пытаясь припарковаться, но явно боялся задеть стоящую совсем рядом маленькую застенчиво-вишневую Lamborghini Reventon, газовал слишком слабо и никак не мог водрузить передние колеса на зернистую мутно-розовую плитку. Наконец растерянно дал задний ход и уехал.
Лифт открытой конструкции в торговом центре медленно полз вверх, как поршень огромного стеклянного шприца, набирающего жидкость из декоративного бассейна внизу. Мы с Натали поднялись на нем и целый день обходили мутно-розовые прозрачные магазины, где в примерочных с нарядным, искусственным светом, приукрашивающим все живое, Натали ловко сбрасывала с плеч одни тоненькие бретельки, чтобы накинуть другие, подороже. Самое главное удовольствие я испытывал в обувных магазинах, решительно отвергая услуги печальных продавщиц в дешевых, скучных балетках, становясь перед Натали на колено и помогая ей примерять немыслимые по красоте и ценам туфли: яркие, лакированные, кожаные, замшевые, с узорами и бантиками пыточные устройства для самых нежных частей женского тела. Внешне я был галантным сверх меры рыцарем, внутри же у меня все возбужденно и пьяно звенело, как от удара мечом по шлему, когда ее теплая беззащитная ножка оказывалась в моей руке.
Натали оказалась прирожденной охотницей за туфлями и платьями. После тридцатой примерки и третьей покупки она приподняла ногу на каблуке и преисполненным жертвенной женственности движением уронила стопу налево, словно упав с мужчины, как неопытная наездница после оргазма. Дело было кончено.
Мы потратили всю мою зарплату и под конец зашли в кафе с итальянским названием на третьем этаже торгового центра. Совсем живая, усталая, радостная, Натали бросила гору пакетов на диван и сказала подошедшей официантке как ни в чем не бывало, словно она каждый день это произносила:
– Пасту и капучино, пожалуйста.
***
(В скобках осталось, как официантка Анна из кафе Lafe на третьем этаже торгового центра Atrium в Москве поменяла пепельницу сначала на пятом столике, потом на втором. Поменяла ложку, показавшуюся посетителю не совсем чистой. Поменяла по просьбе мужчины с женщиной за шестым столиком палочки для суши на вилку. Поменяла также и чашку кофе для этой капризной дамы, у которой по дороге разрушилось пенное сердечко. Поменяла выпавшую из салфетницы и упавшую на пол рядом с седьмым столиком стопку салфеток.
Пошла в туалет, поменяла прокладку. Вернулась и снова поменяла пепельницы на пятом и втором. Поменяла решение сходить на выходных с Виктором в кино на желание съездить с Олегом в загородный дом отдыха. Поменяла мысли об экзотической сексуальной практике, предлагаемой Сергеем, на менее консервативные. Поменяла расплывчатые мечты о пышной свадьбе с фотографиями, лимузином и тортом на четкие планы конспиративного посещения загса с последующим отдыхом вдвоем на острове с мелким белым песком.
Снова зашла в туалет, поменяла порвавшиеся колготки. Вернувшись, опять поменяла пепельницы на тех двух столах – тот, что сидел с книгой за пятым, курил одну за одной. Смотря на него, мгновенно поменяла всегдашнее свое мнение о том, что внешность мужчины не важна. Спрятавшись за стойкой, начала менять положение успевшей съехать продольной полоски сзади на колготках, стилизованных под ретрочулки а-ля двадцатые, но смутилась внимательного взгляда коллеги Андрея и убежала заканчивать дело в туалет. Поменяла утренний план покупки новых балеток, потому что уже стремительно холодало. Поменяла положение пряди на левой щеке, вложив ее за нежное мутно-розовое ухо.
В 23.00 рабочий день Анны закончился, она собралась и вышла на улицу. Идя к метро «Чкаловская», она смотрела на синие буквы огромной вывески «КУРСКИЙ ВОКЗАЛ» и думала об этимологии слова «курский». Поменяла плечо, на котором несла сумочку. Мир оставался неизменным.)
***
Наша жизнь становилась все больше похожей на обычную, что ведут пары, нашедшие друг друга менее экзотическим способом, чем мы. Об этом способе мы с Натали и договорились для внешнего мира: столкнулись в метро, я помог ей собрать рассыпавшиеся страницы ка кой-то рукописи. Банально, зато по-писательски. В следующее воскресенье я познакомил друзей с Натали. Выбрались на пикник, где она, широко раскрывая натруженные шашлыком челюсти, со смехом рассказывала о нашем таком остроумном знакомстве. Я ликовал, колени Натали бликовали на солнце нежнее и ярче самой чистой июльской листвы, и мелкие шрамы, оставшиеся от укусов собак, не портили ее осмелевшей в присутствии других мужчин красоты. Мои друзья любовались ею, и она кокетничала как последняя женщина на Земле – сюжет-перевертыш, способный вскружить голову любому мужчине. Я был уверен, что уйди я сейчас – она переспала бы в кустах со всеми сразу, и даже мужская дружба не смогла бы этому помешать. Женскую силу Натали я хорошо знал.
Вернувшись домой, мы сразу же легли в постель, но то ли я был зол на Натали за ее кокетство, то ли просто переел шашлыка, но поджарое, с дымком, тело моей подруги впервые не вызвало во мне никакого отклика и желания. С удивлением я заметил, что на шее Натали появились первые тонкие морщины тридцатилетней женщины, а кожа на сгибах локтей собиралась в складки. Мой бессмертный джинн, завернутый в атлас простыней итальянской спальни, начал стареть. Увидел я и кое-какие изменения в нашей безупречной кровати: пирожные столбики чуть посерели и ссохлись, покрывшись трещинками-морщинками толщиной с паутинную нить.
– А давай с тобой съездим в Италию? – вдруг произнес я, поняв, что привычка к жизни с Натали переходит в чувство к ней.
– Где это? – спросила она обиженно, совсем как настоящая женщина, которой отказали в том, в чем она считала способной отказывать только себя саму.
– Это замечательная страна на юге Европы, у Средиземного моря. Там всегда тепло. Люди там говорят быстро и громко, бурно жестикулируют при этом. Ты же, кажется, там была…
– Я очень плохо помню. Может, была, а может, и нет. А что для этого нужно?
– Загранпаспорт, визы…
Тут я понял, что у Натали нет никаких документов. Может быть, провезти ее в чемодане, как куклу?..
– Натали, тебе нужно обзаводиться… – начал я и понял, что у той, кто прилагается к спальному гарнитуру, никакого человеческого документа быть не может. Интересно, она работает… то есть живет… существует… под «Андроидом»?.. «Под «Андроидом» звучит как описание наркотической зависимости, и у нас именно так и было – она была подо мной, я бывал под нею. Нежная, горькая жалость к этому крепостному, постельному, бесправному существу вновь охватила меня. Я крепко обнял Натали, и мы стали засыпать.
Так мы жили, редко выходя из квартиры. Квартира тем временем словно оказалась моей фактически: хозяин, живший в Лондоне, был моим ровесником и возвращаться в страну не собирался. Наши договорные отношения напоминали американскую аренду сроком на девяносто лет. Много ли пространства нужно человеку и сколько времени ему отпущено Господом Богом и квартирным хозяином?
Натали совсем очеловечилась, приобретя привычки уже не молодой жены, почувствовавшей первую усталость от брака. Когда при мне она, карамельное мое солнце, тонкой рукой перебирала мелкое свое, слабенькое, жалкое женское хозяйство: косметику Mary Kay, пакетики с колготками, какие-то бусинки, веревочки и разноцветные оберточные бумажки, мне было слезливо жалко ее. Женщина напоминает зверька, который тащит в свою норку разную нужную и ненужную дрянь, чтобы построить гнездо, где можно скрыться от ревущих и свистящих ветров внешнего мира. А потом приходит мужчина и все это разрушает. Ложь, что гнездо строят двое. Наше уже начало портиться, едва было создано. Победоносные штурмы кофейной крепости случались у нас все реже. Обычные признаки женского увядания сопутствовали Натали без тех причин, что вызывают обычно охлаждение первой свежей любви. Например, зернистую суть своей спутницы я ощущал все слабее, словно она родила и не смогла восстановиться после родов. Из мутно-розовой она превращалась в темно-коричневую. Эти призрачные роды отразились и на ее поведении. Натали уже не относилась ко мне с беззаветным вниманием. Словно между нами появился кто-то третий, беспомощный и невидимый, чье благополучие она готова была оберегать любыми средствами, даже в ущерб мне. Женщина превратилась в мать, но ребенка у нее отняли, и она повредилась умом. Все чаще в Натали проявлялись те грубые отталкивающие черты подростка из неблагополучной семьи – а наша как раз в таковую и превращалась, – с которыми я застал ее впервые в итальянской спальне и которые казались поначалу случайным глюком в первый раз запущенного андроида. Бесплатный андроид только в нашем магазине итальянской мебели… «Андроид» заглючил. Кем же она все-таки была? Google, через который я нашел сайт магазина итальянской мебели, скоро анонсирует свои мутно-розовые гуглоочки. Затем появится беспилотник «гугломобиль». Затем появится гуглодом, где можно будет разговаривать со стенными панелями, кухня будет готовить вам завтрак, исходя из ваших предыдущих предпочтений, и будут ездить непрерывно убирающиеся роботы – пьяный еще спотыкайся об них. Ну а потом – вершина человеческой инженерной мысли – гугложена. У меня она уже есть в тестовом экземпляре. А может, она была обычной гопницей-терминаторшей из третьего фильма, способной взять за яйца любого мужчину?..
Натали много и без причины ругалась, вспыхивала и обвиняла меня в каких-то абсурдных проступках. Живые и мертвые души боролись в моей итальянской подруге, и худшие женские черты проявлялись с жестокой, нерассуждающей механической прямолинейностью. В магазинах и кафе она всегда устраивала скандалы, придираясь к персоналу с требованием особенного к себе отношения. Постоянно выпрашивала новые тряпки. Отпускала презрительные комментарии в адрес моей платежеспособности.
Я же, подобравшись к возрастной границе, за которой человек уже перестает удовлетворяться самим собой (снова монашеский каламбур) и начинает ощущать космическую тоску, прекращаемую лишь настоящей семьей, детьми, страдал от одиночества, начал пить по вечерам все чаще – и это, естественно, было еще одним поводом для скандалов. Я запирался на балконе, жарился на закатном апокалиптическом августовском солнце, и с меня лился вонючий густой алкогольный пот.
***
В сентябре Натали неожиданно потребовала, чтобы мы поехали на отдых к морю. Я еще раз объяснил ей, что сделать для нее документы невозможно, и предложил поехать на машине куда-нибудь на юг страны. Она согласилась. По дороге она хмуро, как криминальный подросток Лолита, разглядывала окрестности, словно пытаясь вспомнить забытый когда-то родной пейзаж, и постоянно просила купить ей какую-нибудь дрянь. Мы приехали в один из южных русских городов, где в курортный сезон пляжи усеяны телами плотнее, чем галькой, и остановились в самой дорогой гостинице, чтобы хоть как-то компенсировать убогость окружающего пространства. Италия оказалась занюханным захолустным местечком у железнодорожной станции, где на пятачке перед единственным магазином стоит памятник Ленину, а возле магазина местная молодежь пьет, сидя на корточках, пиво из пластиковых бутылок – городок, безошибочно и безотказно вызывающий моментальную ментальную тошноту, городок, который помнят все, даже те, кто там никогда не бывал, как смутно помнила моя Натали Италию, в которой нам никогда не суждено было побывать. Серые здания, серые лица, серое, очень серое небо.
На пляже мужчины откровенно пялились на ее кофейное стройное тело. Уже во второй вечер я потерял ее в банном угаре ресторана, и она вернулась в номер только под утро, щурясь, как щурятся все пьяные женщины на свет, с темными земляными и травяными пятнами на спине и коленях. Пошатываясь, она подошла и наклонилась надо мной. Я поспешно отстранился, догадываясь, что во рту у Натали могут быть остатки субстанции, попадание которой в рот мужчине возможно только в том случае, если она его собственная.
– Натали, послушай меня внимательно. Напряги свой «Андроид».
Она пьяно хихикнула. Я с ужасом понял, что Натали очеловечилась настолько, что на нее уже действует алкоголь.
– Натали, сосредоточься. Я терпел твой дурной характер, твои скандалы. Но это я терпеть не собираюсь. Мы вернемся домой, и ты будешь искать себе другое жилье, раз ты у нас теперь совсем такая настоящая.
– А я в милицию заявлю, – уверенно и нагло сказала эта сучка, бросая в меня пахучими, паучьими, в паутинных узорах, трусиками. – Что ты меня похитил и держишь в сексуальном рабстве.
«Боже мой, во что я влип…» – подумал я холодно. Натали завалилась рядом на постель и сразу же захрапела, что никак не вязалось с ее внешне женственным образом, и это ведь тоже характерная женская человеческая черта. Я понял, что надо что-то делать.
Не знаю, когда я задумал убийство – в ту ночь или когда мы вернулись в Москву после того, как все две недели она изводила меня изменами, все две недели приходившая в номер под утро, истекая спермой изо всех возможных входов своего блядского интерфейса. В первый вечер в Москве я напоил Натали, подсыпав в водку купленный у знакомого фармацевта яд. Когда она уронила голову на стол, вся бледная, с исчезающим пульсом, я отнес ее в ванную, чтобы утром вывезти тело за город и закопать. Утром я испытал ужас еще больший, чем когда увидел Натали в первый раз: она лежала рядом со мной, опершись на локоть и согнув одну ногу, как в самой элитарной, отталкивающей рекламе. Я тронул ее за плечо – она, в своей гробовой гламурности, однако, была по-женски теплой и мягкой. Отводя руку от ее плеча, я случайно коснулся ее соска, шелково светлевшего под короткой черной ночной рубашкой. Она ожила, повернулась ко мне и поцеловала.
– Я хочу, – тихо и хрипло сказала она, как говорила когда-то, когда мы были счастливы с ней, как сейчас оказалось, по-настоящему.
– Натали, Натали, я же… ты… ведь…
От страха и накопившегося желания я ничего не соображал и молча накинулся на нее. У нас было несколько часов потрясающего единения, как раньше, с одним только отличием: теперь по ее лицу больше не метались тени тех, с кем я был раньше. Натали стала моей единственной.
***
Я разбивал ей голову молотком. Я наносил ей много-много ударов ножом, и из нее лилась вполне настоящая теплая кровь с ржавым железным запахом – тогда мне пришла безумная мысль, что все мы стальные неубиваемые андроиды. Каждый раз после этих коротких схваток, напоминающих соитие, утром она оказывалась рядом со мной на кровати. Как бы ни старался я не засыпать, все равно каждый раз меня вырубало – и это было похоже на еженощную смерть и последующее ужасное воскресение в аду для плохих мужей. Однажды я заранее вызвал бригаду грузчиков, вечером утопил Натали в ванне. Бригада разобрала и вынесла проклятую итальянскую спальню. Утром все повторилось. Наконец, я заранее снял другую квартиру и вечером тихо ушел туда без вещей. На следующий день Натали лежала рядом со мной на той же кровати. Обстановка была привычная. Я понял, что даже если я уеду в другую страну, моя вечная, бессмертная, итальянская Натали не покинет меня.
Да и я уже сам понимал, что больше не смогу без нее. Мы слились окончательно. Я понял, что это и есть великий вселенский проект: и да прилепится жена к мужу, в горе и в радости, одна плоть, по образу и подобию своему, из ребра, из осенней хлюпающей кирпичной глины – из глины же или из чего там? Слишком много людей были бы одинокими, если всю жизнь капризно выбирали бы кого-то подходящего им окончательно, и Великая OS дала мне ту, с кем я гарантированно проживу всю жизнь.
Мы жили эту жизнь. Натали быстро старела. Секса у нас не было, по вечерам мы тихо пили водку и закусывали жареной картошкой с грибами (в Италии, наверное, запивают красным вином макароны, в которых плавает слегка поджаренное яйцо). Натали писала что-то в Фейсбуке на самом тонком, изящном, белом «Макбуке». Из прихожей доносился авиационный вой стиральной машины, прокручивающей атласные простыни нашей итальянской спальни. Сейчас Натали напьется и начнет бить посуду, а я привычно сбегу по лестнице вниз, наружу, за самый МКАД, мрак, ад, за край возможной человеческой бесприютности: замерзающий бомж в картонных латах из-под холодильника, совсем задубелый морг – отопление у нас барахлит, так потому и сдаем задаром – и в самый конец, в могилу, хлюпающую осенней кирпичной глиной, в которую все вернемся, потому что оттуда и вышли. Много ли человеку земли нужно. Метр на два, зато свое.
…Натали стала совсем старенькая и все больше болеет. Иногда мне приходится делать ей укол из большого стеклянного шприца, набирающего жидкость словно из бассейна в самом низу моей души, где еще осталось немного целительных жизненных сил. Я все чаще даю ей валокордин и снотворное и сижу рядом с ней, гладя ее сухую, морщинистую, цвета вялого разбавленного остывшего кофе руку, пока она не заснет в нашей Итальянской Спальне. Ей ведь совсем нельзя пить. Ее капучинное пенное сердечко разрушилось. Надо идти спать на кухню, на старом матрасе. Натали нельзя тревожить, иначе у нее опять зайдется ее электронное, тугое, мутно-розовое, мясное, человеческое и безжалостное сердце. Похороните меня в Италии, желательно заживо. Я сжег второй том, и души наши мертвы.
***
Умирая, Натали завещала мне спальню. Это было поздней весной. К тому времени спальни здорово подорожали. Говорят, что скоро их можно будет сдавать в аренду. Теперь я сохраняю полную неподвижность. Недвижимость.
2013 г.
Башня (повесть)
Он
7 июня 2013 года, в пятницу, около девяти часов утра штатный корректор литературного журнала «Монпарнас» Алексей Бенедиктов вышел из северного вестибюля станции метро «ВДНХ». Нежный дизельный вздох автобуса был тут же прихлопнут отбойным молотком и рассеян в гуле автомобильной эстакады. Бенедиктов прошел на знакомую остановку, сел в маршрутку и направился по Ярославскому шоссе в сторону области. Маршрутка быстро неслась по пустой правой стороне дороги, зато слева, куда Алексей старался не смотреть, намертво приклеились к асфальту бесконечные ряды блестящих, еще не успевших запылиться машин. Бенедиктов думал о том, что совсем скоро ему придется возвращаться к метро, проделывать тот же немыслимый фокус, что репетирует дважды в день каждый московский автовладелец: вовсе не двигаясь с места, все-таки преодолевать пространство, и это, в отличие от мелкого жульничества вроде гигантских прыжков на Луне, настоящее волшебство, хоть и мучительное для его исполнителя.
Было слева еще нечто отталкивающее: пиксельная мозаика нового постамента «Рабочего и колхозницы», выглядящая так, словно у реставраторов не хватило технических сил проявить основание скульптуры до простого стильного склепа наподобие Мавзолея. Еще слева, уже оставаясь позади, на бледном фоне Останкинской башни едва чернела колючая от окружавших ее лесов решетчато-сетчатая конструкция, вокруг которой шла строительная суета. Бенедиктов заинтересовался было, что это такое, – он был здесь вчера и, кажется, видел что-то похожее, но пока он здесь жил, этой конструкции точно не было. Но по мере приближения к нужному адресу его все больше захватывали другие, интимные мысли, и он, отвернувшись вправо, рассеянно спотыкался взглядом о дома, деревья и остановки.
В этой съемной квартире на улице Проходчиков они с Анной прожили ровно год. Все это время их совместную жизнь отравляла мрачная атмосфера этой убогой однушки, стены которой словно впитали страхи своих прошлых обитателей. Вместе заканчивая филологический факультет университета и думая, куда переезжать из общежития (Анна поступила в аспирантуру, но в ее комнате-гробике в Главном здании МГУ нельзя было жить вдвоем), они обрадовались, когда нашли объявление о сдаче этой весьма дешевой, но зато отдельной квартиры, – после общежития любое жилье, в которое никто, кроме тебя, без твоего разрешения не войдет, кажется маленьким загородным дворцом с камином и бассейном.
Впрочем, почти за городом квартира и находилась: с балкона видна была кольцевая автодорога, подавившимся уроборосом день и ночь шипевшая за окном. Анна и Алексей, впервые увидев это жилище, даже в своем восторженном настроении смогли удивиться, узнав, что в смысле ухоженности, оказывается, может быть что-то хуже общаги. Хозяйка была полная, словно засыпающая на ходу, абсолютно равнодушная ко всему женщина; она сдавала за копейки разбитую конуру, попросту поленившись привести ее в порядок, сдать подороже и зажить потом скромным рантье. Пошептавшись в ванной, молодые люди все-таки решили вселяться немедленно, тем более что залога хозяйка не требовала (нечего было портить и красть) и согласилась на проведение жильцами ремонта в счет ежемесячной платы. Потом несколько раз складывалось так, что владелица хаты за месяц не получала вообще ничего, сумма целиком шла на ремонт, детали которого она неизменно и торопливо одобряла; вскоре она потеряла свои ключи, но сделать ей копию не просила и назначала встречи возле метро, становясь все прозрачней и незаметнее, несмотря на свою полноту.
Зря они думали, что смогут ремонтом согреть и очеловечить это странное помещение. Несмотря на приволье пятого, лучшего этажа, квартира походила на заброшенный бункер. Чувствовалось, что здесь когда-то убили человека. Обои были оторваны тонкими лоскутами, словно кто-то недобитый, с разрезанным горлом, пытался встать и ползти по стенам, звать на помощь. Они сдирали обои, целые выходные грунтовали серые стены, весело катали широкими валиками, капризно малюя комнату и кухню в нежные салатовые и голубые цвета.
Закончив, с облегчением вздыхали, и тут же начинал стонать и скрипеть пропотевший старый диван, на котором, видимо, когда-то кричал и трясся в делирии сухонький алкоголик, которого отсюда увезли навсегда с нехорошим, последним диагнозом. Бенедиктов знакомился в подъезде с подростками, давал им деньги на пиво, и они вместе вытаскивали вонючую дыбу на помойку. Вместо него поселялся чистенький новый диван из «ИКЕА», но тут разом лопались все лампочки, забрызгивая стеклянной крошкой одежду, посуду, мебель, и нужно было чинить проводку; вода была отвратительной, и не помогал поставленный на кухонный кран фильтр – и так далее, и так далее. Через три месяца Алексей и Анна захотели съехать оттуда, но жалко было потраченных сил, и к тому же в октябре, даже имея приличные деньги, они все равно не смогли бы снять ничего другого.
Они все больше ссорились и сами в минуты затишья удивлялись этому, ведь даже в безжалостной стеклянной общаге им было проще и спокойнее вместе. Иногда после ссоры Анна уезжала ночевать в свою крохотную каморку в громадном муравейнике ГЗ, и тогда Бенедиктов осторожно запирался в ванной с книгой и сигаретами, стараясь за шумом воды не разобрать, не услышать того, что происходит сейчас в квартире у него за спиной. Прожив так год, они измучились, сдались и все-таки расстались. Сейчас Бенедиктов ехал забрать оттуда последнюю небольшую партию своих вещей. Он не мог перевезти все разом на такси: денег не было совсем, он отдал все за комнату на противоположном конце города, на Юго-Западе, и перемещал теперь свое скромное имущество через весь город частями, на метро. Анна переехала в аспирантское общежитие МГУ.
Бенедиктов вышел на остановке, которую он в последний раз мог назвать своей, дошел до подъезда и остановился, глядя на противоположный конец дома, сразу за которым, через дорогу, был вход в Лосиноостровский парк. В жаркое слепящее июньское утро, в сухом и решительном настроении Бенедиктова эти искристые морозные воспоминания были очень некстати. Зимой по ночам они с Анной любили гулять в лесу. Даже в самой густой чаще было светло от луны и снега. Они углублялись в лес по своей личной, ими же протоптанной тропинке, выходили на свою полянку, садились на ствол давно рухнувшего в грозу дерева – следы вокруг каждый раз были точно такие же, что они оставляли в свое прошлое посещение, – пили коньяк, тихо разговаривали (можно было шептать на весь лес), и не верилось, что всего лишь в километре отсюда воет и задыхается во влажном стылом дыму вечно преследующий добычу дикий оскаленный город, а здесь они вдвоем среди цивилизованной тишины, аккуратно положенных ровных снегов и минималистского света стильной хромированной луны. Он целовал Волкову в резкие скулы, бледные щеки, большие, сплошь черные смородиновые глаза, предусмотрительно избегая губ, и однажды, когда было действительно очень холодно, забылся, потянулся к ее уху и прилип к сережке. Дернулся, и больно было обоим, но тут же стало смешно, и за эту одну ледяную сережку он отдал бы, пожалуй, немало совместных ночей.
Бенедиктову стало холодно. Он вздрогнул, очнулся, и тут же июньское утро, словно снятое с паузы, вновь заструилось вокруг него живым согревающим маревом. Алексей поднялся, сложил последние вещи. Сегодня кончался срок, в течение которого он по уговору с хозяйкой должен был освободить жилье, поэтому Бенедиктов, дотянув до последнего, приехал сюда утром, перед работой, и, оглушенный воспоминаниями и едва сохранившимся запахом духов Анны, даже не заметил, что хозяйка опоздала, не приехала вместе с ним проверить состояние комнат, настолько он привык к ее постоянному молчаливому отсутствию. Выходя, он не выдержал и вслух сказал квартире:
– Прощай, красавица. Жри теперь других.
Запер дверь, ключ по привычке спрятал во внутренний кармашек сумки и уехал. В последнее время хозяйка истончилась настолько, что о том, чтобы вернуть ей единственный ключ (Анна свой потеряла незадолго до их расставания), он как-то не подумал.
***
Бенедиктов опоздал на работу. Оставив вещи у охраны на проходной, он проскользнул в редакционный оупенспейс и уткнулся в монитор с самым сосредоточенным видом. В рабочей почте лежали свежие тексты на вычитку: рассказ, критическая статья и какой-то файл, называвшийся «Концепция создания нового…» – видимо, название было длинным и не уместилось целиком. Алексей чутьем понял, что это спам, и удалил письмо.
Рассказ начинался любопытно: «Взмахну красной тряпкой перед глазами будущих критиков: был у нас гламурный грешок – мы любили заниматься сексом в критические для нас дни. Она, правда, этого стеснялась, предпочитая черные квадраты непачкающихся простыней живым импрессионистическим мазкам, но всегда соглашалась, покоренная моим обещанием…» Так, постельная сцена. Интересно, пока отложить.
Статья была нудной, похожей своей обвинительно-вопрошающей интонацией на допрос. С нее-то он и начал. «Во всех рассказах цикла ни у одной героини нет имени. Что это: подростковое стремление придать тексту торжественность этим многозначительно-загадочным «она»? Писал бы тогда уж с большой буквы: Она. Или это всего лишь обыкновенная спесь начинающего прозаика, не желающего снисходить до простых русских имен вроде «Катя»? Ведь можно же было придумать, назвать, обозначить; Пушкин в свое время сделал имя «Татьяна»…»
«Люди, вместо «прописная буква» пишущие «большая», вспоминают про Пушкина», – с привычной тайной насмешкой над велеречивыми критикессами думал Бенедиктов, увлекаясь работой, безжалостно и хладнокровно истребляя опечатки и орфограммы.
После обеда главный редактор пригласил его к себе. Вся редакторская фигура была создана, казалось, именно для того, чтобы он был начальником над интеллигенцией: экспроприированный когда-то Лениным сократовский лоб, умные собачьи глаза Николаса Кейджа, маленький сжатый рот между широкими скулами; по несколько раз в день он решительно заходил в оупенспейс, словно собираясь устроить кому-то серьезный разнос, спрашивал кого-нибудь из редакции, но всегда именно в эти десять минут как раз этого человека не оказывалось на месте, и главному кто-то небрежно бросал через плечо в ответ на его напряженный вопрос: «Курить ушел, наверное». Больше он этого сотрудника не искал, и прекрасная природная лепка начальственной внешности пропадала впустую.
Главный редактор пригласил Бенедиктова сесть.
– Вы прочитали «Концепцию»? – спросил он, глядя с непривычной приветливостью.
– Какую? – переспросил Бенедиктов, тут же вспомнил утреннюю почту и смутился. – Ах, да… Нет, еще не успел.
– У меня к вам будет личная просьба! – Главный торжественно возвысил голос, встал, обошел свой лаковый стол и сел в пустое кресло рядом с Бенедиктовым. Это было неслыханное нарушение редакционного этикета: на планерках все сидели на диване чуть ли не возле самой двери. – Вычитайте этот текст, пожалуйста, очень внимательно и бережно. Это необычайно важный документ.
– Что же там? – недоверчиво, почти брезгливо спросил Бенедиктов, напуганный начальственной интимностью.
– Поймете сами, когда увидите. Этот текст сейчас помещается во все печатные и электронные СМИ по просьбе… – здесь главный сделал паузу и игриво пошевелил пальцами, как чеховский кулинарный сластолюбец от удовольствия при виде жареного карася в сметане, – неких очень влиятельных персон.
Алексей уже ничего не понимал.
– Главное – внимательность и аккуратность, – с прежним решительным выражением закончил редактор и встал. – Ступайте работайте.
Вернувшись к своему компьютеру, Бенедиктов с любопытством извлек из корзины загадочный файл и открыл его.
«КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА КНИЖНОЙ БАШНИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В последние годы российское общество переживает кризис целеполагания и смыслопорождения. Новой национальной идеи так и не появилось. Концепция «суверенной демократии», созданная в стремлении заполнить царящий в коллективном сознании ценностный вакуум, так и не стала национальной идеей, будучи скомпрометирована оппозиционными прозападно настроенными силами. Эпоха активного потребления товаров и услуг, хоть как-то занимавшего умы значительной части российских граждан, закончилась с приходом экономического кризиса. Новая Великая депрессия пришла к нам с Запада, и мы должны суметь поставить щит против ее ледяного мертвенного дыхания.
В это тяжелое время мы должны вспомнить, что у нас есть большой культурный бэкграунд. Мы должны переориентировать российских граждан на новое потребление, и это будет не покупка электронных гаджетов и не отдых на зарубежных курортах. Мы должны стимулировать наших соотечественников к потреблению качественных культурных смыслов. Засилье низкопробного, пошлого, отупляющего телевидения, которое долгие годы было на руку некоторым консервативно настроенным слоям правящей элиты, должно быть прекращено. Гнилым миазмам развлекательных телепередач и низкокачественной коммерческой музыки, лживым новостям, выполненным в брежневской стилистике, разнузданной государственной пропаганде, всему тому, что заполняет сейчас все телевизионное пространство, для большинства российских граждан являющееся единственным культурным пространством, мы должны противопоставить нечто здоровое, цельное, осмысленное. Средством борьбы со всеобщим и глубоким кризисом, по нашему глубокому убеждению, должна стать великая русская литература.
Два меча скрестятся в битве за будущее России! По ржавому отравленному клинку Останкинской башни ударит молодой, закаленный меч башни книжной. И он победит. Строительство должно продвигаться как можно скорее, потому что от того, как скоро башня из книг начнет вещание, заглушив ядовитый вредоносный сигнал Останкино, зависит – ни много ни мало – будущее России, нравственное и умственное здоровье грядущих поколений российских граждан.
Дорогие строители! Граждане, созидающие новую Россию! Мы просим вас: не жалейте ни своих, ни наших сил в деле возведения башни. Все, что нужно будет от нас, вы получите по первому требованию. Любые затраты будут окуплены, всякий труд будет вознагражден. Лучшие силы российского общества, болеющие душой за будущее Родины, выделят любые средства, нужные для этого святого, великого дела. Просите, и дадут вам.
С высоты книжной башни, построенной вами, вы будете плевать на позорное прошлое своей страны и любоваться ее достойным настоящим и светлым будущим. Да пребудет с нами Господь.
P. S.
Список книг классических и современных русских писателей, произведения которых должны наполнить башню, прилагается.
XIX ВЕК
Н. М. Карамзин
Д. И. Фонвизин
А. Н. Радищев
И. А. Крылов
А. С. Грибоедов
А. С. Пушкин
М. Ю. Лермонтов
Н. В. Гоголь
А. Н. Островский
И. С. Тургенев
И. А. Гончаров
Н. Г. Чернышевский
Н. А. Некрасов
М. Е. Салтыков-Щедрин
Л. Н. Толстой
Ф. М. Достоевский
А. П. Чехов
XX ВЕК
И. А. Бунин
М. Горький
А. И. Куприн
Л. Н. Андреев
А. Белый
Ф. К. Сологуб
A. А. Блок
B. В. Хлебников
B. В. Маяковский
C. А. Есенин
А. А. Ахматова
О. Э. Мандельштам
М. И. Цветаева
Б. Л. Пастернак
Е. И. Замятин
М. А. Шолохов
М. А. Булгаков
М. М. Зощенко
А. П. Платонов
A. Н. Толстой
B. В. Набоков
C. Д. Довлатов
А. И. Солженицын
И. А. Бродский
Вен. В. Ерофеев
П. Л. Вайль
A. А. Генис
Д. Л. Быков
Д. А. Горчев
М. Ю. Елизаров
Б. Акунин
B. Г. Сорокин
В. О. Пелевин
Т. Н. Толстая».
Дочитав до конца, Алексей еще минуту сидел неподвижно, глядя на последнюю строчку, как на кирпич, упавший ему под ноги по той самой траектории, на которой через секунду должна была оказаться его голова. Потом вскочил и кинулся в кабинет к главному редактору, желая объяснений, но тот уже уехал из офиса. Бенедиктов вернулся и хотел было поделиться странным документом с коллегами, но оказалось, что редакция незаметно опустела, пока он читал: остались только верстальщица в наушниках с бледным от Adobe InDesign-а лицом и программист-сайтовод с эстетской бородкой клинышком. Вместе с ними готов был послушать «Концепцию» довольный внимательный кактус в горшочке.
Алексей перечитал файл еще раз. Если бы не пугающая взвинченность и истеричность тона, текст как шутка был бы даже остроумен, хоть и не смешон. В корректорской правке он не нуждался, и это почему-то не удивляло ввиду общей странности документа, а литературно обрабатывать тексты не входило в круг его обязанностей, и Бенедиктов просто выложил «Концепцию» на редакционный сервер. Оглядел пустую редакцию, вспомнил, что сегодня пятница, а номер сдается только через неделю, выключил компьютер и поехал домой, чуть не забыв сумки у охраны на проходной.
Наконец-то можно было совсем устроиться в новом жилье. Алексей уже познакомился с соседкой напротив, пенсионеркой Ниной Васильевной, сосредоточенной, быстрой старушкой, которая всегда, казалось, была занята огромным количеством дел. Встретившись на площадке, они поздоровались, и Нина Васильевна куда-то помчалась. Она не была особенно приветливой, но Бенедиктов думал, что ее стремительная каждодневная хлопотливость связана с тщательной заботой о внуках, и бабушка ему нравилась.
Алексей жил один в двухкомнатной квартире, одна из комнат которой была заперта и хранила в себе вещи уехавших в Черногорию хозяев. Повезло ему несказанно: хоть и дорого – все-таки райский Юго-Запад, – но он жил в отдельной квартире, а при наличии жильцов во второй комнате дворец превратился бы в общежитие, причем платил бы он столько же. Всего неделю Бенедиктов был здесь, но уже успел полюбить это уютное жилище, часть которого была вынесена за скобки. Все в этой квартире было словно противоположностью тому мрачному бункеру на Проходчиков, и тем горше было думать, что Анна вряд ли когда-нибудь поставит на полочку в этой прихожей свои черные лакированные туфли с открытым мыском. Как им хорошо было бы тут вдвоем… Но она сменила номер мобильного и не отвечала на письма.
Бенедиктов закинул в стиральную машину привезенные вещи, навел в квартире окончательный, единственно возможный, свой порядок, принял душ и поужинал. Впервые подошел к запертой двери второй комнаты, потрогал замок, заглянул в щель между створками, но устыдился этого плебейского любопытства. Пора было идти: ждала воплощения его маленькая мечта, что томила с тех пор, как Бенедиктов закончил университет и уехал с Кравченко. Алексей спустился, зашел в «Гастроном 21», купил ледяного пива, пересек улицу и вскоре сел на скамейку на бетонном прогулочном плато под общежитием ДСВ, где он прожил пять лет. Жара схлынула, и эмгэушная молодежь начала собираться на традиционный пятничный летний раут.
***
В понедельник, придя на работу, Бенедиктов первым делом пошел к главному редактору. Тот ответил на стук в дверь пригласительным мычанием, но не скоро оторвался от компьютера, колюче взглянув на Алексея:
– Что вы хотели?
– Этот текст, что вы просили меня прочитать в пятницу, «Концепция»… Что это, кто его прислал? Почему он такой… странный?! – выпалил Бенедиктов, удивляясь собственной наглости.
– Молодой человек, хочу вам напомнить, что корректор является техническим специалистом редакционной службы и в его должностные обязанности не входит оценка литературного уровня поступающих в редакцию материалов, – спокойно, без угрозы и вызова проговорил главный редактор. – Могу только сказать, что это всего лишь текст для рекламного модуля, присланный нашими новыми партнерами. Коммерческая реклама, понимаете? – Бенедиктов ошарашенно покивал. – Хорошие деньги дают, между прочим. И поэтому я просил вас отнестись к нему как можно более аккуратно, – продолжал редактор. – Помните, какой был скандал, когда вы позакавычили везде и написали с прописной название лекарственного препарата, которое должно было идти, так сказать, исподволь, двадцать пятым кадром? Мы клиента тогда потеряли, рекламщики ведь вас уволить требовали, а у меня даже мысли не возникло. Потому что вы хороший специалист. И как хороший специалист, должны понимать, что мы – первый и пока единственный в России тонкий литературный журнал западного, рыночного типа, и нам нужна реклама. Как, кстати, текст? Много правили?
– Мало… То есть совсем не правил. Чистый, – поспешно ответил Бенедиктов.
– Ну и здорово! – Главный снова, как в прошлый раз, стал вдруг ласков и весел, поднялся из-за стола, вытянул из принтера лист бумаги и хищно черкнул на нем что-то. – Прекрасный повод порадовать вас. Давно слежу за вами и вот наконец решился: данным приказом вы назначаетесь литературным редактором. Детали вам расскажет мой заместитель, заведующий отделом прозы, но по сути это значит, что теперь на вас возложена обязанность литературной правки поступающих материалов. То есть мы даем вам текст, объявляем карт-бланш и засекаем время. Ну и повышаем зарплату, естественно. Вы ведь, кажется, давно этого хотели?
– … – уже не покивал, а просто пару раз сглотнул в знак согласия ошалевший Бенедиктов.
– Ступайте работайте.
***
В редакции вовсю обсуждали странный документ, постепенно начавший появляться в самых разных изданиях – от почтенных, с седыми страницами, бумажных «толстяков» до вертлявых электронных районных вестников. Бенедиктов пришел в себя после разговора с главным редактором только тогда, когда понял, что с новой зарплатой он без проблем сможет оплачивать свой однокомнатный личный дворец на Кравченко. Чувствуя себя сильным и снисходительным, он попытался вклиниться в общий разговор и небрежно сказал, что «Концепция» – всего лишь рекламный модуль. На него посмотрели, как обычно смотрят на корректора (о повышении еще никто не знал), и продолжили обсуждение.
– Я слышала, что это вирусная реклама нового реалити-шоу, – тихо и значительно, как очевидец несчастного случая, говорила заведующая отделом поэзии, тонкая темноволосая молодая женщина, курившая через мундштук и прятавшая во внутреннем кармане жакета фляжечку с коньяком. – Заранее запускают в информационное пространство эту «утку», которая, побывав у каждого из нас в уме, перестает быть «уткой» и вскоре воплощается на экране. Мне кажется, это будет какая-то особенно оригинальная дрянь, от которой народ точно не сможет оторваться: возможно, это будет что-то вроде уроков литературы в школе, и кто не читает произведения и плохо пишет сочинения – тот выбывает из игры. Только проходить там будут всякое такое, знаете… «Гаврилиаду», например. И самое мерзкое, что, скорее всего, подаваться это будет под видом народного просвещения и популяризации классики…
– У Лермонтова тоже есть.
– У всех было.
– Это позднейшие стилизации.
– У Маяковского точно свои.
– Да разве мы об этом сейчас!
– «Что делать?». Там ведь первое приближение к идее реалити-шоу.
– Да, эти разные комнаты при совместном быте…
– Четвертую главу «Дара» обязательно приплетут.
– «Темные аллеи» еще можно.
– Ну вы сравнили.
Возник возбужденный спор, в котором говорили все разом. Бенедиктова и в тишине обычно никто не слушал, поэтому он молча сел за свой компьютер. В почте уже чернели новые сообщения с принятыми к публикации текстами, присланные завотделами на вычитку. Алексей с удовольствием вспомнил, что теперь он должен править их еще и литературно, и стал жадно скачивать файлы, но стоял между ним и экраном непроявленный кадр увиденного где-то недавно узора… Бенедиктов отложил работу и набрал поисковый запрос с трехстопным набоковским дактилем: «книжная башня Останкино». Но Гугл выдавал лишь страницы со все той же проклятой «Концепцией». Тогда Бенедиктов набрал в режиме поиска картинок «Останкино» и долго листал бесконечные простыни однообразных небесно-голубых игольчатых открыточных видов. Лишь в самом конце поисковой выдачи обнаружилось несколько маленьких телефонных снимков: на фоне телецентра едва можно было разглядеть черную решетчатую конструкцию, похожую сразу и на Эйфелеву башню, и на опору линии электропередачи. Размеры сооружения нельзя было определить: рядом для масштабирования не было ничего привычного глазу. Это удивило Алексея, ведь он точно видел там три дня назад оранжевые спецовки, башенный кран, строго одетых мужчин с папками и в строительных касках…
Рабочий день подходил к концу. Было уже около половины шестого вечера. Сотрудникам редакции наскучило спорить. Все расходились по своим местам, зевали, по очереди ходили к кофемашине. Бенедиктов собрался, покинул редакцию и поехал к Останкино. Через сорок минут он вышел из северного вестибюля станции метро «ВДНХ».
Она
Анну Волкову пыталось раздавить Главное здание МГУ. Роскошный дубовый секретер, казалось, был переделан из гроба, широкий гранитный подоконник представлялся фрагментом демонтированного Мавзолея, стены незаметно, но неумолимо сдвигались словно по проекту потустороннего скупого и жадного архитектора, решившего поселить в общежитие как можно больше студентов и дробящего комнаты, а затылком постоянно ощущалась двухсотсорокаметровая высота этого огромного, мрачного, но все-таки прекрасного здания. Анна много раз слышала о «синдроме Раскольникова», от которого страдали недавно поселившиеся в ГЗ аспиранты, и уверения в том, что торжественная клаустрофобия, вызываемая этими стенами, в которых время остановилось, пройдет за пару месяцев. Волкова надеялась на это, разбирала вещи, наводила порядок, пыталась как-то оживить и приукрасить свою комнату, но живые цветы, яркие коврики, женские мелочи в тюбиках и флаконах выглядели здесь двусмысленно и неуместно, как плюшевый заяц с разбитыми лапками в кабинете следователя НКВД.
Симку Анна сменила, но внести почтовый адрес Алексея в черный список не решалась и читала все его письма, и это было мучительно. Иногда она едва не сдавалась, думала возобновить с ним общение, конечно же всего лишь дружеское, ведь он не сделал ей ничего плохого, во всем виновата загадочная квартира, отравившая их едва начавшийся семейный быт. Но была в этих мыслях подлая финансовая подоплека: мол, будь у них приличное жилье… Анна хотела ответить на письмо Алексея, встретиться с ним, съездить, может быть, в их собственный парк, но тут же представляла, во что неизбежно и быстро превратится эта «дружба»: просьбы и пробы снова быть вместе, слепые провалы в прошлое счастье и потом еще более стремительное и горькое отчуждение, расплата за контрабанду чувства, ставшего таможенным конфискатом. А живет он, наверное, в похожей квартирке, да там еще и сосед, девицы с наивными змеиными глазами, ружейный грохот по ночам за стеной, забрызганный кровью экран; а в ее эмгэушной каморке вдвоем никак не повернуться, не говоря уже о том, что и попасть сюда постороннему не так-то просто…
Анне становилось противно от этих мыслей, она казалась сама себе корыстной и озабоченной бытом; пыталась отвлечься, увидеть себя с лучшей стороны, смотрелась в зеркало, поворачивалась стройным боком, примеривала новые босоножки, привставала на цыпочки, невольно любуясь крепкими тонкими икрами, взбивала колючую стильную прическу, остановившуюся на полпути от женственного каре к агрессивной стрижке «под мальчика»; в упор смотрела сама себе в огромные смородиновые глаза, корчила рожицы и представляла, как ее, маленькую и милую, видел жадный до мелочей Бенедиктов.
Преследовали воспоминания, в которых хотелось и нужно было отыскивать только худшее, но получалось наоборот: в горячей каменной соте ГЗ думалось особенно хорошо о морозном просторе зимнего леса, серебряной скатерти снега, перебежках луны от одной древесной верхушки к другой. Вкус коньяка, который она иногда пила в одиночестве, неизбежно отдавал поцелуем, и, вспоминая опасные зимние ласки, Анна с нежностью и стыдом закрывала глаза: ей всегда нравилось думать, что они закусывают друг другом.
Как-то вскоре после переезда в аспирантское общежитие Анна из любопытства впустила к себе одного из многочисленных полупрозрачных поклонников, проявлявшихся до конца только тогда, когда она сама, зевая, вступала с кем-то из них в контакт. Но эксперимент оказался до странного скучным, она чувствовала себя анекдотически, карикатурно, разглядывала потолок, ждала хоть намека на удовольствие. Уткнувшись ей в шею, поклонник замычал, напрягся и нечаянно укусил ее за ухо; Волкова вздрогнула, вспоминая чудесную боль от прилипшей к губам на морозе сережки, и в досаде и раздражении почти оттолкнула его. Анна решила больше не рисковать и не сравнивать. Женское одиночество в душистой узкой постели переносилось гораздо легче, чем эта глупая потная физкультура с чужими людьми-тренажерами.
В понедельник, 10 июня, выпускающий редактор небольшого сайта о моде Анна Волкова приехала на работу. В офисе пока была только корректор, маленькая женщина лет тридцать с вечно приподнятыми плечами и пустым задумчивым взглядом. В редакции редко был слышен ее голос, да и саму ее замечали только тогда, когда она выходила в переговорную, она же кухня, посоветоваться по телефону с коллегой об особенно гнусных хитросплетениях русской грамматики, которых Анна, хоть и отучилась на филфаке, всегда боялась и не понимала. Теперь же корректор подошла к ней, посмотрела прямо в глаза и сказала с наглой улыбкой:
– Я прислала вам вычитанный текст, посмотрите; нужно размещать на сайте.
Анна удивилась и ее странному поведению, и тому, что утром в понедельник есть уже материал. Открыла рабочую почту, скачала файл под названием «Концепция создания нового…», открыла, долго смотрела в экран, почти не мигая, наконец медленно развернулась на стуле к корректору:
– Что это?
– Это реклама! Просто рекламный текст, у нас новый заказчик, – раздался веселый голос только что вошедшего главного редактора. – Корректор глянул, вам, Анна, ничего делать не нужно. Просто заливаем на главную, и все.
– На главную?! – изумилась Анна. – Но это же… какая-то шизофрения!
– Знали бы вы, сколько заплатили за эту шизофрению. За этот, так сказать, дебют шизофрении… И дебют весьма успешный, многотиражный: эта телега сейчас буквально на каждом заборе запощена. Все, все СМИ взяли!.. Сколько денег заказчики убухали, подумать страшно. Но и нам кусочек обломится, и на премии хватит. Так-то, Анечка.
Анна не переносила, когда кто-то чужой, особенно эта жизнерадостная, полноватая пятидесятилетняя женщина, всеми возможными внешними средствами вымарывавшая последние пятнадцать лет своей внутренней биографии, называла ее Анечкой – такая интимность и Бенедиктову-то не позволялась. Волкова быстро и беспорядочно покрутила колесико мышки туда-сюда, будто пыталась взболтать странный файл и увидеть, как в мутном тексте оседают крупинки смысла и логики, но фамилии в школьном классическом списке смешались в одно неопределенное бородато-надменное нечто, как портреты писателей над школьной доской. Один преподаватель на филфаке внешне был вылитый Тургенев.
– Но кто это прислал? Что это значит? – воскликнула Анна, сразу вспомнив, как завинчивала в сочинении отчаянную вопросительную коду, не зная, что хотел сказать автор и что ей самой дальше писать.
– Анна, а когда мы на сайте про женскую моду ставим рекламу очередного кислотно-розового дамского любовного романа, написанного литературными гастарбайтерами с «Прозы.ру», вы ведь не спрашиваете, что это значит и кто это заказал! Ну некуда людям деньги девать. Кто-то выделил средства, и вот…
(Анна почему-то вспомнила эксперимент с безликим поклонником и вдруг впервые брезгливо сыграла сама с собой в мокрую языковую игру, которой ее тщетно учил Бенедиктов: разобрала до конца, прочувствовала, разоблачила лживую метафорику фразы, увидела притаившийся уродливый смысл, и ее слегка затошнило.)
– Хорошо, я ставлю текст, – сказала Анна вслух, а про себя злорадно пробормотала: «Нью-йоркершит, это просто нью-йоркершит» – и сильно удивилась, потому что поняла, что только что вступила в еще одну любимую игру Алексея: отчаянное жонглирование каламбурами.
***
Анну мучило не то, что она не могла перестать думать о Бенедиктове. Она знала, что первый серьезный роман с мужчиной вызывает зависимость и вспоминается потом всю жизнь, и дело, конечно, не в простой технической девственности, о которой так мрачно пекутся волоокие жительницы библиотек в серых юбках до пола, что призваны скрыть довольно небрежный педикюр (Анна как-то попала случайно в компанию тихих филологинь, отмечавших экзамен; все выпили по два стакана вина и считали себя ужасно пьяными, но раскрепощались при этом своеобразно – всерьез звучали угрозы: «До свадьбы… не стоит», и Анна, испугавшись проклятия, убежала).
Она чувствовала, что Алексей первый из всех мужчин не был для нее тем любопытным загадочным существом, что хочется незаметно приручить и заставить поклоняться себе, так, чтобы никто, даже она сама, не знал, отчего это происходит; но существо это – «мужчина» – в то же время пугало другой возможностью своего воплощения: вдруг все случится наоборот, и это он завладеет ею и заставит довольствоваться обмылком небрежного поцелуя, осколком сдержанной фразы, отрывком задумчивой близости – и какое это будет огромное, горькое счастье! – и в то же время тайно, в обход самой себя, хотелось, чтобы именно так все и произошло, и приходили тахикардийные мысли, от электрической силы которых еще несколько лет назад, ночью в постели, случилась бы, пожалуй, пубертатная истерика.
Девичья нежность и подростковый цинизм не стали частью любовного женского стержня Анны, уйдя на практические, бытовые задворки ее характера, где со временем могли хорошо пригодиться в материальных, семейных делах. Сама же Анна, как просто человек, в Алексее впервые увидела не мужчину, а прежде всего представителя своего вида, с которым безопасно оставаться наедине в темноте. Это чувство было настолько уверенным, что ее часто посещали неграмотные бабьи мысли о том, что их с Алексеем кровь, не беря никаких анализов, можно будет спокойно переливать друг другу, случись вдруг авария… «Боже мой, что я за дура, какая еще авария, какая кровь!» – встряхивала в такие минуты Волкова своей образованной, почти аспирантской головой, изумляясь, какая темень и муть, какие нелепые сплющенные рыбы-уродцы с фонариками на головах поднимаются со дна женской души под воздействием обычной привязанности к мужчине.
«Сплющены будем мы с ним, а фонарики будут у спасателей на касках», – будто прозвучал в голове голос Ренаты Литвиновой, когда Анна выходила, пообедав, из молла недалеко от редакции. Третий раунд: игра продолжается. Алексей постоянно плел загадочные ассоциативные узоры, из нелепых созвучий, из случайных, механических совпадений вдруг выводя зародыш живого и цельного образа, как портниха, набрав в рот иголок, складывает какие-то обрезки, неуклюже приседает, стремительно колет, трясет, разворачивает – и вот неожиданно возникает простой и понятный эскиз хорошего платья, я такое хочу. Мучило Анну не то, что она вообще думает о Бенедиктове, а то, что думает именно так, как, она точно знала, он хотел бы, чтобы о нем думали все люди и в особенности она, вспоминая не внешность его или характер, а косвенно связанные с ним вещи, которые, однако, выделяют его среди других ярче, чем любое подробное описание его истинных свойств, – и даже это простое соображение Волкова оформила для себя в немыслимом – кто, кого, за что – синтаксисе любимого им Толстого.
Это было уже слишком. Анна достала из сумки телефон и по памяти набрала номер Бенедиктова. Долго шли гудки, потом что-то невнятно и раздраженно прошуршало, и чужой резкий женский голос прозвучал так, будто принадлежал хирургу, вынужденному почему-то брать трубку прямо во время операции:
– Я слушаю.
– Извините, а…
– Что вам угодно?
– Можно… Бенедиктова Алек…
– Здесь нет никакого Бенедикта, вы ошиблись.
Трубку бросили. Анна поняла, что неправильно набрала всего одну цифру, и даже догадывалась какую, и можно было попробовать снова – максимум девять звонков, и к тому же в любой момент могло повезти, как в русской рулетке, – но ей уже не хотелось звонить, представлять в каждой из этих невоспитанных невидимок испорченный, невоплощенный вариант самой себя, которой какие-то глупые девки мешают предаваться важнейшему: лежать щекой на ключице любимого спящего человека. После обидного разговора нервное возбуждение и досада исчезли, Анне уже не хотелось наговорить Бенедиктову в трубку бессвязных изобличающих гадостей, и она вернулась в редакцию вялая, разбитая жарой, сонная от позднего обеда. Оказалось, что главный редактор уже уехала, и остальные сотрудники не забыли о либеральных традициях коллектива и разъехались тоже. Кроме Волковой, в редакции осталась только корректор, с привычной болезненностью в позвоночнике приникшая к монитору, и Анне стало досадно, что провозилась с сайтом и поздно пошла на обед и не видела, что все уходят из офиса.
– А вы что же домой не идете? – пытаясь выдать лень в голосе за ласку, спросила Анна.
Корректор промолчала и только стала грызть ручку.
«Перегрелась, наверное, бедная. М-да, богатый у женщины внутренний мир. Весь день какая-то шиза происходит», – брезгливо подумала Анна, хотя уже привыкла к общей странности женщины-корректора. Тут же Волкова поняла причину своего раздражения против этого тихого, безобидного существа, бывшего чем-то вроде редакционного домового: незадолго перед их с Анной расставанием Бенедиктов устроился тоже корректором в какой-то новый литературный журнал, якобы, как он сам говорил, отличный от всех остальных, и надеялся в будущем подвизаться там не только как скромный специалист по почтительной правке чужих шедевров.
Резко запиликала знакомая тема из американского сериала, засмотренного в свое время до тошноты, корректор взяла телефон:
– Да. Нет, скоро. Четыре. Четыре полосы еще. Да тут чисто, часа на полтора всего. Да мало ли кто. Ну и что такого? Кому я буду твой номер давать, ты что! Просто ошиблись. Да. Жди.
«А что, может быть, это мужчина, – продолжала мысленно издеваться Анна. – Все возможно. Не всю ведь жизнь маме докладываться. И рингтон этот: какие мы, оказывается, гламурные».
Волковой показалось, что она мысленно прикусила себе язык, прищемила то место у себя в голове, где рождалась насмешка. Она встала и ушла в переговорную. Новые босоножки успели натереть у мизинцев. Алексей любил очень лично шутить: «Женские ноги – не средство передвижения…», и у Анны ослабли ступни, когда она вспомнила, что он делал в подтверждение этих слов. Она набрала его номер с правильной четверкой в конце. Бенедиктов взял трубку сразу, как будто знал ее новый номер и ждал звонка.
– Где ты? – сразу спросила Анна.
– На ВДНХ, – ответил он.
– Надо встретиться.
– Приезжай.
«На ВДНХ!» – собираясь, взволнованно вспоминала Анна ту неприятную квартиру и все-таки радовалась, что он еще там, что все будет как бы по-старому. – Но разве он не должен был уже съехать? А, черт с ним. В ванной. Да. Единственное безопасное место…»
На выходе из редакционного оупенспейса до Анны донеслось:
– Внимательность и аккуратность. Внимательность и аккуратность.
Волкова обернулась. Маленькая женщина-корректор механически раскачивалась на стуле, грызя ручку, и тихо и однообразно повторяла:
– Внимательность и аккуратность. Внимательность и аккуратность, внимательность и аккуратность.
В другое время Анна только фыркнула бы на очередную причуду этой странной девицы, но сейчас ей почему-то стало страшно, и она почти выбежала из редакции. В спину ей доносилось:
– Внимательность и аккуратность…
Через 40 минут Анна Волкова вышла из северного вестибюля станции метро «ВДНХ».
Оно
Когда вечером 10 июня Бенедиктов добрался до Останкино, там уже было довольно много народу. Приятно возбужденные москвичи фотографировали башню на телефоны, знакомились друг с другом, много смеялись. Толпа походила на ту, что собирается на открытии новой станции метро, где большинство, любящее свой город и его нежные подземные артерии, радуется просто так, от души, и лишь небольшая часть счастлива серьезно, целенаправленно, за компанию с беззаботным большинством: больше никаких электричек, маршруток, пробок.
Территория стройки была окружена красно-белыми полосатыми лентами, люди перешагивали через них или подныривали под ними, пробираясь ближе к башне, в некоторых местах ленту уже порвали, но сотрудники полиции, что стояли возле двух автобусов-автозаков, выглядевших так, словно их угнали прошлой ночью с овощной базы, лишь печатали эсэмэски, курили, переговаривались друг с другом, изредка лениво поглядывая на происходящее. Алексей тоже подошел поближе.
Квадратная в основании решетчатая конструкция с шириной стороны примерно четыре метра и высотой около двадцати, окруженная строительными лесами, была пустой внутри, и ее дно было усыпано книгами. Рядом рабочие сваривали новый участок каркаса, и синие искры от сварки весело разлетались вокруг. Близорукий Бенедиктов не мог разобрать, что это за книги, и спросил у стоящей рядом веселой девушки с розовым воздушным шариком, что там. Она не сразу поняла вопрос, но потом отвлеклась от айфона и, прищурившись, начала перечислять:
– «Капитанская дочка»… «Маленькие трагедии», «Евгений Онегин». Я на вступительных в универе сочинение по нему писала. Жесть такая. Слушайте, да там много всего, и книги часто повторяются. Много Пушкина.
Бенедиктов наконец вспомнил «Концепцию». К стройке подъехал грузовик, наполненный одинаковыми перехваченными лентой крест-накрест стопками книг. Рабочие-таджики стали сгружать книги в широкие поддоны, похожие на те, что возят на вокзалах носильщики, и подвозить вплотную к башне. Алексей рассмотрел, что издания были в основном старые, будто из библиотеки сельского дома культуры, с мягкими желтыми страницами и с приклеенными к форзацам кармашками для вкладывания формуляров. На таких книгах в детстве было особенно приятно пририсовать к портрету классика усы, третий глаз или другую радиоактивную мутацию. (Алексею вспомнилось любимое место из «Кыси» Татьяны Толстой, где говорилось о Чехове: «Вон на лице у него, на глазках – Последствие: оглобелька, и веревка с нее висит».)
Строительный кран, стоявший неподалеку, издал звук гибнущего динозавра, и его стрела стала медленно опускаться вниз и угрожающе зависла над поддоном. Рабочие обвязали поддон веревками и прикрепили их к башенному крюку. Платформа с книгами, покачиваясь, стала медленно подниматься, и вскоре кран опустил ее внутрь башни. Рабочие сквозь прутья каркаса длинными шестами столкнули книги с железной пластины, и кран так же медленно увлек ее вверх. Книги остались в башне, соединившись с такими же, опущенными туда раньше, – некоторые, болезненно полураскрывшись, выглядели так, будто были приготовлены для коллективного сожжения на площади. Вся эта процедура была весело заснята на сотни телефонов с надкусанным яблочным логотипом. Бенедиктов видел, что девушка с шариком, стоявшая рядом с ним, уже отправляла фотографии в Твиттер.
Бенедиктову казалось, что он попал на съемки высокобюджетного фильма в жанре «постапокалипсис», и его сейчас погонит с площадки истеричный задерганный режис сер. Но вокруг толпилось много счастливых людей, несомненно видевших в сети текст «Концепции», и их, похоже, совсем не пугало и нисколько не волновало происходящее. Обиженной и возмущенной казалась лишь Останкинская башня; Бенедиктов впервые видел ее так близко, и отсюда заметно было мно гократно описанное колебание шпиля на отравленном московском ветру: казалось, что она презрительно – «ну-ну» – кивает переростку-крану, микроскопическим людишкам внизу и, главное, башне книжной, которая убого подражала сразу и Останкинской, и Эйфелевой.
Вдруг Бенедиктов увидел, что что-то происходит неправильно – даже в своем ошеломленном состоянии он успел отметить случайную шутку и криво улыбнуться тому, как странно звучит это «неправильно» в общем диковатом контексте. После очередной порции «Маленьких трагедий» рабочие прицепили к стреле стопку потрепанных томиков Лермонтова, а Бенедиктов видел, как подъехал еще один грузовик и рабочие-таджики стали выгружать из него тома Полного собрания сочинений Пушкина. Алексей за несколько лет учебы на филфаке и работы с чужими текстами приобрел своеобразную профессиональную привычку: спокойную уверенность в том, что опубликована может быть любая нелепица, главное, чтобы она была предварительно вычитана и отредактирована. Как ни было абсурдно происходящее, Бенедиктов возмутился наглым безграмотным нарушением очередности: никогда и ни за что Лермонтов не может быть впереди Пушкина. Он подошел к рабочим, курившим, сидя на корточках, и наблюдавшим, как кран поднимает новые стопки книг.
– Кто у вас начальник? – крикнул Бенедиктов, но напряженное гудение крана заглушило его голос.
Таджики в оранжевых безрукавках лишь испуганно посмотрели на него.
– Кто ваш начальник? У кого можно спросить?.. – кричал Алексей, но рабочие ничего не могли понять и только жались друг к другу, думая, видимо, что их хотят наказать.
Наконец один из них понял, чего от них хотят, и кивнул на высокого мужчину в белой строительной каске и синем комбинезоне.
– Как его зовут? – снова прокричал Бенедиктов, но это уже было бесполезно.
Он подошел к мужчине в каске.
– Извините, что я так бесцеремонно, – крикнул ему Бенедиктов, но возле крана не было слышно вообще ничего, – но вы делаете неправильно!
Тот рассеянно обернулся на него и снова стал делать для невидимого крановщика таинственные пассы руками.
Бенедиктов тронул его за плечо.
– Вы делаете не так! Нужно соблюдать очередность! Позвольте, я покажу…
Он достал из своей сумки книгу Вайля и Гениса «Родная речь» и открыл ее на содержании.
– Посмотрите, каким должен быть правильный порядок! – Алексей обошел мужчину в каске и даже немного помахал перед его лицом раскрытой книгой.
Тот раздраженно выругался и жестом позвал кого-то. Подошел охранник с лицом Владимира Вдовиченкова и, взяв Бенедиктова за локоть, вывел его за условную границу стройплощадки, обозначенную красно-белой лентой. Полиция ко всей этой сцене осталась равнодушной.
Взволнованный Алексей хотел тут же прорваться назад и объяснить прорабу, что так, вразнобой и вперемешку, класть книги не стоит, что нужного – какого?! – испуганно спрашивал сам себя Бенедиктов и не знал, что отвечать – эффекта не будет, что библиотечные фонды зря сгниют под дождем или будут растащены букинистами и просто чудаками, любителями старых серовато-желтых страниц. Рано проснувшаяся страсть к чтению, мучившая его сильнее, чем эротические пытки полового созревания, испорченные близоруким чтением глаза, склонность во всем в жизни видеть аллюзию и прототип, учеба на филфаке, наконец, болезненное стремление к редактированию и корректуре любого текста, неважно какого – он любил расставлять запятые в Набокове или, если под рукой не было книги, газеты, журнала, запереться в ванной и механически, бездумно править тире, кавычки и опечатки в этикетке шампуня, – все эти главные качества Бенедиктова сейчас словно сгустились над этой решетчатой башней, переплелись и взаимно усилились, обострились, и он как бы чувствовал конструкцию изнутри, видел легкие синие искры и волны, пробегавшие в ней все чаще и ярче с каждой новой порцией книг, и Алексей знал, как нужно строить башню, и догадывался, что он один это знает.
Кран неожиданно затих, и Бенедиктов услышал звонок своего телефона. На экране высветился новый номер Анны, и Алексей в досаде закусил губу: он не мог решить, чего ему хочется сильнее – увидеться с Волковой или вернуться к башне. Он взял трубку.
– Я приехала, но тебя здесь нет, – холодно произнесла Анна.
– Где – здесь? – глупо спросил Бенедиктов и тут же виновато зачастил: – Я ведь не сказал тебе, где я… Извини!
– Ты сказал: «на ВДНХ», значит, на старой квартире. И теперь я стою здесь, как дура, перед запертой дверью и звоню в дверь, пугая наших с тобой призраков.
Голос Анны был ледяным и подчеркнуто ровным – Алексей знал, что так бывало всегда, когда она была зла на него.
– Приезжай назад к метро… нет, я приеду сейчас за тобой, будь там, я через пятнадцать минут! – торопливо проговорил Бенедиктов и пошел к остановке маршруток, поминутно оборачиваясь на башню.
Вскоре он вошел в подъезд дома на улице Проходчиков, который покинул три дня назад. Он забрал Волкову, привез к себе на Кравченко, для быстроты проделав длинный путь с Северо-Востока на Юго-Запад на пойманной машине, они сказались у себя на работе больными и провели вместе в съемной квартире Бенедиктова, никуда не выходя, три дня.
***
За эти три дня, что Алексей Бенедиктов и Анна Волкова не видели ничего и никого, кроме друг друга, решив больше никогда не расставаться и исполняя это буквально, в Москве произошло немало интересного. Довольно быстро башня была наполовину заполнена книгами по списку XIX столетия, но с началом выкладки XX века возникла проблема: книг отчаянно не хватало. Школьные и университетские библиотеки опустели быстро, объявления о скупке классических книг, срочно размещенные на подъездах городскими властями, помогали слабо. Люди либо уже давно избавились от ненужного книжного хлама, либо не хотели продавать тех авторов, которых читали сами: Платонова, Набокова, Довлатова, зная, что их потом можно будет купить только по сумасшедшей цене в каком-нибудь нелепом кожаном переплете с золотым тиснением. Сложность была также в том, что у некоторых писателей XX века не было академических полных собраний сочинений, которые в случае, например, Достоевского так легко и быстро укладывались друг на друга одинаковыми ровными стопками. Попытки срочного переиздания классики тоже не помогли: оказалось, что почти нечего было печатать, Хлебникова и Сологуба нужно было сначала верстать, но времени не было, а существующие в издательствах оригинал-макеты никуда не годятся, потому что часто содержат отредактированный, укороченный вариант текста («Меньше «войны»! Больше «мира»!» – видел однажды начальник строительства книжонку с такой кокетливой аннотацией).
Куратор проекта, тот самый никому не известный человек, что инициировал распространение загадочного пресс-релиза, «Концепции создания нового…», слал прорабу взвинченные, то задушевно-веселые, то угрожающе-грубые письма, в которых то жаловался на одиночество, называя себя «скучающим чинушей, запертым в кабинете на ответственной работе», то требовал завершить проект за намеченную в договоре неделю, то есть к пятнице 14 июня. Прораб, тот самый мужчина, к которому недавно приставал на стройке Бенедиктов, боялся этих истерических нелогичных писем и понимал, что в срок сдать объект не получится, и не знал, как он согласился на очевидную авантюру; он тоже, как многие в те дни, кто был причастен к башне, как бы лишился разума и лишь иногда, тревожно засыпая на пару часов, начинал спрашивать себя, кому и для чего понадобился этот причудливый проект, да еще в таком месте, но вскоре усталость лишала его способности думать о чем-либо, кроме сугубо технических строительных мелочей.
Он уставал страшно, на стройке царил бардак: фуры с необычным строительным материалом приезжали со все большими задержками, народные гулянья, устроенные москвичами в Останкино, поначалу практически парализовали работу, он до хрипоты ругался с полицией, но в первые два дня ничего не помогало; тогда прораб в бешенстве написал куратору письмо с ультиматумом, в котором угрожал оставить работы, если людей не уберут, и на следующий день толпы не стало, а по периметру стройки вместо ленивых пэпээсников с подвернутыми рукавами форменных рубашек встали наглухо камуфлированные молчаливые бойцы ОМОНа; вместе с тем пришло еще одно письмо от куратора, в котором тот со словесным подмигиванием и приплясыванием напоминал, что подписаны документы о неразглашении, обязательства взяты серьезные и отказаться ни от чего нельзя. Начальник строительства и раньше подписывал мрачные документы с логотипом госбезопасности, так как имел отношение к разным непубличным проектам наподобие криогенных установок под Главным зданием МГУ или бункера в Раменках под парком 50-летия Октября, но не думал, что этих бумаг стоит всерьез опасаться, так как не собирался ничего разглашать и уж тем более бросать работу на середине.
Давление и угрозы куратора странно сочетались с общей безалаберностью материально-технического обеспечения и контроля, и прораб, решив сэкономить на экзотическом проекте, осторожно набрал рабочих-таджиков – и был удивлен, что заказчик не был против; если бы он привел низкоквалифицированных строителей и ремонтников в то же метро-2, то уже давно искал бы другую работу, возможно, за рубежом. Но теперь он сам жалел о своей жадности: трудовые мигранты из Средней Азии, желая ускорить темпы и выслужиться перед начальством, норовили заполнять башню чем попало. После укладки Чехова, когда сварщики и монтажники подняли конструкцию до высоты пятьдесят метров, вторым слоем стали снова класть Пушкина, Гоголя, Достоевского. Прораб гонял их и страшно ругался – в голове постоянно звучали услышанные где-то недавно и прилипшие к языку чьи-то слова о том, что все якобы «делается неправильно», – и рабочие от этих разносов пугались и путались еще больше, и бывало, что он несколько раз на дню, отлучившись буквально на полчаса, заставлял потом несколько человек спускаться на железной платформе внутрь башни и вычищать оттуда разную ерунду, имеющую страницы и переплет, которую рабочие понатащили из мусорных баков, желая задобрить начальника: слипшийся глянец номеров Cosmopolitan, желтую прессу, бесплатные каталоги винных магазинов, рекламные буклеты с косметикой и женским бельем. Один раз прораб даже заметил среди бумажных книг внутри башни разбитую электронную читалку – вряд ли строители точно знали, что это такое, но случайно угадали, что устройство имеет отношение к чтению. Вечером начальник строительства часто видел холодные голубые всполохи, искристые всплески, легкие синие языки, пронизывавшие башню и книги, но он решал, что это обман восприятия, ошибка уставших за день от сварки глаз. Во вторник он понял, что до пятницы не успеть, и написал куратору вкрадчивое письмо.
***
Москву разделили на районы. За день город был охвачен полностью. Сборщики заходили в подъезды и коротко, вежливо звонили в каждую дверь.
– Здравствуйте, – говорили. – Будьте добры, отдайте нам ваши книги.
Люди, видя непонятную, но, очевидно, могущественную корочку, не задавали лишних вопросов. Лишь некоторые особенно принципиальные пенсионеры щурились в дверной глазок и спрашивали, для чего нужны книги, и, услышав: «Для башни», тут же открывали. Невиданное безумие, подсвеченное электрическими дугами и искрами, что все отчетливее были видны внутри и вокруг башни, тихо расползалось по городу. Каждый так или иначе слышал о башне и читал текст «Концепции», и безумным было не то, что никто не интересовался целью и смыслом строительства, а именно то, что москвичей, видимо, устраивало объяснение происходящего, данное в этой шизоидной статье. Все торопливо вели сборщиков за собой в глубь квартир, открывали книжные шкафы, снимали с полок все вплоть до тетрадей и дисков. Сборщики отвечали:
– Нет. Только книги.
Благодарили, несли пыльные стопки вниз, грузили в ожидавшие их у подъездов машины.
В спину им неслось:
– А хотите, на дачу съездим? У нас там большая подшивка «Нового мира», большая редкость вообще-то, и Чехова много…
Сборщики вежливо и твердо отказывались:
– Спасибо, но нет. Только то, что есть прямо сейчас.
Молодежь, которой давно надоело возить за собой по съемным квартирам клетчатые баулы с вечно рвущимися ручками, где лежал золотой запас книг, отдавала их безразлично: все равно все нужные тексты уже были залиты в планшетники и читалки, а эти старорежимные бумажные слитки не выбрасывались только из жадности. А вот редкие чудаки-библиофилы расставались с драгоценными редкостями с гибельной радостью, будто давно ждали случая поделиться с кем-то своим несправедливым богатством, и Достоевский издания середины позапрошлого века легкомысленно швырялся в коробку сборщиков, где лежал потом зажатый между сборниками Сорокина. Не было никаких столкновений, и силу применить не пришлось ни разу, да и как ее можно было бы применить? Даже если бы скучающий участковый и получил взволнованный вызов от соседей, к которым еще не успели зайти сборщики, он, приехав, увидел бы странный грабеж граждан людьми в штатском из таинственного «специального управления», и как ему можно было бы объяснить, что все происходит по обоюдному согласию?..
В четверг 13 июня около пяти часов вечера сборщики позвонили в дверь Бенедиктову. Он только что оторвался от Анны в который уже, фантастический раз – не верилось, что у людей может быть столько сил, и при этом хотелось еще и еще. Тем более как раз в этот день проявился железный ежемесячный привкус встреч, который Бенедиктов так любил, и Анна не ограничивала его в этой странной причуде, выгодно выделявшей его среди всех остальных банально-брезгливых мужчин. Волковой льстила почти людоедская страстность, с которой Алексей хотел абсолютно все в ней, и ей постепенно тоже стали нравиться эти гемоглобиновые поцелуи. Ей было очень уютно в этой новой чистой квартире, и она со стыдом вспоминала свои недавние бытовые сомнения в возможности возобновления их романа. Одно смущало Волкову и вызывало сильное любопытство: вторая закрытая комната, – и, выходя из ванной и оставляя на полу аборигенские следы мокрых ног, она подкрадывалась к высокой двери, склонялась над замочной скважиной, пытаясь разглядеть, что внутри, ковыряла замок, прислушиваясь, не идет ли Бенедиктов. Анна была занята как раз этим, как вдруг раздался резкий звонок в дверь. Она вздрогнула и чуть не сломала ноготь.
Бенедиктов, глянув в глазок, сразу стал открывать; голая Волкова убежала и спряталась в комнате. Оттуда она услышала странный разговор о книгах, просьбы отдать что-то; прозвучало слово «башня», которым за эти три дня, туго наполненных близостью, он все равно успел надоесть ей. Потом Алексей зашел в комнату, сгреб с полки своих любимых Пелевина и Толстого (разглядывая у Бенедиктова обложку романа, усеянную мелкими рисунками и значками, Волкова каждый раз замечала внизу крошечное слово «ФСБ», и ее это почему-то умиляло, как вообще умиляют женщин миниатюрные вещи). Бенедиктов унес книги в прихожую и вернулся без них. Встал у окна и долго смотрел во двор, куда выходил подъезд – из-за буйно разросшихся тополей трудно было разглядеть, что именно там происходит. Анне не понравился этот странный визит, и она с подозрением спросила, кто это приходил и почему он так безбоязненно открыл дверь незнакомцам.
– Да. Надо ехать к башне, – вместо ответа произнес Бенедиктов.
– Меня уже достала твоя башня! – возмутилась Анна. – Ну строят какую-то ерунду, скорее всего, это очередной безумный арт-перформанс, инсталляция какая-нибудь, я не знаю. Зачем туда ехать? Что там делать?
– Ты же сама читала «Концепцию».
– Читала. Так, может быть, и это часть проекта. Кому-то заняться нечем и деньги некуда девать, вот и развлекаются…
– Ты не понимаешь! – воскликнул Бенедиктов и сел с ней рядом на кровать, взяв ее за руку. – Там, рядом с ней, такое, знаешь, свечение… как это объяснить… Хорошо с башней, мягко так и тепло внутри, как в детстве, когда лежишь под одеялом, а тебе любимую книжку на ночь читают. Как будто какое-то поле, которое защищает от всего плохого. Или тоже как в детстве, делали батарейку из медных монеток, и вот башня – такая огромная батарейка… Давай съездим! Погуляем, посмотрим. Может быть, я еще успею вмешаться, откорректировать…
Волкова слушала эти восторженные рассуждения вполуха, так как уже целиком была захвачена практическими идеями по бытовому устройству их совместной будущей жизни. Она наконец сдалась уговорам, решив, что и в самом деле неплохо будет погулять и развеяться после трех суток, проведенных в постели. Ей было слишком хорошо с Алексеем, и она решила разбавить это чем-то обыденным, но все равно связанным только с ними одними.
– Хорошо, давай съездим, – сказала Волкова. – Но только потом обязательно сходим в наш парк.
– Да! – обрадовался Бенедиктов и стал быстро и мелко целовать ее лицо (если он не был только что чисто выбрит, это всегда напоминало Анне нежно секущие щеки колючие снежинки пурги).
– И еще, – засмеялась она, пытаясь отстраниться, – надо заехать в ГЗ, переодеться и взять кое-что из вещей на первое время. У меня ведь здесь совсем ничего нет.
Алексей ушел в ванную, и у Волковой возникла соблазнительная мысль. Она помнила, в какие моменты лучше всего обращаться к нему с просьбами, и ласковым низким голосом, перекрикивая шум воды, спросила как бы между делом:
– А ты не знаешь, что там во второй комнате?
– Не знаю! – тоже крикнул Бенедиктов. – Хозяева просили не открывать.
– Слушай, а давай все-таки откроем? Ужасно интересно, что там!
Бенедиктов вернулся, на ходу вытираясь:
– А давай посмотрим, в самом деле. Чего там. Пошли.
Он обмотал полотенце вокруг бедер, достал с антресолей плоскогубцы, склонился над замком. Оказалось, что металлические проушины, в которые были продеты дужки замка, расшатаны и держатся на паре тоненьких гвоздиков. Алексей легко выдернул их и распахнул двери. Вся комната до потолка была забита ровными стопками книг.
***
У Нины Васильевны было что-то с телевизором или с антенной, она не знала; в последние три дня, во вторник, среду и четверг, картинка становилась все хуже и вот теперь исчезла вовсе, сменившись серой подрагивающей рябью. Пропал и звук. Это случилось вскоре после того, как к соседу приходили странные гости; и ей пытались звонить, да она не открыла – вот еще. Даже к двери подходить не стала. Наверное, какие-то монтажники, тянули интернетные провода или еще что, и вот они-то, поди, и испортили кабель, отключили случайно что, перепутали, оборвали. А Нина Васильевна теперь без телевизора сиди. Она с удовольствием думала о том, как будет жаловаться на Бенедиктова его квартирным хозяевам, когда те приедут из-за границы: недавно он все-таки сдался и привел женщину, и устроил, конечно, разврат, вон мусор коробками выносили. Ну ничего, недолго ему осталось.
Анна и Алексей быстро шли к Главному зданию МГУ, подгоняемые безотчетной и необъяснимой тревогой. Кажется, собиралась гроза, небо на горизонте ровно, одной сплошной тучей угрожающе лиловело, и кое-где уже прокалывали тяжелый давящий воздух тоненькие иголки, зародыши настоящих молний – кардиограмм разбитого инсультом московского неба, и казалось, что Главное здание готово было дать бой быстро идущему с севера ненастью, решительно выставив свой тяжелый шпиль против легких шпаг электрических разрядов.
Бенедиктов и Волкова подошли к общежитию, Алексей остался на проходной, Анна пошла собирать вещи. Отперев свою комнату и толкнув дверь, она молча попятилась: на ее узкой кровати, закинув руки за голову, в глубокой задумчивости лежал темно-русый стройный молодой человек с прекрасными темными глазами. На полу рядом с кроватью лежала высокая круглая изношенная рыжая шляпа, вся в дырах и в пятнах. Молодой человек недовольно и зло взглянул на вошедшую женщину и только отвернулся, словно давая понять, что ему мешают думать, при этом стало видно, что он в маленьких наушниках. Анна захлопнула дверь и побежала назад к Бенедиктову.
– Где твои вещи? Что случилось? – встал он навстречу перепуганной Анне, сам отличаясь необычной белизной лица.
– Там… туда уже не войти. В смысле, что я потеряла ключи, наверное, у тебя. Неважно, потом заберем. Поехали, будет гроза, мы можем не успеть.
– Может быть, лучше вернемся ко мне? – предложил Бенедиктов, чувствуя, что, возможно, не удастся скрыть мелкую пляску ослабевших коленей.
– Поехали, поехали!..
Бенедиктов ни за что не рассказал бы Анне, что, пока он ждал ее на проходной, охранник в черной форменной куртке, прогуливаясь около своего стола, скрылся за углом, и тут же вместо него появился толстый швейцар с булавой, в батистовом воротнике, похожий на откормленного жирного мопса. Он неспешно подошел к Алексею, попросил у него пропуск и, услышав из дрогнувших губ, что пропуска нет, важно развел руками: «Если вы хотите теперь же в ГЗ, понимаете, так уж тут извините. В таком случае ищите сами себе средств».
Под первыми крупными каплями дождя они быстро дошли до метро «Университет». По дороге им встретился низенький рыжий мужчина с большими залысинами на лбу, в странного вида допотопном пальто, протертом, покрытом заплатками и без воротника; сгорбившись и прикрыв голову какими-то бумагами в полиэтиленовом файлике, он бежал, прыгая так, словно дождь уже успел налить большие широкие лужи.
Эскалаторы на станции не работали. Отовсюду дули сильные сквозняки, и над платформой летали вырванные из книг страницы. В вагон вместе с Анной и Алексеем зашли только двое худеньких мальчиков; они вышли на следующей, и, пока поезд стоял, было видно, как вспенилась река под первым сильнейшим летним ливнем. Они уже обо всем догадались, но знали, что оба будут молчать, пока не увидят главного. Сейчас же нельзя было ничего говорить. Нельзя было и вернуться назад: на «Фрунзенской» не было света, и лишь по освобожденному звуку вышедшего из тоннеля поезда можно было понять, что они без остановки проезжают неработающую станцию. На «Парке культуры» плафоны горели, и поезд остановился. Мягкий до приторности женский голос во взбесившейся записи объявил: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «ВДНХ»», но было еще несколько секунд на то, чтобы успеть разглядеть, как напротив со сплющенными и искореженными первыми вагонами стоят врезавшиеся друг в друга шедшие с разных направлений поезда.
Людей нигде не было видно. Двери остались открытыми, свет в вагоне погас, и поезд тронулся. Анна и Алексей взялись за руки и блестящими глазами разглядывали ревущую темноту, что обступила их. Поезд резко затормозил в тоннеле, и они упали на пол. Встав, Бенедиктов поднял Анну, прижал ее к вертикальному поручню и изо всех сил обнял, сцепив сзади руки замком. Поезд ехал то очень быстро, то вдруг выезжал на открытую местность и тогда брал прогулочный темп, будто предлагая пассажирам экскурсию по мрачной индустриальной изнанке метро, по огромным ангарам, построенным словно для торжественных приемов в честь делегаций пришельцев. Поезд часто останавливался – то над землей, то в тоннеле, то на станции, казавшейся заброшенной уже давно, – и тогда машинист по громкой связи рыдающим голосом принимался читать стихи, перевирая и запинаясь и утрируя интонацией строчки, которые в обывательском представлении являются самыми характерными, и потому их настроение должно быть распространено на все пространство текста, и от этого Есенин звучал с делирическим суицидальным надрывом, а Бродский – с космической, заполярной, предсмертной мелодичностью и отстраненностью.
Эта поездка продолжалась около сорока минут. Наконец поезд как ни в чем не бывало остановился на ярко освещенной, заполненной людьми станции, и тот же утрированно женственный голос объявил: «ВДНХ». Анна и Алексей вышли и сразу узнали изученную в деталях станцию, которую они в последний раз могли назвать своей. Поезда прибывали с обеих сторон непрерывно, едва успевая скрыться в тоннеле до столкновения со следующими, и толпы народа, в давке выбираясь из вагонов, стремились наверх. 13 июня, в четверг, около девяти часов вечера Алексей Бенедиктов и Анна Волкова вышли из северного вестибюля станции метро «ВДНХ».
Они
Успели протиснуться в последнюю маршрутку, отправляющуюся к Останкино. Бенедиктов смотрел в боковое зеркало заднего вида: водитель стоявшего за ними автобуса попытался было закрыть двери, но толпа обступила, стала стучать по квадратной стеклянной морде машины, раскачивать; мужчина в камуфляжной куртке обрезком трубы разбил лобовое стекло, дверь расклинили монтировками, и серая от дождя человеческая масса стала сочиться внутрь, как выдавливаемый гнойник на обратной замедленной перемотке. Раздался нежный дизельный вздох автобуса; Бенедиктов отвернулся и крепче прижал к себе Анну, но через пару минут услышал хлопок, металлический скрежет и звон рассыпанного стекла и снова посмотрел в зеркало: автобус по касательной врезался в опору автомобильной эстакады и опрокинулся набок. На оставшейся позади остановке из другого автобуса вытаскивали водителя через разбитое окно, и из-за наземного вестибюля станции «ВДНХ» появлялись и тяжело бежали к месту действия бойцы ОМОНа со щитами и дубинками.
Анна мелко и неглубоко дышала. Алексей тряс ее, мял ей плечи и бессмысленно шептал на ухо: «Уедем, уедем назад, нам туда незачем», – но даже если бы она расслышала его в криках и стоне переполненной «газели», все равно ехать было не на чем и некуда. На подъезде к Останкино в маршрутку врезался вылетевший из перпендикулярного переулка осененный синим спецсигналом лакированный «Мерседес-Гелендваген». Микроавтобус развернуло несколько раз вокруг своей оси, он ударился об отбойник, но не перевернулся. Кто-то открыл дверь, перепуганные люди вывалились наружу, но вдруг крики стихли, и все остались стоять посреди дороги, изумленно и радостно глядя в одну сторону.
Дождь прекратился, и над Останкинским телецентром образовался ровный круглый просвет в облаках. На вершины двух башен доверчиво оперлась новорожденная радуга. Книжная башня по высоте теперь равнялась Останкинской. Черный узор ее решетчатого плетения мокро и матово блестел, а цветные пятна внутри нее – зеленые, красные, синие книжные обложки – точно рифмовались с оттенками радуги. Башня была переполнена, наверху книги лежали горой, и при каждом дуновении ветра, казавшемся на земле незначительным, с ее вершины с печальным изяществом подстреленной птицы сыпались, испуганно трепеща страницами, одинаковые маленькие черно-белые томики.
Машины останавливались, повсюду люди выходили из зданий, и еще недавно безумные горожане теперь доверчиво прислонялись другу к другу и любовались башнями. Было очень тихо, и в этой тишине возникла и плавно и нежно начала нарастать задумчивая одинокая чистая нота. Книжную башню стали облизывать холодные синие язычки, и звук окреп и заострился. Всполохи делались все ярче и продолжительнее, башня уже почти вся была пронизана и облита живым сияющим током, и вдруг идущий из нее звук резко достиг немыслимой высоты и громкости, люди в толпе закричали, попадали на колени, закрывая уши ладонями, и из вершины башни вырвалась змеистая молния и ударила далеко на восток, попав точно в постамент «Рабочего и колхозницы». Брызнула крошка пиксельной мозаики, осел под собственной тяжестью разбитый пьедестал, и низвергнутые фигуры от горя, что их разлучают навеки, в падении поразили друг друга своим смертоносным оружием.
Вторая молния ударила прямо в небо. Облачный просвет над Останкино затянулся, радуга переломилась пополам и схлопнулась в тугую пульсирующую черную точку, стало очень темно, и томительный режущий звук затих, как будто его виновник, титан с микрофоном, отошел наконец от огромной фонящей колонки. Телебашня на глазах стала сереть, ветшать, покрываться зигзагами трещин. Редкие огни на ней погасли. Толпа услышала короткий, мрачный, с нисходящей интонацией механический выдох, какой мог бы издать гигантский танковый мотор, выработавший все горючее. Часть конусообразного основания надломилась и выкрошилась, как сгнивший изнутри зуб, и башня вздрогнула и стала крениться.
Третий извилистый электрический залп в упор расстрелял Останкинский телецентр. Воздух наполнил скрежет и треск разрушаемого железобетона, и полукилометровое сооружение торжественно рухнуло на толпу.
***
К полуночи Анна Волкова и Алексей Бенедиктов дошли до когда-то своего дома на улице Проходчиков. Они убегали, прячась от мародеров, которые взламывали продуктовые магазины и ящиками тащили оттуда спиртное. Чтобы согреться и немного прийти в себя и привести в чувство Анну, Алексей украл бутылку коньяка из уже разграбленного магазина. Они вошли в некогда свой двор, прошли вдоль дома, пересекли дорогу и вскоре оказались вдвоем среди цивилизованной лесной тишины, аккуратно посаженных ровных трав и минималистского света стильной хромированной луны, и не верилось, что совсем близко отсюда воет и задыхается в дыму и тумане обезумевший, погибающий город.
Они сели на поваленное дерево, на котором сидели обычно зимой. Алексей дал Анне бутылку, она глотнула из горлышка, поперхнулась, но вскоре перестала дрожать.
– Что теперь будет? – тихо спросила она.
Бенедиктов тоже выпил, обнял Волкову и поцеловал ее большие, сплошь черные, заплаканные смородиновые глаза. Он вдруг стал очень спокойным. Увиденный и пережитый только что ужас показался придуманным, литературным. Он вспомнил рассказ, который читал в прошлую пятницу для журнала, и то, как потом повторилось описанное там в реальности с Анной. Обступивший их влажный и темный мир был безопасным, пластичным, податливым, он существовал всегда и показывался любому, кто не ленился смотреть внимательно, и оставалось только как можно точнее записать увиденное, постаравшись ничего не придумать.
– Что будет дальше? – всхлипнув, повторила Анна.
– Надо ждать, пока прекратится вещание, – серьезно ответил Бенедиктов.
Волкова помолчала, опустив голову и ковыряясь каблуком в мокрой земле, словно в песочнице. Алексею сильно хотелось поскорее успокоить и согреть ее.
– А оно прекратится? – спросила она доверчиво.
– Можно попробовать это ускорить.
– Как?
– Очень просто. – Бенедиктов рылся в сумке в поисках записной книжки. – Начать жизнь заново, полюбить еще раз, написать другую повесть, где никто не умрет. Знаешь, сколько там сейчас, – Алексей кивнул в сторону города, – рабочего народа, сантехников и электриков, вообразило себя чеховскими мужиками, которые пьют горькую в трактире якобы от тяжести своего скотского существования? А бывшие омоновцы видят себя старостами, урядниками, унтерами пришибеевыми и норовят отобрать самовар за недоимку. Офисный человек терзается старенькой прохудившейся «тойотой». Интеллигенция так же воюет сама с собой, как и всегда, только теперь уже не в журналах и блогах, а на улице – арматуриной по очкам. Управляющих банками убивают кухонными топориками. Чудесную квартиру на Кравченко, которую я снимал, уже, скорее всего, уплотнили ликующей гопотой. Ну и так далее, ты все это ведь тоже читала. Ты спрашивала, что теперь будет: а ничего не будет. То есть ничего и не было. Нового пока еще не было ничего, Анечка.
– Кстати, насчет квартиры. Где мы будем ночевать?.. – спросила Аня совсем уже детским, беспомощным, озябшим голосом.
Июньская ночь была неожиданно холодной, и хотелось поскорее выйти из леса и забраться под одеяло с живым и любимым человеком.
Бенедиктов наконец нашел ручку, но уже забыл то важное, что хотел записать, но это его совсем не расстроило. Вместе с ручкой во внутреннем кармане сумки обнаружилось что-то еще, маленькое и острое. Бенедиктов нащупал и достал ключ, серебряно блеснувший в свете луны. Они встали и, обнявшись, пошли по мокрой траве, оставляя за собой едва заметные в темноте следы, наброски новой тропинки.
2012 г.
Маргаритковый мир (рассказы)
Лицей
Последний раз я видел ее давно, лет пять назад. Она приезжала в Москву, и мы встречались. Тогда мне стала смешной моя прежняя любовь: вся будто съежившаяся, постаревшая, со своим скорым провинциальным говорком и тупой боязнью лифтов, она была даже неприятна мне. Что ж, тем лучше; нормальный финал горячего школьного чувства.
Вообще, любил ли я ее? Может быть, это была просто тяжелая, некрасивая страсть, от которой травятся и убивают соперников? Я был в то время (когда поступил в лицей и познакомился с ней) очень застенчив, угрюм, некрасив; девушки меня не любили. Про таких говорят грубо, но верно: ему даже его правая рука не дает. Став звездой в лицее (Всероссийские олимпиады по литературе, затейливость прозы, личное обаяние актерства – мое лицейское лицедейство там помнят до сих пор, сардоническое чувство юмора, наконец, любимое женщинами), я изменился во всем, но она ко мне изменилась не сразу. Маленькая, с развитой грудью, с темной веснушчатой кожей и резким, хриплым голосом, она была далека от идеалов красоты. Но кому нужны идеалы, когда рядом ходит и раздраженно теребит сумку сама женственность.
Она была дочерью какого-то известного сибирского не то золотого, не то лесного короля. В лицее был принят «официально-деловой» стиль одежды, и острые углы белого воротника, острые носы туфель и острые линии сумки хорошо отражали ее суть: острость (есть ли такое слово?), колючесть. Невзлюбила она меня сразу. Возненавидела: завидев меня, демонстративно шла прочь, брезгливо шипя мою непростую фамилию. Я же в ответ любовался ею и презирал ее, и улыбка от этого у меня выходила кривенькая, жалостливая.
Мы были в одном классе. Училась она средне, беря усидчивостью. Ни талантов, ни склонностей, ни увлечений в нашей насыщенной и сложной лицейской программе за ней не замечалось. По-русски писала плохо и с ошибками. Я дополнительно презирал ее за это, потому что главной моей эрогенной зоной с рождения был язык. Тот единственный, главный поцелуй… нет, нельзя так скоро.
Постойте, вот фотография: удивлены? Калмыцкие скулы, курносый нос, маленькие глаза. Вот губы, губы у нее были замечательно мягкие, теплые. Пожалуй, ушки еще ничего, но как можно влюбиться в женские ушки? Кроме ушек и губ, должно быть что-то еще. В ней и было это что-то. Восхитительные морщинки около грубого, капризного рта, теплый и искренний смех маленькой ведьмы, совершенно черные, почти без белков, глаза, родинки на груди, хрупкие худые ключицы, костлявые большие колени. Никаких пошлостей вроде ямочек, округлостей и упругостей.
Ответное чувство, сначала в виде любопытства, в ней начало проявляться примерно через полгода нашей учебы в одном классе, напоминавшей сожительство двух медведей в тесной берлоге, уязвленных квартирным вопросом. Словно устав ненавидеть, она решила посмотреть, что же я за насекомое, и увидела, что я не так уж противен. К тому же, говорю, стала расти моя лицейская слава литературного вундеркинда, что само по себе не могло не вызывать интерес. Правая рука школьной администрации!.. Война перешла в новую фазу: мы стали общаться – неловко, глупо, с зашкаливающим обоюдным сарказмом, словно делая друг другу одолжение, и неизменно, заканчивая разговор, она при всех громко говорила какую-то гадость в мой адрес. Так, однажды в столовой я, поперхнувшись гречневой кашей, пошутил, что гречка «не пошла», а она после этого произнесла нечто отвратительное в своей лживости о том, что я якобы сопьюсь. И показала язык. (Увидев меня в Москве в свой последний приезд, она грустно сказала, будто убедившись в чем-то: «Ну вот, я же говорила».)
Но и эти конфликты сходили на нет. При лицее было общежитие, ведь учились у нас люди со всей области, и я мог уже запросто приходить к ней в комнату, и, хоть при своей соседке Ане, полногрудой, постоянно вспыхивающей от неведомого внутреннего протеста девушке, она продолжала подкалывать и высмеивать меня, наедине же она бывала со мной проста и мила. Как я помню эти минуты… Она, в толстовке с капюшоном, делавшей ее еще милее и меньше, морщилась от каких-то неприятных мыслей – возможно, о лесном короле, о золотом крылечке, о разбившей синий мартовский лед стреле принца, – хлопала учебниками, рылась в телефоне и вдруг, обернувшись ко мне, говорила своим низким голосом что-то очаровательное, любовное (обращаясь ко мне по моей шипящей фамилии): «Все-таки ты невозможный дурак. Французский поцелуй – это как раз когда с языками». И ласково, долго смеялась.
Однажды мы сидели вдвоем в пустом переходе между женской и мужской частями общежития и болтали о пустяках. Было… ну как еще могло быть!.. солнечно, тихо, тепло, весеннее солнце грело наши спины в тот сытый, сонный послеобеденный час. Она была в бордовом вязаном свитерке, который носила часто. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что она хотела этого уже давно и всячески подталкивала меня к сближению, но я, глубоко неуверенный в себе, не видел этого, не хотел видеть, не мог видеть. Красная пелена заволокла глаза – так пишут плохие рассказчики в неважных рассказиках, – и я поцеловал ее. Просто неловко ткнулся губами в ее губы, и было что-то детское в этом поцелуе, но вдруг мелькнули перед моим лицом умилительные миллиметры ее алых ногтей, она обняла меня за шею, села поудобнее и запустила в меня свой розовый змеиный язык. Отравленный, я задохнулся, покраснел и сбежал. Наверное, это была огромная ошибка. Но кто осудит меня: ведь если бы дело дошло до большего, я сам вряд ли бы выжил – если и выжил бы, то только из ума. Я был без ума от нее. Да, неважный рассказик. У меня слабое сердце.
Что было после? После она смотрела на меня задавленно и тихо, словно я украл у нее что-то, но доказать это она не может и боится расправы. Однажды я даже подслушал ее плач – он был совершенно щенячьим, сиротским, казалось, что это скулит пара брошенных борзых. (Позже, в другом рассказе про другую женщину, я тоже буду фамильярно фамильничать начиная с самого названия.) После был выпускной вечер, где меня первым из всего лицея пригласили на сцену для вручения аттестата. Ведь я уже победил во Всероссийской олимпиаде по литературе. На выпускном мой лучший друг танцевал с нею, и мне это показалось почему-то диким, кощунственным, и я сбежал в парк, купил в ларьке дешевого пива, горечь которого как нельзя лучше шла к моей осиротевшей душе, и впервые в жизни безобразно напился; вернувшись в ресторан, залил красным вином белоснежную рубашку, и наутро директор вынужден был вызвать меня к себе и напутствовать не спиваться (какое скопление, оскопление согласных; я до сих пор выполняю его пожелание).
Так и не высунув тогда свой язык навстречу ее языку, я занялся сублимацией. Очутившись без экзаменов на филфаке и вяло отучившись там и не найдя ничего интересного про писательство, я стал писателем сам, чему свидетельство эти строки. Я пишу рассказы и статьи, а недавно начал целый роман, в котором у одной из героинь будет, пожалуй, парочка ее острых черт – воротники и туфли. У меня все наладилось с женщинами и с уверенностью в себе – я знаю, что когда захочу, могу быть неотразимым. У меня было много девушек, и все гораздо красивее, тоньше, интереснее этой сибирской дикарки с калмыцкими скулами.
Она приезжала в Москву по каким-то своим делам, что-то про отъезд, учебу за границей – ничего толком не понял и не запомнил, – и я лениво показывал ей все туристические пошлости: бордовый Кремль, Красную площадь, розовое закатное небо. Руки мои от мороза были все кроваво-красные. Я заботливо спускал с высоты беспомощный лифт, избавляя его от страха, она немела в этом лифте, фотографировала все подряд и частила, тараторила своим скореньким провинциальным говорком. Я смотрел на нее и вяло удивлялся, что же в ней я так сильно любил несколько лет назад. Мало читающая, незнакомая с языковым развратом литературных оргий – сколько можно сделать с языком, если уметь! – с трогательным хвостиком рано портящихся от краски волос, с хорошеньким вздернутым носиком повешенной, все ждущей развязки, которой не будет, она, когда-то дочь лесного, золотого короля, избранная хозяйка стрелы, казалась теперь словно заведенной, лишенной души: кончится завод – и она упадет замертво. Глупость и скука вся эта школьная любовь. Дама ваша убита.
Когда она уехала, я узнал от того самого друга, который танцевал с ней на выпускном, что она ездила в Москву улаживать дела с визой, что она уезжает навсегда в Америку и что я больше никогда ее не увижу. Я довольно посмеивался, представляя, как она сидит там в своей Америке на зеленой лужайке. Продуманно изрезанные джинсы, белый кампус, подруги с книжками под мышками, жвачка, тупые приставания сверстников, белый носок, «Я кое-что делала летом в лагере»… Вернувшись домой, я долго брился, надел чистое белье, белоснежную рубашку, поужинал, выпил бутылку красного вина, пил кофе с корицей, не спеша выкурил сигарету. Потом лег в ванну и перерезал себе горло.
2012 г.
Бухта Емар
Чем дальше я ухожу от того соленого времени, чем дальше удаляюсь от себя тогдашнего, с болотным запахом лягушек на сандалиях и блеском полнолуния на темных волосах, еще не осененных сединой, чем скучнее, серее и проще становится пейзаж вокруг меня и чем я все больше становлюсь пустым, молчаливым, тем яснее я помню ту серебристую бухту в Японском море и радостное сознание того преступного, взрослого, что происходило со мной тогда.
Названия учреждений летнего детского отдыха всегда почему-то уродливы и скрипучи: взять хотя бы это чугунное «учреждение», которое я употребил только что, или то, как называлось это место: Всероссийский детский центр, бюрократическая министерская табличка, и не знаешь, что хуже – она или уголовно-макаренковское, чекистское «детский лагерь». В общем, местность, где я находился, была наполнена развитыми, благополучными детьми и подростками, купающимися в море под строгим надзором вожатых, хорошо обедающими, занимающимися художественной самодеятельностью, рисующими и рассказывающими классические ночные страшилки. Еще они прятали сигареты от вожатых и невзначай роняли напоказ ненужные презервативы, и томились, естественно, той особенной нежной и преступной подростковой похотью, что добавляла поэзии картинам их счастливого детского лета.
Меня отправили в лагерь по льготной путевке, доставшейся за школьные успехи. Контраст между обычным домашним бытом и той ненастоящей, посеребренной и подсоленной сказочной жизнью, что я нашел в лагере у моря, до сих пор удивляет меня. В купе поезда со мной ехали пошляки-земляки с полууголовными понятиями о жизни; они говорили, что в лагере нужно будет как-то особенно «поставить» себя с местными, которые якобы обязательно будут хотеть мучить нас. Пока же они мучили меня, авансом – мелко, мстительно устраивая маленькую СВ-дедовщину. По приезде же в лагерь они словно пропали, и я видел лишь несколько раз их бледные растерянные тени, настолько они оказались неинтересны этим сытым веселым москвичам и уральцам, не понимавшим, зачем нужно мучить друг друга, когда вокруг столько поводов для удовольствия.
Дома я был презираем девушками, не понимавшими моей тихой задумчивости и привычки невпопад заговаривать о чем-нибудь серьезном и взрослом. Здесь же я встретил много заинтересованных девичьих взглядов, и, не будь я так туп, и скован, и слеп, я завел бы там много знакомств. Сколько раз прохладные, прозрачные питерские блондинки подсаживались ко мне ни с того ни с сего в столовой и, жеманно накручивая льдистый пепельный локон на палец, заговаривали со мной о Блоке, о Маяковском, которого я был большой знаток и любитель… А я во всем видел подвох и заговор, точно зная по опыту, что Блок это ерунда, что заинтересовать девочку можно, только вырвав клок волос или отобрав у нее школьный портфель. Тем удивительнее при моей тогдашней тупости и деревенской забитости, что это все же случилось со мной.
А те девушки все подходили, и кружили, и говорили, и застенчиво улыбались, и пробовали снова и снова, и ничего не понимали, и смотрели на меня уже возмущенно-презрительно, очевидно дорого ценя свое внимание, и я удовлетворялся: наконец-то на меня смотрят как надо, а то одни провокации кругом. Чтобы вы знали, палевый питерский локон на розовом пальчике в четырнадцать лет возбуждает крайне мучительно.
При этом круглый год работающем лагере была своя школа, и летом там устраивалось что-то вроде кружков по интересам. Я пошел в литературный, к учителям русского языка. Их было двое: одна двадцати восьми лет, строгая миниатюрная брюнетка с удивительно грустными и задумчивыми глазами, не идущими ее резким чертам, вся угловатая, одернутая, одетая всегда в простые черные платья, словно присыпанные солью, серовато-серебристые колготки и строгие черные туфли. Она мне сразу стала нравиться, и нравилась до головокружения; она всегда стояла, вложив локоть левой руки в ладонь правой, и мелко и часто постукивала каблуком по паркету, словно собираясь сказать: «Я здесь не останусь, я здесь не останусь», а глаза при этом смотрели с телячьей обреченной грустью, и я потел от ее легкого запаха и неизбежных мыслей о том, что может быть под этим аскетическим платьем.
Вторая была женщина лет сорока, рано начавшая стареть, вся тихая, вялая, расплывающаяся, с некрасивым маленьким ртом и уже редеющими волосами. Одевалась она при этом еще элегантнее, чем та, молодая, и со спины могла сойти за хорошенькую. Но ее голос, словно прибитый ржавыми гвоздиками к обвисающим бронхам, скрипучий, страдальческий, раздражал меня, и я вдруг становился непривычно холоден и высокомерен, несмотря на всю свою робость, и, когда она смотрела на меня, я полуотворачивался, как бы говоря плечом и боком: «Если вы хотите смотреть, то я не могу вам запретить; но я все же немного отвернусь, и мне станет чуть менее неприятно». Так, потея и холодея, между двумя полюсами я бывал там.
Собственно, все писали, и семинар этот и был посвящен чтению и обсуждению наших подростковых творений. Вышел потом альманах из лучших текстов, прочитанных там, и я помню одну девочку из Кемерово, готического вида, худую, с резкими американскими скулами; она тоже нравилась мне, и не только внешностью, но и неожиданно хорошими стихами (в основном в семинаре была дрянь, как можно догадаться). Она тоже подсаживалась ко мне и пыталась обсуждать Агату Кристи, которую я люблю, кстати, до сих пор – не в память ли о той девочке? – а я так же тупо и угрюмо отмалчивался. Стихи у нее были несколько ахматовского толка, что в сочетании с готической внешностью автора дополнительно очаровывало. Она была единственная, кто не смотрел на меня возмущенно, когда я не ответил на сигналы из бухты Емар; она лишь стала очень грустна и на прощание нарисовала мне тоскливый, шизофренический карандашный рисунок, где на нежные девичьи цветы с серого неба падают вязкие капли невиданного дождя, и лучше не задумываться, из чего этот дождь состоит. В августе, к концу смены, во Владивостоке как раз за дождило.
Одним из других моих главных чувственных потрясений того океанского лета было выступление оркестра виолончелисток. Все похожие друг на друга густыми темными шиньонами на головах, пухлыми яркими губами и синими бархатистыми платьями с разрезами до середины бедра, они на концерте, посвященном закрытию смены, все разом сели, раздвинули ноги, приготовляя место для инструментов, и полы платьев упали по сторонам, но в ту же секунду виолончели оказались у них между колен, и они заиграли. Это легендарное мгновение я променял бы на год своей жизни – столько там сразу слилось бархатных впечатлений. Играли, кстати, что-то банальное – «Времена года» Вивальди, кажется, я не уверен, но с тех пор женщина и виолончель составляют для меня мучительное и нерасторжимое единство.
С утра, умывшись, мы шли завтракать, потом собирались на общей площадке нашего пятого отряда и обсуждали, что будет сегодня. Обычно день был такой: до обеда кружки, после обеда тихий час (два моих земляка становились чуть заметнее в это время на фоне общей расслабленности), затем долгожданное купание с детским визгом и недетским вниманием ко всеобщей наготе, потом или прогулка по окрестностям, или экскурсия в город на автобусах; ужин, после ужина – дискотека, не менее долгожданная, чем море. Мигание стробоскопов через секунду освещало фантастически застывшую толпу, делая ее похожей на свалку прекрасных мраморных статуй, и это было страшно и возбуждающе, особенно учитывая влияние луны, накладывавшей второй слой чуда: девушки казались уже не просто статуями, а ослепительно-белыми надгробиями на залитом соленым лунным светом кладбище, и хотелось целовать эти холодные шеи, плечи, ключицы. Позже у двоих разных писателей я прочитал, что это обычное впечатление восторженного, очарованного соседством океана человека, и ничего особенного тут нет. Но питерские девушки в двойном слое светового макияжа, электрического и лунного, были особенно белы и прозрачны, и долго потом нельзя было уснуть, представляя их потустороннюю, вырубленную стробоскопом из мрака льдистую красоту.
Эта преступная и нежная энергия, не сублимируемая даже активным стихописанием, неизбежно накапливалась в моем рано ставшем похотливым теле, и к концу смены на наших собраниях я стал все больше таять от молоденькой учительницы и вспыхивать в обществе другой. Однажды я услышал какую-то особенную пошлость от старшей – прочитал кто-то глупенький фантастический рассказ, и она глубокомысленно заметила: «Он хорошо держит перо», – и я не выдержал. Зная, что она всегда зачем-то остается в классе после конца занятия, я остался тоже.
Я до сих пор не понимаю, чего я хотел и как это произошло, но как только последней вышла молодая, строгая, вторая уже обнимала меня, как женщины обнимают мужчин, будучи влюблены в них, – я уже тогда своим чутьем на близость понял, что это были именно такие объятия. Она прижимала мою голову к своей груди, гладила по волосам, потом начала целовать меня в щеки и, не выдержав, уже в губы, слабея и оседая всем телом. «Ведь можно, можно, ведь ты взрослый мужчина, просто пока на вид мальчик, а я, наоборот, я просто девочка, которая влюбилась, за стихи, за волосы, за грусть» – и еще что-то нелепое в своей последней преступной нежности. Я чувствовал ее взрослый, совсем не знакомый мне, сырой, болотистый, неприятный женский запах, ощущал влагу на своем лице, и вдруг меня словно перевернули вниз головой и резко поставили обратно, я схватил ее за талию, прижал к парте и стал целовать тоже, так, как будто хотел лишить ее воздуха, задушить. Потом резко оторвал ее от себя и убежал, больно ударившись коленом о серебристый пластмассовый стул.
После на семинар я не ходил, мы виделись мельком пару раз в столовой, а вскоре смена закончилась, и я уехал. Было принято оставлять свои адреса, и она год писала мне письма, а потом прислала бандеролью целую толстую тетрадку с бригантиной на обложке, со множеством парусов ярусами, исписанную ею в сложном жанре помеси дневника, лирических эссе, воспоминаний и литературных наблюдений. Все это было довольно жалко: чего стоило хотя бы вполне серьезное рассуждение о «философии» Коэльо. Я вспыхнул, вспомнив ее теплые поцелуи, и захотел впервые ответить ей и написал в том духе, что, мол, если вам угодно писать и быть читаемой, то я не могу вам в этом помочь: я не редактор, не издатель и не поэт. Этими последними тремя словами я почтил память того лета. Естественно, письмо я не отправил.
На следующий год я снова поехал в тот лагерь, но она уже там не работала. Ходили слухи, что ту нашу сцену подглядела, нарочно задержавшись у выхода, молодая учительница и немедленно со злорадством доложила начальству, и старшую со страшным скандалом уволили. Чем объяснить такую внезапную жестокость к подруге и коллеге, никто не знал. Что, впрочем, верить слухам. Молодую я тоже больше не видел.
Однако очень приятно стоять вечером на берегу моря, слушать лягушек и ощущать, как полнолуние все больше серебрит твою легкую голову, а ветер с востока все свежеет, прогоняя все темные болотные запахи.
2012 г.
Водка
Сколько раз уже говорил себе, что на тумбочку у кровати вместе с блокнотом надо класть карандаш, а не ручку: когда пишешь лежа, паста оттекает от шарика, а устраиваться полусидя, по-пушкински, опершись спиной на подушку, чтобы ручка занимала нормальное положение, – это, во-первых, позерство, во-вторых, для страдающего бессонницей труд едва ли не такой же, как просто встать и записать появившийся образ в файлик в компьютере. Опять полночи насмарку. Писать в постели, когда рядом, отвернувшись, засыпает женщина, – значит избыточно, похотливо, расточительно соединять два из трех главных удовольствий в моей жизни. Есть еще извращенцы, которые едят и пьют в постели. Симпатичная вышла бы книжка вольных эссе: литература (наитие), секс (соитие), хлеб и вино (подпитие). Наброски к ней мысленно делать в постели, беря клубнику из розовых женских губ и туда же аккуратно переливая шампанское из своего рта, восхитительная игра – круг замкнулся, будущее наступило! Впрочем, от вина и ягод пятна, а от хлеба крошки.
Мне было не до игр и книг. Я рад был бы написать, что мое будущее «терялось в тумане» – нет, оно плавилось в жирной августовской жаре. Работы не было, за комнату я задолжал, друзья были все заняты, деньги кончались, мужское одиночество проделывало со мной странные шутки, на которые я, слабый, склонный к неоднозначным фантазиям, иногда поддавался: московские женщины, особенно в слепящий оранжевый полдень, нередко выглядят со спины или значительно старше, или сильно моложе своих настоящих лет (если у женщины вообще есть какой-то конечный, паспортный возраст), – и я представлял, что будет, если закрутить роман с той аккуратной, тонко сложенной и дорого пахнущей девушкой со старушечьим лицом и вместо этого лица представлять милую кошачью девчачью мордочку вон той рыхлой, складчатой, приземистой бабы. На жаре, в одиночестве можно не заметить, как любовь к парадоксу, каламбуру, карикатуре принимает форму откровенно больничного бреда. Я передергивался от отвращения и поспешно застегивал где-то в мозгу соответствующую ширинку, прищемляя на секунду родившееся обманчивое, ненужное, но все же теплое чувство.
Я слонялся по городу, бесплодно звонил знакомым, испуганно думая, что говорить, если кто-то все же возьмет трубку, по полдня, стоя от уважения, читал в книжных магазинах некоторых современных авторов, несомненно пробуждавших добрые чувства, но лишь определенного, природоохранного толка: жалко было деревьев, пущенных на эту печать. По вечерам я химически расцвечивал свою внутренность, чувственность, потусторонность – сплошь колючие остья суффиксов, выкошенный словарь; три дня подряд, положим, пил водку, которая поступала со мной довольно хитро: усиливала чувства словесности и телесности, но переводила их в обманчиво высший, бесплотный ряд, и хотелось уже не добиваться свиданий или строить крепкий сюжет, а просто писать, желательно женщине, и я легко болтал с приятельницей в скайпе, и маленький оранжевый бегающий карандашик выглядел чертовски женственно и мило. Конечно же, бесплотность наутро оборачивалась бесплодностью.
Или, все-таки встретившись с другом, мы до истерики курили гашиш, и от него у меня не было никаких неприятностей, лишь удивительно глупые и несуразные записи в блокноте, казавшиеся накануне такими глубокомысленными. После гашиша я блаженно тонул в ванне, перечитывая любимых писателей. На водочных же отходняках, довольно тяжелых, с бессонницей, тенями по углам, ритмичными шорохами и повышенным вниманием к балкону, я спасался пирожными, клубникой, арбузами – при виде последних у меня слабеют ноги, как у припозднившейся девственницы от первого, оставляющего красный мокрый след крепкого поцелуя в шею.
Появилась раздражающая игра: ложась пьяным в постель, я бледно, но яростно черкал что-то в блокноте, и наутро долго разглядывал эти иероглифы, татуировки, шифровки, но нельзя было разобрать ни слова – а сколько зародышей повестей там могло быть! Водка – это не престидижитатор-гашиш, она ядовито правдива, с ней так хорошо, чисто, слезливо мечтается. Работы по-прежнему было не найти, и я брезгливо рассматривал свой свеженький синий диплом лучшего вуза в стране. Высшее образование сроднится с алкоголизмом тем, что наличие и того и другого удостоверяется на акцизной гербовой бумаге. Впрочем, напившись, я примирительно чокался с дипломом.
Ежевечерне соединяя письмо и похоть, я познакомился в Интернете с девушкой. Вскоре перешли в почту и через неделю уже гуляли по начавшей остывать Москве. Мы не созванивались перед первой встречей, и, встретив ее тогда у метро, я про себя тихо застонал от удовольствия, таким нежным аккордеоном промурлыкал этот ее первый «привет»: она бархатно картавила, а женская картавость всегда была для меня как чашка крепчайшего кофе для конченого кофемана.
У нее тоже была разница в возрасте с самой собой. На деле ей было около двадцати трех, по паспорту – двадцать семь (какой-то милицейский фетишизм в отношении человеческого документа). Всегда предпочитая общество женщин старше себя, с ней я удовлетворился формальным ответом, хотя по сути гулял со вчерашней девочкой. Ростом она была мне по грудь, с легкомысленными кудряшками недлинных черных волос, с глубокими черными глазами, иронически поджатыми губами, невероятно, ослепительно-белой после этого жаркого лета, нежнейшей сливочной кожей. Во всем ее сложении была кукольная ладность, стройность и крепость. Не миниатюрная, но маленькая, с подчеркнутыми, но невыделяющимися формами. Потом, когда я впервые увидел ее раздетой, я мечтательно заметил про себя, что природа задумала ее идеальным макетом женщины вообще, разных женщин, которые нужны большинству мужчин. Если, строго соблюдая все пропорции, как бы увеличить ее, получится высокая, статная, с крупным крупом, округлыми плечами, длинными ногами ленивая красавица, за которой, однако, все равно останется полное право быть ежедневно носимой на руках. Уменьшить – и будет петит объявлений о поиске маленьких туфель, крошечная рука, мелкие бедра, птичья походка, мурлычущий голос, просьбы достать с верхней полки толстенный словарь. Неповторимость ее и заключалась в этих спрятанных в ней возможностях: совсем немного в ту или в другую сторону – и получится уже типаж, мечта, жена, мука, но, оставаясь в своих изначальных гладких границах, она была уникальна.
Имелась у нее еще одна, самая любимая мной черта: обычно серьезная почти до угрюмости, с неврозом вечно поджатых губ, над моими шутками она хохотала совершенно пасторально, как неграмотная деревенская пастушка, просто вдруг рассыпалась бездумным смехом – жемчуг скачет по камушкам, молоко вот-вот прольется – и после в уголках глаз у нее появлялись зародыши слезинок, свидетели защиты искренности моей подруги. Я обожаю отчаянные игры между формой и содержанием, и, когда я думал о ее работе (она занималась научно-популярной журналистикой) и слышал при этом, как она смеется, у меня скулы сводило от нежности и восхищения.
Вскоре после знакомства она пригласила меня к себе. Было уже довольно поздно. Мы сидели на маленькой кухне. Разговора не получалось, но нам не было неловко. Она устала от очередного рабочего дня, редакционной суеты, нескончаемой новостной ленты; я был утомлен еще одним беспорядочным, ленивым днем, пивом на жаре, нудными мыслями о будущем. Она закрыла глаза, поставила локоть на стол и подперла розовой ладонью сливочную щеку. Я машинально засуетился: надо, конечно, встать и уехать немедленно, «спать, скорей иди спать», но потом ясно понял, что, действительно захотев в постель, она сказала бы прямо. От этого пустячного бытового доверия, почти семейной неряшливости, – конечно, придуманной, но все равно, все равно, – со мной случилось нечто необъяснимое: я стал вдруг словно проживать свои последние годы назад. Я неотрывно смотрел в ее закрытые глаза и видел себя, молодеющего, худеющего, очищающегося, я отматывал пленку к началу, возвращаясь к тому состоянию, когда не знал еще ни водки, ни похоти, ни других внешних влияний, когда простое чувство жизни было высшим наслаждением, и дальше, к самой первой границе, за которой слово «наслаждение» становилось бессмысленным, так как страдания там нет вообще. Я разом вспомнил, сколько я тосковал по ласке, душным ночным объятиям, женской руке, гладящей меня по затылку, ленивым поцелуям от нечего делать, литературному вечеру, где все мне аплодируют – и как грубо, безжалостно я забивал эти мечты водкой, гашишем, огромными дозами сладостей, и как сейчас желание ласки странно обернулось стремлением эту ласку не брать, а дарить – хотя откуда она могла во мне, недолюбленном, взяться. Достаточно было любого легкого камушка, чтобы эта лавина нежности во мне угрожающе сдвинулась. «Ноги устали…» – не открывая глаз, прошептала она. Я вспомнил, в каких туфлях она сегодня ходила: коричневые, впавшие в детство простые лодочки, но тупоносые и с крупным низким каблуком – детский сад, дошкольная группа, сандалики и разбитые колени, – но она взрослая женщина и пишет на работе такое, чего я не пойму, и этого нельзя было вынести, и свело скулы, я положил ее ноги себе на колени, почувствовал, что в моих руках сейчас заключена вся эта нежная сила, и стал ее ноги гладить и мять, и потом еще языком, губами, словно понимая, что чувствует она, и стараясь сделать так, чтобы эти ощущения стали еще сильнее, дошли до предела, довели до обморока, до переливания через край возможного удовольствия. Сначала она настороженно замерла (все еще не открывая глаз), потом откинулась назад и расслабилась, но вскоре странно застонала, напряглась, изогнулась, открыла совершенно мутные, бессмысленные, кошачьи глаза, встала и повела меня в спальню. Я, видимо, перегорел, и ничего не вышло, но я не стал говорить ей пошлости адвокатских формулировок про «защищенный акт». Мы просто заснули вместе.
Я стал наводить в своей жизни порядок. Первым делом разобрал рукописи (так и представляется: ворох потрепанных, многозначительно исчерканных бумаг переносится из ящика на стол, писатель склонил голову, читатель, заглядывая из-за плеча, склонил голову, зеленая лампа склонила голову – будто тоже что-то соображает, глупая). Я устроился на работу. Я больше не пил, не объедал ся, о гашише и думать было смешно (фу, какой плоский каламбур; жена потом вычеркнет, готовя к изданию). Я снова стал писать.
По выходным мы ездили ко мне. Поздно вечером я встречал ее у метро после танцевальных занятий, она выходила в коричневом шерстяном кардигане, с облитыми тусклой лайкрой коленями, за спиной у нее был маленький кожаный рюкзачок, прикинувшийся женской сумочкой. Было прохладно, мы шли быстро, но каждый раз в одном и том же месте замедляли шаг перед большой непросыхающей лужей, я брал ее на руки и переносил на другой берег, разглядывая ее черно-белые танцевальные туфли. На шее – это становилось видно, когда я нес ее на руках, – был галстук-бабочка, деталь стилизованного под какой-то танец костюма, так до сих пор и не знаю, как называется. Эта бабочка всегда последняя летела на кресло вслед за остальной нашей одеждой, но часто так и оставалась одна, зажатая между нашими шеями, словно не могла выбрать, к чьему костюму прильнуть: к женскому или мужскому.
Чем больше времени мы проводили с ней вместе, тем внимательнее и строже я смотрел на нее, и щекотала мозг неожиданно взрослая, серьезная мысль: а что, если… лучше ее и быть не может, и не потому, что она идеальна, а потому, что в ней одной заключены варианты всех других возможных женщин. Я сначала решил так о ее внешности, теперь же в ней и как в человеке проглядывал этот хитрый природный замысел. Главное удовольствие я испытывал теперь в постели с ней, и там я взрывался таким слепящим блаженством, какое возможно, наверное, только при получении многомиллионной литературной премии с почтенной историей. Вот, например, как мы приручили и обезвредили алкоголь: набрав шампанского в рот, она вставала на колени, плотно сжатыми губами насаживалась на меня, и в ту резкую секунду, пока шампанское не успевало пролиться, по всему телу распространялась искристая щекочущая дрожь, будто затекло и теперь расправлялось все во мне, вплоть до мозга. Я же мог накрасить ей губы – всегда ужасно нравился вкус помады – и часами изводить ее, помногу раз подпуская к границе и потом прогоняя немного назад легкими ударами ладони, и все отсроченные оргазмы в конце экзекуции приходили один за другим, наслаиваясь и торопя друг друга.
Я теперь часто оставался у нее. После работы мы вместе заходили в магазин, и она, неизменно отвергая предлагаемый продавщицей пакет, доставала из сумки очаровательный раритет: настоящую сетчатую продуктовую авоську; очки, которыми она пользовалась крайне редко, были у нее на шнурочке через шею – игра между формой и содержанием продолжается. Я оставил у нее старые клетчатые шорты, в которых так приятно разгуливать с облегченными чреслами. Когда она жарила яичницу, то, разбивая яйцо, сильно била по нему ножом, и желток на сковородке растекался, а я с детства люблю только целые желтки, и я сердито указывал ей на недопустимость порчи таких ценных вещей, она обижалась, и вспыхивала милая минутная ссора – подумать только из-за чего! Наверное, каждому, кто был когда-нибудь влюблен и счастлив, такие трогательные мелочи запоминаются и кажутся потом полными смысла, как запомнилась мне почему-то простенькая ночная сцена, разыгранная влажным сентябрем: она пошла в ванную, я курю, высунувшись в окно, выходящее во двор, который тепло освещен оранжевыми фонарями, по тротуару идут под руку парень с девушкой, вдруг они останавливаются, резко о чем-то спорят, она разворачивается и уходит, он зачем-то прижимает рукав своего пальто ко рту; порыв ветра – и место действия торжественно погребается под лавиной оранжевых тополиных листьев.
Я частями перевозил к ней свои вещи, и каждая такая поездка была словно следствием очередного сеанса просмотра будущего, во время которого я примеривался к ней, все больше убеждаясь, что мне нужна именно она. «Первый год, постепенное успокоение влюбленности, первые серьезные ссоры, заканчиваю роман…» – компьютер, туалетные принадлежности, одежда на каждый день, немного книг. «Второй год, с удивлением отмечаем, что нам может быть скучно вместе, секс становится реже, отдыхаю от романа: сборник рассказов» – остальная одежда, кое-что из посуды, немного книг. «Третий год…» – глупая игра. Я все еще не был уверен. Она у меня ничего не просила почитать, а когда я не выдержал и, унизившись, сам дал ей какую-то ссылку, она неделю извинялась: «Да-да, я прочитаю, просто очень много работы». Потом все-таки прочитала и сказала, что ей понравилось. Я утешился тем соображением, что сначала нужно закончить и напечатать что-то значительное, а потом уже требовать внимания к себе. Мне ли не знать, что любая рукопись бледна и незаметна – но как она потом преображается, став книгой: правильный макияж, жемчуг, маленькое черное платье, перчатки до локтя и хорошие туфли сделают красавицей почти любую простушку из предместий.
Как-то вечером она, задумчиво поглаживая меня по затылку, неожиданно спросила:
– Скажи, а почему ты раньше много пил?
Меня смутило даже не очевидное проявление родовой травмы, с которой живут множество российских женщин, а то, что она знает о моих экспериментах («экспериментах» – кокетливый писательский эвфемизм).
– Ну, как… (ненавижу себя за это нудное «ну»). Было скучно. И грустно.
– Ага. И некому руку подать.
Сцена стремительно скатывалась в фарс – я с восхищением отметил, как безобидная бытовая цитатка, за вечер разыгрываемая в сотнях российских квартир, нечаянно прорвалась в текст, опошлив фрагмент, и теперь ее оттуда не выгонишь: ведь за героиню я говорить не могу.
– Нет, а все-таки? – Она перевернулась на живот, оперлась на локти и с любопытством посмотрела на меня (не болтай ногами, это меня отвлекает).
– Не хватало сильных переживаний, – решительно сказал я, справившись с бессилием формулировок, и тут же почувствовал себя этаким серьезным мужчиной с волевым подбородком и страстью к гантелям, который в кадре спасает женщину от всех бед и тепло обнимает за плечи, а за кадром, развалившись на диване с газетой, приказывает готовить ужин. Да что ж такое!
– Почему тебе так интересна эта тема? – вспылил я. – Сейчас-то я не пью!
– А почему вообще многие писатели были алкоголиками?
Обидевшись на себя, я отвернулся от нее. Задернул на себе одеяло, как штору, спасающую от назойливого оранжевого фонаря за окном.
На следующий вечер она вернулась домой пьяная. Щурясь на свет, как щурятся все пьяные женщины, она нагнулась снять туфли и чуть не упала. Засмеялась. Кинула в меня сумочку. Я поймал.
– Ты чего это? – исподлобья спросил я. Никогда раньше не видел ее пьяной.
– С подругами! – с гордостью воскликнула она и задумчиво добавила: – Посидели…
Я нес ее к постели, перекинув через плечо, на ходу сбрасывал оставшуюся туфельку, яростно сдирал застрявшую юбку, она глупо смеялась, на ходу – не донесу до кровати, прямо здесь, на полу, – запускал руку между холодных ягодиц. Бросил на кровать, в спешке запутался в лифчике, кажется, что-то оторвал. Стянул колготки до колен, дальше не было времени, у нее новое белье, почему я раньше не видел. Запутался в своих джинсах, на секунду сосредоточенно замер над ней, и тут ее дурацкий смех, пытавшийся звучать кокетливо, вдруг ровно и безо всякой паузы перешел в слезы. Обычное дело – пьяная женская истерика, не раз видел, но сейчас мне почему-то стало не по себе. Она отталкивала меня, тут же повисала у меня на шее и плакала. Я почувствовал то же самое, как тогда, в первый раз, на кухне. Прижал ее к себе и долго гладил по голове и спине, успокаивая.
Я переехал к ней совсем. Быт наш протекал спокойно и уютно. Пару раз поссорились все из-за той же смехотворной яичницы, и она, особенно иронично поджав губы, торжественно вручила мне яйцо и нож и ушла из кухни. С тех пор наш ужин готовил я, чем был доволен вполне. Завтрак остался за ней. По выходным совместная уборка. Ходили в «Ашан». Ездили в гости – у нас неожиданно обнаружилась одна общая знакомая, хотя учились мы в разных местах. В обед созванивались, говоря иногда друг другу нескромные вещи, и тогда время до вечера тянулось неправдоподобно долго. Никакого «охлаждения» не наступало. Что еще? Все. Как у всех.
По-другому шла моя особенная, скрываемая даже от нее жизнь. Мой роман приближался к зениту. Все четыре месяца, что мы были знакомы, я отдельной маленькой частью души, не пригодной больше ни для чего, присматривался к ней – не как к будущей жене! – дело было серьезнее, ответственнее, – и наконец убедился: она подходит на роль. Парадоксально было то, что я понял это уже давно, когда увидел в ней те восхитившие меня неисчислимые варианты всех возможных женщин. И раз она может быть лучшей женой, то почему не может стать главной героиней?
Когда она не видела меня, я, пряча блокнот (будто она стала бы читать), быстро обрисовывал маленькую деталь, заблудившийся блик изначального слепящего счастья: в супермаркете, дотягиваясь до верхней полки, она особенно резко встает на цыпочки, почти подпрыгивает, и мелкие кудри на затылке от этого испуганно вздрагивают. Нет, это другая женщина, просто такой же подростковый свитер в черно-белую полоску. Но это она, именно она всегда так резко встает на цыпочки! Не надо мне врать. В блокнот как особая примета занесены также уверенные, плавные, мелкие движения руки, которыми она чистит зубы – немыслимо женственная пластика, никто так больше не умеет, все остальные истерично и буднично машут щеткой взад-вперед, как уборщицы в магазине, за такими нечего записать. Еще, кроме нее, никто не умеет делать испуганные глаза, пародирующие испуганные глаза: как-то вечером, дожидаясь ее, я заснул на скамейке на станции метро, мне приснилось что-то неприятное, она подошла и тронула меня за плечо, я увидел ее и отдернулся, испугавшись, она испугалась в свою очередь моего испуга, но из-под первого слоя страха в глазах уже проступал смех: неужели я такая страшная? Мы смеялись потом полночи. Из этой цельнокроеной уникальности в тысячи разных сторон расходятся маршруты воплощения всех возможных героинь, черты которых мне могут понадобиться: еле заметная разделительная впадинка между голенью и икрой, развратно расставленные пальцы ног на мокром песке и, конечно, главная, драгоценная мелочь, на которую можно поставить все: первая седина брюнетки над розовым детским ухом. Мне больше не нужно было ничего придумывать. Теперь я работал так, что у меня болели подушечки пальцев.
Была середина ноября. Я вернулся с работы бодрый от холода, соскучившийся, довольный. Осторожно ступив на край коврика в прихожей, ловко закинул пакет с продуктами в кухню. Снял пальто, ботинки, наскоро вымыл руки (вода шла ржавая), прошел к ней в комнату, застыл на пороге: моя близорукость почему-то не сработала, я от двери видел, что она, сидя за компьютером, читает тот файл, что я дал ей в зачаточном состоянии еще в конце лета. С тех пор он сильно разросся… Проникнувшись ее равнодушием к моим рукописям, я забыл, что все это время она имела доступ к моей торжественной, тайной работе. «Понравилось… просто очень много работы». Соврала тогда, значит. Или нет? Следила все это время за фокусом Google docs, в котором невидимая рука по ту сторону монитора, отобрав у тебя клавиатуру, сосредоточенно пишет текст, который ты считаешь своим? Или только сейчас вспомнила и открыла? Она не оборачивалась. Я не знал, радоваться ли тому, что она наконец меня читает, или жалеть, что сюрприза не будет.
– Ну… как? – тихо спросил я, привычно, как всякий начинающий автор, ожидая услышать в ответ запутанную и длинную интерпретацию.
– Слушай, да ты все наврал! – весело крикнула она, бархатно, картаво переврав «врал».
(Три, четыре, пять секунд театральной тишины, вот сюда бы вставить еще разочек кусочек ненависти к сво ему нудному «ну»; нет, уже не успеваю.)
– Где я наврал? – проговорил я так, будто просил напомнить, где оставил сигареты.
– Да везде. Шампанское не со мной было, я вообще не пью. Губы ты мне тоже не красил – что за ерунда! Смешно даже, фу. Туфли, извини меня, я в октябре уже не ношу. Зубы я чищу обыкновенно, это кем надо быть, чтобы подглядывать, как девушка чистит зубы? «Ашана» здесь рядом нет. И на море мы с тобой не ездили.
– Какое море?!! – Я наконец ожил, задвигался, отобрал у нее мышку. По экрану заскакали чужие, кривые, оскаленные слова, нет, я ведь писал совсем другое, этого не может быть, это не я, это не ты.
– Но это все детали, на которые можно не обращать ни малейшего внимания, – деловито продолжала она. – Главное, мы с ней ни чуточки не похожи.
…Я оделся, спустился на улицу, зашел в магазин, купил бутылку водки – все это совершенно спокойно, с ленцой, будто всего лишь сходил за хлебом, пошутил с продавщицей. Сел во дворе на скамейку под оранжевым фонарем, стал пить небольшими глотками, пародийно занюхивая рукавом пальто. По привычке захлопал по карманам в поисках блокнота – пометить бы образ, – черт, оставил, наверное, в квартире. Вскоре я бросил пустую бутылку в урну, порыв ветра присыпал меня остатками мертвой тополиной листвы. Пошел в магазин за второй.
Очень смутно и грязно, как сразу после смерти, помню развеселую компанию людей с кожаными гладкими овалами вместо лиц. Муторный лабиринт мусорных баков. Группу ручных тополей, бездарно сыгравших роль опасного дикого леса. Издевательски повторяющийся один и тот же подъезд.
Утром я проснулся у себя. Болело все, будто меня били накануне. Одежда была в грязи. Едва поняв, где я и что произошло, я замер – и тут же кинулся шарить по карманам в поисках телефона.
Она ответила на мой звонок и сказала, что больше не хочет знать меня как мужчину, и не из-за романа и не из-за того, что напился. Просто произошло вчера нечто такое, о чем она не хочет вспоминать и говорить. Но приятельствовать она со мной, впрочем, готова.
Я долго сидел неподвижно, уставившись на лежащий на прикроватной тумбочке блокнот с маленьким оранжевым карандашиком между пружинок. Потом взял (блокнот ведь должен был остаться у нее?), стал вяло листать, привычно пытаясь разобрать яростное и бледное пьяное ночное письмо. Потом неожиданно вспомнил, бросил блокнот, наскоро оделся и побежал в магазин.
Не так давно, кстати, 6 июня, она приходила ко мне на день рождения.
2012 г.
Колокольчики
Мертв город Москва в марте и похож на Санкт-Петербург. Прозрачные от авитаминоза лица по инерции улыбаются – ведь наступает весна, пусть еще слабая, обморочная, с мелкими пульсирующими сосудами ручейков, пораженных вегетонией, но ведь наступает, и все вокруг рады, и мы тоже должны быть рады… но кто запустил эту инерцию, кто начал хоровод самообмана, если у каждого в обуви хлюпает, отхаркивая колючую мокроту полурастаявших льдинок, простуженная московская лужа, если каждый влажно пляшет на освежеванном дворником тротуаре, хватаясь взглядом за низкое металлическое небо цвета снеговой лопаты?.. И лучше не думать, кто у них там наверху убирает. Кто бежал так утром на работу после привычных четырех часов неспокойного, наполненного финансовыми снами отдыха, тот оценит пещерный уют столичного офиса: можно снять мокрое, тяжелое, переобуться в сухое и легкое и, с удовольствием ощущая песчаное, пустынное дыхание кондиционера, за минуту иссушающее все слизистые, глотнуть только что снятого с костра кофе. Мы спасены.
Мне в ту весну было тяжело вдвойне. Словно в насмешку надо мной, мое мужское чувство, всю зиму мирно продремавшее в тепле, сытости и в свете настольной лампы, в этот продрогший весенний сумрак пробудилось с издевательской силой. В метро я старался зажмуриваться, но это слабо помогало: надо было выходить из вагона и проталкиваться на пересадку сквозь пережатую полиамидом транспортную артерию города, и, как всегда, поспешно начавшие раздеваться москвички тысячами проходили мимо, и каждая третья устраивала тонкую пытку, когда на согнутой в локте левой руке покачивается в такт бедрам сумка, а в маленькой, с проступающими косточками и подчеркнуто неброским маникюром золотистой кисти хищно зажат телефон, где обязательно живет кто-то солидный, спокойный, сытый – не я. В пятисантиметровом пространстве между коротким черным пальто и длинным черным сапогом, на шелково блестящей женской коленке для меня, как для лилипута, сосредотачивался весь мир. Мне хотелось выпить из этой чаши, то есть чашечки, за что угодно, лишь бы не одному. Воланд, безусловно, растерялся бы в собянинской Москве.
В час пик в вагонах поездов пахло, как в парфюмерном магазине, и даже насморк курильщика не спасал: я различал сотни духов, шампуней, гелей, кремов, лаков, отдушек и прочих умилительных женских хитростей, призванных замаскировать тот окончательный, единственный аромат, что составляет главную мужскую добычу, и этот анонимный змеиный клубок запахов был метонимией груды переплетенных женских тел. В плотной толпе перехода я, задыхаясь, сдувал с лица легкие волосы нежных блондинок и все равно заглядывал каждой из них в лицо, но они наконец ускользали, оставляя меня в покое и одновременно рождая во мне похоронное чувство преждевременной и невосполнимой утраты.
В это время она устроилась к нам в редакцию. В тот день, придя в офис раньше обычного, я обнаружил, что рядом с нами есть церковь и в это время звонят колокола. Познакомившись с ней, я тут же забыл ее лицо. Я принялся за работу, привычно, злорадно и ловко, как опытный игрок в шутер, истребляя все ненужное на газетной полосе.
Она курила, и мы стали ходить курить вместе. Каждый раз, вернувшись с улицы назад пешком на наш четвертый этаж (продуманное издевательство высших сил), она долго, легкими слабыми движениями разматывала длинный шарф, без которого наружу не выходила. Была она вся легкая, слабенькая, мелкая, с проступающими сквозь кофточку хрупкими косточками ключиц, походка у нее была чуть пришаркивающая, расслаб ленно-больничная, и казалось, что пешком она ходит только потому, что надо же как-то передвигаться среди обычных людей, а не то она просто встала и поплыла бы, словно вся плоскость вокруг нее была заботливо разглажена и смазана предупредительными дворниками. Шмыгая носом в батарейном, оранжерейном тепле офиса, она постепенно распускалась, как колокольчик, который забыли во влажной тени сада, но это ему все равно, он распускается как-то так, для себя, от нечего делать.
Нельзя было понять, чем она занималась. Приходила порой к обеду, здоровалась таким тоном, словно просто зашла на минутку забрать свои вещи, и никто из начальства ничего ей не говорил, потом сидела, листала журналы и уходила в пять, как дореволюционный расслаб ленный дворянин на синекуре. Или же наоборот: спозаранку, под колокольный звон (милостиво прощавший меня за вчерашнее), приходила в редакцию и напряженно что-то печатала и работала так до позднего вечера.
Вскоре ко мне стали поступать первые полосы, подписанные ее именем, и я, обескураженный, как игрок, с которым какой-то профи зло пошутил, выкосив всех монстров в его игре, не знал, как мне быть: в ее статьях мне нечего было делать. Более того, я чувствовал невидимое паутинное родство ее текстов с теми, что я читал и любил давно. Неважно, про что писала та, недостижимая: про музыку, про кулинарию, про фильмы, про моду, про буддизм (последние две вещи в современной Москве давно стали синонимами) – все это было безупречно сшито невидимыми шелковыми нитями, и можно было, как в гамаке, долго качаться в этом упругом синтаксисе, не боясь запутаться и перевернуться, потому что в нужный момент, за секунду до падения, мягко останавливала надежная, просчитанная синкопа. Иногда лишь шелковые нити нарочно сплетались в самостоятельный нефункциональный узор, обнажая прием, и текст напоследок показывал кокетливый язычок чулка, словно нечаянно прикушенный щербатой челюстью шкафа. Невозможность совпадения подчеркивала дразнящая деталь: одна и та же фамилия. Тем более не может быть, что она, слабенькая, до половины укутанная шарфом…
Как-то я не выдержал и спросил, не знает ли она свою знаменитую однофамилицу, которая писала там-то и там-то, и вот есть статьи такие-то.
Она очень просто, будто отвечала, который час, сказала:
– Я не однофамилица. Это я.
Я вдруг почувствовал себя безоружной убегающей фигуркой в шутере… нет, какое там, гораздо страшнее! – висячей строчкой в только что сверстанной газетной полосе, которую вот-вот весело убьет опытный корректор.
– Сколько же тебе тогда лет?!
– …
Не поверить ответу было нельзя – настолько он был неправдоподобен. Тут она, наконец, рассмеялась, видимо еще не устав получать удовольствие от того впечатления, что производила на мужчин, называя свой возраст. Выглядела она минимум на десять лет моложе. Когда мы шли назад, я останавливался на каждом пролете и по-плебейски нудил:
– Ну да?..
Она смеялась и дальше текла вверх своей легкой, слабенькой походкой. Я же впервые заметил, что меня раздражает звук, который я до этого спокойно и даже с удовольствием слышал каждый день уже несколько месяцев подряд: этажом ниже нас располагалась какая-то псевдовосточная студия массажа, привратником которой служил ужасно сверстанный рекламный щит: омерзительно короткий дефис вместо тире, адреса и цены в кашу, пролетарский Times New Roman при печати перекосило до крика, как в комнате смеха, легкая голая женщина лежит на спине, мазохистски улыбаясь проходящим мимо, и кто-то сверху толстыми пальцами навсегда сжал ей сонную артерию, – а дверь заманчиво полуоткрыта, розовая занавеска ожила, и от сквозняка ласково журчат глупые приветственные колокольчики.
Не знаю, когда она работала, все время поглощенная своими журналами, но полосы от нее поступали стабильно. За талант я был трепетно благодарен ей, а за грамотность и аккуратность всего лишь боготворил: резать эти тексты было бы кощунством с моей стороны – все равно что, гоняясь за химерами в готическом шутере, забавы ради расстреливать мраморных ангелов и голубков под потолком. О, это ее ежедневное, неустанное листание журналов!.. Откинувшись в кресле и уткнувшись подбородком в шарф, она молча сидела, закутав руки в рукава, как в муфту (еще один + к дореволюционности), потом брезгливо протягивала одну слабую, легкую руку к стопке, минуту мелко шелестела двумя тонкими пальцами и вдруг хищно выхватывала и подтягивала к себе какого-нибудь широкоформатного полиграфического монстра: добыча захвачена. Медленно нагибалась над столом, обнаруживая беззащитные жемчужинки позвонков, и принималась листать: поднимала страницу легким, слабым, женственным, оправляющим движением руки, словно ей не по силам были чугунные правдорубы отечественной либеральной прессы, но низвергала ее вниз опять же резко и хищно и вдобавок властно прихлопывала сверху миниатюрной ладошкой: я все про вас поняла, попробуйте только слово сказать. Все женщины Москвы со всеми своими духами, и волосами, и шубками, и каблуками, и веселыми дамскими секретами, скелетами в повесившихся на локтях сумках, и блеском колен и волос, и нежными мизинцами, скользящими по экрану телефона, где заперт и переложен нафталином солидный, состоятельный, сытый не я, и всеми своими корректорами, устраняющими погрешности на стареющих лицах, – все они не могли мне дать столько подробностей для наблюдения, узнавания и удивления, сколько давало мне одно это ежедневное механистичное движение руки, переворачивающее вверх дном очередной крикливый политический еженедельник. Моя мрачная мужская страстность, каждое утро хоронившая по несколько сот женщин, вдруг растерялась: я поймал русалку, но не знал, как быть с ней. Я долго иногда не мог перестать смотреть на нее, даже отведя взгляд, и погрешности в полосе, над которой я работал в тот момент, нагло, ловко и злорадно резвились и плодились, словно мстя мне за прошлые оскорбления.
Начался удивительный апрель: дождливый, яростный, смешавший «Времена года» Вивальди с металлической арт-роковой оперой System of a Down. Всю ночь хлестал дождь, а под утро примораживало, и, приходя в редакцию, гораздо чаще колокольного звона я слышал теперь менингитные стоны автомобильных сигнализаций. К обеду лед таял, и с крыш колоколило вовсю, и покатый двор, в котором находился наш офис – дома начала прошлого века, грязно-желтые стены, крюки, лестницы, железо и кирпич, неправильно понятый Сохо, – наполнялся рекой, канализационные люки захлебывались и давились, и отданный на откуп офисным сидельцам индастриал торжественно спивался от безработицы.
Мы все чаще болтали с ней за сигаретой, и она, очаровательно надувая тонкие щеки, подолгу держала дым во рту, обдумывая очередную фразу, а я стыдился своих подростковых будуарных фантазий: так же она, наверное, и пишет… с тонкой своей сигаретой… подглядеть бы хоть раз! (Полосы от нее по-прежнему попадали в мой почтовый ящик именно в те моменты, когда она особенно яростно выхватывала и подтягивала к себе очередную журнальную жертву.) Она объясняла мне тонкости текущего политического процесса и протестного движения. Я и сам мог ввернуть словцо, потому что ходил зимой на знаменитые митинги, куда влекло меня, к сожалению, не гражданское чувство, а желание компании, впечатлений, движения. Я покупал тогда бутылку холодного чая, выливал его и заполнял емкость коньяком, или же смешивал водку с чаем – полиция не видела, а бутылка замечательно прилипала к губам в тех страшных февральских морозах… Тогда вообще все было очень либерально, но настроения менялись, и мы прикидывали, что будет, когда новым министром внутренних дел станет человек с чудесной фамилией, что больше подошла бы директору детского сада, которого все прочили на это место. «Вероятно, будут винтить и давить, – рассуждала она, надувая щеки дымом. – На уступки они не пойдут».
Я слушал это с таким же ненасытным удовольствием, с каким слушал бы и про виды подкормки огурцов, рассказывай она это мне. Но мне повезло несказанно: вскоре она начала делать полосу, посвященную стилю и моде, – и я был словно допущен наконец в будуар. Все те важные мелочи, что так нравились мне в женщинах вообще, что мучили меня еще недавно в мартовском метро, перечислялись, сортировались и комбинировались в ее упругих шелковистых статьях. «В этом сезоне одним из главных трендов будут длинные платья в пол, но со скошенным низом; предпочтительнее светлые, пастельные, подчеркнуто женственные тона: нежно-розовый, голубой, теплый оранжевый…», «Можно составить практически любой образ, если у вас в гардеробе есть так называемый необходимый женский минимум: пара светлых блузок, кардиган, юбка-карандаш, туфли на высоком каблуке, классические лодочки, маленькое черное платье, хорошее белье…», «Кеды прочь: в моде снова босоножки с тонким ремешком!» – последнее звучало как лозунг, как девиз, как проповедь, как обещание счастья, как призыв идти с нею до конца: и увидел я новое небо и новую землю. Я ссорился с другими редакторами, когда они хотели править эту полосу. Это было для меня то же самое, как если бы в розоватый от заката будуар с пастельной постелью, в пространство гипертрофированной женственности, где кокетливо разбросаны чулки, туфли, носки и помада, а хозяйка, зажав в маленьком кулаке, как в рекламе, интимный предмет… и вот тут-то и зашли бы, никого не замечая, крича, дыша матерным перегаром, грузчики с уродливыми какими-то ящиками, электрик со стремянкой и мотком проводов на плече, и сантехник, который наследил бы нехорошими следами, вытоптал бы лужайку из белых носков с кружевной оторочкой и застенчивых чулок цвета золотой пыли и, кряхтя, профессионально полез бы в хрупкое нутро биде, хранящего еще тепло ее бедер.
Наконец я преодолел страх перейти в отношениях с коллегой границу рабочего и приятельского и, из последних сил изобразив небрежность, пригласил ее на свидание. Она ответила таким же будничным тоном:
– Не стоит. Думаю, из этого ничего не выйдет.
Лучше бы я пригласил в кафе одну из ее статей – мне ведь все равно. Откуда мне было знать, что она обо мне думает. С другими она так же, как балующийся ребенок, надувала щеки, думая над следующей фразой. Когда я давал ей прикурить, она смотрела на меня таким же точно взглядом, как на свой корректор, когда доставала его из сумки, чтобы уничтожить пару очаровательных мелочей, но они, впрочем, и так не видны были бы обычным мужчинам.
Теперь мой взгляд, следящий за тем, как она перелистывает журналы, стал подозрительным и злым. Вновь вышедший из-под контроля мужской голод пугал меня, урча под сердцем криминальными людоедскими обертонами. Как римские матроны спокойно купались голыми в присутствии рабов-мужчин, не считая их за людей, так и она никак не отреагировала на мое предложение. Я же, лишенный всякой возможности сблизиться с ней как с женщиной, снова, как в самом начале знакомства, пытался представить ее всего лишь источником прекрасных текстов. Но падали волосы на мои любимые морщинки под левой щекой (я стал замечать ее возраст), рождая больничное скучное чувство, с которым ждешь в коридоре хороших новостей – сейчас тряхнет головой, откинет; слишком хрупки были розовые детские пальцы, мелко шуршащие страницами, – и я не выдерживал и ревновал ее к журналам: а вот уволиться и пойти работать туда, пусть меня листает… нет, туда. Нет, она уже за другой взялась.
Однажды шел сильный ливень, а ей нужно было уйти, и она жаловалась, что забыла зонтик в машине. Я упросил ее, она дала мне ключи, и я принес ей зонтик. Это была единственная близость, к которой она меня допустила. Тот дождь был последним в этом апреле. Незакрытая дверь ее машины, пока я искал зонтик в салоне, успела устроить с дождевой капелью маленький джем-сейшн, кокетливо подыгрывая водосточным трубам переливчатым колокольчатым ксилофоном.
Календарный май начался задумчивыми пасхальными ветрами, и дождь добрызгивал слюной свои последние обиды, глупо надеясь оставить за собой последнее слово, когда всем, кроме него, уже все было ясно; ночные заморозки ударили пару раз, оставив после себя битое стекло граненых луж, и вдруг с понедельника, никого не спросясь, началась новая жизнь, настоящая весна. Разом взошла трава, высох промытый поливальными машинами асфальт, и державшаяся до этого в рамках приличия Москва пустилась во все тяжкие. Деревья, стесняясь зимней бледности, поспешно натягивали маленькие зеленые платья и обували свои подножия в легкомысленные, ничему не идущие балетки с ромашками, одуванчиками и прочими неопределенными цветами, синими крестиками, похожими на зародыши колокольчиков. Про сережки берез – слишком затасканная метафора; лучше вот какая: одуревшие от зимнего авитаминоза кошки внимательно ходили по зеленеющим скверикам, делая петли вокруг цветочных клумб, и драгоценный, опытный взгляд заметит что нужно, когда кошка уйдет: полузадушенную, вывалившую синие языки лютиков резиновую клумбу.
Женщины вышли в город в сарафанах с цветочными принтами и декольте, длинных платьях со скошенным подолом, словно нарочно приспособленным для без опасного подбирания на эскалаторе в метро, когда сзади кто-то опасный, полный беды и страсти, сдувает с лица легкие светлые волосы, надели босоножки с тонким ремешком, что оставляет особенно трогательный розоватый след на ступне; некоторые, торопясь избавиться от зимней аристократичной сливочности, одевались и красились так, что походили на искусственных женщин: навеки скованный в сердечко рот, маечной длины кардиган, выдаваемый за юбку, пушап резиновой груди; а кто-то, стреноженный офисным уставом, смирял плоть узкими юбками-карандашами, белыми тесными блузками и строгими туфлями, мучительнейшей разновидностью которых были те, что с поперечной застежкой, не позволяющей в свободную минуту скинуть обувь и покачать ее на отдыхающих пальцах. Мокрый от жары и слабости, мутными глазами я заглядывал мимоходом под секретарский стол и злорадствовал: вот походи-ка так весь день, узнаешь, каково это, когда ничего нельзя.
Когда я уже хотел уволиться, нас вызвало начальство. Главным редактором у нас в то время был, чем я до сих пор горжусь, прославленный журналист, среди прочего запомнившийся публике в свое время изданием журнала с названием, прямо антонимичным названию нашего издательского дома, где он работал сейчас; подвижный, говорливый, оскорбительно насмешливый человек, с глазами умными до наглости, он умел фантастически разворачивать темы и из новости об унылом муниципальном нововведении в сфере ЖКХ сделать увлекательную историю о том, как люди жили и умерли, не забыв сообщить при этом, сколько им платили.
Главный редактор сказал, что направляет нас в командировку на место волновавших в те дни всю Россию событий: какой-то провинциальный оппозиционный политик устроил длительную и весьма скандальную акцию протеста.
Остатки моего профессионализма на секунду рефлекторно дернулись:
– Но я-то зачем поеду?! Я ведь не пишу, я всего лишь слежу за полосой! (Конечно же и то и другое было неправдой.)
– Ничего, сопроводишь N. Я вижу, вы хорошо ладите. Поможешь девушке, защитишь там, если что. Опять же, зеркалка тяжелая…
Она посмотрела на меня с усмешкой, но, как мне показалось, доброй, приятельской.
Через пару дней мы уже проталкивались через тесный коридор купейного вагона. Начальство расщедрилось и выкупило для нас двоих целое купе. С самого утра у нас обоих было отличное настроение – весна, дорога, приключение, может быть, ОМОН.
Когда мы устроились, я достал коньяк и лучшую закуску к нему: плиточный шоколад.
– Но я больше привыкла лимоном… – удивилась она.
– Лимон для обывателей и язвенников. Пожалей свою слизистую. (Я вспомнил страшный март, ободранные тротуары, пустынный жар кондиционера, передернул плечами от отвращения и открыл окно.)
Мы выпили за успех командировки, она закусила, отломила еще один квадратик шоколада и, задумчиво жуя, спросила:
– Ты правда умеешь фотографировать?
– …(грохот железнодорожного моста, по которому мы как раз проезжали, заглушил начало моей фразы) просто так шутит. Это его стиль. Я не знаю, куда тут нажимать, – повертел я в руках массивную зеркалку.
– А куда смотреть, знаешь? – произнесла она, сдерживая смех.
Шоколадка растаяла и нетвердо держалась в ее тоненьких детских пальцах. Она наклонилась над столиком, рассматривая легкомысленные колокольчиковые узоры на скатерти, и обнаружилась темная мягкая впадинка декольте. Духи у нее были легкие, самые простые, тоже как будто лишь на минутку зашедшие за забытым синим оттенком, тихим серебром, послевкусием луга, но я задыхался сильнее, чем в мартовском вагоне метро, – и задыхался с наслаждением. Я ничего не ответил.
Коньяка и дороги оставалось больше половины, и мы разговорились. Оказавшись в уютной обстановке поезда, она больше не надувала щеки, обдумывая новую фразу, а говорила часто, легко, сбивчиво, заправляла волосы за уши, оставляя очаровательные акрошкеры, и даже однажды так рассмеялась в ответ на мою шутку об арт-директоре, что удивленно стукнулась головой о полочку на стене. Я рассказывал ей о том, как учился, и еще раньше, как поступил без экзаменов через олимпиаду по литературе, и как это можно писать очередной тур, разбирать стихотворение, анализировать южные звезды и чмоканье черноморской воды о сваи причала, выпив накануне пару бутылок шампанского, и она удивлялась: как? – и тут же, смеясь, спрашивала, нет ли у меня шампанского, и я молча доставал запасную бутылку коньяка и перескакивал далеко вперед, объясняя, как сделать свой взгляд отрезком сгущенного до полной материализации внимания, чтобы видеть все огрехи на полосе.
Она тоже делилась со мной опытом, рассказывала, как попадают на хорошие места в крупные издательские дома, и с кем не стоит иметь дела, и где сколько платят, и обязательно присовокупляла к каждому ценному факту неприличный анекдот о каком-нибудь известном редакторе.
Наступил вечер. Я откупорил вторую бутылку и вдруг, словно только что вспомнив нечто очень важное, достал из сумки планшетник, открыл несколько файлов и небрежно протянул ей:
– Я, кстати, тоже кое-что пишу… Так, балуюсь прожектами, вдруг пригодится.
И вышел курить.
Курил я долго, потому что не решался вернуться в купе, поняв, какой глупый поступок я совершил. Ей, опасно женственной, плетущей шелковые тугие узоры, показать свое дешевое старье, по которому сразу же ползут предательские стрелки, стоит только начать читать…
Вернувшись, я попытался отвлечь ее пустяковым разговором, сказал, что в тамбуре несущегося сквозь ночь поезда сигарета тлеет со скоростью сто километров в час. Она не обратила на меня внимания, склонившись над компьютером, и только через минуту сказала, не переставая смотреть на экран:
– А я где-то уже читала про язычок чулка, прикушенный чем-то там. И кажется, про чулки цвета золотой пыли. Везде чулки. Ты любишь чулки?
– Терпеть не могу, – медленно ответил я, млея.
– Вот, а про задушенные лютики с вывалившимися языками я точно читала, только не помню где. Одни языки. Ты любишь язык? – спросила она, играя омонимией.
– Обожаю, – ответил я.
– А ты пишешь что-нибудь большое? Роман? Я слышала где-то, что каждый журналист мечтает написать роман.
– Нет, – соврал я. – Каждый пишущий роман мечтает, чтобы его взяли в штат журналистом.
Мы разговаривали до поздней ночи. Она учила меня профессионально гнать строкаж, раздваиваться и расстраиваться на мнимых экспертов, причем фамилии в таком случае нужно придумывать самые нелепые, чтобы никому не пришло в голову, что кто-то мог взять себе такой псевдоним, рассказывала о премудростях построения короткого и простого, казалось бы, новостного текста, объясняла, как писать про моду и стиль («Нужно почувствовать себя Эллочкой-людоедкой, пишущей на филфаке диссертацию про Игоря Северянина»); среди прочего поразила меня, сказав, сколько платят за рассказ в одном весьма высокомерном издании с неприличным названием – сам по себе журнал, впрочем, был неплох.
Я же рассказывал ей о предынфарктном состоянии, в котором ждешь приближающуюся повесть, о зуде в зубах, когда руки не успевают за потоком образов, об идиотической радости с хлопаньем в ладоши, когда получается многомерная, работающая на собственной энергии фраза; показывал, как рваным прибоем наступает на горизонт песчаный берег с тонущими людьми, если смотреть на него с незыблемой голубовато-зеленой глади, как видит фасетчато-ромбовидный, желтый, вспыхивающий мир глухая пчела, как быстро дичает кошка во влажной тени сада; объяснял все про похмелье сомелье, опечатки сетчатки, микрохирургию взгляда, очерк бедра, краткий очерк бедра, птеродактиль, птероанапест, птероамфибрахий; учил, как вызвать лесной пожар, коллективное безумие и искреннюю жалость. На всякий случай – вдруг она еще не поняла – сообщил, что литература и телесная близость конечно же явления одной природы.
– И там, и там …? – неожиданно употребила она бранное слово.
Я рассмеялся, кивая.
Коньяк ее усыплял, она легла, опершись на руку и подложив под локоть подушку, и недолго еще говорила со мной, но отвечала все тише и наконец незаметно легла на живот и уснула. Я медленно протянул руку, чтобы погладить ее по голове, но не решился и так же медленно убрал руку. Со стороны это выглядело, наверное, так, словно я нацелился на ее сонную артерию. Вставая с ее постели, я ударился головой о верхнюю полку. Все-таки ужасно сверстаны отечественные вагоны. На узком диване купе она занимала удивительно мало места. Когда автор пишет в романе, что «со стороны ей можно было дать не больше пятнадцати», то ему можно смело давать не меньше пяти. Однажды замеченные морщинки у резкого рта теперь не давали мне покоя. Я хотел сделать невозможное, поцеловать эти морщинки, но сдержался. Душная майская ночь избавила меня от необходимости прибегать к избитым мелодраматическим эффектам вроде заботливого укрывания героини одеялом. В открытое окно со скоростью сто километров в час проникал сырой, земляной, луговой воздух.
С остатками коньяка я вышел в коридор, глотнул из горла и хотел идти в тамбур, но вдруг услышал обрывки странного разговора. Двое стояли в другом конце коридора, в руках у них что-то гранено поблескивало, и один, напряженно жестикулируя, быстро говорил другому:
– Bullshit is this job, I quitted it. Last thing I need is this stupid province. Ugly Russians like to drink birch juice. Every time they drink, they go crazy. By the way, have you already played this new shooter? Even now Russians hold up a tradition to send their children of age to army. Life became unbearable, I quitted the job. Lots of soldiers crossing a bridge at the same time in cadence can destroy it.
«Надо же, как далеко забрались», – покачал я головой и пошел курить. Я почти ничего не разобрал из-за жирного калифорнийского акцента. Возле тамбура меня на минуту задержало отвратительное зрелище: одна готическая девушка с синими волосами и черными губами, кругло открыв рот, показывала другой увешанный сталью язык, и бусины и кольца глухо стучали о желтые зубы, издавая жестяной, бескрылый звук расплющенного каблуком колокольчика.
Утром было легкое похмелье, восхитительно пузырящаяся минералка, неторопливый завтрак. Видно было, что она стесняется вчерашней откровенности. Я попробовал заговорить о работе, вышло глуповато.
– Совсем забыл, как его зовут.
– Кого? – спросила она, пряча глаза.
– Политика, к которому мы едем. Вылетело из головы.
– Не ешь, не ешь, – вместо ответа торопливо сказала она, забирая у меня курицу в фольге, которую я разворачивал. – Она, скорее всего, испортилась. Ночью было жарко.
На станции была связь, она зашла с телефона в свою почту и без выражения, как конспект, прочитала письмо из редакции, написанное почему-то арт-директором, в телеграфном стиле:
«Генерального и главного уволили акционеры смена руководства и концепции долги типографиям возвращайтесь назад командировка отменяется не тратьте деньги нам теперь не до политики сокращение первым же поездом».
Моя первая мысль была обжигающе-панической: а вдруг уволят по сокращению штатов? Двое вчерашних американцев покинули поезд и уверенно пересекли пути, словно зная, куда идти, и твердо шагая по крупной гальке маленькой тоскливой станции, надежно затерянной в русской провинции. Откуда они вообще взялись именно в этом месте? Они выглядели неуместно до карикатурности, как будто подрабатывали по поездам богами из машины. Она же сказала о главном редакторе:
– А я ведь только из-за него туда устроилась…
Ехать назад было скучно, и говорить ни о чем не хотелось. Я взял бы ее молча за руку и просидел бы с ней так до самой Москвы, но она была слишком расстроена, и я решил не тревожить ее. Когда в тамбуре я давал ей прикурить, она смотрела на меня таким же точно взглядом, как на свой корректор. Уже недалеко от Москвы мне удалось поймать сеть, и я прочитал ей новость о том, что новым министром внутренних дел все-таки назначен человек с чудесной фамилией, которая гораздо лучше подошла бы директору детского сада.
Через две недели ее не было в редакции, и мне сказали, что она уволилась. Только тогда я понял, что у меня не было ее телефона, ведь мы виделись каждый день. Ни у кого из коллег ее номера также почему-то не оказалось. Я нашел ее в социальной сети, логотип которой при определенном воображении можно представить как оторванный от колокольни крест, писал ей три дня подряд, пытался объяснить, что без нее у меня не будет больше ничего: синего леса на горизонте, послевкусия луга, желтого пульсирующего глухого пчелиного мира, спасенных лютиков, золотой пыли и шелковой ровной ткани романа, который я, конечно же, пишу и посвящу ей, – ничего, ничего. Она не ответила.
Вскоре пришла последняя полоса от нее, про моду и стиль, где говорилось, что мужчины будут без ума от сарафанов с цветочными принтами и декольте, длинных платьев со скошенным подолом, босоножек с тонким ремешком, что оставляет особенно трогательный розоватый след на ступне, и балеток с ромашками, одуванчиками и прочими неопределенными цветами, синими крестиками, похожими на зародыши неизвестных еще цветов.
Все равно эти мелочи: висячие строчки, всхлипывающие опечатки, немые фотографии, короткий жалкий дефис вместо тире, всегда надежно довозящего до пункта назначения, – видны только профессионалу. Обычный читатель ничего не заметит. Июнь был жарким. Я больше не чувствовал ни беды, ни голода, ни страсти; меня слегка мутило от однообразного голого женского тела, в изобилии наваленного в душные вагоны метро. Брезгливый и раздраженный, я пачкался в сладких парфюмерных лужах, проталкивался сквозь сарафаны с цветочными принтами – содранные вместе с гумусом и пущенные на выкройку тихие лужайки – и рассеянно думал о том, что та дверь под нами сегодня впервые на моей памяти была закрыта, и не переливались тихо сами через себя маленькие прощальные колокольчики.
2012 г.
Нуар
А все должно быть со смыслом И смысл, смысл чист, Как весенний лист. Глеб СамойловЭто было пустое потное лето без работы и денег. Я тогда сидел «на сделке», ладное слово «оклад» кощунственно, криминально мерцало богатыми золотистыми смыслами. Все длилась и длилась нудная сделка с совестью: когда-то давно хороший друг одолжил мне денег, теперь нуждался сам, а я не мог ему вернуть.
И вот эта сделка заканчивалась, но совсем не так, как нужно. В начале осени мне удалось немного заработать. Чем же занимается герой? Это так же не важно, как и его заработки в то лето. Да, я, пожалуй, воспользуюсь графоманским приемом отметания низких грязных подробностей, на какие шиши живут герои: интересно, что за ощущения будут в первый раз. Воспользовался. Отмел. Непривычно. Низко. Грязно.
В общем, у меня умер телефон, и тут как раз я захотел игрушку: планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab с функцией телефона. Я заказал планшет в интернет-магазине. Я захотел его с детским предновогодним напряжением, не дающим уснуть, когда от волнения сердце бьет под ключицу, и думать я мог только о наступлении следующего дня, когда этот черный, блестящий, полированный монстр окажется у меня в руках. Это было странно, я ведь совсем не гаджетоман. Но у меня никогда не было игрушек, и я хотел игрушку. Планшет обещали привезти не позже шести часов вечера завтрашнего дня.
На тот же вечер, на 19.15, у меня было назначено свидание с девушкой Машей, с которой мы случайно познакомились в Интернете в середине этого пустого, потного лета. Непонятно, зачем мы познакомились. Мне она вовсе не нравилась: на фотках была веселая, легкая девочка с прозрачными волосами, сфотографированными против солнца, с мелкими, резковатыми, аппетитными чертами лица, одетая в веселенькие цветочки и крестики, хорошая друг-подруга, с которой можно и в бадминтон, и по пиву, и в постели тоже все так крепко, весело, розово. Мне же нужна была высокая, статная, еще одно лошадиное определение: с крупным крупом, черным блестящим лакированным цокотом вышагивающая по асфальту красавица в распахнутом сером пальто. Когда обнимаешь ее за талию, то чувствуешь, что у вас на двоих одно тело. Наверное, я хотел жениться. Какое уж там бадминтон и пиво.
Еще более странной наша заочная дружба должна была выглядеть для Маши. Она работала в Оргкомитете Олимпиады в Сочи (всего двух колец не хватает), в Москву приехала ненадолго и окончательно вернуться должна была только весной.
Однако меня волновала эта встреча. Незадолго до этого у меня случилось затруднение, которого никак нельзя ожидать от взрослого мужчины. На моем правом ботинке грозила отвалиться подошва. И я прикидывал, что в шесть привезут планшет, за час до свидания я дойду до торгового центра, возле которого мы условились встретиться, куплю новую обувь, и ровно в 19.15 буду ждать Машу, сияющий, новый, с гарантией.
В 18.15 планшета не было. Я позвонил в магазин с рабочего телефона (и не ленятся ведь описать, откуда звонил, если своего нет). Менеджер сказала мне, что договаривались позже шести, но до семи часов вечера. За отвалившейся мелкой частицей спрятался чудовищный обман, грозивший продлить мою нищету и ничтожество. Заказа не было и в половине седьмого, и я уже собрался бежать за новыми ботинками, нельзя же на свидание в этих, обещавших жизненный крах, но душное детское чувство не пускало меня. Я очень хотел игрушку. «Должен ведь я дождаться телефона, чтобы связаться с Машей, если мы потеряемся?» – говорил во мне взрослый. «Ложь, – отвечала детская мудрость. – Тебе нужна игрушка-планшет». – «Но ведь с функцией телефона…»
Планшет привезли в 19.00, действительно ни минутой позже. Еще пять минут ушло на оформление покупки. Быстрым деловым шагом до места встречи идти было ровно десять минут. Я побежал. По дороге подошва ботинка начала отставать и пришлепывать. Ровно в 19.07 я стоял перед Машей с обожженным бегом горлом. Зато в рюкзаке у меня лежал новенький черный сияющий Samsung Galaxy Tab. Маша все поняла правильно, я это чувствовал. Маша не посмотрела на мою обувь и поэтому с восхищением представляла, как я, задержанный обстоятельствами, тем не менее вырвался ради нее и (почти?.. пусть будет «почти бежал», так элегантнее) почти бежал, чтобы рыцарски встать под часами в назначенный час. Угадайте, где на «Курской» есть часы с большим циферблатом.
Маша оказалась высокая, статная, крупно вышагивающая красавица в распахнутом сером пальто. Мне захотелось стать инвалидом без ног – так бы я чувствовал себя увереннее. Я обливался потом, шмыгал носом и никак не мог выбрать, как же выгоднее использовать носовой платок.
– Я… телефон… с функцией планшета… задержали. А ведь нужна связь. Как бы мы без связи? – извинялся я, втягивая пот обратно в кожу, как бы шмыгая лбом.
– Ничего страшного, это я пришла раньше, – просто и с достоинством, как диктор в самоучителе иностранного языка, ответила Маша, и мы пошли в кафе на третьем этаже торгового центра.
Она шагала широко и спокойно, как бы делая одолжение спутнику, я же, истекая стыдом, болезненно семенил, чуть приотстав.
В кафе я, однако, осмелился помочь ей снять пальто. Ее персиковые локти ловко, небрежно выскользнули из рукавов. На Маше было надето свободное черное платье до колена, одновременно резкое и нежное, со странным воротником – перекрестье черных лент через ключицы. «Неужели для меня?!» – испугался я, дикарь, крестьянин в онучах, видевший лишь маленькое черное да кондитерское свадебное. Я был мокрый насквозь, и куртка с меня слезала мучительно, липкая подкладка рукавов выворачивалась наружу вместе с кожей. Наконец, когда мы сели и мои ноги оказались спрятаны под столом, я начал приходить в себя и спросил у Маши, чем она занимается в Сочи.
Маша начала подозрительно живо для такой королевской, лошадиной статности кокетничать, говорить, что ах, мы там только купаемся, купаемся, и вообще жара, и в офисе нет сил сидеть, и потом безо всякой связи перешла на то, что в офис никогда не хотела, а в Москве вообще все не то, вот Питер – может быть, я, кстати, туда еду на выходные, но там тоже неизвестно что делать, и я хотела бы жить где-нибудь в Центральной России, в небольшом, уютном городишке. Я наконец остыл и продрог, очень хотелось в туалет, и я не знал, как прервать Машу и выйти, чтобы с облегчением, по-собачьи передернуться и встряхнуться. «Еду все не несли…» – обязательный в московских кафе штамп. «Пожила бы ты не в Сочи и не в Питере, а в настоящей «Центральной России», узнала бы, какие там уютные городишки…» – такое обычно полагается думать грустно, насмешливо, но в моем положении даже эта мысль получалась напряженной. Наконец принесли наш заказ, и я выскочил из-за стола «помыть руки», забыв, что подошва может отвалиться.
Когда я вернулся, Маша задумчиво накручивала спагетти на вилку, как прядь волос на палец. За едой я совсем оживился и, макая роллы в гудроновую, асфальтовую по цвету лужицу соуса, готовился заговорить о чем-нибудь безобидном, но Маша заговорила первой:
– Как это происходит? Как ты пишешь?
Я уронил палочки под стол. Нагнувшись за ними, я увидел, что Маша сняла туфли и поставила босые ноги на холодное стальное перекрестье у ножки стола.
Я замялся и замычал:
– Ну как… Есть идея, и потом, значит, пишешь. Метафора. Скрытое сравнение.
– Что ты со мной как с дикаркой! – вскинулась Маша. – Я давно тебя читаю и, наверное, могу кое-что понять. Расскажи.
Маша смотрела на меня прямым, умным, ласкающим взглядом – такого не бывает у женщин, с которыми может что-то сложиться, – и я стал честно таять. Таяние мое выражалось в том, что я все распрямлялся и становился как-то выше, даже сидя в кресле. Я рассказывал о расточительном, нелепом вранье, когда незаметный, лишь для тебя одного придуманный образ ты воровато подбираешь с асфальта, как чужой кошелек, или нежно снимаешь с лица прохожего, как паутину, и тащишь к себе домой, к себе в рассказ, чтоб накрутить на него каламбуров, прошить дратвой повторяющихся мотивов, и чтобы в начале, в середине и в конце одинаково ныла и выла одна и та же чистая нота, провода на ветру. Я говорил, что перед тем, как сесть за рассказ, то, чтобы сразу же не сфальшивить и не сбросить так долго копившееся драгоценное напряжение нервов, нужно долго, пока компьютер не уйдет в спящий режим, ходить кругами по комнате, позволяя себе думать о любой ерунде: повторять про себя шутки с коллегами в офисной курилке, представлять, как даешь интервью, вспоминать покупки на завтра, например, нужно средство для чистки ванны, – словом, думать о чем угодно, кроме того, о чем собираешься написать; когда засоренная голова устанет и откажется четко соображать, можно садиться за стол, и освобожденное из концлагеря мысли зернышко, которое я и есть, осмелеет и завибрирует, посылая потоки густого темного глянцевитого вещества, из которого и проступит вскоре побулькивающий, горячий, только что сотворенный мир: главное, старайся ничего не придумать да клавиатуру купи поудобнее, беспроводную. Я объяснял, что на следующий день, конечно, надеваешь перчатки, берешь швабру и вычищаешь остатки божественной слизи, которая за ночь помутнела, подкисла, пошла студенистыми сгустками: здесь подтереть, здесь подровнять, а здесь вообще выжечь голубым, ядовитым средством для ванны. Некоторые свои вещи я чистил столько раз, что помню сейчас наизусть, и меня тошнит.
Маша не верила, что тошнит, и все расспрашивала и расспрашивала меня, догадываясь о таких деталях, о которых, как я надменно полагал, кроме меня, не догадывался никто. Она несколько раз за вечер переспрашивала, когда я допишу последний рассказ и когда же выйдет моя первая книга. Я то и дело нарочно ронял под стол палочки, зажигалку, розовый язык имбиря, чтобы посмотреть, не надела ли она туфли. Маша была босиком. Я забыл о своем ботинке, я забыл о своем ничтожестве, я пировал, я был королем, я заказал еще роллов – а она все сидела со своей маленькой чашечкой кофе, сама такая же маленькая, никчемная, полупустая. Сбивающая по ночам простынь в комок студентка филфака, стоящая в толпе «Библиоглобуса» за хамским, невнимательным автографом! Провинциальная учительница, пришедшая на творческий вечер в лучшем – единственном! – маленьком черном платье и задавшая в записке вопрос, который влюбленная женщина позволяет себе один только раз в жизни! Надменно оставленная в подписчиках в Фейсбуке офисная сиделица, внимательно читающая и бережно, тонко комментирующая все, что я написал!..
…Я не помог Маше надеть пальто, и она не сразу попала персиковым локтем в рукав. Сам же я ловко, небрежно накинул подсохшую куртку. Сквозь стеклянную стену торгового центра светили огромные синие буквы названия вокзала, и казалось, что это витрина и буквы можно купить.
Мы шли к метро по черному, глянцевитому после дождя асфальту. Я шагал широко и как бы снисходительно, Маша болезненно семенила, чуть приотстав. Нас обогнала девушка в балетках.
– Смотрю на нее и мерзну… – сказала Маша, чуть передернув от озноба плечами.
– Но в туфлях тебе ведь не холодно?
– Да. Но они новые. И ужасно жмут, – безо всякой связи добавила она.
Утомленная долгой беседой мысль стала затихать, и внутри заворочалось, завибрировало: муза… жена… первый читатель… секретарь, литературный агент… всего двух колец не хватает. Наверное, надо жениться… Вдруг сложилась отчетливая, издевательская картинка: а ведь нужно сейчас обнять ее за хлястик пальто, и походка наша станет нелепой, подагрической, как у всякой обнявшейся за талии пары, у которой на двоих одно тело. Чушь. И тут я наконец вспомнил… и пошел медленно, осторожно. На правый Машин каблук был насажен бледно порозовевший от смущения осенний лист.
***
Выходя из метро, я споткнулся о ступеньку, и подошва моего правого ботинка оторвалась. Сначала я шел по блестящему черному тротуару, но глянцевитую гладь асфальта у автобусной остановки своротили, и я наступил голой ногой в сырую колючую яму. Было непривычно, низко, грязно. Я шел босиком по осенней земле, зато в рюкзаке у меня лежал новенький черный сияющий планшетный компьютер.
Дома в прихожей я долго отряхивал прах со своей правой ноги. Планшет оказался бракованным: держатель для симки не закрывался, она выпадала, и связь не работала.
У меня никогда не было игрушек, и я хотел игрушку. Какое, должно быть, в Сочи плотное, сочное лето. Скоро зима. И как, наверное, напряженно ждет тепла весенний лист, туго завернутый в почку отложенной про запас, сберегаемой кем-то жизни.
Красавица
Компания «Седьмой континент» – одна из первых российских мультиформатных розничных сетей. Работа сразу в нескольких форматах позволяет компании не только постоянно расширять сферу своей деятельности, но и повышать конкурентоспособность магазинов, увеличивать круг постоянных покупателей с самыми разными предпочтениями и доходами.
Если долго вслушиваться в многоголосое пиканье касс, можно услышать разговор.
– Ты?
– Да.
– Как?
– Так.
– И?
– Да!
Разговор идет по-китайски, в разных тональностях. В магазине очень слабые люминесцентные лампы, и если работать в ночную смену, то к утру начинают болеть глаза. Всегда очень грязный пол, сколько его ни моет молчаливая уборщица-узбечка. Очереди, утомительные и для покупателей, и для кассиров вечные очереди; везде в магазинах очереди, но почему в этой средненькой круглосутке на окраине спального района очередь даже в три часа ночи? И это без алкоголя?..
График сутки через двое, восьмичасовая смена, час перерыва на все про все, используй как хочешь. Так? Да. А так? Да. А так? Да. Так? Да!
Мадина жила на Вешняковской улице примерно посередине между станциями метро «Выхино» и «Новогиреево». Закончив техникум, она пошла работать в ближайший круглосуточный «Седьмой континент». Товароведом ее, конечно, никто не взял, и немалым трудом полученный диплом оказался бесполезным. Но Мадина и не рассчитывала сразу после техникума работать по специальности и поэтому спокойно выслушивала одну и ту же фразу, которую ей говорили все директора магазинов, куда она приходила: «Вот посиди сначала годик-другой на кассе, товар повыкладывай, в мясном за прилавком постой, а потом посмотрим, чего стоит твой диплом».
Вот этот вот час перерыва, который можно использовать как угодно, был главной подлостью этой работы. То есть сбегала по-быстрому покурить – засчитано: четыре минуты. На туалет, извините, тоже сколько-то времени требуется, сохраним секреты. Расположишься не спеша, с удовольствием поесть – течет, течет сквозь пальцы драгоценное время! Можно весь час потратить на царское пиршество – домашняя тушеная брокколи из пластмассового лоточка, а можно постоянно ходить курить. Курить научилась в Москве. Покурила, вернулась на кассу – и тут же обратно, курить. А можно послать все к чертям и запереться на весь нескончаемый час в туалете.
Была еще одна подлость: старый охранник, который ходил за покупателями и внимательно, не таясь, смотрел на их руки. Мадина забывалась от омерзения, хотелось крикнуть: охрана! Выведите этого человека!.. Но он и был охрана, и даже самые развязные подвыпившие мужики стихали, стушевывались под этим взглядом, прятали руки, вытирали их о штаны после взгляда охранника.
И еще, пожалуй, вот что не стоило бы терпеть: на каждой кассе был призывный плакатик, всем на свете рассказывающий о зарплате кассира в тридцать тысяч рублей и о «возможности дополнительного заработка». Не поработав и дня в московском офисе, Мадина откуда-то знала, что не стоит распространяться о своем ежемесячном заработке, и даже через свою небывалую смуглость она умудрялась отчетливо покраснеть – не за себя, нет! – она работала честно и на большее не рассчитывала, – а за директора магазина, за руководство сети, где считалось нормальным выставить на всеобщее обозрение такую маленькую зарплату своих служащих, когда некоторые покупатели, в основном мужчины в хороших тонких пальто, могли в одну тележку набрать продуктов на треть, на половину такой зарплаты.
Все остальное же было то, чего Мадина примерно и ожидала, идя в продавщицы.
Мадина приехала в Москву маленькой девочкой вместе с семьей в 1993 году, когда они бежали из Грозного. У отца, влиятельного в свое время партийного босса, чудом, в золоте, сохранились кое-какие деньги, и он купил недорогую квартиру – тогда это еще было возможно. Остались у него и старые связи в Москве, он устроился заместителем директора банка, сначала они жили неплохо, но Шамиль Тагирович недолго выдержал в новой действительности, к тому же что-то с кем-то не поделил и через три года, в 1996-м, умер от того, от чего часто умирали тогда честные пятидесятилетние партийные функционеры: сердце было изношено. С родиной же связей никаких не осталось, и многочисленные родственники не стали устраивать судьбу его дочери.
Дома, в панельной двушке как раз напротив «Седьмого континента» – только Вешняковскую перейти, пять минут до работы, – Мадину ждала мама, пенсионерка Гульнара Хаджиевна. Старость и горе стерли ее гордый горский облик, внешне она стала походить на обычную русскую старуху, наматывала на себя шали и платки, идя куда-то, опиралась на каждый косяк, так что даже белая краска на каждом косяке чуть потемнела в тех местах, где она опиралась. Когда же Гульнара Хаджиевна собиралась идти в Сбербанк платить коммунальные или, не дай бог, ехать зачем-то в город: штурмовать троллейбус, на нем к метро, а там! – толпы, лужи, люди, гололед, лестницы, гильотинные двери! – то это выглядело как выход смертника на последнюю битву. Намотать на себя все платки и шали. Застегнуть на все кнопки старый синий плащ. Проверить натяжение креплений на сумке-тележке.
– Мама, зачем тебе сумка…
– Хьан хаъ мича хiу йорах нисло? Букъ тiехь такхйо ас и цiа?
– Говори по-русски, мама! Ну я купила же все…
– Втридорога-то богатые мы покупать.
Мадина очень любила и жалела свою мать, и все-таки, ужасаясь самой себе, что она, чеченка, может думать так вблизи матери, тоскливо завидовала подругам-одноклассницам, которые почти все уже вышли замуж. Завидовала не банальному браку, а тому, что они жили отдельно. Некоторые, конечно, со свекровями, это гораздо, гораздо хуже, но те, кто вырвался на свободу, успел влететь в золотую клетку, пока не захлопнулась дверь, – как они не ценят своего одиночества с мужем в отдельном жилье!..
Мадина ходила по квартире, ходила, ходила, не смея присесть, наслаждалась свободой от смены, от кассы, от кресла, ходила, жалела, любила маму и в воображении первым делом оттирала, оттирала эти серые пятна с дверных косяков.
***
Мадина была красавица. Если бы ее семья тогда, в 1993-м, осталась в Грозном и пережила войну, то сейчас Мадина была бы замужем за богатым уважаемым человеком, родила бы уже второго ребенка и вовсю поправляла бы после родов фигуру, а на их свадьбе разбросали бы столько денег, сколько за всю жизнь не заработать этим нищим жадным жлобам, хозяевам супермаркета. Но Мадина была очень нетипичной чеченкой, начиная с бегства своей семьи из горящего Грозного и кончая тем, что она сейчас обычная продавщица, тогда как ее кавказские сверстницы жили теперь в Москве совсем другой, чем она, жизнью. Все шире росло паломничество в великую новую Мекку, но Мадине въезд в старый город был уже запрещен.
Мадина листала в книжном магазине очередной том «Намедни» и долго вглядывалась в фотографию, где официантки на пышном банкете даже будто и неохотно, словно уборщицы мусор, выгребают синие тысячные купюры из-под стола, за которым сидит начальник ее потерянной родины, – но это, впрочем, всегда казалось ей пошлостью. Но как она завидовала девушкам на увиденной однажды случайно дагестанской свадьбе! Как ей пошли бы эти короткие и приталенные – никак ведь не сочетающиеся с нормами! – платья, нежные бежевые и черные с блеском туфли на каблуке и с открытым мыском, завитые волосы, жемчужные серьги в розовых мочках ушей – а на ней только форменный синий фартук и стоптанные балетки. Мадина знала, что она красавица, и не могла удержаться от улыбки удовольствия, которое вызывала в ней реакция мужчин, берущих у нее из рук фарш и на секунду задержавших на ней потерянный взгляд. Мадина не кокетничала, нет, как можно, но ее задумчивость, ее мягкая, затемненная смуглостью красота, тихий и теплый голос делали так, что вокруг Мадины постоянно висело словно легкое облако из покоя и уюта, обещания ласки и чуда. Русские мужчины, видя ее резкие скулы, большие смородиновые глаза и тонкий изогнутый нос, сразу признавали в ней чужую, «черную» и все-таки, засмотревшись, не сразу могли указать на нужный фарш или кусок рыбы. Парни с Кавказа и те не все начинали приставать, а тоже, залюбовавшись, молча тыкали пальцем куда-то в готовый, совсем не нужный им шашлык в банке. От примитивных, не видящих разницу между нею и крашеной русской блондинкой в короткой кожаной юбке, Мадина просто уходила ненадолго в подсобку.
В ту зиму часто заходил один парень по виду чуть старше нее. Он был в огромных красных наушниках, делавших его голову похожим на баранью, когда круто, в спираль, закручиваются рога. Наушники покрывала темно-зеленая ушанка. Он был одет в темно-зеленую же мешковатую куртку, за спиной носил большой рюкзак, на дно которого аккуратно укладывал четыреста граммов фарша, мешочек лука и пачку недорогих макарон – больше он редко что покупал. Внешне он был очень русский, Мадина не знала, как объяснить – грузный, в ушанке, часто небритый, и казалось, что его карман оттопыривает бутылка, да, наверное, так и было, потому что нередко от него шел тяжелый отравленный зной перегара, и Мадина резко забывала улыбку и морщилась и тут же жалела странного парня, потому что вся русскость с него сразу слетала, и он становился удивительно тонким при своей грузности, извинялся осанкой, наклоном головы и опускал необыкновенной жалостливый, униженный взгляд с Мадины на переложенную зернистым льдом рыбу на прилавке. Приходил он обычно за полночь и долго слонялся вокруг мясного отдела, будто думая, что купить, и брал всегда один и тот же фарш, но за пятнадцать минут тяжелых раздумий успевал раза три полюбоваться Мадиной. Соседка Маша из сырного отдела однажды сказала ей, что парень справлялся, когда дежурит Мадина, и она про себя возмутилась, но когда увидела его в следующий раз, то опять пожалела за его чистый, взволнованный, совсем не мужской взгляд, извиняющийся за то, что он снова пришел посмотреть на ее красоту.
***
А город был большой. Мадина прожила в Москве уже двадцать два года и все не могла привыкнуть к тому, какой он большой. Подруг в техникуме она не завела, на большинство принятых здесь развлечений у нее не было денег. В выходные Мадина, если не пыталась отнять у матери работу по дому, которую та всё хотела делать сама, ругаясь при этом, что ее «заездили», любила поехать гулять одна, потому что привыкла всегда быть одна, зайти в большой книжный магазин и долго читать что-то стоя – ей все казалось, что это нельзя и ее сейчас погонят. Ела мороженое, гуляя по паркам, разглядывала, как одеты русские девушки. У нее до сих пор не было мобильного телефона, потому что он ей был не нужен – для связи с работой обходилась городским, и ей все хотелось купить нарядный, странно тяжеленький при своих миниатюрных размерах «Айфон», Маша как-то давала ей поиграть.
Назавтра не нужно было работать в ночную смену, и этого было достаточно, чтобы Мадина легко и рассеянно улыбалась, распространяя в полуметре вокруг себя приглушенный свет и смуглое кофейное тепло, и у встречных мужчин застывал взгляд, и они оборачивались ей вслед, пока их спутницы не дергали их зло за рукава хороших тонких пальто. Мадина, растеряв многие качества настоящей женщины, сохранила убеждение, что ее время заканчивается и замуж она вряд ли выйдет. За кавказца она уже не хотела, а к русским так и не привыкла, и, подумав в очередной раз, что возвращаться домой надо не к любимому мужу, мужчине, главе и хозяину всей окружающей жизни, а к старенькой маме, вздыхала, но, вспомнив, что завтра не надо в ночную смену, вновь начинала излучать свет и тепло, только свет и тепло – больше у нее ничего не было.
Домой Мадина возвращалась всегда рано и так ни разу и не узнала, каково это, когда за ней вдоль тротуара едет машина с двумя-тремя парнями, которые предлагают «просто покататься». Она не отказалась бы даже и «покататься» и вообще с кем-нибудь познакомиться. Однажды Мадина завела страничку на сайте знакомств и, сидя с ногами в кресле перед компьютером, пила вечером чай и разглядывала потенциальных поклонников, готовясь с всегдашней своей простотой ответить на чье-нибудь восхищение что-то простое и милое – как бы улыбнуться сквозь монитор. Но за один вечер она получила столько необыкновенных, невыполнимых, казалось, даже технически предложений – они были за гранью ее опыта, понимания и стыдливости, – и Мадина не испугалась, не возмутилась, а как-то нахмурилась, удалила страницу, и несколько дней ей потом казалось, что она забыла принять вечером душ, проработав весь день в рыбном отделе.
Мама все совершала газаваты в Сбербанк. Мадина как-то взяла и отмыла серые пятна на дверных косяках. Маша из сырного отдела подарила ей на день рождения свой ставший вдруг старым «Айфон» – сама купила новый! Мадина подружилась с уборщицей-узбечкой, рассказала ей о пиканье касс, в котором, если хорошенько прислушаться, можно услышать веселый прерывистый разговор. Та, подумав, ответила, что иногда тоже что-то такое слышит.
***
Странный парень в ушанке по обыкновению долго ходил вдоль прилавка и снова взял четыреста граммов того же самого фарша, что и обычно. «Макароны по-флотски» – вдруг впервые осенило Мадину, и она улыбнулась чуть откровеннее, щедрее, чем обычно. Русский улыбнулся в ответ, чего никогда не случалось. Он был чисто выбрит, спиртным от него не пахло. Он убрал пакетик с фаршем почему-то в карман своей просторной куртки, а из рюкзака вытащил букет роз. Мадине всегда казалось, что розы примерно такая же пошлость, как тысячные купюры под банкетным столом, но сейчас это были очень простые, спокойные, скромные розы. Может быть, они показались такими, потому что Мадине впервые в жизни дарили цветы. Парень молчал.
– Большое… вам… спасибо, – сказала Мадина, улыбаясь такой же простой и спокойной, как розы, улыбкой, – но я… замужем.
– Извините, – сказал парень и пошел дальше.
Через пару минут Мадина услышала разгорающийся скандал и сразу же узнала в его хоре голос этого парня, хотя за все время, пока она его видела, он произнес с ней одно только это «извините».
– Как вы смеете ходить за мной! – кричал парень в другом конце магазина. – Я буду жаловаться на вас за то, за то, что вы… вы делаете мерзость! Я не позволю вам следить за мной, за моими руками!
Охранник забубнил в ответ, и тут раздался мокрый звон разбитой бутылки. На секунду все замолчало, и звон зазвенел сплошной стеклянной завесой сорокаградусного дождя.
«В коньячном», – прикинула Мадина.
– Вот вам, вот вам ваши бутылки, вы их специально так ставите, чтобы легко можно было смахнуть! Вот вам, вот вам, вот! – кричал парень в ушанке и бил одну за другой дорогие коньячные, ромовые, с виски бутылки – треть, половина зарплаты, целая, полторы… – а туда уже бежали все кассиры.
Мадина поспешила в подсобку ставить в воду цветы.
2014 г.
Царское Село (маленькая комедия)
Полине Ермаковой
Смуглый отрок бродил по аллеям; стремительно темнело. Был тихий июльский вечер, но отрок озяб. Он вырос в теплых краях славной Абиссинии и привычен был к климату благорастворенному. Сильно кусали комары, расплодившиеся в буйной зелени, обильно произраставшей вокруг. К тому же отрок не понимал, где он сегодня найдет свой ночлег, ибо местность сия была ему решительно незнакома. Добавить к этому некстати разыгравшийся молодой аппетит абиссинца, и можно вполне представить затруднительное положение, в котором наш друг оказался.
Отрока звали Абуна, он приехал из Абиссинии изучать полную науками и изящными искусствами столицу далекой северной страны, сиречь нашей богоспасаемой родины. По дороге сюда он побывал уже в древней нашей столице. Она понравилась ему главным образом обилием возбуждающих поэтическое волнение девиц, которые видят свое достоинство не в строгости, приличной высшему свету, а в простоте и согласии на невинные ласки, столь приятные в кругу дружеском. О русских женщинах он привез из Москвы сладостные воспоминания, не всегда, впрочем, доверяемые и друзьям в хмельной пирушке, ибо честь дамы превыше всего и для негра из Абиссинии. В Петербурге Абуна намерен был продолжить знакомство с нашими дамами, так часто обделяемыми страстью своими мужьями, не забывая, однако, о науках и искусствах.
Гуляя по Петербургу и любуясь величественными красотами, возведенными на брегах Невы Петром, Абуна узнал от господ, изъясняющихся на французском языке гораздо изысканнее, чем он, что за городом есть парк. Он устроен по образцу английских, но превосходит их размахом и великолепием. Абуна сел в маршрутную коляску, вверясь совершенно воле божьей и искусству Терешки-кучера; кони мигом домчали его до парка. Вошед в ворота, от которых как раз отлучился служитель, Абуна был еще более потрясен красотами природы в сочетании с изящностию дворцов, нежели строгой, стесненной гранитом столицей. Долго он бродил по тропинкам, обрамленным жирною зеленью и обставленным прекрасными скульптурами, которые своей белизной и точеностью форм напоминали ему московских барышень и тем несколько смущали молодого негра, который, несмотря на страстные устремления плоти, сердце имел скромное и доброе. Дворцы, флигели и беседки рождали в Абуне патриотическую зависть, утоляемую лишь надеждою, что, изучив науки, искусства и, кстати, запечатлев в своем сердце нежные воспоминания о петербургских дамах, он возвратится в свою родину, увы, пока не столь просвещенную, как эта далекая северная страна, и научит устраивать такие же красоты своих соотечественников, легкость ног которых пока превосходила быстроту их ума. Под сенью дерев, в журчании струй из фонтанов Абуна вспоминал свою далекую, жаркую отчизну, наполненную песками и скромными хижинами, и грустил. За грустью он не заметил, как заблудился. В отчаянии он бродил по аллеям, но не находил настоящего направления. Мало-помалу деревья начали редеть, и Абуна вышел из лесу; дворца было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он пошел наудачу. Выбившись из сил, Абуна прилег на скамейку и укрылся камзолом. Несмотря на отчаяние, засыпая, Абуна видел прелестную мраморную ножку одной московской девицы, подставляемую ему для поцелуя в виде карточного проигрыша.
Глава XXIIIX
Наутро Абуна проснулся от зуда во всем организме, происходящего от комаров. Вокруг него собралась небольшая толпа; раздавались удивленные возгласы; отовсюду спешили еще люди. Почтенных лет господа и дамы в одинаковых синих камзолах наставляли на него орудия с круглыми стеклами неизвестного Абуне назначения. Абуна горячо заговорил сначала на родном языке, потом по-французски; никто не внял ему; все только похлопывали его по плечам и продолжали наставлять орудия. Слезы снова брызнули из глаз Абуны; с горечью подумал он о черни, окружившей его; Абуна залился краской и пошел прочь. Дорогу ему преградил служитель в черном мундире, сидевшем на нем весьма неловко. Портки его были длинны сверх меры и тоже неказисты.
– Кто этого мудака сюда пустил? Бомжей в Царском Селе разводите? Негритосов сифилисных прикармливаете?! – с чувством сказал служитель по-русски.
Абуна узнал лишь одно слово «мудак», созвучное некоторым певучим излияниям его родного наречия. Тут появился другой служитель, одетый бедно, но бедность эта изобличала вкус и хорошее воспитание. Он заговорил искательно:
– Так вчера всего на пятнадцать минут раньше закрыл, народу уже не было! Господин полицейский, я откуда знал, что он придет…
– Закрыл?.. – свирепо отвечал ему служитель в портках и, взяв несчастного за ворот платья, принялся трясти, явно вознамерившись выбить дух вон.
Толпа в испуге расступилась; Абуна, не терпя творящегося беззакония, в гневе кинулся на разбойника; страшный удар в лоб свалил его наземь; разум его померк.
Абуна пришел в себя не скоро. Он лежал на полу в холодном темном узилище; у стены стояла одна узкая кровать; нигде, даже в самых бедных областях своей родины, он не видел столь гнетущей душу убогости. Голова его пылала; Абуна встал и, нашед в двери маленькую щель, стал смотреть наружу; на стене напротив была начертана непонятная ему эпиграмма:
ОВД Царское Село
Снаружи зазвучали голоса; Абуна поспешно отступил в тень, готовясь скорее отдать свою жизнь, чем допустить поругания над честью своею. Горячая кровь воинов-предков вскипала в нем; сын пустынных песков ощутил себя зверем и даже негромко, чтобы не обнаружить себя, зарычал на львиный манер. Дверь отворилась, и…
Глава XVVIIIIV
…На пороге темницы появилась дама столь прекрасная, что казалось, темное узилище превратилось в пышный дворец. Сияние ее благородной красоты ослепило Абуну. Он сделал шаг навстречу ей; она заговорила; никогда еще Абуна не слышал звуков столь пленительных и поэтичных. Смысла их он не понимал, но чувствовал, что в нежности они не уступят эклогам Вергилия, а в красоте воображения далеко превосходят идиллии г-на Сумарокова.
– Вы тут охуели совсем, что ли? Беспределят, блядь, как хуй знает что, – лились сладкие звуки. – Это студент из Эфиопии, приехал учиться к нам по обмену. В культурную, блядь, столицу! А вы?! Сегодня их группа должна сюда на экскурсию прийти, я вести буду! Что, не видно, иностранец от группы отбился? Языка не знает? Оо, суки позорные… Я вам устрою еще!
Нега захватила Абуну при этих звуках, но тут он с ревностию заметил, что эклоги прелестницы относятся не только к нему, но и к нескольким служителям, одетым так же, как вчерашний господин разбойник, и выглядывавшим у нее из-за спины. Они смущенно переминались и мигали; дама решительно взяла Абуну за руку и вывела его из темницы; служители прятали глаза и разглядывали свои длинные несуразные портки.
– Вы извините, мы же не знали… Мало ли тут у нас негров в Питере… В посольство только это… не надо.
Не удостоив господ в портках ответом, прелестница за руку вывела Абуну из узилища. При ярком свете дня Абуна разглядел ее совершенно. Вьющиеся волосы; нежное округлое лицо; задумчивые голубые глаза. Абуна скользил взглядом все ниже, боясь остановиться на чем-то одном и тем оскорбить благородную даму, вызволившую его из плена. Робость его доброго сердца возобладала над порывами мятежной плоти. Высокая грудь; гибкий стан; округлые бедра словно у Афродиты, только что вышедшей из пучины; легкие ножки, напоминавшие Абуне стопы его целомудренных соотечественниц, только цвет их был белоснежным, мраморным, к чему, впрочем, юноша успел привыкнуть после многих дружеских объятий с московскими красавицами. Оранжевые одежды, свободно струящиеся по прелестям дамы, напомнили Абуне нежные закаты его жаркой родины.
– Пойдем, накормлю тебя, что ли, – вновь исторглись нежные звуки из груди красавицы. – Полина меня зовут.
Немало удивившись сему, Абуна понял ее. Pauline употребила английские слова, которые Абуна учил еще у себя на родине от скуки; учил, впрочем, невнимательно, полагая сей язык малоизвестным средь просвещенного общества и потому недостойным усердия. Но сладко звучное французское имя Pauline развеяло его боязнь предстать перед красавицей обуятым немотой.
Pauline разделила с Абуной скромную трапезу в ближайшем трактире, названием которому служила краткая, будто сочиненная на латыни эпиграмма: СОЧИ.
Через час Pauline вела растомлевшего юношу по парку, превосходящему все иные похожие устроения Европы не столько пышностью, сколько тонкостью вкуса, и рассказывала о нем с подробностью, изобличавшей в ней изрядные познания в искусствах и науках. Абуна пылал страстью, известной ему не менее, чем устремления плоти, а именно жаждой к познанию.
– В год 1752 от Рождества Христова по велению славной Елизаветы Петровны, императрицы всероссийской, затеяна была изрядная переделка дворца под руководством Растрелли, умельца и знатока направления, именуемого барокко, – витийствовала Pauline, чьей речи позавидовал бы и искушенный в преданиях старины Геродот. – Матушка Екатерина Великая, взошед на престол, часть убранства изволила видеть в классическом стиле, как подсказывала ей мода тех славных времен. А вообще, конечно, Версаль сосет… – томно выдыхала Pauline.
Абуна с некоторым даже испугом, ранее вовсе ему не свойственным, ощущал, как вторая, не столь благородная страсть овладевает им. Страстный юноша, в объятиях которого призналось ему в дружбе немалое число красавиц, как с эбонитовыми персями, так и с ножками, сиявшими мрамором, вдруг стал похож на стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Воображению его рисовались романические картины тайного венчания; несмелой рукой он вдруг обнял гибкий стан Pauline и привлек ее к себе, имея в виду лишь дружеское объятие, говорящее о родстве душ. Но Pauline оказалась столь целомудренна, как и прекрасна; на покушения дерзновенного отвечала она сурово и выразительно…
Глава XXXIIIVVV
Через год Абуна кончил курс в университете и решил пока не возвращаться на родину, преуспев в науках, изящных искусствах и уединенных беседах с дамами высшего петербургского света и отложив просвещение своих легкомысленных соотечественников до тех времен, когда над далекою Абиссинией и без его скромного участия воссияет звезда любви к мудрости человеческой. Несколько раз он был вызван на дуэль; однако, не вполне понимая правила и самый смысл дуэли, всякий раз являлся на вызов с фуражкою, полной черешен, до которых он стал большой охотник, и с беззаботностью, что все принимали за хладнокровие бретера, направлял губами косточки в сторону противника, пока тот целил в него из орудия, назначение которого опять же было неясно Абуне. Впрочем, бывал он пару раз бит в подворотне какими-то темными личностями, но легкость его нрава и любовь к жизни всякий раз побеждали, и Абуна решил покамест остаться в Петербурге. Pauline помогла ему с местом в Царском Селе; Абуна с превеликим усердием изучал достославную историю сей сокровищницы искусств, готовясь стать в нем своего рода Вергилием, но только показывающим картины прекрасные и услаждающим чувствительные сердца.
В изучении славянского наречия он преуспел изрядно, и любимым его понятием стало непереводимое, увы, на европейские языки «авось». Полюбил он и другие, энергичные русские выражения, обычно не печатаемые в журналах, но которыми преискусно владели, выражая тончайшие оттенки своего чувства, кучера, дворники и вообще все, с кем Абуна нечаянно сталкивался в темные вечера на улицах столицы. Овладевать этой отраслью языка славянского ему помогал встреченный нами в начале повествования жестоковыйный господин в несуразных портках. Он каждый вечер, словно диавола из праведника, изгонял из парка одного опустившегося господина, которого громко призывал к себе именем Коля. Он, к превеликому нашему сожалению, из-за семейной неурядицы когда-то был лишен дома и не имел возможности обедать регулярно, и каждый раз, глядя из окна своей кельи, как господин в портках гоняется за несчастным созданием, устрашая несуществующее зло умышление, Абуна изобретал, как вызволить его из несчастных жизненных обстоятельств. Всякий раз погоня кончалась лишь бесплодным утомлением господина полицейского, и Абуна, оставаясь частью души африканцем, восхищался искусством беглеца. Тайком он звал его в свою келью и в самых чувствительных выражениях изливал свои восторги. Г-н Nicolas был весьма просвещенным и тонким человеком, и за вином, которого г-н Nicolas оказался преданным поклонником, они с Абуной до зари говорил о поэзии древних и о нонешних стихотворцах, о других изящных искусствах, населяющих Царское Село, но большей частию о дамах, что составляли для г-н Nicolas предмет мучительных и сладостных воспоминаний, не имевших, увы, возможности быть освеженными в настоящем.
Абуна же избрал постоянным вместилищем своей страсти Екатерину Великую; в парке устроен был аттракцион, где актриса, не со всею подробностию похожая на императрицу, но весьма хорошенькая собою, представляла в лицах эту выдающуюся правительницу. Однако вскоре она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая; на ее место немедленно наняли другую актрису, но и она через непродолжительное время вынуждена была оставить служение искусству по причинам, не принятым для обсуждения в обществе. Судьбу первых двух актрис повторила третья; подозрение пало наконец на Абуну; тот, предварительно посоветовавшись с г-н Nicolas, убедительно представил, почему он, к великому своему сожалению, не может быть причиною того, что три прекрасные молодые женщины сменили служение Мельпомене на радости семейного быта.
Чем дальше Абуна жил в холодном краю, ставшем его второй отчизной, тем чаще он чувствовал поэтическое волнение, требовавшее немедленного и как можно более точного выражения. Сладостные струны все чаще звучали в стенах его монашеской кельи. Например:
В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
Абуна не понимал еще более половины из этих слов; но он чувствовал, что изречение сие отличается ясностью и краткостью слога, и оно было исполнено для него неизъяснимой прелестью.
Первым же слушателем этих эклог была Pauline, с которой наш юноша впервые только и понял, что такое действительные дружеские беседы. А то же, что он раньше считал дружбою между мужчиной и женщиной, теперь стал называть одним особенно ясным и энергичным глаголом из столь полюбившегося ему лексикона.
Ведь прелести чувственной любви мимолетны, а удовольствия бескорыстной дружбы будут с нами всегда.
2014 г.
Сельская правда (повесть в рассказах)
Эти заметки я писал с марта по август 2011 года. Я закончил филологический факультет МГУ, не смог устроиться в Москве, проболтался без дела и денег, заработав депрессию, и решил уехать домой привести себя в порядок. Там, в деревне под Иркутском, я страдал от информационного и коммуникативного голода, и эти записи помогали мне держать связь с внешним миром.
Я работал корреспондентом в газете «Сельская правда» (в соседнем районе было «Знамя труда») и, несясь в пыльном уазике по весенним полям, чтобы сделать очередной репортаж о ходе посевной, думал о спиралевидной композиции «Дара» В. Набокова. Отсюда некая вычурность этих вольных записок. Гонзо-журналистикой я не занимался, боже упаси. Во время посевной это было бы затруднительно.
Все-таки есть особое очарование в остывающем майском вечере, когда сидишь со старым школьным другом на убогой веранде, смотришь на белую свечку спутника, на далекий синий лес и… тут, впрочем, я рискую зайти на поле литературы, чего никак не хочу делать. «Сельская правда» – это унавоженный нон-фикшн.
Дом. Газета
Стоило уехать из Москвы, как тут же сломали ЖЖ. У меня и так здесь Интернет бывает раз в неделю, и то по большим праздникам, и, чтобы что-то открыть, нужно долго и старательно обновлять страницу, пока деньги не кончатся. И теперь еще это расстройство с паническими ддос-атаками. Так что вы поаккуратней там, не роняйте его больше. А то я же вас знаю.
Скоро, хочу верить, обзаведусь человеческим Интернетом и вернусь к нормальной литературно-жж-шной жизни. Пока же у вас есть чудесная возможность отдаться своим сексуальным фантазиям, домысливая мой маленький сухой репортаж до полноценной картины моего нынешнего существования. А что, вы же давно меня не слышали и, наверное, соскучились – может, и отдадитесь, и домыслите. Кто ж вас знает.
Единственное, что надежно скрепляет огромные российские пространства, – бюрократия. В провинции все происходит так же медленно и печально, как и в столице, но мягче, душевнее. Душевность, например, проявляется вот в чем: когда я не явился в военкомат по повестке, меня объявили в розыск; «розыск», как я узнал, лишь приехав сюда, заключался в том, что участковому было велено прийти к нам домой, то есть поискать меня по месту постоянной прописки. Участковый к нам домой не пришел. Участковый живет на нашей улице, только в другом ее конце. Наша улица – это пять двухквартирных домов, три минуты пешком из одного конца в другой. Так что, если кто устал от строгости и формального метода, милости прошу к нам.
Ждать решения проблемы мне придется долго, несколько месяцев, поэтому я устроился корреспондентом в газету «Сельская правда».
Общественно-политическая еженедельная газета Боханского района издается, между прочим, с 1931 года (район существует с 1922-го). Это вам не «Коммерсант» какой-нибудь – «с 1917-го по 1991 год не выходила по не зависящим от редакции обстоятельствам», – у нас все серьезно, в почти вековой подшивке вполне можно хоронить людей. Тираж газеты – 1600 экземпляров, в ней восемь полос. Муниципальная газета, издаваемая районной администрацией, часто бывает забита объявлениями земельных аукционов и отчетами о заседаниях думы. Но на свободных страницах творится праздник. Чтобы вы впитали дух издания, я выписал немного криминальной хроники. Это официальная информация, предоставляемая редакции местным РОВД.
«22 февраля в п. Бохан в ночное время неустановленное лицо мешало работе магазина «Березка»».
«В с. Александровское из дома З. К. совершена кража мяса – 25 кг».
«24 февраля в д. Грехневка П. М., 22, неустановленные лица устроили скандал».
«В с. Тараса путем взлома двери совершено проникновение в пекарню гр-ки М. Б. и похищены кондитерские изделия на сумму 7 тыс. р.».
«В п. Бохан, ул. Малиновского, Н. Ч. похитил пять куриц».
«В с. Александровское Н. А. разбила окна в доме Е. Ф. и оскорбляла ее».
«6 мая в с. Грехневка С. Г. вымогал деньги на водку у гр. С.».
«Сотрудниками наркоконтроля был задержан гр. Асеев В., двадцатиоднолетний житель села Буреть, совершивший незаконный сбыт за 2000 р. (! – И. Ш.) чуть более 30 кг (!!! – И. Ш.) наркотического средства марихуана, что является особо крупным размером».
Что «Космополитан»! Что «Полит.ру»!.. Это все игрушечное, нарисованное; при большом желании и везении в журналы может писать каждый. А вот работа в настоящей муниципальной газете требует горячего сердца, холодной головы и резиновых сапог. Пока меня бросили на культуру, а там работают ухоженные интеллигентные женщины чуть за тридцать, и на интервью я отчаянно пытаюсь балансировать ровно посередине между Андреем Малаховым и Александром Гордоном. А вообще я заведующий отделом сельского хозяйства, и настоящая моя работа начнется, когда начнется посевная.
И ничего больше не расскажу. Ждите. Я вот тоже жду чего-то хорошего, сидя в своем кабинете, настукивая новый материал и прислушиваясь к скрипу старых дверей, уютному воркованию главного редактора за стеной и холодному весеннему ветру, который выметает с улиц последнюю прошлогоднюю надоевшую пыль.
Водитель. Девушка
Наш редакционный водитель, который возит корреспондентов в мини-командировки по району, – чистый Жбанков из «Компромисса» Довлатова. Тот был фотограф, этот водитель, но не важно: и персонаж, и человек вгрызаются в жизнь с одинаковой горькой энергией, с похожим трагическим напором. Когда он заехал за мной в первый раз, я опытным взглядом оценил ситуацию: кокетливая припухлость лица, быстрые, хищные движения рук, которыми он переключал скорости в старом пыльном уазике, в глазах отвращение ко всему живому.
– Родственники заебали: то одни поминки, то другие… Вчера опять пришли, и со всех сторон: выпей, Сережа, Сережа, выпей. Наливают, настаивают. Им лишь бы поминки! Что за люди…
Это было в субботу; в понедельник редактор спросила, во сколько мы вернулись. Я хоть и понял истинный смысл вопроса, но не стал выгораживать Сережу: в три. Редактор таинственным голосом сказала, что звонила вечером сторожу, который сообщил, что казенной машины в гараже не было. Так что командировки обещают быть интересными.
Меня мучает визуальный голод. Когда я хожу в присутствия за комментариями чиновников, то стараюсь задержаться там подольше – не потому, что не хочу возвращаться в редакцию, а потому что мне надо. Хожу вокруг, читаю объявления на стенах, курю, вздыхаю, иногда даже сижу в очередях вместе с теми, кто по личным вопросам, хотя корреспондентская корочка от этой необходимости избавляет. Все жду: вдруг увижу здоровую женщину репродуктивного возраста?.. Кто смотрел «Терминатор-3», тот оценит всю горечь шутки. Чувствую себя главным-главным героем Набокова, только наоборот. Представляю, как молодая чиновница наконец распахнет двери и скажет своим напряженно ждущим коллегам в юбках:
– Это, конечно, Гумберт, но не Гумберт Гумберт!
Но нет. Власть асексуальна, даже такая маленькая, домашняя.
За прошлую неделю настоящую живую девушку видел вблизи один раз: это была соседка моего друга, зашедшая к нам на огонек. Я молча рассматривал девятиклассницу: русые волосы, собранные в скромный хвостик, розовые уши, мелкие зубы, карамельный голос. Я сделал плохое: молча глядя ей в глаза, вдруг начал вспоминать некоторые интересные сцены из своего интимного опыта. В книгах в таких случаях пишут: «Она не выдержала взгляда и потупилась». Она не потупилась. Она говорила, что у нее по географии трояк, а я, глядя, как девочка изящно, без закуски, выпивает очередную стопку водки, грустил, что я такой старый. Не для меня обжигается водкой маленький нежный рот, не для меня ерзают по скамейке непоседливые бедра.
– А сколько тебе лет, милая?
– Шестнадцать (даже так: «шешнадцать»).
Главный-главный Гумберт Гумберт, умножьте на два и посадите в редакцию.
Молодежь
До недавнего времени работы как таковой не было, одно удовольствие. Интервью с ликвидатором Чернобыльской аварии (очень интересно, кстати, было), метеостанция, памятник архитектуры. С молодежью поговорить тоже. Филиал Бурятского государственного университета располагается в недавно достроенном здании, ужасно похожем на наш новый корпус МГУ, только лучше, без дурацких претензий на «архитектуру». В общежитии в ответ на стук в дверь глухо спрашивают с кровати: «КТО?» Услышав слово «корреспондент», отвечают всего лишь: «НЕТ» – переговоров не ведут. В коридорах университета студенты гораздо общительнее: парни в ответ на простой конкретный вопрос начинают делать руками рэперские движения и объяснять за жизнь, девушки кокетливо скрывают свой возраст, факультет, специальность. Одна улыбалась так лучисто, так искренне не могла вспомнить, как расшифровывается аббревиатура – название ее факультета, что я полчаса горячо шептал ей то на одно, то на другое ухо нескромные призывы сфотографироваться для газеты.
– Нет! Меня уже и так на Татьянин день фотографировали. Потом все газету со мной видели. Знаю я вас.
(«Его природному обаянию она ловко противопоставила свою врожденную тупость».)
Посевная
Сейчас начинается работа: посевная, то есть подготовка к ней. Я, как вы знаете, могу найти смешное во многих вещах, но знакомство с чиновниками из сельхозотдела администрации меня слегка напугало. Они словно заранее дали понять, что здесь мне не тут. В маленьком тесном кабинете был единственный свободный стул. Я подошел к нему, достал блокнот, ожидая, пока пригласят сесть. Мой собеседник сел на стул сам, положил руки на колени и посмотрел на меня с удовольствием:
– ?
Я, спутавшись, попросил рассказать о начале весен неполевых работ, на что чиновник энергично ответил:
– ООО «Радужная», 70 га.
После минутного молчания я понял, что это и был ответ на мою просьбу «рассказать», и, вспотев, начал выспрашивать «подробности». В конце разговора, к которому подключились другие, сельхозотдел проявил поистине дьявольскую проницательность: они спросили, не филолог ли я.
– Ну ясно… Вы вместо той женщины, которая в декрете? Она тоже филолог. Была.
Уходя от этих злых людей, я представлял, как они радуются: громко хохочут, кричат «дай пять!», хлопают друг друга по спинам – отмечают, что так ловко провели репортеришку. Не дали себя обмануть! Ишь!.. Пришел: «расскажиииите о начаааале». Нету теперь дураков, чтобы рассказывать, понял? Тилигенция…
Редактор сказала, что так и должно быть. Что было бы странно и даже нехорошо, если бы эти люди приняли меня нормально. Должно пройти время.
Должно оно пройти. Здесь мне хорошо, но в Москву хочется чрезвычайно. Когда придешь из бани, отдышишься, напьешься холодного облепихового морса и куришь потом на крыльце в абсолютной тишине, глядя в черное небо, то думаешь: а в Москве сейчас Курский вокзал. Нет, не поеду никуда. Куплю резиновую женщину, сниму квартирку и заживу этаким провинциальным блогером, пишущим «их нравы». Подумаю, снова в баню. Париться. Утром накатывает тоска, и я опять считаю дни – когда закончится вся эта бюрократия, из-за которой я здесь. Дома мне хорошо, но местность, в которой я нахожусь, угнетает, несмотря на то что здесь так весело.
Очерк
Про «физиологические очерки» я, конечно, наврал и писать их не стану. «Уклад»? – от этого слова меня тошнит с детства (уклад, утварь, ушат), и я до сих пор не знаю и знать не хочу, что это такое. «Образ жизни»? Можно взять двух, трех, сотню, тысячу жителей столицы и, посмотрев на них в течение дня, ужаснуться: о, как одинаково они живут, только вот эта девочка еще на что-то надеется. В провинции нет двух похожих дней, людей, порядков и образов жизни, и статистика здесь провалится в благородное, но бессмысленное перечисление фактов: Максим Петрович живет свою единственную жизнь так-то и так-то, и больше так не живет никто. Интерьеры? Совсем уже глупость, но глупость мстительно-остроумная: интерьеры в здешних домах гораздо гламурнее и продвинутее, чем во всех виденных мной московских квартирах. Что-то определенное можно сказать только о воздухе. В воздухе провинции происходят удивительные вещи.
Есть такой навязший в зубах стереотип: «интеллигентные» столичные жители не смотрят телевизор, в котором только бесконечные и ужасные Путин и Верка Сердючка, а черпают чистейшую информацию из прохладных колодцев Интернета, и самый глубокий колодец, конечно, ЖЖ. Грубые провинциалы, соответственно, пьют мутную паленую путинку, а про ЖЖ и независимые источники информации и слышать не слышали. Это верно: про Навального здесь не знают. Но информационной грязи, гнилостного спама молодой образованный москвич с жизненной позицией и идеалами потребляет во много раз больше, чем тихо и бездумно сидящий с пультом Максим Петрович из Иркутской области. Приехав сюда, я две недели жил с телевизором и без Интернета. Зайдя после этого перерыва в ЖЖ, я наглядно убедился в том, о чем раньше только догадывался, обманывая себя ради сохранения своего призрачного интеллектуального реноме: в Интернете вообще и в ЖЖ в особенности грязи, лжи и истерики гораздо больше, чем на самом разнузданном прокремлевском канале. Беда только в том, что мы ЖЖ читаем, а вот провинциалы телевизор не смотрят.
То есть смотрят, конечно. Смотрят ток-шоу, на фоне которых Малахов кажется Познером, смотрят эти бесконечные суды, создаваемые командой психиатров. Смотрят «Дом-2» и новости, этих ближайших, но все-таки разных соседей по эстетике: обитатели стеклянной коробочки уныло, бездарно притворяются людьми, Медведев весело, изобретательно изображает президента. Много чего смотрят! Я и сам пристрастился к НТВ, вы не поверите: меня завораживает Голос. Только смотрят это не так, как мы читаем ЖЖ: государственно-эротический лепет Екатерины Андреевой не более чем приятное, необязательное поглаживание органов слуха за приготовлением ужина, тогда как Навальный – светоч и борец. Москвич вылез из выгребной ямы телевизора и тут же провалился в открытый канализационный люк Интернета, а информационные помои вокруг Максима Петровича просто высохли, впитались, испарились, и больше ему ничто не угрожает. Провинциал перерос Интернет и освободился от него, так и не зайдя туда ни разу.
В том маленьком кусочке провинции, который я могу наблюдать, власти как общественно-политического феномена нет вообще. Парадоксальное, радостное открытие: именно здесь, в небольшом поселке в Иркутской области, установилось самое продвинутое, европейское, либеральное отношение к государству, которое нужно лишь для того, чтобы из крана бежала вода. Для автовладельцев, ежегодно платящих дорожный налог и все равно разбивающих свои «тойоты» на вечных колдобинах, государство есть, и его дружно, брезгливо презирают (ненависть, чувство высокое и благородное, естественно, приберегают для личных нужд). Для тех, у кого условная вода исправно течет из условного крана, государства уже нет. Совсем недавно этот социально-политический имидж можно было обозвать привычкой свиньи, которая не может задрать голову и увидеть, что над ней еще что-то есть. Сейчас же стало ясно: это уверенность человека, пришедшего кормить своих свиней, в том, что там внизу у хрюшек ничего интересного и нового нет. Вертикаль власти перевернулась, и люди из телевизора теперь под, а не над. Мы, конечно, живем в свободной стране, и при желании можно наклониться и внимательно рассмотреть говно: послушать мнения экспертов, узнать прогнозы политологов. Но дело в том, что свиньи, когда едят из одного корыта, визжат, толкаются и вследствие этого брызгаются тем, что у них под ногами. Поэтому смотреть туда не хочется даже тогда, когда и вправду интересно.
Власть в провинции теперь не выполняет даже декоративных, развлекательных функций. Путин давно слился с обоями. Его собственный Пес Пиздец замочил его всухую, и палец Максима Петровича, щелкающий каналы, задержится на нем не дольше, чем на Стасе Пьехе в клипе на RuTV (певички женского пола обычно полуобнажены, и на них взгляд задерживается чуть дольше). Медведев в начале своего президентства привлекал кое-какое внимание. Его даже оценивали: помню, говорили, что он «как будто помягче» – московские публицисты в это время получали, да и сейчас получают деньги за то, что расписывают эту миниатюрную мысль в статьи, прогнозы и концепции. Из простого физиологического факта: человек, исполняющий роль президента после Путина, говорит мягче, тише и дружелюбнее, чем Путин, – сделали целую «медведевскую оттепель», придумали «либеральные надежды». Провинциальный же обыватель, чей слух и глаз не засорен ни телевизором, ни ЖЖ, сохранил чудесную толстовскую способность смотреть на вещи просто и прямо. Я живу тут месяц и слышал что-либо о власти всего один раз: сестра, пробегая мимо телевизора, радостно воскликнула: «Ой, Медведев-то подстригся!» Это высшее, замечательное равнодушие, которого может быть удостоен политик. И это так трогательно, согласитесь.
Опечатки сетчатки
Припаяли мне отслаивавшуюся сетчатку. Самое неприятное в предоперационном обследовании – это когда врач вставляет в глаз линзу-распорку и светит через нее чрезвычайно ярким, белым-белым светом. Моргать не получится, да не очень-то и хотелось: вскоре после первого шока обезболенный глаз начинает видеть хрустальные паутинки, тихие лиловые космические грозы, бледные, дрожащие льдины, огромные трещины сухого глиняного пустыря, которые в итоге оказываются линиями жизни на маленькой ладони врача. Врач, петитная женщина в миниатюрных туфлях с открытым мыском и в огромных синих линзах, переходит последнюю возможную грань интимности и оказывается как бы с другой стороны меня. Если глаза – зеркало души, то что можно увидеть, исследуя глазное дно? Офтальмолог, возможно, самая поэтичная из всех врачебных специальностей. Даже психиатр, копаясь в мозгах, занят в итоге обыкновенным мясом, что уж говорить про гинеколога. Офтальмолог же занимается тем, чего не существует: объективной картиной мира.
В ходе самой процедуры врач расстреливает глаз лазерными вспышками, запаивая черноту внутри меня, не давая ей просочиться наружу и превратиться из моего содержания в мой фон. Это чистый глиняный пулемет, мизинец Будды: частые сухие щелчки аппарата сливаются в короткие очереди, лазерные вспышки в профилактических целях на минуту сжигают весь мир. Операция по принуждению к свету. Дуло оказывается одновременно и прицелом, при этом врач целится, крутя линзу в моем, а не в своем глазу. В глаза смотреть! А куда ж я денусь, она ведь держит меня на мушке в самом прямом смысле: линзу-распорку самостоятельно из глаза не вытащишь. Мизинчик у будды маленький, сексуальный, как и вся она. Ухоженный, но с коротким ногтем без лака – врачам-офтальмологам, наверное, нельзя красить ногти, гигиена.
Отсиживался в полутемном коридоре вместе с такими же, как я, ждал, пока сузится зрачок, и в очередной раз задумался о соотношении «я» и картинки мира, которая на девяносто процентов состоит из данных глаза. Эти размышления совпали с очередным, ежедневным приходом чувства смерти, которое в благополучные времена (как сейчас) перестает вызывать у меня непереносимый ужас и становится просто наглым любопытством. Ничего интересного, как всегда, не надумал: жалко всего будет в любом случае, что в лучшем, что в худшем. В лучшем, если после прекращения электрохимических процессов в мозгу что-то продолжается, безумно жалко будет этой картинки, а если в конце ждет чернота, конец, обнуление, если некому и нечего будет жалеть, то надо конечно же сейчас выйти и шагнуть под автобус.
Встал, вышел, ослеп от серого пасмурного неба – в коридорах свет приглушенный, а двор института, естественно, выложен чистой белой плиткой – чтобы люди с расширенными зрачками, самостоятельно выходя после обследования и легких операций, чувствовали себя как выдавливаемые на безжалостный свет новорожденные. Потихоньку дошел до остановки, увидел автобус. Ненавижу Иркутск, эту большую грязную деревню, в которой совершенно не на что смотреть. Хотя нет, вот за ней я, пожалуй, пойду… Игра «первый выход маньяка», в которую я играю в метро в Москве, когда не знаю, как жить дальше, не подвела и тут: идя за хорошенькими ногами в колготках с легким блеском, я сел в правильную маршрутку. Каблучки стучали короткими дробными очередями, колготки изредка взблескивали холодным лазерным светом.
Нет, моей картинке мира определенно будет жалко меня, когда меня не станет.
Газета. Коллеги
К середине лета должна закончиться бюрократическая история с военкоматом, и я вернусь в Москву. Сейчас я свободный гражданин свободной страны, и безработица меня больше не пугает. Если я не устроюсь белым человеком в офис (что весьма вероятно, учитывая мой опыт работы), то пойду в школу. Знакомые выпускники МГУ будут считать меня лузером, но мы люди не гордые, университетов не кончали, контент-менеджерами, копирайтерами и журналистами не работали, так что перебьемся. Я не довольствуюсь малым; я просто радуюсь вновь появившейся возможности легально перемещаться в пространстве, выбирать образ жизни и занятия. Диплом МГУ не дал мне ничего, а военный билет обещает дать хоть что-то. Всю горечь по поводу жестокой дикости этой ситуации я выплеснул этой адской зимой, сейчас это кажется просто забавным. Я нарочно пишу так по-лузерски. С некоторых пор самолюбование, рисовка, поза вызывают во мне искреннее отвращение, хотя раньше я любил приврать о себе. У меня нет машины, айпада, Фейсбука, я не вешаю в ЖЖ гламурных фотографий с уик-эндов, я не читаю по-английски, я пью недорогие спиртные напитки («На отраву еще деньги тратить?!»). За месяц жизни здесь я пристрастился к семечкам. Я знаю, что я пошлый человек, и как только у меня появятся деньги, я тут же обрасту розовыми рубашками, вельветовыми пиджаками и планшетными компьютерами. Но пока я сижу в деревне и чувствую себя отлично.
Вчетвером мы делаем маленькую муниципальную газету. В. Н., женщина энтузиастическая, пишет огромные репортажи, не влезающие в полосу отчеты с административных совещаний и кокетливо жалуется на «недержание речи». Меня часто посещает зависть к В. Н., которую я испытываю, когда гоню строкаж. Пиши я от себя, я был бы краток: «Смысл присутствия этих песен в праздничной программе от меня ускользает» (о концерте), «Назначение этого танца осталось загадкой» (о КВНе).
Редактор Т. Е. – женщина очень хорошая, но много в ней византийского: не то чтобы ждешь подъебки, а просто хочется при ней утаить часть правды о себе и о работе.
Зато Павел Романович! О, Павел Романович!.. Он поразил меня в первый же день. Знакомство он начал с того, что, заикаясь, произнес:
– В-в-в… «Ш-школе з-з-зллословия»-то завтра этот. К-как… Иличевский.
Со стороны, наверное, можно было подумать, что я тоже заикаюсь – так долго я медлил с ответом. Разговорились, и потом уже стабильно, почти каждый день, развалясь с чаем:
– Павел Романович, я с Иличевским-то посмотрел.
– Ну.
– Чего-то сидел, ни туда ни сюда. Толстая ему – вы куски не сцепляете.
– Но.
– Боялся он их.
– Не.
– Куски, говорит.
– Куски. Что куски!
– То-то и куски!
– Сам-то ты и есть куски! Он из той породы людей, к-которым проще написать, чем с-с-сказать…
– Но.
– А вы у него только «Перс» читали?
– Ага.
– А я только «Матисс»…
(Общий вздох.)
Или.
– Ну что, Павел Романович, Ройзман?
– Не.
– Я и то думаю, что не.
– Но.
Или:
– Меня раздражает этот их радикальный либерализм! Т-Толстую вообще не могу…
– А вы читали?
– Читал.
– Что читали?
– Р-рассказы.
– Какие?
– Не помню.
– Когда?
– Ну когда они вышли-то. Я уж не помню. В «Новом мире», помню, подборку читал.
–?!
– Году в восемьдесят седьмом это, сейчас уж не помню.
– (…) Я вам «Кысь» принесу.
– Но.
Павел Романович десять лет проработал следователем.
Все мои коллеги среди прочих достоинств обладают удивительным и ценным талантом очень тактично, уместно и незаметно переходить с «вы» на «ты» и обратно. Когда материал задерживаешь или зарплату дают, это, конечно, «вы, Иван Валерьевич». А когда чайник забрать или про Москву расспросить – это «ты, Иван». Пока не встретишь такого к себе отношения, не поймешь, зачем нужно переходить, и, пожалуй, оскорбишься, представив. А здесь это именно что уместно и приятно.
Газета. Герои
Бывают удачные, интересные дни, когда, например, идешь сначала к наркологу, а потом сразу в милицию. Нарколог – чистой воды Даджал Абулахабов из пелевинской книги «П5». Дежурный на проходной в ментуре рассматривает мою корочку, говорит, что сейчас никого нет, но после обеда обязательно все будут, и смущенно поправляет сползающий с плеча автомат движением руки, которым женщины поправляют сумочку. Агрономы и директора фермерских хозяйств, крепкие хозяйственники, внимательно смотрят в глаза, усаживают на стул и, жестом велев молчать, приказывают: «Значит, пиши. ГСМ в размере 20 т закуплено через «Иркутскнефтепродукт». Планируем засеять зерновых 1750 га, в том числе пшеницы 1350 га, овса… записал? Овса 400 га, кормовых 600 га». Слушая эти исчерпывающие, изобилующие фактами и цифрами лекции, которые мне остается лишь литературно обработать, я невольно задумываюсь об интеллигентской гнильце, опрощении и народном духе. Самая дрянная работа – это разговаривать с вежливыми чиновниками сельского хозяйства в пиджаках, которые сидят, сладко улыбаются и ждут, когда я скажу, что меня интересует. А мужик в ватнике, извиняясь за свой, как ему кажется, грубый и невнятный рассказ, вряд ли догадывается, что он дает мне, белоручке и невежде, готовый материал хорошего качества.
Но это я отвлекся, заговорили кровушка, землица и корни. На работе у меня довольно много свободного времени. На Интернет я время больше не убиваю и вообще, слава богу, потихоньку привожу свое интеллектуальное хозяйство в порядок. В целях, которые я очень хотел бы назвать профессиональными, методично изучаю акунинский проект. Начав читать г-на Злодея ради развлечения, сейчас я использую эти прекрасные книги для своеобразных тренировок, в результате которых должны развиться весьма необходимые мне мускулы. В качестве гантелей у меня сюжеты и детали. За апрель я прочитал тринадцать книг из разных циклов. Иногда бывает трудно в двух словах рассказать редактору, что в поликлинике и что сказали в администрации по поводу клумб, потому что по дороге в редакцию я вспоминал и обосновывал, почему доктор Захаров не мог быть Декоратором (привет, заикающийся следователь).
Вот что я обычно делаю днем, а про вечерние занятия, которые у меня делятся на кабинетные и светские, думаю рассказать отдельно. Может быть, для такой жизни я и создан?
Главный герой: Мася
Мася – это единственный мой одноклассник, который постоянно живет здесь. Сначала, конечно, об имени: почему «Мася», а не «Макс», ведь так обычно сокращают имя «Максим»? Так сложилось. Мы звали его Масей с первого класса и зовем так и сейчас. «Макс» – это холодно, обезличенно, это как у всех, а Мася – он наш, единственный. Кстати о нравах: в восьмом-девятом классах местные пацаны считали нас «геями», потому что одного чувака из нашей тусовки, Саню, мы тогда звали «Саша». Сейчас Саня мент-ФСИНовец, водит машины с конвоем и заключенными.
Мася – удивительный человек.
Мои друзья, которые знают Данилу, могут набросать для себя неверные контуры его ускользающего портрета. Мася – это Данила, который не пьет, сидит дома, не потребляет информационно-развлекательный мусор и не стесняется признаться, что хочет бабу: устал от одиночества. Он сидит дома по четырем причинам: выходить никуда не хочет; выходить некуда; работы нет никакой; он работает дома. Мася фрилансер. Он чинит телефоны, магнитолы, плееры. Он нигде этому не учился, он просто как-то разобрал сломанный мобильник, посмотрел, что в нем не так, устранил и собрал обратно. С тех пор он зарабатывает ремонтом на жизнь. Я просил его попробовать объяснить мне, как он может починить навороченный телефон, который он видит в первый раз. Из его объяснений я понял, что это примерно как с текстом: увидеть все этажи и закоулки стройного, оплетенного ассоциативными нитями эссе можно, если сам знаешь, как этот текст можно построить. Это особое внутреннее зрение, не зависящее от интеллекта. Либо ты ковыряешься к микросхемах и каламбурах, глядя на них изнутри, либо смотришь на них обычным взглядом и ничего не видишь. (Простите, отвлекся.) Чудесная русская поговорка: «Умная голова дураку дана» – именно про Масю. Отличные инженерные мозги и золотые руки достались крайне ленивому, не ценящему себя человеку.
Я закрываю ноутбук, одеваюсь и иду нему. Здороваюсь с привыкшей ко мне собакой, захожу без стука, вижу привычную согнутую над рабочим столом спину. Начинается обычный ритуал: я молча стою на пороге, дослушиваю песню в плеере, Мася что-то допаивает и дочищает.
– Пошли в магазин.
– Не пойду я в магазин. Зачем?
– Ты заебал.
– Сейчас я крышку поставлю. Смотри, я держатель под динамик деревянный выточил, теперь звук чище будет. (Мася пытается увлечь меня дешевыми фокусами. Деревянные детали в корпусе мобильника его изготовления, полностью функциональные и совершенные эстетически, вызывают восхищение только у новичков. Меня на этом не проведешь, я знаю, на что способен Мася.)
– Ты заебал.
Мася натягивает джинсы, застегивает куртку, но я знаю, что на пороге он передумает, даст денег, и в магазин я, как всегда, пойду один. Но что поделаешь – ритуал.
– Ты заебал.
Смотрите, насколько я беззащитен перед вами в своей откровенности: в магазине я покупаю пиво и семечки. Иногда водку, но это если засидишься допоздна – май у нас необыкновенно холодный. Магазин «Новый», рядом со старым «нашим», – тот самый, о котором я писал. Там два отдела, и тот, о котором идет речь в «воспоминаниях», слава богу, закрыт на огромный висячий замок. Аксессуары к вечеру в деревне я покупаю в другом отделе.
Возвращаюсь и вижу, что Мася, естественно, ничего не приготовил. На веранде мы обустроили домашний кинотеатр: дивиди-плеер, телевизор, диван, веселые коврики и теплые клетчатые пледы. Все это нужно принести, расстелить, поправить, помыть стаканы и пепельницу. После еще одного ритуального «ты заебал» Мася окончательно отрывается от микросхем, и мы садимся смотреть кино. Я привез с собой свои накопители, на которые я в течение двух лет складывал любимые фильмы. Теперь я показываю все это Масе и наслаждаюсь сам: в Москве ни за что не посмотришь кино так.
Время от времени приезжают его клиенты, он выбегает к очередным неразличимым в темноте «жигулям», выносит готовый телефон, берет новые заказы. Иногда эти деловые гости пытаются стать гостями-приятелями, и Мася, хоть и не хочет их видеть, по своему мягкосердию не может им отказать. В деревне одиннадцать часов вечера, заняться совершенно нечем, и если ты, зевая в «жигулях», узнал, что вот тут рядом сидят живые и теплые, смотрят что-то странное, из другого мира, и у них к тому же есть пиво и семечки, то как же к ним не напроситься?.. Ведь запросто все, все же друг друга знают, ты чё, Макс, ептыть. Масе не о чем с ними говорить, а мне лень включать свои хамелеоновские способности в ситуациях, когда можно обойтись и без них. Поэтому при этих незваных гостях я включаю Холодность: отвечаю коротко и сухо, молча наливаю им полстакана пива и отсыпаю горсточку семечек. Задумчиво машу пультом, обращаясь исключительно к Масе: «В первом фильме была цельная, простая история, а здесь сюжет дерганый, фабула словно распадается; меня поначалу это раздражало, но потом я понял, что именно таким должен быть фильм о времени, которое изменилось…» Гости держатся минут десять и молча уходят (значение слова «фабула» я объяснил Масе заранее).
Мы остаемся вдвоем, смотрим кино и щелкаем семечки. Семечки – ужасная дрянь, прилипчивая и вредная. Так думаешь о них все время, пока не держишь их в руках, но начал щелкать и в очередной раз убедился, что они – важная составляющая этого странного вечернего уюта. Сначала я стыдился семечек, а потом привык, и сейчас меня это даже забавляет. Видимо, пиво и семечки, сущности несомненно мусорные, заменяют мне тот информационный треш, который я в огромных количествах потреблял этой ужасной зимой. В этом случае мне хорошо: лучше легкая антисанитария, чем не принадлежащая мне голова.
Мы молчим, говорить нам не о чем. Многое ясно без слов, а то, что не ясно, кажется глупым. Иногда промелькнет идиотская шутка, как, например, когда пересматривали «Бумер» и «Предстояние»: сейчас Андрей Мерзликин скроется в танке, захлопнет люк, уедет, бросит всех и заплачет. Мася с кем-то переписывается.
– С кем ты?
– С этой.
– А кто она?
– Ну которая та.
– А с той что?
– Ничего.
Девушек здесь нет. Мася постоянно знакомится в соцсетях с кем-нибудь из Иркутска, потом едет в город по делам и встречается, встречается, встречается. Мне страшно представить, чем можно заниматься с девушкой из Иркутска, которая знакомится в соцсетях. По-моему, лучше сидеть на месте ровно и накапливать прану, чем возвращаться со свиданий с такими нехорошими глазами, с какими возвращается он. Мы и сидим. Секса здесь нет, но есть покой и воля. Мы это прекрасно понимаем, сидя на маленькой, ярко освещенной веранде. Фильм закончился. Мы смотрим в темноту, мы видим огни: оранжевую оранжерею фонарей вдоль моста, красные точки самолетов, белую свечку спутника, голубые фары очередного «КамАЗа», уезжающего в Иркутск с ворованным лесом. Люди на холме молчат. Я не знаю, о чем думает Мася, но я изо всех сил стараюсь не думать о том, что я уеду, а он останется наедине с микросхемами и этим пейзажем.
Статья
Обзор посевной кампании в некоторых хозяйствах Боханского района
В Боханском районе идет посевная кампания. Когда начнется сев, зависит от многих факторов, в первую очередь от наличия ГСМ и готовности техники, но в этом году добавился погодный фактор – природа преподнесла сюрприз в виде майского снега и заморозков. Тем не менее, на полях идет работа.
В ОАО «Приангарское» в с. Середкино уже засеяли 200 га зерновых. В посеве пшеницы задействовано 3 сеялки-узкорядки. К настоящему моменту также прокультивировано 400 га пашни.
ИП КФК глава В. И. Ефименко, что в том же Середкино, в этом году планирует засеять 80 га зерновых (пшеницы). Сейчас идет культивация, семена подготовлены в объеме 25 т. В хозяйстве на посевной работает 5 человек, культивацию производит трактор Т-150, 2 машины ДТ75 подготовлены для сева. ГСМ в объеме 3,6 т закуплены хозяйством в «Иркутскнефтепродукте» по цене 20 руб. за литр. ИП КФК Ефименко – хозяйство молодое, юридически оно оформлено только второй год. В прошлом году оно участвовало в федеральной программе сдачи зерна: ИП сдало 80 т зерна по цене 5 руб., государство просубсидировало сверху по 1,5 рубля. В итоге хозяйство получило 140 000 руб. Нынче ИП КФК Ефименко планирует войти в федерально-областную программу субсидирования паров – обещают около 385 га.
В ИП КФК глава Григорьев, Морозово, пока идет только боронование, посев планируют начать в районе 15-го числа. В этом году засеяно будет 200–250 га зерновых, из них 100 пшеницы, остальное овес. Через областное Министерство сельского хозяйства закуплено 5 т ГСМ по цене 16.50 руб. + доставка. К работе готовы 2 трактора Т150, один «Казахстан» и три «Белоруса». Глава хозяйства заявил, что последние два года они работали практически на одну технику. И. Григорьев продал легковую машину, купил новый «Белорус». В настоящее время у хозяйства есть два кредита в Россельхозбанке на запчасти в общем размере 500 000 руб.
В ИП КФК глава А. П. Дыленов, с. Скороход, приступили к севу. В этом году посевная площадь в хозяйстве составляет 140 га пшеницы и 100 га овса. ГСМ закуплено в объеме 12 т. На поле работает три «Белоруса», два из них сеет, один боронит. Недавно КФК приобрело трактор Т150. В настоящее время со всеми кредитами хозяйство рассчиталось.
И. Шипнигов, «Сельская правда», № 19 (9229)
Редактор
Впервые в жизни поссорился с редактором из-за заголовка. Был на районной школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее». Написал в том смысле, что все замечательно, но много фигни, и на одну действительно интересную оригинальную работу (уровень радиации в поселке, походная электростанция из бензопилы, тайная жизнь жуков-короедов, вред «кириешек») приходится много невнятного бессмысленного гуманитарного бла-бла-бла про частушки, пословицы и поговорки. А надо сказать, что есть у нас один заместитель мэра, который почему-то очень интересуется моими публикациями и частенько передает мне через редактора приветы, вопросы, протесты и сожаления (назовем его Меркулов). Мне это начало надоедать. Мой заголовок: «Шаг в будущее, два в сторону».
– Нет. Меркулов нас заест.
– Тогда вариант: «Шаг в будущее, два на месте».
(Вспышка, спор, легкая обида.)
– Хорошо, тогда вот заголовок, который понравится Меркулову: «Шаг в будущее. Бег с препятствиями». У меня теперь новая работа – придумывать заголовки для Меркулова.
– Иван, идите работайте. И не забудьте, что номер уже сверстан, так что новый заголовок должен быть той же длины, что и старый.
– «Бег на месте»?..
<…>
– «Шаг в будущее. В ногу со временем».
– Банально. Затасканно.
– Я знаю. Но Меркулов же.
– Иван! Идите. Работайте.
– «Кто там шагает левой?..»
<…>
– «Одна нога здесь, другая там».
–?
– «Шаги по стеклу». «Бегущий человек».
– Иван.
– «Научный марафон».
– Тоже банально. Серо.
– В смысле, спортивная ходьба в будущее.
– Идите, работайте.
<…>
Когда я зашел с очередной порцией, из-за плеча редактора со сверстанной полосы красовался самодовольный жирный заголовок: «О радиации, пиявках и кириешках».
– Нормально, – попятился я. – Немного провокационно, но мило. Интригует.
– Смотри сам, материал ведь твой. (Переход на «ты» означает временное прекращение начальственно-подчиненных отношений.) Вроде все такое противное, а прочитать все равно хочется.
– Конечно. А то я зациклился на «шаге», а оно вон как можно. Ну а Меркулов?..
– Иван, идите работайте.
Ванька
Ванька Шипнигов, двадцатитрехлетний мальчик, отданный месяц тому назад в бюрократические лапы военкомата для избавления от рекрутской повинности, вечером 24 мая не спал. Дождавшись, пока племянники сядут смотреть мультики, а сестра уйдет в огород высаживать помидоры, он достал из хозяйского шкапа ноутбук, USB-модем и стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на кошек, гуляющих по крыше гаража, и прерывисто вздохнул. Ноутбук лежал на невысоком детском столике, а сам он стоял перед столиком на коленях.
«Милый Данила! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю тебя с началом лета и желаю всего от Господа Бога. Нету мне тут никакой возможности…»
Ванька покосился на стеклопакет, за которым гуляли по крыше гаража кошки, и живо представил себе Данилу, служащего инженером в сейсмологическом институте. Днем Данила сидит в наушниках за компьютером и составляет терминологический глоссарий, ночью же, окутанный в сиреневый с цветочками плед, смотрит аниме, читает детектив и ест сухарики. Сейчас, наверное, Данила пришел с работы и вытащил из рюкзака настойку. Пьет сам, дает попить и бабам, соседкам из другой комнаты. Бабы пьют и чихают. Данила приходит в неописуемый восторг, заливается веселым смехом и кричит:
– Отдирай, примерзло!
А погода великолепная. Небо серое, облака тяжелые, закат наполняет комнату тревожным красным светом, будто солнце наставило на окна множество снайперских винтовок с оптическими прицелами. Воздух пахнет бензином и тяжелыми, сладкими женскими духами.
Ванька вздохнул, помотал мышкой и продолжал писать.
«А вчерась была мне выволочка. Редактор выволокла из верстки мою статью и обругала, что я ездил на школьную научно-практическую конференцию и по нечаянности заснул и написал то, что думал. А недавно Мася велел мне разделать курицу на шашлык, а я начал с хвоста, а он взял курицу и начал ейной харей мне в морду тыкать. Деревенские пацаны надо мной насмехаются, посылают в магазин за пивом и велят покупать у хозяйки семечки, а хозяйка смотрит голубыми глазами и заигрывает чем ни попадя, одни зубки мелкие влажные чего стоят. А еды очень много. Утром бутерброды и чай с молоком, в обед суп с большим куском мяса и второе, вечером котлеты с гарниром и салат, и потом еще можно сколько угодно съесть. Тяжело столько. А когда ребятенок ихний не спит, я иду в детскую и спрашиваю почему не спит, она говорит что пить хочет я ей даю пить и она спит. Милый Данила, сделай божецкую милость, забери меня отсюда, в Москву, нету моей никакой возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»
Ванька покривил рот, обновил френдленту и всхлипнул.
«Я буду тебе аниме качать и сухарики покупать, – продолжал он, – детективы обсуждать, а если что, ругай Акунина как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я в школу пойду учителем или Христа ради попрошусь в «Макдоналдс» или в «Евросеть» подпаском. Хотел пешком в Москву бежать, да военного билета нету, бюрократии боюсь. А когда стану зарабатывать сам, то через это самое куплю тебе ящик настойки и колонки самые новые большие.
А Бохан поселок маленький. Дома все деревянные и коров много, а машин мало и собаки не злые. Девушек почти нету, все уехали в Иркутск счастья пытать а которые остались те шибко неразвитые все улыбаются и ходют без колготок. Одни парни все кто в армию не ушел в лесу лес воруют и слушают Макsим и насмехаются, а недавно видел в магазине черные резиновые сапоги с розовыми цветами, но опять хозяйка начала соблазнять нежной шеей и кукольными глазами. А недавно Мася посмотрел со мной «Бесславных ублюдков» и сказал что отстой, не понял насмешки мэтра над жанром и еще не хочет он «Доктора Хауса» смотреть со мною и через это я испытываю полное интеллектуальное одиночество.
Милый Данила, а когда будет у кого-нибудь день рождения, возьми мне бутылку водки дорогой холодной и в зеленый погребец спрячь. Попроси у Кирича, скажи, для Ваньки».
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Темнело, кошки ушли с крыши, белая слепая луна начала наливаться серебряным блеском. Он вспомнил, что на день рождения всегда ходил с Данилой на Воробьевы горы. Данила долго пил и потом падал в пруд, и все смеялись и кричали:
– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленного Данилу тащили в господскую квартиру, а там принимались убирать его… Больше всех хлопотал Кирич, любимец Ванькин. Он кормил его самодельными пельменями и от нечего делать выучил смотреть «Монти Пайтон», читать сообщества в ЖЖ и даже писать в Твиттер.
«Приезжай, милый Данила, забери меня отседа. Сил моих нету, а скука такая что и сказать нельзя, все мечтаю… А намедни редактор сказала мне ехать в командировку с чиновницей из отдела образования, а она такая сексуальная что я с непривычки засмотрелся на нее и ударился лбом о дверь автобуса, насилу очухался. И еще другая есть в отделе культуры, тоже в колготках, но я туда больше не хожу потому что меня на посевную бросили, а культуры больше нет и только интеллектуальное одиночество. Пропащая моя жизнь, хуже маньяка-фетишиста всякого. А еще кланяюсь Сереге, Денису и всем-всем, а клавиатуру мою никому не отдавай. Милый Данила приезжай».
Ванька перечитал письмо. Подумав немного, он потрогал пальцем USB-модем и написал заголовок: «На деревню дедушке». Подумал еще и приписал: «Знакомым столичным». Сидельцы из гугл-тока сказали ему, что письма по проводам отправляются на сервер, а оттуда разносятся по всей земле с пьяными сисадминами и звонкими колокольцами. Он нажал кнопку «отправить».
Через час он уже спал, убаюканный сладкими мечтами. Ему снилось вечернее закатное метро. В метро едет Данила и читает детектив, а вокруг ходят женщины и сверкают коленками…
Омон (не Ра)
Выпил вчера с омоновцем. Старый знакомый, на год меня младше, хороший парень – тебе бы понравился. Вместе ездили в летний лагерь, вместе бегали по ночам к девочкам, вместе прятались от вожатых. Этот простой хороший парень еще проглядывает сквозь него нынешнего. Он очень крепок физически, говорит просто и тихо, застенчиво улыбается, как в детстве, когда после школы катались с горки на портфелях, и он неудачно въезжал в сугроб. Но глаза уже ледяные-ледяные, и, знаете, нежитью пахнет. Но мне, наверное, из-за моей склонности к мистификации и преувеличению это просто померещилось.
В ОМОН он попал так: отслужив в армии, устроился ППС-ником, потом, подав заявление, проходил серьезную военно-врачебную комиссию и кучу психологических тестов и провокаций. «Заходишь, он на тебя орать начинает, опускает, через некоторое время уже очень хочется ответить, но постоянно помнишь, что он провоцирует. Или, например, вопросы: сможешь ли ты прокатиться на велосипеде после десяти стаканов пива? Думаешь, ну хуй знает, смогу, наверное. А после десять стопок водки? Хуй знает, наверное, уже нет. То есть тебя разводят, чтобы узнать, бухаешь ты или нет». Потом шестимесячная школа ОМОНа, про которую рассказывать неинтересно – так, Закон о полиции. Перед выдачей оружия еще куча тестов, психологи, психологи, психологи. Постоянные зачеты по физподготовке. Наконец, работа.
Недавно неподалеку от г. Байкальска Иркутской области было совершено поистине дерзкое ограбление: почтовый уазик вез четыре, что ли, миллиона пенсионных рублей. Охранники были безоружные, водитель, нарушив все инструкции, остановился в глухом месте. Его застрелили, охранников связали, уазик загнали в лес. Преступники были в масках и бронежилетах. Никто ничего не видел и не слышал. Глухарь, короче. Мой знакомый ездил туда.
– И что вы там делали?
– Ебали все, что движется.
– Трясли всех, ментов местных, почту, да?
– Не, в прямом смысле. С девчонками знакомились. Опера так никуда и не вызвали.
Окончательно стало ясно, что ОМОН – это просто молоток, который даже если и знает, чья рука куда какие гвозди им забивает, особо не заморачивается.
– Ну например.
– Ну например, ездили недавно по кафешкам, чурок валили.
– На основании?
– Приказ начальника ГУВД, генерала. Привозили в контору, снимали пальцы, если по базе не проходили, отпускали сразу.
– Почему чурок?
– Семьдесят процентов убийств, грабежей и разбойных нападений в городе Иркутске совершается выходцами с Северного Кавказа.
– Ну а если они обидятся и жаловаться будут? На маски-шоу-то?
– Кому они жаловаться будут?
– Начальству вашему.
– Пусть жалуются.
– А в прокуратуру?
– Пусть.
– А если у чурки друзья хорошие есть? Например, майор ФСБ какой-нибудь? Или вор?
– Пусть приходят к генералу, выкатывают предъяву.
– А кому ваш начальник подчиняется?
– Напрямую Нургалиеву.
Короче, все по Пелевину: будешь возбухать про адвоката и Страсбургский суд, то они кроме травы найдут у тебя молоток и фотографию Усамы бен Ладена, и любому Страсбургскому суду ты после этого будешь глубоко неинтересен.
В кино мы много раз видели эти пресловутые маски-шоу. Влиятельные бандиты качают права перед простыми ментами, но если в гости приходит ОМОН, то все сразу забывают о своей влиятельности.
– А вот в «Бригаде» было. В офис к браткам приезжает наряд, метет без предъявы, увозит за город, ставит под автоматы, дает лопаты и просит немного покопать. Потом, когда могилы готовы, дает очередь по кустам и уезжает. Братки потом долго не могут прийти в себя. Может такое быть?
– Может.
Ну и напоследок спросил про разгоны мирных митингов, которых в Иркутске, слава богу, нет. Услышал удивительный ответ:
– А это не мы. Это ОМСН, отряд милиции специального назначения, а мы – отряд милиции особого назначения.
– Основание – тоже приказ генерала, начальника ГУВД?
– Естественно.
– А основание для приказа начальника ГУВД – тоже приказ начальника ГУВД?
– Соображаешь:-).
Но позитив в его службе тоже есть.
– По рукопашке соревнования устраивают. Выходят какой-нибудь чемпион России и дурак из деревни, который недавно в ОМОНе и не знает, что тот чемпион России, и валит его, потому что десять лет в деревне лопатой говно кидал.
Нет, нежитью не пахло, это я напридумывал. Парень все тот же, хороший, простой, но у него работа такая. Альтернатива этой работе – в деревне говно кидать. Все равно было немного не по себе, но это ничего, привыкну. Сегодня, наверное, еще посидим у Маси.
Виньетка
(отходы производства)
Сцена 1
Хаус накладывает жгут, садится в ванну, смазывает ногу йодом, обкалывает ее обезболивающим. Шприцы один за другим летят на пол. Делает разрез. Сверяясь с рентгеном, вырезает первую опухоль. Стремительно бледнеет, подглазья наливаются чернотой. Промокает лоб об валик полотенца, съедает пару таблеток викодина, смотрит на снимок, вырезает вторую опухоль. Руки все сильнее трясутся. Хаус подбирается к третьей опухоли, но тремор становится очень сильным, и он роняет скальпель. На несколько секунд теряет сознание. Приходит в себя, не может встать. Разрез кровоточит. Лицо очень бледное. В ярости стучит кулаком по бортику ванны, берет телефон, начинает звонить.
Тринадцатая не может взять трубку, она занята: убивает брата. Чейз, проснувшись, тянется к телефону, перебираясь через множество женских тел в его кровати, но устает и решает не брать трубку. Тауб положил на лицо своей жене фотографию своей жены и представляет, что изменяет своей жене со своей женой. Форман просто крепко спит. Наконец, трубку берет женщина, лица которой не видно. Рядом с женщиной спит маленькая девочка.
ЖЕНЩИНА (в телефон). Надеюсь, это вопрос жизни и смерти?
Встает, одевается, берет девочку с собой, едет.
Сцена 2
В окровавленной ванне в полубессознательном состоянии сидит Хаус с телефоном в руке.
В ванную входит ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА (улыбающимся голосом). Что мы здесь делали? Мы хотели покончить с собой? Натекло много кровки…
ХАУС (перебивая). Кто ты?
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Тебе нужно в больницу. В больнице дядя-хирург острым ножичком удалит все-все…
ХАУС (глядя на пустую баночку из-под викодина). Кто ты?! Мне не нужно в больницу. Хирурги идиоты. Они отрежут мне ногу. Просто вырежи опухоли.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Хорошо, тогда вырежем опухольки прямо здесь. (Достает телефон, звонит кому-то.) Да, везите вчерашних. Ну тех, которых еще не отпустили. Нет, не надо кормить. Уток подсадных не надо, тут все по-взрослому будет. Ну сколько… человек пятнадцать влезет сюда наверное. Да, ванная большая. Ну, Америка, что вы хотели! Все, жду.
ХАУС. Кто ты? Ты покрасилась? Я плохо вижу… Надеюсь, ты покрасилась везде? Мне надоело быть русским солдатом, каждый раз красящим газон в нужный цвет при… при… генерал… твоя киска…
Путается, не может закончит шутку, теряет сознание. ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА вкалывает ему адреналин. Хаус возвращается и видит, что в ванную, подталкиваемая кем-то, входит стайка испуганных детей.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Сегодня, ребята, мы узнаем, что бывает, когда люди занимаются самолечением. Это не только приключение, но и опасность! Видите, дяде плохо?
ХАУС. Нет! Опять. Меня опять засунут в психушку. Я… нет! Почему галлюцинации?!
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Дядя колол себе не прошедший клинические испытания препарат, стимулирующий рост мышечной ткани. Он думал, что это поможет его ноге, и чувствовал улучшение. Но вскоре крыски, на которых испытывали препарат, сдохли! Но сначала у них были судороги, а потом появились маленькие черненькие опухоли.
ХАУС. Нет. Мне нужно в больницу. Отвезите меня в больницу!
Пытается встать, звонит кому-то. ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, не прерывая лекции, мягко забирает у Хауса телефон и усаживает назад в ванну.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Дядя, не доверяя хирургам, попытался извлечь опухоли сам. Это довольно трудно. Видите, что у него получилось? Но мы поможем дяде. Правда, поможем?
Дети молчат и отворачиваются. ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА берет чистый скальпель и начинает вырезать опухоли.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Видите, ребята? У крысок были такие же черненькие образования, как и у нашего дяди. Поменьше, конечно. Крыски умерли, а дядя хочет жить. (Обращаясь к Хаусу.) Дядя ведь хочет жить, правда?
ХАУС совсем белый, он трясется и повторяет что-то бессвязное.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. Но! Опухоли мы вырезали, но разве это поможет? Нет, дядя останется таким же эгоистичным подонком, если у него будет болеть нога, ведь его собственная боль заставляет его делать больно другим и вдобавок принимать разные нехорошие таблеточки. Мы ведь поможем дяде, да, ребята?
Дети начинают плакать. Кто-то невидимый, в пиджаке, сзади одергивает их. ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА надевает черный сталеварный шлем, опускает забрало, включает циркулярную пилу.
ХАУС (внезапно придя в себя). Нет! Остановите это! Стоп, стоп! Режиссер! Где все??? Остановите ее!..
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, слившись с пилой в одно целое, склоняется над ванной и начинает резать ногу у самого таза. Хаус захлебывается криком, по стенам хлещут фонтаны крови. Пила доходит до кости, звук становится тонким и визгливым. Сердце Хауса останавливается. Детей уводит кто-то невидимый, в пиджаке.
Сцена 3
Утро следующего дня. Команда Хауса постепенно собирается в офисе. Все лениво пьют кофе, зевают. Звучит очень грустная музыка, похожая одновременно на все сразу. Все разом достают телефоны и обнаруживают пропущенный вызов. Переглядываются. Уилсон приносит кролика.
УИЛСОН. Ваш шеф должен мне пятнадцать баксов!
ФОРМАН. Вряд ли вы их получите. (Саркастически, глядя на часы.) Судя по всему, он решил теперь работать дома?
Музыка становится еще грустнее, хотя куда грустнее-то, казалось бы.
Конец 7-го сезона.
Уик-энд
Наступило лето. Закончилась рабочая неделя. Грядет уикэнд. Москвичи и гости столицы будут отдыхать: кто-то просто пойдет гулять с друзьями, кто-то поедет за город, кто-то мелочиться не станет и махнет в ближайшее зарубежье. Ведь нет ничего приятнее, чем гулять по Москве, фотографировать цветочки, а потом засесть на веранде кафе с чашечкой латино-эспрессо-капучино, неправда ли? Вряд ли кто-то заляжет на весь день с книжкой или примется озлобленно драить окна. Многие, конечно, никуда не поедут и нажрутся вечером во дворе возле дома, но тоже гламурно, самодельными коктейлями из спиртосодержащих напитков, купленных в дьюти-фри во время последней поездки в Сербию. Короче, тонкая едкая ирония сегодня не получается. Москвичи и гости столицы, вы меня бесите.
Но у меня тоже будет уик-энд. У меня тоже была тяжелая рабочая неделя: в самом начале лета впервые за несколько лет я простыл и всю неделю ходил с соплями. У меня был конфликт с местными властями знакомой тетенькой из отдела образования из-за моей журналистской деятельности (несдержанности на язык), вызванной раздражением и скукой. Я одурел от целенаправленного методичного чтения в больших объемах. Я устал от напряженных духовных поисков, попыток самому себе объяснить, почему же я такой унылый мудак.
Но сопли прошли, конфликт исчерпан, книжки отложены. Поэтому сейчас (кто не знает, в Москве на пять часов раньше) я допишу текст и сделаю вот что.
Я пойду к Масе. У Маси я прибегну к последнему, самому надежному средству от усталости и уныния: обжорству и пьянству. Мы нажарим ведро жирнейшего свиного шашлыка и объедимся им до тахикардии, запивая ледяной водкой. Потом будем сидеть на веранде и смотреть какой-нибудь старый добрый фильм из моей коллекции. Масе, естественно, фильм не понравится, и он будет пиздеть. Я же буду, небрежно икая, изредка скашивать на него отуманенный взор и ронять:
– Хули ты понимаешь. Это… Альмадовар.
Я назову первое вспомнившееся нехорошее слово, но Масю это не устроит. (Смотреть мы будем, скорее всего, «Леона» или что-нибудь из Тарантино.) Мася пойдет заваривать крепкий черный чай, и это будет очень правильно: после такой дозы шашлыка сигарета тяжела, веки неподъемны, речь, внимание нарушены. Взбодрившись, мы продолжим смотреть кино. Когда на экране появится первая хоть сколько-нибудь интересная женщина, мы застынем. Мася рефлекторно нажмет на паузу, нальет, и мы, не сговариваясь и не чокаясь, выпьем. Не знаю, сколько не было секса у него, но мне хватило двух месяцев, чтобы проникнуться восторженным подростковым приятием всего живого.
Поговорить тоже. Мася – он пошляк, обыватель и большинство, он все по сиськам. Я показывал ему мои картинки (женские ноги в различных аксессуарах), но он назвал меня извращенцем. Сегодня, глядя на экранную диву, я прошепчу:
– Смотри. Она в носках розовых.
– И что? – тревожно посмотрит он на меня.
– Круто.
– Ебанутый ты.
– А у тебя нет вкуса.
– Что значит «нет вкуса»? Бабу бы щас.
– Ну вот, в носках.
– Давай дальше смотреть.
– Стой! Она, кажется, сейчас переобуваться будет.
– Смотри, только меня не трогай.
– Ну поставь опять на паузу! Видишь, она носок снимает…
Мася молча уйдет за чаем, а я выйду покурить. Стоя на крыльце, слева я буду видеть белую свечку спутника и желтые фары КамАЗов, уезжающих в Иркутск с ворованным лесом. Справа будут красные маячки тасуемых по базам военных самолетов (у нас здесь какой-то маршрут) и оранжевая оранжерея фонарей вдоль моста. Я посмотрю посередине, вниз: перед крыльцом будут дотлевать угли, на которых мы жарили свинину. Огонек в душе начнет опасно разгораться. Мася вернется, и я торопливо спрошу:
– А давай шашлык-то доедим?
Мы будем доедать остывший шашлык и запивать его нагревшейся водкой. На время огонек притухнет, заваленный жиром, мясом и мусором, но когда я пойду домой, то все начнется с новой силой. Кроме рукотворных огней, меня будут зажигать еще и звезды. Розовые носки, зародыши прозы в прожилках ассоциаций, оранжевые фонари на улице Кравченко в Москве, пахнущий далеким лесным дымом майский воздух, сентябрьская прогулка под дождем, этажи сюжетов в голове, миллион и один способ подарить ей свое невыносимое богатство, тоска и одиночество – все полетит на этот огонек и вспыхнет полночным пионерским костром.
– Надо же было так нажраться, – удивлюсь я, для достоверности разведу руками, как это делают карикатурные пьяницы в фильмах, и икну. – Уик-энд.
Вру я все, естественно. Никто не нажрался. Просто огонек особенно жжет в тишине, в деревне, дома, на холме, в лесу, под черным небом, под колючими звездами, когда стоишь и не знаешь, то ли песню спеть, то ли лечь в траву и молчать, седея. Скорей бы в Москву, в самом деле: пьешь там во дворе гламурное, и огонек послушно тлеет, ничего не смея сжечь. А если засесть на летней веранде кафе с чашечкой капучино, то он и вовсе гаснет.
Музыка
Воскресенье, неспешная уборка дома, фоном журчит телевизор. По «России» концерт в честь Дня защиты детей. Выступают Олег Газманов, Жанна Фриске, Лев Лещенко и другие, совсем уже неопознаваемые и не отличимые друг от друга деятели культуры. На улице пасмурно и холодно, детям надоели игры и мультики, дети маются со скуки, слоняются по дому, мешают мыть и пылесосить, но концерт в честь Дня их защиты они не смотрят – и слава богу, не нужно защищать их от бессмысленной скучной жвачки, тянущейся с экрана и ткущей свои розовые сети по углам гостиной. Естественно, не для нас делают все эти концерты, не для детей, не для людей. Параллельные миры действительно существуют, иначе никак нельзя объяснить назначение и смысл телевизионных праздников: гугнивые, слюнявые, одноглазые, почесывающиеся обитатели заброшенных внешних миров посасывают пальцы и радостно скалятся на Жанну Фриске – без Жанны Фриске у них там совсем тоска: черная пыль, мокрые звезды, мелкий гнойный дождик, бензиновые реки.
Сны ў рабочых паселках Пад гукі дынама-машыны Здохлі ў небе вяслкі Цемнае свята бензіну Няма ніякага бога Няма светлакрылых анелаў К чорту ляжыць дарога Дзе духі стальных жывелаў Нафта Сонца ня ўзыйдзе заўтра. (С. Михалок, гр. «Ляпис Трубецкой».)Лев Лещенко разгоняет своим легендарным голосом фиолетовые тучи этих черных миров, на минуту проглядывает желтая луна, и потусторонним уродцам чуть легче перенести мысль о том, что солнце завтра не взойдет. Жанна Фриске наполняет мутировавшие тельца лихорадочным радиоактивным эротизмом. Что? У вас есть другое объяснение, почему эти концерты показывают по телевизору?
Это понятно, но волнует другое. Когда я был ребенком, Лев Лещенко выходил на сцену защищать меня. Я был подростком – Лещенко тоже не забывал обо мне. Я стал взрослым, но Лев Лещенко по-прежнему стоит на сцене в пиджаке, среди блесток и огоньков, и поет, поет, поет. Самое интересное во всем этом то, что Лев Лещенко совершенно не меняется. Насчет собственной биологической судьбы у меня нет особых иллюзий, но вот в то, что старая советская эстрада, так здорово продолженная «Фабрикой звезд», когда-нибудь умрет, верится слабо. Я не могу представить, что умрут Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару. Нет, завирать-то, конечно, не надо, они, возможно, умрут, но на подхвате будут Жанна Фриске, «Блестящие» и многие другие. Иногда я всерьез думаю, что эти люди бессмертны в самом прямом, физиологическом смысле. Я живу и меняюсь, тем же занято большинство моих знакомых, но в Льве Лещенко ни одна молекула за эти годы не сдвинулась с места. Нынешние дети, войдя в мой возраст, так же будут удивляться алмазной нерушимости физического статус-кво Жанны Фриске.
Я догадываюсь, почему советские женщины хотели переспать с Львом Лещенко, а постсоветские мужчины хотят заняться сексом с Жанной Фриске (о чем убедительно рассказывает небезызвестный фильм «Квартета-И»). Я вот очень хотел бы переспать с Юлией Ковальчук, бывшей участницей группы «Блестящие». Мне кажется, мы подсознательно чувствуем, что артисты эстрады что-то знают о реальном физическом бессмертии и могут поделиться своей тайной. Обменявшись жидкостями со звездой, можно начать выращивать внутри себя свои кристаллы плотского, плотного, здешнего, мясного «азъ есьм», без этих ваших неясных штучек с душой, светом, ангелами и адом. Бог есть, и тем, кто особенно горячо просит оставить его во плоти навек (как я), он дает такую возможность. Но ничего не бывает даром: отказавшись развоплощаться, человек переселяется в холодные внешние миры и вечно смотрит концерты в честь Дня милиции и Дня защиты детей. Если сейчас вы встанете из-за компьютера, подойдете к телевизору и включите канал «Россия», то за вашей спиной немедленно угнездится стайка невидимых теплых существ из параллельного мира.
А вы можете по-своему объяснить, почему Лев Лещенко пел, когда вас не было, поет в течение всей вашей жизни и будет петь, когда вы умрете, притом что ни вы, ни кто-либо из вашего окружения никогда не смотрел на то, как он поет? Жанна Фриске и следующее поколение, приготовиться.
Раевский (Олонки)
Приемная администрации села Олонки, жаркое утро 3 июня, пятница. В прохладном сумраке приемной главу администрации ждут четверо: корреспондент районной газеты «Сельская правда», две бабушки в платочках, мужчина в шапке, кожаной куртке до колен, тренировочных штанах и резиновых тапочках. В лицо и руки мужчины навсегда въелись следы горюче-смазочных материалов. Корреспондент дремлет, одна бабушка безмолвствует, вторая заводит с мужчиной обстоятельный разговор (они знакомы).
– Ты где работаешь-то щас? Лес воруешь?
– Я-то? Нет. Не ворую. Пробовал как-то – до сих пор три лесовоза невывезенные в лесу лежат. Не на чем вывезти. Не обучили меня воровать.
– И правильно. Все-то не украдешь.
– Я тебе больше скажу. Шел недавно в магазин, смотрю, двести рублей валяется. Я и так посмотрел, и этак, думаю, сплю ли я, или с ума сошел? Наклонился – точно: двести рублей.
– Вот удача-то кака!
– А возле магазина девчонка соседская стоит. Я ей говорю: ты стой где стоишь. Взял эти двести рублей, зашел в магазин и – раз! шоколадку ей. Потому что отдавать надо. К тебе приходит, а ты отдавай.
– Конечно.
– Вот кто на лесе-то этом нажился, они что думают? А ведь Бог-то есть, и он все видит.
– Видит, видит.
У безмолвствующей бабушки из телефона вдруг громко звучит композиция С. Шнурова «Привет Морриконе», тема из к/ф «Бумер», под которую Димон в конце уезжает, плача. Все вздрагивают, корреспондент просыпается. Бабушка достает телефон, испуганно смотрит на него: «Осспади, громко-то так зачем», выключает и снова принимается безмолвствовать.
– А я как сделал. Я воровать не обучен. Я картошки полтора гектара посадил.
– Ну.
– Чё ну? Посадил, выросла, говорю: детям теперь отвезу. Они меня спрашивают: как отвезешь? На чем? Я: как на чем, ептыть? В кармане (вот так показываю, внутри, мол, в кармане). Они: как в кармане? Я: ну как, ептыть! Вот так и в кармане. Продам, деньги положу в карман и увезу детям.
– Заливаешь ты чё-то, однако.
– У меня эксклюзивный семенной материал! Я там картошки возьму, тут попрошу, потом скрещиваю ее друг с другом и сажаю. Но! На картошке вырастают помидор кито эти маленькие, как их?
– Балаболки-то? Ну.
– И балаболки я уже сажаю. Эксклюзивно.
– Ох заливаешь ты. Чё заливать-то?
Мужчина вскакивает и выбегает. Тут же возвращается, проталкивая в дверь пустую детскую коляску. Ставит ее между собеседницей и собой, молча, с видом уязвленного достоинства, садится напротив.
– И зачем ты ее припер? Чья коляска-то?
– На крыльце стояла.
– Сюда-то зачем припер?!
– А чтоб не говорили, что заливаю.
Все лениво молчат. Корреспондент снова начинает засыпать. Через пару минут мужчина встает и выволакивает коляску обратно на крыльцо:
– Возвращать надо. К тебе пришло, а ты назад отдай. Бог-то есть, он ведь видит.
Тема из к/ф «Бумер» звучит опять. Мужчина с коляской уходит насовсем. Безмолвствовавшая бабушка выключает звук и тихо жалуется:
– Жалко его. Агроном ведь хороший раньше был. А теперь – вон, с утра…
– Понятно, что с утра. Чувствуется.
– Да даже ладно что с утра. Он и трезвый-то не очень.
Административный совет заканчивается, высокие двери распахиваются, приемная заполняется чиновниками.
Бабушки смяты и не могут встать. Корреспондент протискивается к плотно облегаемому посетителями главе администрации, удивляясь, со сколькими людьми ему нужно здороваться всего лишь после двух месяцев работы, и старается ничего не придумать.
Язык (Черномырдин)
Больше всего в своей нынешней работе я люблю муниципальные праздники-концерты в честь Дня кого-то или чего-то. Я обожаю в них все: вечно фонящие микрофоны, сладкоголосого и сладкоглазого мальчика в серебристом костюме, стонущего со сцены «Я люблю тебя до слез», устные народные танцы под аккомпанемент прифольклоренного умц-умц-умц, белый воротник, синий костюм и красную шею мэра в первом ряду. Но круче всего в этих праздниках, конечно, язык. Тексты ведущих, поздравления, стихотворные заставки – душевная теплота и сердечная чуткость льются из них литрами, заболачивая зал. Сегодня, 8 июня, находясь на празднике в честь Дня социального работника в качестве корреспондента, я наглотался и теплоты и чуткости по самое не хочу.
Перекатываю эти мягкие шершавые комочки во рту и прислушиваюсь, как же они звучат на самом деле. «Душевная теплота», произнесенная специальным теплым-теплым, пластилин на жаре, голосом – это неделю лежащий с температурой тридцать восемь и пять одинокий, полный мужчина. Некому ему помочь, диван пыльный, жесткий и узкий, человек этот ни разу за всю болезнь не сходил в душ, потому что его морозит и колотит под двумя одеялами, и он, весь в поту, промакивает собой диванную корочку до самых пружин. Волосы скатались и слиплись, он ненавидит всех и никого не хочет видеть, хотя в аптеку все же надо бы сгонять. К вечеру температура еще поднимется, он скинет одеяла и будет холодными губами глотать тепленький приторный вчерашний морс.
А «сердечная чуткость», произнесенная голосом одновременно звонким и жирным, как противень, – это первая трезвая, одинокая, слепая и глухая ночь после месячного запоя в квартире с ободранными обоями, где кого-то когда-то убили. Человек лежит в ванне и читает. Он изо всех сил старается не смотреть по сторонам и не отвлекаться от содержания книги, потому что тогда нитяное сердце вместо слабенького, но ровного «так… так… так…» начинает выплясывать «тактак-тактак-тактак». В квартире очень тихо, слышно только, как с носа лежащего в ванне капает вода. Вдруг на кухне в шкафу сама собой сдвинулась и грохотнула посуда, это бывает, но человек выскочил из ванны, залив весь пол, и вцепился белыми руками в дверной косяк. Ему бы зажмуриться и не смотреть в коридор, где метнулась из одного угла в другой чья-то тень, но он уже увидел ее, и сердце взвизгнуло и зашлось. Кто-то смеется в углу, или только мне кажется? Ему нечем дышать, он бежит на балкон, но там восьмой этаж, и сердце чутко реагирует на каждый метр этой высоты новым прыжком.
Если ведущий читает с бумажки полностью готовый текст, то дорогой Николай Александрович и заслуженная Нина Петровна импровизируют, мешая плохо приклеенные друг к другу скрипучие пенопластовые официально-деловые блоки и обычную разговорную речь. Отчаянно продираясь к ясно осознаваемому смыслу через непривычный, скользкий, вертлявый книжный синтаксис, они говорят восхитительно.
«…хотел бы озвучить не только слова благодарности, но и подарок».
«…также благодарим за содействие силовые структуры: военкомат (!), прокуратуру, милицию и суд (!!!)».
«…думаю, другие главы добавят меня».
Я сижу на восьмом кресле в восьмом ряду и не успеваю записывать, зарисовывать все эти чудесные языковые коряги, суки и пни, черные, тяжелые, узловатые, с кокетливыми мелкими розовыми цветками.
«…свет своих сердец».
«…он должен быть специалистом на все руки».
«…хочу, чтобы эти нюансы мы решали вместе, и мы их решаем».
«…поздравить сердечно и глубоко».
«…снимаете ту социальную напряженность, которая присуща, наверное, каждому муниципальному образованию».
Все это нужно немедленно записывать в блокнот. Запомнить это трудно по странной причине: когда возвращаешься в редакцию и роешься в этой красоте, создается опасное ложное ощущение, что ты это придумал сам, и что ты чуть ли не Довлатов. Не может ведь человек в пиджаке и галстуке говорить так со сцены!
«…ту душевную теплоту, с которой вы реализуете положения федеральных и региональных законов и подзаконных нормативно-правовых актов».
«…пожелать вам терпения, души… она есть у вас, большая… в которую вселяется столько невзгод, которые вы перерабатываете».
«…мы работаем сейчас уже областного значения. В 2007 году у нас было восемь инвалидов, сейчас уже восемнадцать».
«…чтобы человек в себя поверил, чтобы обрел вторую жизнь».
Вот был у нас один гений – Черномырдин. Татьяна Толстая как-то в «Школе злословия» назвала его нашим Конфуцием. Черномырдин, как Пушкин, накопил, воплотил и выразил, став вершинной точкой в развитии этого сумеречного сказочного языка, в котором сочетается несочетаемое: человеческое и государственное, народное и чиновничье, живое и книжное. Корни, зачатки его здесь, в провинции, так легко, внятно и грамотно говорящей в обычной обстановке и так болезненно давящейся «правильными» конструкциями в официально-торжественной жизни.
«…ваших многодневных будней, соприкасаемых с болью».
«…сохранила, приумножила и приоблагодетельствовала».
«…здоровья, творческих начал… и продолжения этих начал».
«…кропотливые руки».
Я сильно зазнаюсь, если когда-нибудь смогу сам так говорить и писать.
«…помощь в оказании квартир».
Будни
Ремонт в редакции добрался до моего кабинета. Редактор уехала на весь день. Сидел в ее кабинете. Дышал краской. Принял факс: реклама слуховых аппаратов. Стоимость этого объявления в газете – четыреста четыре рубля, потерянные деньги. Дом сгорел, внуки обезножили, все разошлись, остались мы вдвоем с Павлом Романовичем. Работы на сегодня не было. Половина моих обязанностей состоит в том, чтобы найти телефон директора сельскохозяйственного ООО или ОАО и договориться с ним о или а встрече. Обычно эти договоренности ничего не стоят: я приезжаю в деревню, директора нет, и на все вопросы прекрасно отвечает его заместитель, агроном или бухгалтер. Но недавно от этой порочной расслабляющей практики пришлось отказаться: я приехал в Олонки за очередной сельхозстатьей, но директор местного хозяйства, уехав по делам в Иркутск, строго-настрого приказал никому ничего не говорить. Он сам. Я попытался пройти в контору, чтобы поговорить хоть с кем-то, но передо мной выросли двое охранников цвета хаки и вежливо скрестили руки на груди:
– Никто, кроме директора, не уполномочен разговаривать с прессой.
– У вас тут, кроме пшеницы и ячменя, еще захоронения ядерных отходов и разработка биологического оружия в одном неброском флаконе? И «Коммерсант» и «Ведомости» пронюхали про это? Утечка информации с молочной фермы?..
– Извините. Мы всего лишь выполняем распоряжения начальства.
– Мы машину казенную гнали, – я попробовал зайти с другой стороны, – бензин жгли. Материал нужен. В ваших же интересах – о проблемах своих расскажете, районная администрация все очень внимательно читает. Нам бы агронома?
– Только директор, а он на весь день уехал в Иркутск. Можете подождать. Извините.
Я, конечно, почувствовал себя Малдером, скачущим перед солдатами охраны засекреченной базы ВВС, но все же решил не лезть ночью через колючую проволоку высоковольтного ограждения.
– Сергей, они охуели, – сказал я водителю, вернувшись в машину. – А виноват я буду.
– Поехали в администрацию, – ответил водитель, практический человек. – А то хули, в самом деле.
В итоге я поговорил с работниками лесничества и сделал материал о лесовосстановлении, закончив статью поэтически: «Сосна живет в среднем двести лет. Все школьники, еще вчера любовно высаживавшие молодые сосенки, скоро умрут, а появившиеся на свет благодаря их усилиям новые деревья долго еще будут ронять мягкие иглы в изумрудную траву».
Все это к тому, что работы не было. Директор очередного хозяйства, пообещав встречу, просил на всякий случай позвонить накануне, потому что мало ли что, а то, кроме него, никто не уполномочен, и накануне, естественно, пропал. Я сидел в кабинете редактора и дышал краской. Когда пришел Павел Романович, я пожаловался ему:
– Работы нет, кабинета нет, начальства нет. Зачем здесь сидеть-то? Что делать?
Павел Романович посмотрел на часы:
– Скоро обед.
– И что?..
– Как что? Нужно поесть. И постараться уснуть. И все.
Павел Романович – удивительный человек. Бывший уголовный следователь, ныне корреспондент муниципальной газеты, он презирает прогресс и из таинственных принципиальных соображений вообще (вообще!) не пользуется компьютером, однако тщательно следит за современным литературным процессом, не прикасаясь при этом к Интернету. Его можно ставить в музей компьютерной революции как последнего защитника почерка и рожиц на полях: статьи он пишет ручкой в тетради, их потом набирает наш бухгалтер, по совместительству секретарь. С тех пор как я узнал об этом, мне хочется показывать на Павла Романовича пальцем в его присутствии. Новости литературной жизни он узнает по радио, которое слушает на винрарнейшем пожелтевшем приемнике. Он сильно заикается – так, по крайней мере, я решил сразу после знакомства. Сейчас то ли я привык к нему, то ли он ко мне, но теперь Павел Романович говорит со мной короткими вескими фразами, так, будто он долго думал, прежде чем сказать что-то, счел все обдуманное неважным и отмел, оставив зернистую суть. Например, он собирается на дело, заходит в кабинет редактора за фотоаппаратом, который обычно лежит в сейфе, и вспоминает, что ключ от него уехал вместе с редактором на весь день:
– Фотоаппарат. Нет? Ну, не судьба.
Я курю на крыльце. Павел Романович возвращается из туалета:
– Слышал? «Супернацбест». Прилепину. Сто тысяч зеленых денег. «Грех».
– Грех, Павел Романович, грех. Хоть бы раз в жизни Пелевину что-нибудь дали!
– Ну. Что ты. Хорошему человеку. Не жалко.
– «ДППНН», конечно, далеко не книга десятилетия, но…
– Да ладно тебе. У Прилепина. Дети.
– У Пелевина, может, тоже дети. Тщательно скрываемые.
– Д-духовные, ага.
В общем, я послушался совета Павла Романовича и после обеда остался дома. Отлично выспался как минимум за прошлые две недели. Учил женщину (племянницу) ездить на велосипеде. Поливал огород. Растопил баню и долго, в несколько заходов, парился: сдавал пару до тех пор, пока не становилось нечем дышать, потом выбегал и нырял в специально для этой цели поставленный большой надувной бассейн. Лежал и рассматривал звезды, философски почесывая яйца, потом бежал назад, париться до посинения.
Я сижу на летней кухне и пью облепиховый морс, чувствуя, как на ходу регенерируются мои клетки. Задумчиво лают далекие собаки, гудят и гудят турбовинтовые самолеты (это совсем не то, что реактивный пассажирский лайнер – этот звук более аналоговый, военный, черно-белый). Завтра пятница, опять буду почти безуспешно спаивать Масю. Сегодня, поливая чеснок, придумал клевую повесть или даже маленький роман – со страшным началом, веселым, динамичным действием и еще более страшным концом. Уже самому смешно: столько этих повестей и романов придумано и начато, а в смысле результата конь не валялся, и воз и ныне там. Кажется, я запарился. На чердаке тусуются кошки, надо бы их выгнать, а то взяли моду ебаться. Можно пока написать пост в ЖЖ – эти простые и тихие чувства, называемые «покой» и «воля», уже не расплескать.
День рождения
Внезапно нашел дома вот это.
«Шипнигова
мальчик
330 59
6/VI -87
8 ч. 05 м.».
В иное время я написал бы по этому поводу пространное генисообразное эссе, но сейчас не хочу. Я и так слишком много думаю про это самое. Немного обнадеживает несомненное наличие чуда в этом мире – разве не чудо, что человек, так любящий свой день рождения, приезжает туда, где он не живет постоянно уже восемь лет, и в строеном-перестроеном доме (а все знают, что бывает с вещами даже при простом косметическом ремонте), при вынесении последнего горького приговора старым вещам, в гараже, в пыльной коробке, под старым тонометром находит свою бирку из роддома?
Много всего можно по этому поводу написать, и написать высокопарно, но я не буду. Давайте, друзья мои, просто порадуемся появившимся невиданным возможностям: теперь точно известно, во сколько можно начинать. Идет, например, рано утром по городу пьяный Данила. Падает, допустим, в фонтан. Подходит, не дай бог, мент, а Данила ему – раз мою корочку:
– Иван Шипнигов родился 6 июня 1987 года в 8 часов 5 минут. А сейчас уже 8.20. Так что извините.
Мент берет под козырек:
– Продолжайте движение.
Да много всего смешного придумать можно будет.
Опыт работы
Брал вчера интервью у старого глухого шамана. Выполнив основное задание, озаботился неформальной просьбой редактора: «брать все, что плохо лежит» – и спросил в администрации села, что у них есть интересного. Мне сказали про Илью Ивановича, сельского шамана.
Мы нашли его дом. Водитель долго сигналил, я стучал в окна, лениво лаяла женственная овчарка с лаковой шерстью. Я уже расстроился, что никого нет дома, и пошел к машине, но на крыльцо все же кто-то вышел.
– Зачем так громко стучать-то! Заходили бы так. Собака ведь привязана…
Ветхий дедушка в теплой куртке и летней панаме проводил меня в дом.
– Вы – Илья Иванович?
– Не, ты что! Я-то так. Вот он сидит.
За столом, сгорбившись, сидел второй точно такой же дед, только в летней рубашке-безрукавке, и разгадывал сканворд в иркутской газете «СМ номер один».
– Только глухой он! – крикнул проводивший меня дед и сел на диван. – Да и я-то не очень… Ты на бумажке пиши ему.
Он замер на диване и погрузился в созерцание диалогов. Только сейчас я заметил, что старики смотрят телевизор без звука.
Шаман обернулся и с испугавшей меня резвостью вскочил, уступая мне место. Пока я открывал рот, чтобы попросить его не утруждаться, Илья Иванович сбегал в соседнюю комнату за другим стулом и сел, широко улыбаясь. Он смотрел мне прямо в глаза, не мигая, но этот взгляд почему-то было легко и даже приятно чувствовать на себе.
– Мне сказали, что вы шаман, – написал я в тетрадке, которую он успел сунуть мне под руку, пока я открывал рот поблагодарить за стул.
– Я не шаман! – закричал Илья Иванович. – Эти, наверное, в администрации сказали?..
– Да.
– Я шаманю потихоньку, но я не шаман.
– Кто же вы?
– Для меня грех – назваться шаманом. – Старик долго рассматривал каждый мой вопрос и, прежде чем ответить, щедро улыбался, сверкая единственным замеченным мной зубом. – Я, так сказать, старейшина местный. И шаманю потихоньку.
Илья Иванович рассказал, что у него нет традиционных атрибутов шамана – костюма и бубна. Право использовать бубен нужно получить в Улан-Удэнском дацане.
– В шаманистском дацане, не в буддистском, – счел нужным пояснить он мне, гою. – А мне это не нужно. Я настоящих шаманов, которые с бубнами, называю – дипломированные. А я, видишь, – он оттянул подол своей рубашки, – шаман в гражданском.
Илья Иванович долго рылся в своей газете и ткнул пальцем в заметку об иркутском шамане, который жил себе да жил, горя не знал, а потом на старости лет вдруг ощутил сильнейший зов предков и пошел получать право на бубен.
– У меня такого не было, – в этом месте он улыбнулся особенно широко и крикнул громче обычного. – Хотя род шаманский, предки соответствующие. Тайлаган: собираемся на горе, Богу молимся, предкам молимся. Чтоб дождь шел, чтоб хлеб рос, чтобы дети не болели. Народу много собирается, из Иркутска приезжают. Я с каждой семьи по сто рублей беру, баранов режем.
(К вопросу о чужих культурах и границах терпимости: кровавые шаманские жертвоприношения буряты проводят в специально отведенных для этого, святых местах, куда никто посторонний случайно не забредет. Не то что некоторые, ну да ладно.)
– А я, например, могу на тайлаган прийти?
– Конечно! Бутылку бери и приходи. И русские приходят, и из Иркутска приезжают. У нас все свободно. Всем можно. Кроме женщин.
– ?!
Здесь Илья Иванович впервые за весь разговор задумался.
– И… исполать… исподволь… испокон веков так заведено, – с облегчением вспомнил он слово-отмазку. – Да пусть бы и бабы приходили, жалко, что ли?..
– Давно вы шаманите?
– Я не шаманю. Лет десять, уже, наверное. Э! – Он обернулся к старику, дремавшему на диване; о нем я успел забыть. – Когда Петруха-то, старый шаман, помер?
Тот оторвался от телевизора, посмотрел на нас и вдруг совершенно литературным, дамским, истерическим движением схватился пальцами за виски и затряс головой. Я испугался – старый человек, мало ли что? Но книжное страдание продолжалось недолго.
Старик перестал мотать головой, расслабился, снова утонул в диване и спокойно и просто сказал:
– Не помню.
– Лет десять уже, да. Богу молимся, предкам молимся. Чтоб дождь был, чтоб хлеб рос, чтобы дети не боле ли…
На краю света, в селе Дундай Иркутской области, в жаркий летний день два глухих старика сидят в прохладе своего деревенского дома и смотрят Первый канал, смотрят без звука, и правильно делают; один из них шаман, но отрицает это, и отрицает скорее из кокетства, чем от религиозного трепета, а второй – непонятно кто: мог бы быть оруженосцем, но у шамана нет оружия – бубна. Они сидят и делают вид, что смотрят телевизор, но я-то знаю, что одной ногой где-то под диваном они осторожно обшаривают тот свет, выбирая, где потверже, чтобы шагнуть туда легко и радостно. Глядя на них, думаешь совсем не о том, о чем надо: надо бы спросить про грибы, там, про злых духов, про транс – все это безумно интересно, но так пошло и книжно, да и вряд ли он скажет мне – посмеется только; я это лучше прочитаю, а сейчас просто посижу минутку и попялюсь на живого человека, благо в глаза ему смотреть так приятно. Тайна и чудо, как всегда, разлиты тонким слоем повсюду, и в словах ничего про это сказать нельзя. Уходя, я написал старику большое «спасибо» и еще крикнул устно: «Спасибо вам!» Старик расслышал и закивал.
В резюме я так и напишу: «Опыт письменного интервьюирования глухих бурятских шаманов».
Физиологический очерк
Пожалуй, самое главное из моих сегодняшних удовольствий – своими глазами видеть яркие подтверждения давней догадки о том, что никаких правил, закономерностей и тенденций нет, что стереотипы не отражают ничего, ожидания не оправдываются, а законы не работают. Нет никакой «провинции», нет «столичного образа жизни», нет «народа», «элиты», «прослоек» и «общества», есть бесконечное многообразие форм, в которых отдельно взятые, уникальные и непостижимые люди проживают свою единственную бесценную жизнь. Контрасты и парадоксы, порождаемые этим разнообразием, поражают, пугают и восхищают меня.
Шуре Балаганову для счастья нужно десять миллионов рублей – примерно столько стоит квартира в том районе Москвы, где я страстно, до икоты, мечтаю жить. А недавно из заслуживающих доверия источников я узнал, что в селе Тараса (семь километров от райцентра Бохана по Александровскому тракту в сторону Иркутска, как будто вам это о чем-то говорит) продан дом за двенадцать миллионов. Допустим, у вас в тумбочке образовалось двенадцать лишних… нет, не лишних, конечно: свободных миллионов рублей, вы лениво глянули квартиры в Москве, вам ничего не понравилось, и вы решили купить домик в деревне. Это будет отличный домик, маленький дворец эпохи догнивающего путинизма, двух-, трехэтажный, из веселенького кирпича цвета здоровой печени, с мансардами и башенками, с большим приусадебным участком, кучей хозяйственных построек, баней, бассейном, клумбами, газоном и милой ожиревшей собакой, которая будет чувствовать себя настолько хорошо, что у нее не останется сил, времени и желания гадить на этот газон.
Внутри тоже будет гламур, дизайн, покой и уют. Вы будете выписывать из города друзей, париться в бане и купаться в бассейне (зимой вариант бассейна – снег) до полного посинения, гулять в лесу, собирая землянику и клещей, играть в lown-tennis, запинаясь о собаку, а Анюта в розовом платье отравится грибами и будет долго блевать с крыльца в клумбу с лютиками; по вечерам вы будете сидеть у камина в кресле-качалке с рюмочкой коньяка, вспоминая то, что вы знали когда-то о жизни, о том, что же такое жизнь на самом деле, но забыли – двенадцать миллионов прекрасных вещей вы будете делать в этом доме, но вокруг-то постоянно будет село Тараса, вы понимаете это?
Или что «деревня вымирает». Она, конечно, вымирает, но это смотря какая деревня. За два с половиной месяца работы корреспондентом в муниципальной газете я видел много маленьких сел. Директор сельскохозяйственного ОАО в русской деревне приглашает тебя в офис: наспех сколоченные из неструганых досок двухъярусные… кровати, нары?.. в углу – кто, почему, зачем на них спит?.. Мазут и опилки на полу, на столе среди объедков и мух видавший виды смартфон, кошка спит на печке, прямо на плите, будто решила устроить акт публичного ритуального самоподжаривания и дожидается вечера, когда затопят. Директор не может выговорить некоторые трудные книжные слова типа «Иркутскнефтепродукт», я, молодой поверхностный негодяй, списываю это на фрагментарность образования, но мой собеседник застенчиво жалуется: инсульт. Не могу, бля, после инсульта выговорить некоторые слова: как ебнуло меня, так язык как будто бы заплетается. Дальше, опасно краснея лицом, кроет необязательно матерными, но точно последними словами все на свете: федеральные, местные власти, «интеллигенцию», «Россельхозбанк» (еще одно книжное слово), погоду и технику. Сельское хозяйство душат, кредиты грабительские, работать некому: молодежь вся уехала, а та, что осталась, долбоебы и наркоманы.
В бурятской деревне сразу же начинаются шутки. Все время улыбаясь, директор везет тебя в поле. Подтягиваются трактористы и комбайнеры. «Петька, иди сюда, тут корреспондент приехал! Сейчас будет у тебя это… интервью брать!» Петька, чье лицо – единственный довод в пользу призывной армии, стесняется. Он прячется за сеялку. «Зачем мне интервью… Костю пусть фотает». Костя тоже не упустит свою порцию удовольствия: «Меня-то хули. Тебя в газете пусть покажут: молодой сеяльщик Петр такой-то дунул и перевыполнил план». Смех, веселье, хохмы и прибаутки. Про, собственно, посевную ни слова – зачем, что я понимаю? Я ведь приехал интервью брать.
В польской деревне с говорящим названием Вершина чувствуешь себя соответствующе. Тихие, твердые голоса, простые, умные, сосредоточенные лица, деловитые походки. Контора – аккуратное вытянутое бревенчатое здание, отражающее далеееекое, но все еще различимое готическое эхо. Внутри евроремонт, жалюзи, чистота, скромность, достоинство, грамоты и дипломы. Директор, подтянутый мужчина в строгом костюме, вежливо усаживает в удобное глубокое кресло. «Значит, записывайте. Пшеницы 839 га… Овса 360. Многолетних трав, на силос и сенаж, 780 га. Ячмень нет, не сеяли, он нам не нужен. На силос и сенаж записали? Год назад мы брали один кредит на покупку нового комбайна и вскоре полностью рассчитались. Больше в кредитах не нуждаемся. К посевной мы были совершенно готовы. Да, цены на электричество, конечно, грабительские. Что? Секунду, запишите: особенно хорошо на посеве работали Коновалов и Быков. Не знаю, как в других деревнях, но у нас в последние годы уровень жизни повышается. Вы забыли какой-то из своих вопросов? Нужно записывать, заранее составлять план разговора (мягко, с улыбкой). Поедемте, я покажу вам ферму».
При этом нет никаких «русских», «бурятских» и «польских» деревень, есть невнятная, приблизительная сумма обманчиво похожих людей. В природе нет ни одного близнеца, а все двойники взаимно аннигилируются, если встречаешь их не в литературном пространстве, а в одной комнате. Почему люди живут так-то и так-то, что заставляет их встать и открыть окно? Не знаю. Дальше начинается философия истории Толстого, которая вся – одно простое удивленное «не знаю», потому что знать тут ничего нельзя. Хочется им так, видимо.
А вы говорите – Народный фронт.
В армию
В воскресенье был на настоящих деревенских проводах в армию. Точнее, на «проводинах»; парный аналог этого мероприятия, на котором отмечают возвращение с того света, называется «встречины». Это только кажется, что фольклор, «обряд» и интересно. Как бы я ни ненавидел все устное и народное, как бы меня ни раздражали заплачки и былички, в свадьбах и похоронах я все же могу кое-как различить худенькие ребра древней жесткой структуры. Но в проводинах ничего былинного не было – банальная трагикомическая пьянка.
В армию уходил мой старый неблизкий знакомый. Когда-то мы вместе увлекались гирями, но я поступил в иркутский лицей и быстро бросил это дело, а он продолжил заниматься профессионально и заработал разряд, медали и проблемы с позвоночником, который искривлен у него на девять миллиметров больше допустимого, а от армии освобождают при одиннадцати миллиметрах. Он так и говорил после медкомиссии: вы будете смеяться, но мне не хватило двух миллиметров. Мы не стали смеяться. Я все повторял ему, что после нормальной медкомиссии на сборном пункте его сразу же отправят домой, и поэтому лучше не выпивать все сразу.
Никто особо и не переживал. Столы были расставлены в большой комнате буквой Г. На столах были умирающие салаты, другая невнятная закуска и трехлитровая банка самогонки, заменившая быстро кончившуюся водку. Когда я пришел, вся мужская половина его родственников уже растворилась в темноте, засела в машинах возле дома и лишь изредка, покачиваясь, выползала на свет за зажигалкой. В доме были мы с Масей, несколько местных пацанов, мать героя вечера и одна его очень энергичная родственница. Родственница выпила немало и все тащила нас в ограду танцевать под «Ласковый май» и его современные аналоги, льющиеся из колонок на веранде. Когда мы отказывались, а капелла пела частушки с известным рефреном:
Ах, Европа, Азия, Какое безобразие. Опа, опа, Америка-Европа, Опа, опа…Удивительно, но даже трезвому (я пришел позже всех) человеку, которого с первого курса филфака тошнит от любой фольклорной ноты, трудно не очароваться этой тупой, немытой эстетикой несвежей, проспиртованной вагины. Деревенские пацаны, бывшие хулиганы и двоечники, глядя на родственницу, сидели как девушки и пили самогон наперсточными порциями. Мася нажрался, впервые за три месяца, что я здесь. Мы выбрали меньшее из двух зол и ушли от частушек на улицу, якобы танцевать. Расселись кто куда, подальше от освещенного фонарем центра ограды, закурили и стали смотреть, как гибельно выплясывают Мася и энергичная родственница.
Потом было всякое. Обмывали диплом героя вечера, он недавно закончил спортфак Бурятского государственного университета («У меня такой же. Синий», – сказал я.) Он ужасно пел под аккомпанемент расстроенной гитары пошлые песни «Би-2». Леха по прозвищу Пыка, толстый щербатый добродушный парень, кормил салатом с вилки красавицу-жену. Та все закидывала ногу на ногу и болтала полуснятой босоножкой со стразами. Вяло текла светская беседа.
– Картошку ездили полоть. Ни травы, ни картошки…
– Жара, хули.
Я довольно быстро понял, что никто не переживает о том, что этого человека с синим дипломом государственного образца и пошлой гитарой скоро безо всякой его вины лишат свободы на целый год. По своему обыкновению начал тщательно пережевывать последнее слово только что произнесенной мысленно фразы. «Год». Год. Год… Понял, что даже если и переживают, то совсем не так, как я, без сопливого трагизма, без ощущения непоправимости. Как назло, я выпил самогона, который, в отличие от водки, не размягчает и не притупляет эмоциональных реакций, а, наоборот, осветляет и очищает внутреннее хозяйство, превращает беспорядочную рябь на поверхности сознания в суровые рельефные волны. Ясные, четкие картинки, простые горькие истинки – самогон-TV. Я почувствовал: еще немного, и я захочу поговорить. Я решил уйти, но на этой стадии пьянки уйти можно лишь по-английски. Я смотрел куда-то вдаль, закуривая на посошок.
И тут только до меня дошло, что я все это время, пока сидел на улице, смотрел на открытую дверь летней кухни. Там кто-то хрупкий, в светлой футболке, застенчиво мыл посуду. Судя по силуэту и роду занятий, это могла быть только девушка, но откуда здесь девушка?! Здесь не может быть девушки! Их здесь не бывает! Я подошел. Взглянул на робкие черты. Небрежный блондинистый хвостик, острые ключицы, бедра, казавшиеся скромными, несмотря на белые брюки, розовые носки. И сразу вспомнил: это родная сестра призывника. Мы ровесники, но я, развиваясь замедленно, пошел в школу с семи лет, и она училась классом старше. Всегда была тихой и незаметной. Увлекалась, кажется, рисованием. Зовут?..
–…вас как? Я вас помню, но не до конца.
– Лена. А вы… Ты? Шипнигов? О.
– Да. Последствия… Давай я помогу тебе с посудой.
– Нет, я сама, ты что. Так непривычно, так ужасно мыть посуду в тазиках, когда привык к городской жизни.
– И не говори. А мы благоустроили. Вода теперь бежит из крана.
– Скучно, поди.
– Ты же с Гусем училась?
– Ага…
Мы болтали так, пока высокая стопка грязных тарелок не исчезла со стола. Вытерев руки, Лена предложила сходить покурить. Я достал сигареты, закурил, протянул ей.
– Нет, пойдем покурим. В огород, за баню. Я от мамы прячусь.
И тут я понял, что надо срочно что-то придумать. Чем-то залатать, замотать, заклеить, законопатить дыры, через которые наружу вот-вот польется ненужное. Горы не понравились Остапу, и сейчас его понесет. Тихая блондинка, закончившая художественное училище и работающая продавщицей, прячет от мамы свои сигареты, а мне ровно столько же, сколько ей, и кругом скотство, а я свинья, и у нее брата забирают в армию, и все нажрались по этому поводу, и всем весело, а ему больше всех, и Мася отвратительно подмигивает мне, а бывшие хулиганы и двоечники сидят как девушки, тесно сдвинув колени, и тихо разговаривают о работе, и горит фонарь, и бьется на веранде ласковый июнь, и вот-вот всего этого не станет. Праны накопилось слишком много, и я испугался, что сейчас начну банально приставать. Тупо ухаживать. Я твердо знаю: самый надежный способ не понравиться девушке при знакомстве, разочаровать и оттолкнуть ее – это быть самим собой. Вести себя максимально естественно. Говорить то, что думаешь. Чтобы не совершить ошибки, я сказал первое, что пришло на ум:
– Брата твоего на год забирают. Ты понимаешь, что такое год?
– Ну.
(Мы уже покурили и вновь были на летней кухне. Она мыла свежую грязную посуду.)
– Дело не в том, что год – это много. Это немного. Дело в том, что этих «годов» в жизни не так уж до фига.
– Не понимаю тебя.
(Уже хмуро, настороженно. Я свою дело знаю.)
– Недавно нашел свою бирку из роддома.
– И?
– Умирать скоро.
(Наконец-то посуда в ее руках впервые за весь разговор литературно, испуганно звякнула.)
– Вот смотри: нам по двадцать четыре года. Это совсем немного, к тому же значительную часть этой прожитой жизни мы не помним. Прибавь еще столько же – сорок восемь! А дальнейшее теряется во мраке. Сколько там еще Господь Бог отслюнит нам от щедрот своих? А мужчины в России живут мало. Въезжаешь?
(Секундная заминка.)
– А потом, на старости лет, ты будешь переживать о том, что всю жизнь переживал о том, что жизнь короткая?
– Зато в биологии для меня уже нет неожиданностей.
– А как насчет религии?
– И правильно делают, что сжигают.
– Но не все.
– Дураков много.
Короче, абсурд был отменный, довлатовского разлива; абсурд-катализатор, на месте, сразу же превращающий мытье посуды в рассказ, молчание в абзац, вечер в эссе. Пришла помочь с посудой ее мать.
– Мам, а что лучше – рождение или смерть?
– Ой, я в этом совсем не разбираюсь…
<…>
– Завтра на работу… Давай выпьем самогону!
– Я не буду. Я в отпуске.
<…>
– А я отмазался.
– По здоровью?
– Нет, по зрению.
– Это как?
– Отслойка сетчатки, очень удобно: на здоровье не сказывается, на судьбе отражается.
Она фотографировала пьяных гостей кэноновской городской зеркалкой, пила вино крошечными птичьими глотками, смеялась и кокетничала, как княжна Болконская в черновике. Сестра призывника на меня уже не смотрела, курить ходила одна. Я был почти доволен: ошибки я не совершил. Завтра я пойду на работу и забуду этот идиотский вечер. Все, что нес, я не донес, значит, я ничего не принес. Главное – не пить больше этот проклятый самогон, который пьянит, все больше проясняя. Сейчас нужно бодро попрощаться со всеми, идти домой и ложиться спать.
Я сам не заметил, как выпил подряд еще две стопки самогона и выскользнул за ворота по-английски, как собирался два часа назад. Естественно, было полнолуние. Луна была ярко-оранжевая. Я стоял на горе и чувствовал себя совсем как в детстве, когда так мало хочется и ни чего нельзя. Никто меня не провожал.
Медитация
Второй день Большого Мероприятия, работы с раннего утра до поздней ночи. Устал. Напарился в бане, выкупался в бассейне, повторил несколько раз. Напился, отлежался, остыл, высох. Вышел покурить. Стоял, втыкал в звезды, наслаждался совершенным отсутствием ряби на поверхности сознания, абсолютной ментальной тишью и гладью, полным эмоциональным штилем («штиииль! ветер молчииит!») – в это состояние я всегда вхожу после бани. Длится оно недолго, секунд сорок, управлять им я, к сожалению, не умею, потому как в монастырях не обучался, и поэтому очень обидно, когда внешние раздражители прерывают блаженство. Стою, наслаждаюсь, ночь тиха, звезды заглядывают в печную трубу бани и удивляются углям, и вдруг моя голова начинает работать намного раньше положенного, и Голос говорит:
– НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ НА ИНИЦИАЛЫ. ТОЛСТОЙ ЕДИН В ТРЕХ СВОИХ ИПОСТАСЯХ.
Я прошу литературного убежища.
Смерти нет
Мася мог умереть уже много-много раз. Много раз ему под ноги кидалась колючая проволока ежедневных, ежесекундных сочетаний случайностей, приводящих к внезапной и необъяснимой гибели или мгновенному и пожизненному уродству. Мася – человек-беда, неудачник, счастливчик, несчастный везунчик, умник, умеющий попадать в идиотские ситуации и выходить из них не то чтобы с честью, а просто не замечая их. Если бы Мася играл на «Титанике» в последний вечер (он, кстати, занимался в музыкалке по классу «баян»), то он бы ничего не заметил и был бы оскорблен холодом и теснотой шлюпки, куда его единственного вытащили бы. В пятницу за сосисками на костре он рассказал три старых случая.
1. Во втором классе, в восемь лет, он упал с тополя высотой примерно в два этажа. Если вам эта фраза ничего сама по себе не говорит, объясняю: нормальные деревенские дети на деревья лазят зачем-то. Это городские дети могут лазить по чему ни попадя, им вообще заняться нечем, а деревенские – извините, у них в первую очередь цель и смысл. Лазят в основном на черемуху, я сам много раз падал с этого кустистого гибкого дерева, можно полезть за ранетками или, на худой конец, за рябиной, хотя куда ее девать, непонятно, но все равно – фрукт. Мася же полез на тополь просто так, зачем полез – вспомнить и объяснить не мог (см. «Русский человек»). Говорит, что хорошо помнит процесс падения: ветки, листья, листья, ветки, земля, небо, небо, земля – калейдоскоп, качели и карусель в одном флаконе. Упал на шею, ногами кверху. Сразу же вскочил и начал сбивать камнями застрявшие в ветвях тапочки. Так и не понял, что остался жив. Об уцелевшем позвоночнике вспоминает с удовольствием.
2. Четыре года назад Мася работал на пилораме. Обслуживал станок, распускающий бревна на доски. Это такая большая вертикальная пила, бешено дергающаяся вверх-вниз, на которую плавно подаются стволы. Иногда такие станки, как все механизмы, ломаются. Иногда они ломаются во время работы – что, не работать теперь? Мася шел спиной к станку и запнулся. В этот момент от пилы отломился тяжелый горячий кусок стали с острыми по всему периметру краями. Кусок воткнулся в противоположную стену. Это произошло мгновенно. Очевидцы, вспотев, рассказывали, что в ту долю секунды, когда Мася споткнулся, кусок находился точно над ним. Сталь воткнулась в стену на уровне его головы. Впрочем, насчет «споткнулся» Мася не уверен, точно он не помнит; возможно, он нагнулся завязать шнурок.
3. В этой истории я участвовал непосредственно. Летом 2008 года мы с зятем, его коллегами-пожарными и Масей поехали в тайгу за ягодами и орехами. Ехали на нашем газике-вездеходе, который не может застрять, только утонуть, снисходительно смотрели на глубокие ямы с илистым дном, наполненные черной гнилой водой – это называется «дорога». Я не хотел отвлекать водителя и решил помочиться на ходу с кузова. Веселый пожарный схватил меня за куртку, оттащил и постучал по кабине: «Вовка, стой! Он прыгать собрался!» Спали у костра. С содроганием вспоминаю эту «экзотику» и «природу»: одна сторона тела замерзает, другая горит. Можно перевернуться, стороны поменяются местами, но не более.
Кедровые шишки сбивали колотом, огромным деревянным молотом: чурка насажена на шест. Бьешь по стволу, собираешь упавшие шишки, идешь с мешком дальше – старая, отточенная веками технология. Веселый пожарный все предлагал нам бить по кедрам хуем.
А Мася не захотел быть в русле традиции и решил лазить за шишками. К этому времени все уже немного представляли, что за человек Мася, и вяло отговаривали его, понимая, что это бесполезно. Я, зная его с первого класса, лишь ласково повторял, обращаясь наверх: «Ебанутый. Ну ты ебанутый…» Я собирал в мешок сброшенные им шишки. Происходящее напоминало фильм «Хищник», восточносибирский римейк: на фоне темно-синего неба в темно-зеленой хвое копошилось что-то загадочное, безмозглое, хитрое. За Шварценеггера был веселый пожарный: «Слезай нахуй!» Я совсем за Масю не волновался – до тех пор, пока он не сменил тактику. Дело в том, что Мася не может быть как все даже тогда, когда он и так далеко не как все. Свою инаковость он возводит в квадрат. Ему надоело залезать на кедр, сбрасывать шишки, слезать и лезть на новое дерево. Он стал переходить с макушки на макушку. Все ушли вперед, мы остались вдвоем, я поуговаривал его пару минут и плюнул. Сверху Мася вел жизнерадостные репортажи о пейзажных красотах. Как-то не верилось, что с радио может что-то случиться.
Акунин в романах о Фандорине не врет – настоящая опасность, серьезная беда воспринимается спиной. Спина, кожа буквально превращаются в орган чувства, мозг отключается, и в первые секунды действует животное. Я стоял в двух метрах от кедра, на котором сидел Мася, и, нагнувшись, собирал шишки. Ничто не предвещало. Спина сказала: беда. Тут же я услышал легкий шорох, обернулся и успел мысленно сфотографировать момент Масиного падения (эх, умел бы рисовать… Он там как живой). Мася упал с высоты четырех-пяти этажей правым боком на обнажившийся толстый корень. В полуметре от его головы торчал обломок молодой березки, крепкий сухой острый кол. Картинно, киношно и книжно. Мася выгнулся, захрипел, глаза закатились, и он обмяк и затих.
В сознание он пришел минуты через три, когда все уже бежали на мой крик. Мася просто открыл глаза, покашлял и сказал, что неважно себя чувствует. В машину его несли на досках, на всякий случай предполагая перелом позвоночника. (Хотя в этом случае трогать его было бы вообще нельзя. На машине везти нельзя. Вертолет в тайгу никто не пришлет. Ближайшая цивилизация за триста километров. Связи никакой нет. Воображение, друзья, воображение.) Дело было под вечер, домой мы ехали ночью, по законам банального триллера началась гроза и ливень, дорога окончательно превратилась в условность, машина ныряла в страшные ямы. Масю мотало по всему кузову. Он удивительно быстро приходил в себя и часто просил покурить. Мы мрачно поддерживали его: «Лежи нахуй». В больницу приехали под утро: там Мася ожил совсем и с нежностью разглядывал грудь сонной медсестры. Переломов, кровоизлияний и ушибов внутренних органов не обнаружено. Небольшая (!!!) гематома на правом бедре – «возможно, вследствие удара о землю». Испуг – что умер, страх – что покалечился – все это прошло, и настало время простого человеческого тепла. От раздражения за испорченную поездку, от усталости и перевозбуждения у нас проснулось своеобразное чувство юмора: из палаты в палату мы носили Масю на носилках вперед ногами – нарочно. Он пытался защищаться: «Переверните!» Мы отшучивались: «Он еще недоволен…»
На следующий день Мася сбежал из больницы. Я пришел к нему вечером – он, как всегда, ковырялся в очередной магнитоле. Вышел на крыльцо, закурил, задумчиво покашлял. «Ну как?» – «Да так же». – «Болит что-нибудь?» – «Да. Синяк на жопе». – «Он на бедре». – «Что я, пидор, что ли, что у меня «бедро»?» – «Ладно. Что делать будем?»
Мася – человек-константа. Он удерживает мир вокруг себя от распада. Поэтому он ничего не делает, и с ним ничего никогда не сделается. Он почесывает бедро, разжигает огонь в импровизированном мангале, ругается, что я взял лишнее пиво вместо сосисок.
Он мог бы жарить сосиски на крыше, или дома на кровати, или на дороге – страшно только тем, кто боится. Мне будет очень не хватать его, когда я уеду. Снова придется в одиночку бороться со страхом смерти, а Мася так много про него не знает.
Большое мероприятие
А недавно у меня была журналистская инициация в виде фуршета на Большом Мероприятии. Поляну накрывала принимающая сторона: редакция газеты «Знамя труда» (я сам работаю в «Сельской правде»). Я с большим трудом преодолеваю свою природную застенчивость, поэтому, зайдя в кабинет одним из последних и увидев много незнакомых журналистов, среди которых были хорошенькие женщины, я сел рядом со своим редактором на краешек стула и стал смотреть на котлеты, потому что котлеты, эти островки простоты и смысла в нервном потоке канапе и декольте, не выдадут и не поставят в неловкое положение. Моя начальница маленькими глотками пила красное вино («рюмка чая»). Все остальные с деланой небрежностью тянулись к водке. Я мысленно посоветовался с котлетами и налил себе тоже. Как раз подоспел первый тост.
– Здравствуйте. Мы находимся на этом празднике… У меня за спиной вы можете наблюдать моих коллег, которые в этот жаркий день, несмотря на жару, продолжают… Хочется пожелать творческих успехов, профессионального везения… Стало традицией… Вопреки… Поневоле… Не часто… Но тем не менее…
Тоненькая брюнетка сексуально хлопнула стопку и села, закусив по-девичьи фруктами. Со мной были мои котлеты. Водка была чуть прохладной, комнатной температуры, за окном было плюс тридцать пять. Застучали вилки, завязался общий разговор. Дяденька с копной седых волос и манерами провинциального светского льва травил байки про секретарей обкомов и про то, как кто-то был еврей и при этом прекрасный человек. Корреспондент Иркутского телевидения произносил слово «журналист» с жирным, барским, профессиональным парфеновским акцентом. Обсуждали переходы коллег с одного места работы на другое. Напротив меня сидел оператор в футболке со Сталиным. Рассказали анекдот: криминальную хронику любят потому, что в ней показывают мертвых москвичей. Меня никто не замечал, я наливал сам себе. Прозвучала еще пара тостов. Очень хотелось что-нибудь сказать. Например:
– Что-то будет с «Известиями»?..
Или:
– Переход на новые носители неизбежен.
Зная себя, я молчал и ел котлеты.
На другом конце стола сидела очень красивая директор печатного дома с аристократично сливочной кожей, хрупкими ключицами и маленькими ступнями. Я осмелел настолько, что стал любоваться ею через линзу бутылки. Когда она встала говорить тост, я почему-то ждал пошлости вроде вина и профессиональных шуток, но ничего, обошлось: она просто налила сок в большой пузатый бокал и по-студенчески запила им водку. Мне захотелось сделать так же, но я твердо помнил, что не умею обращаться с жидкостями на публике. Поэтому я просто ел котлеты.
Разговор разваливался, темы становились все мельче и похабнее. Например, заметили Сталина на футболке оператора. Вспомнили о порядке, который был зато. Оператор с достоинством поддакивал:
– Это один из руководителей нашего государства.
– А на спине у вас Гитлер или так, по мелочи, Чикатило какой-нибудь?
Мне вдруг очень захотелось так сказать, но котлеты снова удержали меня от глупости. Я любовался ногами директора печатного дома. Меня наконец заметили: сосед налил сначала мне, потом себе и, тревожно нахмурившись, предложил закусить мороженым. Я решил, что мы подружились.
Вышли курить. Мой редактор, сильно удивив меня, достала из сумки пачку чего-то тонкого, в жанре эссе, и неумело закурила, как девочка.
– Вы курите?! – не удержался я.
– Я курю, только когда выпью.
(Все что угодно я ожидал от этой чудесной женщины, но только не этой отмазки. Немедленно вспомнился Довлатов: а так как пью я постоянно, всем кажется… Но я успел промолчать.)
Покурив, все, кроме хозяев, разошлись работать. Жара наконец активировала выпитое, и работать было легко и приятно. Например, среди прочего мне нужно было осветить шахматный и шашечный турниры. Как их освещать?! И вообще, сколько бы ни говорили про коммуникабельность и стрессоустойчивость, здоровые человеческие реакции подавить довольно трудно: как же это – шахматы, безумные глаза, немые страсти, тихие игры, убийство Лужина на второй доске, – а тут я со своей рожей? Стесняешься, настраиваешься. А вот после фуршета работаешь на одном вдохновении. Заходишь в зал и громко произносишь, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Судья.
Тут же перед тобой оказывается кто-то невысокий, с подчеркнуто интеллигентным лицом и глубокими математическими глазами.
– Главный судья, – уточняешь.
– Я, я.
– Кто.
– В турнире участвует шесть команд по три человека, двое мужчин и одна женщина…
– Как.
– Игра идет на трех досках. Личные первенства разыгрываются между игроками на одной доске. Командное определяется исходя из количества набранных очков. В конце для выявления абсолютного первенства устраивается блиц-турнир, но это уже, так сказать, для себя, за рамками соревнования. Игроки…
– Особенности.
– Мужчина не может играть на женской доске, а женщина на мужской может. Вот, например, Торшонова Яна, сильнейший игрок, мастер спорта, сегодня она…
– Где.
– Видите, девушка в белой маечке? Идем, я вас познакомлю.
– Результаты.
– Идут последние партии, к шести вечера результаты будут известны. Приходите, мы будем вас ждать.
– Шашисты.
– Там, в уголке, сидит судья Виктор Петрович. Идем, я вас познакомлю…
В тот день я, курсируя между шахматами и борьбой, еще несколько раз забегал под знамя труда освежиться. Там, в прохладе, за самоваром сидел сотрудник редакции и, глядя сразу и вдаль, и в себя огромными грустными синими глазами, все твердил про кого-то:
– У него есть слог. Главное, что у него есть слог…
Слово «слог» произносилось с тихим подрагиванием в голосе. Я вежливо поддерживал светскую беседу:
– Да, а то пишут сейчас – не разберешь. Слог – он и есть слог. Как же можно?!
Мы выпивали с ним по рюмке, я доедал последние котлеты, мы курили, и я, захватив очередную бутылку воды, бежал дальше. Весь день на жаре, на ногах, весь день с ментами и судьями, с двумя блокнотами: в руках и в голове, один для работы, другой для дела – как я полюбил это занятие! Как приятно в толпе сгрудившихся возле пьедестала журналистов упасть на колени, пробить фотоаппаратом брешь в нагромождении корреспондентов, припасть щекой к горячему бедру миниатюрной брюнетки в шортах и фотографировать, фотографировать… Она не замечает меня в азарте погони за кадром, да и я бы не чувствовал ее влажную кожу, если бы круглосуточно не жужжала в голове моя машинка, показывающая мне, как все выглядит со стороны.
Четыре места
Посетил сегодня по работе четыре места поочередно.
1. Молочная ферма. Там планируют установить продвинутую компьютеризированную систему автоматической дойки коров «Карусель». В шею каждому животному будет вживлен чип, содержащий все паспортные данные о нем: возраст, вес, среднесуточные надои, количество отелов, болезни и прочее. Ленивые сытые коровы, для которых будущее уже наступило, прогулочным шагом идут по кругу, а квалифицированные доярки-механизаторы услужливо, торопливо подключают к ним доильные аппараты. Сдав молоко, они тут же уходят гулять дальше – корову, которая доится быстро, больше никто не станет держать на привязи, пока излишки сдает корова медлительная. Везде сталь, датчики, чистота и деликатность. «Карусель» – норвежская система, и морды сибирских коров постепенно становятся совершенно европейскими.
Ожидаемый комментарий от водителя: «Коровы, бля, лучше нас живут».
2. Православная церковь. Построена энтузиастами, бабушками и их внуками, на свои копейки. Поначалу не энтузиасты мешали: поставят окна – украдут двери, вставят дверь – вынесут окна. Когда появились купола, воровство прекратилось (см. Чехова, Розанова, Блока). Сбор средств: бабушка кладет на ладонь сто рублей и идет по деревне. Ей дают. Не знаю, можно ли выглядеть достойнее, можно ли придумать остроумнее: она не просит дать, она предлагает сообразить, добавить. Бабушка – чернобыльский ликвидатор, вывозила людей из Припяти. Ей семьдесят пять, у нее пронзительно ясные, ледяные голубые глаза, быстрая четкая речь, экономная, не старческая улыбка. Стоя рядом с ней, кожей чувствуешь гул, похожий на тот, что можно услышать ушами возле трансформаторной будки. Точно такой же гул я слышал, разговаривая с другим чернобыльцем.
Колокола делают из распиленных поперек кислородных баллонов.
3. Психиатрическая лечебница, располагающаяся в бывшей тюрьме (Александровский централ). Самое страшное место, которое я когда-либо видел. Ходил не за репортажем, а по личным мотивам (нет, у меня там никто не содержится). Прорываться в отделение для острых больных не стал. Походил по коридорам, расталкивая плечами плотный, гнилой от кубометров боли и страха воздух. Там всегда на желтом потолке пасмурное червивенькое небо, и каждый день в зеленых коридорах моросит заунывный дождик из серого гноя. Если вы устали ездить на работу, у вас нет денег на отпуск или вам кажется, что вы некрасивы, съездите к ближайшей психиатрической лечебнице; внутрь вас вряд ли пустят без какой-то корочки, но волны прошибают и стены, и ограду. Подышите.
Во дворе гуляют спокойные больные. Подросток в огромных наушниках поверх бейсболки без остановки читает импровизированный частушечный рэп: «Лена – пизда по колено» и т. д.
4. Детский летний лагерь, купание на озере. Много-много маленьких лолит: разбитые коленки, испачканные в траве шорты, огромные пузыри из жвачки, «Солнышко в руках» из телефонов. Попросил одолжить мне купальник – «Жутко хочу выкупаться, но стесняюсь своих потрепанных холостяцких трусов». Сами того не зная, включились в стилистическую игру, захихикали: «Вы толстый, на вас налезет только эта дурацкая юбочка». Задумчивая девица в купальнике в розовое сердечко отплыла от берега, перевернулась на спину и сказала голосом Ренаты Литвиновой: «С моим здоровьем… при моем образе жизни… вы все меня переживете». Умело утонула на минуту.
Хочется отдохнуть от работы, набраться впечатлений.
Военный билет
Квест пройден. Только что пришел из военкомата, Он еще теплый, душистый. Все по закону, не заплачено ни копейки. В одной только мелочи в этой традиционной русской народной забаве – получении военного билета – мой национальный характер все-таки проявился: уже являясь обладателем документа, не выдержал и от избытка чувств подарил исполняющему обязанности военкома (он у нас гражданский, в очочках) бутылку коньяка в пакете с котятами. Мол, взял – отдай. Буду теперь юзать военник вместо паспорта – я там на фотке хорошо получился, а в паспорте ужас, как у всех.
И родной филфак как бы намекает, что в том или ином виде он будет со мною до конца.
Я стою у окошка, чиновница военкомата заполняет документы.
– Холост?
– Разумеется.
– Влюблен? Размер одежды?
– Откуда ж я знаю?
– Размер головного убора?
– Что это?..
– Противогаз.
– Боже упаси.
– Водительские права?
– Нет.
– Трактор?
– В смысле?
– Права на трактор, прицеп, полуприцеп?
– Нет, спасибо.
Обращается к другой тетеньке:
– Что ему писать-то?
Другая тетенька:
– А он что закончил?
– МГУ, филфак.
– А, ну так и пиши: писарь делопроизводства.
– Это моя военно-учетная специальность?
– Да. Поздравляем.
Так что знайте теперь, друзья мои, что каждый день вы общаетесь не с кем-то там с улицы, а с писарем делопроизводства в запасе.
Вчера поделился с Масей радостью, принес ему свой военник. Он задумчиво повертел красную книжечку в руках, понюхал, подумал:
– Да… Мне бы такое тоже не помешало… А то устраивался как-то на заправку в Иркутске, а мне говорят: военный билет, пожалуйста. А я его где возьму-то? Спрашивают, почему нету, я говорю как есть: не знаю, почему. Сидел, спрашивают? А я не сидел. Я правда не знаю…
Мася с матерью и отчимом приехали из Киргизии в 1995, что ли, году. Я тогда был во втором классе. Русское гражданство Мася получил только в восемнадцать лет. Так как Мася – это Мася, дело на него в военкомате заведено не было. Он был лишен традиционных юношеских радостей: многочасовых сидений в фанерных коридорах под унылыми цитатами из Астафьева («Армия не есть отдельная часть от народа его, но есть часть общая, народная») в ожидании вызова в кабинет, где дают бумажку, которую нужно отнести в соседний кабинет, чтобы после этого сидеть еще пару часов под творчески поданной рекламой службы по контракту в соседстве с выдержками из Уголовного кодекса об ответственности за уклонение от службы обычной, бесплатной. Не теснился Мася в этих узких темных коридорах, не дышал картонным запахом тоски и абсурда, не слушал айренби из телефонов гламурных гопников, побрившихся налысо, но оставивших кокетливую челочку на лбу, не разводил ягодицы повторно, услышав просьбу врача: «Руками», не смотрел в интересные глаза глухого психиатра, не ловил таинственный цифровой шепот отоларинголога, не шутил с урологом о глубине женских влагалищ, не оставлял легкую перегарную испарину на зеркальце сексуальной женщины-стоматолога, не уворачивался от разъяренных мамаш с тихими сыновьями-очкариками на привязи, не устраивал дискуссий с пэтэушниками о том, как устанавливается факт гомосексуальной ориентации, не подписывал повесток под угрозой обращения в прокуратуру, не был выдергиваем ментами в семь утра из постели, не мечтал попасть в пограничные войска ФСБ в полк крутобедрых красавиц в пилотках и с рациями – ничего этого Мася не делал. Жизнь его, в общем, была проста и скучна, а значит благополучна, и такой она остается и сейчас.
А исполняющий обязанности военкома живет на Масиной улице, через дом от него. Можно сказать, что они приятельствуют. Иногда исполняющий обязанности предлагает Масе узнать, почему военкомат им не интересуется, но тот всегда вежливо отказывается. Однажды военком взволнованно позвонил ему: вот, откуда-то пришли какие-то документы, теперь можно заводить на тебя дело, но учти, есть шанс пойти в армию. Заводить? Мася ответил: нет, спасибо, мне в армию идти некогда.
Вчера обсуждали с ним, в какой прекрасной стране мы живем; только у нас (нет, не только, еще в КНДР и Белоруссии) человеку с определенной формой половых органов дают год (а недавно два, и в будущем, возможно, снова два) лишения свободы за факт достижения восемнадцать лет. Тема эта пережевана, измусолена в разговорах с московскими друзьями, и я, подняв ее, тут же заскучал. Но Мася немного подумал и сказал:
– А давали бы условно.
Я сосредоточился, но не понял:
– В смысле – условно?
Мася пояснил:
– Ну условное наказание, понимаешь? Чтобы реально забирали в армию, только если ты оступишься, и тебе снова исполнится восемнадцать.
Капнули немного на билет. Я буду очень скучать по Масе.
В Москву
Уволился из «Сельской правды». В последний раз насладился атмосферой редакции с ее напряженным, лихорадочным бесплодием, сдал последний материал, прокомментил верстальщику фотки для него, написал заявление «по собственному желанию», получил расчет, забрал трудовую книжку, везде расписался, собрал вещи, сдал ключи. Прощались со слезами…
– Иван, не уезжайте!
– Как будто родной кто уходит…
– Иван, мы будем платить вам пятьдесят тысяч, только не уезжайте!
– Да, мы готовы работать бесплатно, чтобы платить вам пятьдесят тысяч.
– Только вам нужно будет немного делиться с нами.
– А я хочу стать твоей женой, чтобы ты содержал меня!
Репортажи, очерки, комментарии, интервью, «информашки». Четыре месяца реальной полевой (в прямом смысле слова) работы, никакого творчества, никаких художеств, только факты и их проверка, фамилии и цифры, даты и места, чиновники и студенты, предприниматели и учителя, менты и фермеры, врачи и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, одаренные дети, спортивные соревнования, КВНы, ветхое жилье, военные сборы, выпускные, детдомы, пожары, наркоманы, шаманы и бесконечные, все застилающие поля, поля, поля с ячменем, кредитами и саранчой. Опыт профессионального вранья. Привычка к ежедневным компромиссам. Четкое понимание того, что правдивая газета состояла бы из одного-единственного слова «пиздец», набранного петитом, без пробелов, с черными квадратами вместо фотографий. Ясное осознание того, как страшно, бесповоротно и всеобъемлюще прогнило все в стране.
Пять-шесть авторских листов написанного и выброшенного своего: романа, эссе, рассказов. Страстное желание дальше работать в газете. Страх дальнейшего писательского бессилия от этой работы. Горы отличных сюжетов, придуманных в старом насквозь пропитавшемся пылью уазике в погонях за агрономами. Пока я дожидался получения военного билета на случайно выбранной, временной, необязательной, необременительной работе, я успел ее стыдливо полюбить.
Напоследок хотел написать о Масе в рубрику «Молодые и предприимчивые», потому что он, нищий фрилансер, единственный молодой в этом поселке, кто что-то умеет делать. Остальные предприимчивые пилят и возят ворованный лес, и они такие же нищие, как Мася. Мася яростно отмахнулся от моего предложения, пролив пиво.
2012 г.
Репортаж из Крыма (повесть)
Первого июня собрались у подножия шпиля Останкинской башни в пять тридцать утра, сели в автобус и поехали на аэродром. В самолет садились тоже как в автобус, живой очередью, без досмотра. Административный предбанник у входа на взлетную полосу закрытого военного аэродрома напоминал автовокзал в маленьком городке, с таким же аммиачным сортиром, зато после него было только выпуклое синее небо, штиль раз и навсегда застывшего бетонного моря до горизонта и ровный оглушающий гул авиационных двигателей. Самолет подрулил почти к самой ограде, калитку в которой нехотя, как сонный деревенский сторож, открыл подтянутый вооруженный солдат. Группа телезвезд и журналистов летела на открытие первой летней смены в приморский детский лагерь, и Гурьев летел вместе с ними.
В самолете рассаживались, как в маршрутке, кому как нравится. Двоим или троим не хватило мест, поднялся ропот, девушки-администраторы уговаривали всех сесть, чтобы стало видно, кому не досталось места, хотя те, кому не досталось, стояли тут же и жаловались. Пилот тем временем закончил прогревать двигатели, гул возвысился, самолет от этого как бы расширился, места нашлись, все уселись, пристегиваясь по желанию, колеса застучали по швам бетонных плит, составляющих взлетную полосу. Внутри все задрожало, гул стал еще выше и напряженнее, и они взлетели.
Стюардесс не было, и девушки-администраторы принесли завтрак, который негде было разогреть: ледяной, восхитительно хрустящий омлет, побитую заморозками капусту брокколи и горький холодный грейпфрутовый сок. Поев, все встали и начали ходить туда и сюда, толкаясь и извиняясь, как в тамбуре поезда возле вагона-ресторана. Самая узнаваемая звезда на этом рейсе, человек, знающий больше всех, сидел в последнем ряду, в самом углу салона, доедал свой завтрак и смотрел на всех строго и как бы удивляясь, отчего все занимаются не тем, чем следовало бы. Гурьев помнил, что у этого человека ему в первую очередь нужно попросить телефон, приметил, где он сидит, и следил, когда он встанет, чтобы как бы случайно столкнуться с ним в проходе и заговорить. Вместе с другой звездой, летевшей в детский лагерь, на борту оказывалось как бы три черных ящика – два были запасными, на всякий случай.
Гурьев сел у прохода и не смотрел в иллюминатор, боясь раньше времени увидеть там море и конец своего земного пути, но даже оскорбительная плацкартная теснота зафрахтованной военной «тушки» не мешала ему взволнованно и напряженно ожидать свидания с местностью, где Гурьев хотел бы прожить жизнь. Угол ковра возле него от частой ходьбы заворачивался, и Гурьев все расправлял его, боясь, что кто-нибудь запнется и упадет. Тут же лежала раздавленная вишня, которая выпала из чьего-то завтрака, оставшегося от прошлого полета. Девушки-администраторы раздавали всем синие платки с символикой телеканала. Кто-то невнимательно клал их в сеточный бардачок в спинке впереди стоящего кресла, кто-то стыдливо прятал платки в сумку, Гурьев же обрадовался и единственный во всем самолете тут же повязал его на шею, как пионерский галстук, хотя никогда раньше не знал, как это делается.
Гурьев был филолог и работал в газете. В его жизни происходили перемены, и он был как бы оглушен многообразием и богатством открывающихся возможностей. Казалось, что можно выбрать все и сразу, однако выбирать не было сил – он думал, что все случится как-нибудь потом и само собой. Сейчас же Гурьеву хватало сил только на то, чтобы, уперев ноющие колени в спинку переднего кресла, с тихой улыбкой ждать возвращения в город у моря.
Маленькая командировка была примеркой роскошного отпуска, в который он хотел отправиться поздней осенью, чтобы зря не расходовать короткое черствое московское лето и успеть насладиться его скудными прелестями. Зима была тяжелой, весна отвратительной. Только в июне случился невнятный солнечный проблеск, возникли тени и дуновения, запах свежескошенного газона, который всегда напоминал выросшему в деревне Гурьеву струящийся на жаре аромат сенокоса, и совсем скоро опять нужно было нырнуть в страшный московский ноябрь, в стылые серые лужи, в мороз, не голубой и скрипучий, как у него на родине, а во влажный, с харкотой и мокротой, в затхлое резиновое тепло метрополитена. Гурьев до обморока хотел на море и боялся, что оно окажется не то, каким было в последний раз. Он сам стыдился этой своей банальной страсти и еще больше того, что в свои почти двадцать восемь жил неустроенно, кое-как, на бегу, натощак и всухомятку, зарабатывал мало и не мог реализовать затертую, но верную пословицу о том, что лето и море есть всегда, если есть деньги.
Через пять дней Гурьеву исполнялось двадцать восемь, и это было для него примеркой тридцатилетия, которого он боялся и не хотел, не соглашаясь с тем, что этот возраст страшен только для женщин. Гурьев ничего не добился и ничем не владел. С рождения он был словно расколот на две части; одна из них, чистая, легкая и доверчивая, хотела и могла получить славу, деньги и любовь; вторая, тяжелая и мрачная, подталкивала Гурьева к отказу от всего, чего он больше всего хотел. Гурьев обожал быть на виду, чувствовать внимание и интерес к себе, и это ему легко давалось в силу природного обаяния и остроумия; но когда это случалось, он отворачивался и уходил, отталкивая даже тех, кто шел за ним, хотя Гурьев прекрасно понимал, что эта подростковая манерность есть лишь уродливая форма, в которой он просил внимания, еще больше внимания. Гурьев любил вкусно поесть, любил красивые вещи, любил порядок и уют, очень любил деньги; любил и умел готовить, находить красивые вещи, наводить порядок и создавать уют, работать целые сутки, чувствуя не усталость, а удовольствие, – и при этом он ел мусор, спал на продавленном диване, жил от зарплаты до зарплаты, зарабатывая, как все его московские сверстники, но тратя деньги неизвестно куда, и безвольно и бесплодно просиживал драгоценные ночи перед компьютером. Больше всего на свете Гурьев любил женщин – и был давно одинок, стал привыкать к этому и боялся этого привыкания. Наконец, Гурьев остро и тонко чувствовал красоту и гармонию мира, знал, что у мира есть Творец, и творение его, частью которого был Гурьев, бессмертно, но сам постоянно жил в страхе, неверии и тоске.
В своей поэтической наивности Гурьев был рад думать, что легкая его часть и есть он сам, настоящий, а мрачная – лишь паразитический нарост, налипший в детстве, и теперь он счищает его и скоро совсем счистит с себя. В своей честности, переходящей в цинизм, Гурьев понимал, что без мрачной стороны не станет его самого. Вся его немалая энергия уходила на примирение двух половин в себе, и его пугало, что к тридцатилетию он придет со все тем же, что есть у него сейчас как результат невидимой и напряженной работы, а для других является данностью – цельное, честное, чистоплотное внутреннее устройство. А ужасно хотелось хоть каких-то благ, удобств и гарантий, потому что нищего художника любят до тех пор, пока он сам не признается себе в том, что он нищий художник. Гурьев решился признаться самому себе, что он художник, лишь три месяца назад, в марте, и это признание совпало тогда с расцветом его нищеты, с присоединением полуострова, и Гурьев очень радовался остроумию этого совпадения.
Сейчас же в этой трясущейся от страха серенькой «тушке» жизнь Гурьева наконец-то набирала новую высоту, и в первый раз море ему давали ненадолго, зато даром, отчего свидание с ним становилось бесценным, то есть не имеющим цены. Вылет был ранним утром, и почти все вокруг спали, а те, кто не спал, обсуждали, удастся ли искупаться.
– Вы взяли трусы? – спрашивал у всех разговорчивый веселый блондин фотограф. – Я первым делом, когда собирался, взял трусы.
– Мы там целый день со звездами будем, какие трусы, – сквозь турбулентную зевоту отвечала ему меланхоличная черноглазая девушка-корреспондент.
Другие поддерживали ее, всячески стараясь показать, что море, которое их ожидало, было как бы ненастоящее; они летели туда только из-за работы, словно бы брезговали его провинциальным масштабом, – а люди попроще уже собирались ехать туда отдыхать. Гурьеву это было смешно; он не стеснялся смотреть на вещи просто и прямо и свою непосредственную радость от будущей встречи с морем ни за что не променял бы на доморощенный отпускной снобизм, который, по его убеждению, был провинциальностью гораздо более глухой, чем наивные восторги выросшего в деревне Гурьева. Его иногда посещали мечты вполне террористического толка о том, как здорово было бы срыть Красную площадь и налить в центре города маленькое домашнее море, тогда Москва стала бы лучшим городом на земле. Однако по нынешним временам за такие мысли можно было бы поплатиться, поэтому Гурьев только твердо решил к тридцати годам устроиться так же, как большинство обеспеченных москвичей, проводящих зиму в теплых странах у моря. Ноутбук у него уже был, осталось накопить на домик, и эта добродушная простенькая насмешка над собой тоже веселила Гурьева, так как поэтическая наивность легко уживалась в нем со здоровым житейским цинизмом, и он знал, что ему так не устроиться и устраиваться не нужно.
***
К концу второго часа полета Гурьев оглох, но заснуть не смог. Впереди сидела маленькая блондинка, видимо студентка журфака, проходящая практику в каком-нибудь звездном журнале. Ей было, наверное, около двадцати, но выглядела она совсем как подросток. Гурьев смотрел на ее слабую тонкую шею, привычно, как обо всех маленьких женщинах, которые нравились ему, думал, что в ней есть что-то жалкое, и тут же смеялся над собой, напоминая себе, что в нем, склонном к лирической полноте, бородатом и притом таком наивном и живущем неустроенно, жалкого гораздо больше, чем в любой маленькой блондинке. На нее было удобно смотреть; Гурьев экономил силы и не мог сосредоточиться на чем-то конкретном, а так расслабленный взгляд сам останавливался на слабой тонкой шее, как бы спрыгивал без парашюта в воздушную яму, образовавшуюся вокруг блондинки.
Тогда, четырнадцать лет назад, море было большое. Женщина, которую Гурьев встретил там, была похожа на эту студентку. В четырнадцать лет он был в другом крупном детском центре на другом конце страны, в бухте Емар неподалеку от Владивостока, в лагере с наивным названием «Океан». Там в него влюбилась учительница русского языка и литературы, миниатюрная блондинка, ведшая литературный кружок, женщина вдвое старше его, но выглядящая, как все женщины, которые ему нравились, гораздо младше своих настоящих паспортных лет. И теперь Гурьев в свои двадцать восемь пробовал представить четырнадцатилетнюю девушку и брезгливо отворачивался от этой мысли, совсем не пони мая, как мог тогда возникнуть этот возвышенный поэтичный сюжет, когда сегодня из этого вышла бы скучная таблоидная клубничка. Тогда была красота: дискотека, не менее долгожданная, чем море. Мигание стробоскопов через секунду освещало фантастически застывшую толпу, делая ее похожей на свалку прекрасных мраморных статуй, и это было страшно и возбуждающе, особенно учитывая влияние луны, накладывавшей второй слой чуда: ровесницы казались уже не просто статуями, а ослепительно белыми надгробиями на залитом соленым лунным светом кладбище, и хотелось целовать эти холодные шеи, плечи, ключицы. Девушки в двойном слое светового макияжа, электрического и лунного, были особенно белы и прозрачны, и долго потом нельзя было уснуть, представляя их потустороннюю, вырубленную стробоскопом из мрака льдистую красоту. Сейчас же все это исчезло, и тонкая красота маленькой студентки вызывала чувство только отечески-покровительственное. Гурьев подсел к студентке, познакомился и немного поговорил. Он, экономя силы, не стал ничего придумывать и спросил, взяла ли она трусы, чтобы купаться, и его тут же развеселил очевидный идиотизм такого знакомства. Девушку звали Аней, ей было двадцать с чем-то лет, она недавно работала корреспондентом и от всего робела, так, что даже не поняла оскорбительной простоты, с которой вел себя ее бородатый и представительный с виду собеседник, и только отвечала, что нет, купальник она не взяла, потому что не надеется искупаться.
Гурьев вернулся на свое место и пристегнулся. Прилетали; самолет задрожал; гул двигателей стал ниже и гуще; внизу вдалеке блеснуло серебристое море; колеса запрыгали по бетонным плитам посадочной полосы. Журналисты и звезды выходили из самолета помятые, но все же освеженные коротким сном, Гурьев же не спал и теперь напряженно зевал, надеясь, что отложит уши, но ветер снаружи оказался так силен, что не было слышно даже авиационного воя. Щелкали на ветру тугие синие флаги, морской воздух после высушенной прохлады салона был влажен и мягок настолько, что его можно было нащупать рукой; серенькие тучки легко бежали по масляно-пастельному небу, бетонный залив взлетной полосы скоро кончался, сменяясь травяным взъерошенным морем до горизонта, и запах цветов был таким оглушительным, что его не могли перебить ни сильнейший ветер, ни йодистая морская испарина.
Звезды, пригнувшись от ветра, начали расходиться по микроавтобусам, которые им указывали девушки-администраторы, но мест опять не хватало. Журналисты пошли за звездами, на ходу пытаясь поговорить с ними и сбивая их и не давая найти нужный микроавтобус, отчего все еще больше спутывалось. Возле девушек-администраторов стояли несколько жалующихся звезд, тогда как администраторы не обращали на них внимания и пытались загнать в микроавтобусы тех, кому и так хватило места и кто просто курил возле машины, заняв сиденья сумками. Гурьев тоже наугад пошел за звездой и предложил ей докатить до машины сумку на колесиках, которая вязла и переваливалась в траве. Звезда отказалась, но Гурьев все равно выпросил у нее, как автограф, номер телефона и, очень довольный, сел в первый попавшийся микроавтобус. Там оказались маленькая блондинка, веселый фотокорреспондент и меланхоличная черноглазая девушка – с ними он коротко познакомился в самолете. На всякий случай они обменялись номерами телефонов. Наконец все кое-как утряслось, и колонна микроавтобусов отправилась в Гурзуф.
В машине он все еще боялся смотреть из окна, но теперь море и горы заполнили собой весь пейзаж, оставив Гурьева наедине с собой. Ветер стихал, море уже не серебрилось штормовыми завитками, и синяя, без айвазовских маринистических изысков вода Гурзуфской бухты доверчиво обнимала тонкое песчаное подножие горы Аю-Даг, словно нарочно и кокетливо выбритое в сплошной зеленой лесной щетине побережья. Матово-серые домики, воткнутые там и сям на кипарисовых склонах, как аккуратные детальки конструктора, светились от воздуха и простора и были совсем не похожи на мрачный панельный колор московских многоэтажек – разобранных и составленных в высоту взлетных полос, – стен, словно слепленных из грязево-солевой собянинской каши, и эти домики помогали Гурьеву, на юге раньше никогда не бывавшему, безошибочно представить итальянский и вообще любой другой южный приморский город, легко убегающий от прибоя на холм; город, где природа сама так щедра красками и утомлена бесконечной сиестой, что серый цвет человеческого жилища только подчеркивает богатство зелени и воды, позволяя глазу отдохнуть от строго организованного буйства природы на хиленьком, кое-как слепленном псевдопорядке культуры. Гурьев по мере спуска микроавтобуса в Гурзуфскую долину все сильнее выворачивал челюсти в искусственном зевке, отвернувшись к окну и раскрывая их почти на девяносто градусов, но уши оставались заложенными. Чем больше он глохнул, тем острее становилось зрение, тем прозрачнее и тоньше вырисовывалась картина бухты, обрамленной с трех сторон скалами, а с четвертой распахнутой в горизонт. И Гурьев увидел первый из приготовленных для него в этот день фокусов: лес и вода начали меняться цветами.
Остановились на заправке сходить в туалет, Гурьев изо всех сил дышал бензином, угадывая сквозь его маслянистую пленку невидимый и невесомый союз нагретого моря и дышащих кипарисов. Рядом с заправкой стоял серый домик с табличкой «Продается», и Гурьев представил, как мог бы его купить и умудриться и в этом акварельном раю жить по-прежнему неустроенно, с видом на море и с вонью бензина, не имея при этом машины. Поехали дальше в Гурзуф; с Гурьевым и другими журналистами в их микроавтобусе была учительница из «Артека», симпатичная тридцатилетняя крымчанка, которая, видимо, считала, что со столичными гостями нужно вести себя как-то особенно, и оттого ее природная простота сменилась искусственной робостью, которую она пыталась выдать за вежливость. Она ни слова не сказала о недавних событиях, лишь изредка комментируя пейзаж в стиле безопасной общекультурной экскурсии: «Там вы можете увидеть Пушкинскую скалу; свернув на эту дорогу, через полчаса вы окажетесь на даче Чехова», – и эти рассеянные замечания отдельно ласкали продолжающего глохнуть, засыпающего, переполненного волнением Гурьева. Веселый фотограф спрашивал у водителя, принимают ли еще в республике гривны, и очень радовался тому, что не принимают и что у него остались неистраченные гривны. Вдоль дороги были расставлены предвыборные щиты, агитирующие перейти границу, не сходя с места; в июне они выглядели как пожелтевшие елки, оставшиеся с Нового года, который будто праздновали по старинке, в марте. Гурьев уснул.
***
Проснулся, когда уже приехали в детский лагерь. Выйдя из машины, Гурьев сразу же подошел к парапету и стал смотреть на море. Оно было примерно таким, каким запомнилось при последней встрече четырнадцать лет назад на другом конце страны. Гурьев надеялся остаться с морем наедине и сейчас смотрел на него снисходительно и небрежно, сдерживая зудящую страсть прямо сейчас скинуть штаны и раствориться в воде. Поэтому он пропустил второй из приготовленных для него в тот день фокусов: желание, плескавшееся в его карих глазах, делало их на секунду синими. Не заметил этого и веселый фотограф, который подошел сзади, похлопал Гурьева по плечу и позвал вместе со всеми обедать.
Маленькая шеренга детей, одетых в темно-бирюзовую форму, встречала их у входа в столовую под вывеской «Iдальня» отрепетированным хоровым приветствием. Шарики и флажки, возгласы и куплеты еще больше взволновали оглушенного Гурьева. Звезд привезли раньше, они уже пообедали, журналисты рассаживались в столовой. Гурьев сел вместе с веселым фотографом, черноглазой меланхоличной корреспонденткой и девушкой Аней. После замороженного завтрака в самолете все с радостью ели горячее, огромная голубая столовая наполнилась звоном и смехом. Гурьев всматривался в еду: суп с клецками был тот же, что в «Океане», белая рыба на толстых костях, пюре, хрустящий овощной салат, компот – он все это вспомнил и обрадовался. Аня не стала есть свою рыбу, Гурьев попросил у нее тарелку, девушка сильно смутилась, но все сделали вид, что это ничего, и Гурьев съел рыбу. Как раз подошла со своим подносом их временный гид, учительница крымчанка, и села за стол. Гурьеву было настолько хорошо, что он, видя, что учительница не ест свой суп с клецками, попросил тарелку у нее тоже. Все снова сделали вид, что это ничего, и, пока Гурьев ел второй суп после второй порции рыбы, крымчанка рассказывала о программе дня.
– «Артек» состоит из девяти лагерей, в каждом дети приготовили какое-то свое представление. Звезды объедут все лагеря, всех поздравят с началом смены, всем подарят подарки. Мы поедем за звездами. Вечером на главном стадионе – концерт.
Обед закончился; снаружи послышался вертолетный рокот; все спешно выходили из столовой; Гурьев залпом выпил два стакана компота и вместе со своей компанией вышел тоже. На небольшую площадь с фонтаном перед зданием столовой приземлялся вертолет МЧС. Кипарисы затанцевали, показывая обратную сторону листьев, вода у самого парапета вскипела, у детей улетели форменные панамы. Из вертолета вышел плотный мужчина с седыми висячими усами, следом девушки-администраторы, что раздавали в самолете завтрак, выносили маленькие холодильные контейнеры. В них было мороженое, мужчина с усами отработанным за много лет хлебосольным жестом пригласил угощаться. Дети пораженно смотрели на мужчину с усами, не могли поверить, что перед ними не картинка из телевизора; многим хотелось потрогать волшебника, который может достать из черного ящика что угодно, от утюга до квартиры; но уже раздавали мороженое, дети сосредоточились на нем и перестали шуметь, с ними успокоились кипарисы и вода у парапета. Гурьев вспомнил, что у волшебника тоже нужно выпросить телефон, подошел ближе и стал осторожно проталкиваться сквозь стайку детей, но волшебник, раздав призы, уже садился в вертолет, и администраторы оттесняли всех. Аня и вся остальная стихийно сложившаяся гурьевская компания решили, что он тоже захотел взять себе мороженого, но все снова сделали вид, что это ничего. Вертолет улетел, кипарисы на прощание станцевали, вода вежливо покипела.
Поехали в следующий лагерь. Гурьев сел рядом с Аней на заднее сиденье и, внимательно посмотрев на ее тонкую шею, вдруг попробовал пошутить:
– Как они это обставили-то, а… Прямо волшебник в голубом вертолете.
И улыбнулся одной бородой, демонстрируя тонкость понимания, на что Аня ответила тихо и испуганно, как на экзамене:
– Акция так и называлась. В пресс-релизе…
Гурьев прищурился, как бы выказывая удовольствие от Аниной хитрости, но она уже смотрела в другую сторону. Он тоже стал смотреть в свое окно. Ехали по игрушечному, как в «Диснейленде», серпантину, маленькому и неопасному, с которого нельзя было свалиться в пропасть, но который точно имитировал все резкие изгибы настоящей дороги в горах, от которых опускается солнечное сплетение. Лиственницы и кипарисы обступали узенькую дорогу, создавая мягкую плотную тень, которую так же, как воздух в аэропорту, можно было потрогать рукой, но море все равно блистало то там, то тут, нагло отдергивая застенчивые двойные занавески листвы и хвои. Даже в машине пахло цветами, хотя Гурьев с момента прилета не мог разглядеть вокруг никаких цветов. Он снова глохнул от гула двигателей, глохнул от густого цветочного аромата, перебивающего прелую влажную взвесь над бухтой, как слишком сладкий парфюм перебивает естественный теплый запах женской кожи, и сбежать одному к воде хотелось все сильнее, а было еще только три часа дня и много работы впереди. Гурьев посмотрел на Аню, которая все сидела отвернувшись, и вдруг разозлился. Как раз подъехали к следующему лагерю, Гурьев вышел и увидел, что ветер еще усилился, военное судно, стоявшее на якоре в бухте, заметно раскачивается, сопровождавшая их учительница сказала, что запланированную лодочную экскурсию на корабль придется отложить, и Гурьев обрадовался старомодной старательности, с которой пейзаж воспроизводит его состояние.
Здесь морская пехота показывала приемы рукопашного боя. Отработанными до нарочитой и опасной небрежности движениями солдаты бросали друг друга на асфальт, выламывали руки, ударами черных берцев выбивали ножи, прикладами автоматов принуждали противника к миру. Пацаны смотрели восхищенно, девчонки – испуганно. Всеобщее удовольствие испортила гурзуфская собака, хозяин которой вместе с другими местными прохожими остановился посмотреть на рукопашные фокусы. Пехотинцы сопровождали удары слаженным и напряженным уханьем, собака стала подтявкивать им в тон, как некоторые городские собаки пародийно подыгрывают доносящимся из соседней квартиры гаммам на фортепьяно. Дети засмеялись, взрослым стало стыдно перед солдатами. Неловкость быстро замял известный поэт, мастер убийственных, как нож пехотинца, полуторастиший. Едва солдаты закончили показывать очередной прием, он вышел на импровизированную сцену и сказал в микрофон:
«Вот это всё на самом-то и деле
Не всё».
Кто-то посмеялся, солдаты построились и ушли, поэт стал говорить со сцены, Гурьев попросил Аню сфотографировать его на фоне крейсера и моря. Аня молча сфотографировала, отдала телефон, как использованный, и так же молча пошла куда-то. Гурьев догнал ее и попробовал заговорить серьезно:
– Аня, куда вы все время спешите? Давайте пойдем вместе. Расскажите о себе. Где вы работаете?
Они пошли рядом. Аня посмотрела на него и тут же опустила глаза. Она отвечала тихо и старательно, словно читая реферат, что она студентка журфака и проходит практику в журнале, она вроде бы называла и вуз, и журнал, но это все было так тихо и стерто, что Гурьев так и не понял, где она училась и где проходила практику; ее блеклая, пепельно-русая красота проступала и розовела под крымским солнцем, и Гурьев чувствовал, что она ему нравится, но чем именно – тоже не мог понять, как не понимал того, что она говорит, хотя она говорила простые и ясные слова, а он шел рядом и все смотрел на ее тонкую шею и не мог себе сказать, чем же она красива.
– А с какими звездами вы бы хотели сегодня поговорить, Аня? – заглядывал ей в лицо Гурьев.
Аня отвечала в том смысле, что звезды нужны такие-то, потому что в журнале сейчас появились новые рубрики, а вот эти звезды им вовсе не нужны; она называла фамилии, Гурьев даже знал какие-то из них, но в целом опять ничего нельзя было понять.
– Аня, вы были раньше в Крыму? – настаивал Гурьев.
Она рассказывала, как бабушка ей, еще маленькой, когда-то описывала, как хорошо здесь было раньше, еще при Союзе; Гурьев опять не мог понять – ездила ли она с бабушкой в Крым, когда была маленькой, или же ей только рассказывали. Они шли вдоль парапета, Гурьев задыхался от простора, от восторга и в то же время злился, что Аня никак не хочет говорить с ним по-человечески.
– Смотрите, Аня, – Гурьев забывался, вел себя неприлично, показывал пальцем и говорил то, что думал, надеясь передать ей свой восторг, – как сшиты между собой море и небо, как ровно они переходят друг в друга, и в то же время нарочно оставлен тоненький шов горизонта, чтобы мы не забывали, что у всего этого дела есть творец, и он любит пошутить.
Аня отвечала в том смысле, что горизонта действительно нельзя достигнуть, так как это кажущаяся линия, и что, кстати, ветер дует холодный.
Они встретились с веселым фотографом и черноглазой девушкой-корреспондентом. Гурьев не заметил, как они подошли к машине. Аня подождала, когда все сядут, и сама села в переднем ряду, рядом с фотографом. Гурьев понимал, что она сделала это не из нежелания сидеть рядом с ним, а просто от равнодушия, где сидеть, но у него гудела от возбуждения голова, все больше глохли уши, все сильнее хотелось в море. Фотограф снова стал спрашивать у водителя про гривны и вообще, как изменилась местная жизнь; водитель отвечал, что никак не изменилась, а вот в Россию хотели всегда, но только бензин сейчас как пить дать поднимется; почему именно, он не объяснял, но было и так понятно, что поднимется. Провожатая спрашивала, как им праздничная программа, Гурьев довольно улыбался, давая понять, что все настолько хорошо, что не нуждается в комплиментах, но не понимал, что его улыбку никто не видит, и со стучащим в оглохших ушах сердцем по очереди смотрел то на море, то на Аню.
***
Во всей обстановке лагеря ощущался давно копившийся упадок, тем более заметный на фоне слепящей и оглушительной красоты зелени, воды, солнца и горизонта, чем больше новые хозяева старались изобразить праздник и довольство. У детей помладше вид был равнодушный; они либо уже не понимали, что находятся в самом красивом месте из всех, где им, скорее всего, придется побывать за всю жизнь, либо все еще воспринимали ветер и блеск вокруг себя как должное, как часть себя и общались с ними без слов, на равных. Гурьев узнавал этот детский, чаще всего девичий, взгляд внутрь себя, которому его научил когда-то один поэт в «Океане». Как у умирающего, переходящего границу человека все – язык, щеки, грудь, но главным образом взгляд – западает, проваливается внутрь себя, так и у ребенка, еще не совсем вернувшегося из-за той границы между человеком и природой, за которой границ между ними нет, взгляд остается как бы еще не до конца избавившимся от созерцания тех пространств и не сфокусированным на разглядывание этих, и Гурьев видел, как море задумчиво и по-свойски плещется в зрачках сопливой курносой шестилетней девочки, не догадавшейся еще, что море и она уже перестали быть одним целым и теперь ей остается только всю жизнь возвращаться к этому морю, которое будет шуметь в ней и вместо нее так же равнодушно и глухо, когда ее уже не будет.
Подростки же проснулись полностью после вечного, объявляемого раз в жизнь тихого часа во вселенском лагере и старались успеть ухватить как можно больше здешнего и сиюминутного, и гурьевское томление о море резонировало с томлением их нагретых солнцем коленей, спин и шей, и он хорошо чувствовал, как девочкам в коротких зеленых форменных шортах и мальчикам в белых несвежих рубашках так же хочется поскорее нырнуть друг в друга, как ему самому остаться наедине с водой и с собой.
В следующем лагере происходила выставка детского творчества, звезды с умильным и рассеянным видом осматривали плетеные, струганые и шитые поделки, дети кучками жались снаружи, под вывеской «Дитячий табiр «Морський». Зала дружби». Грохотала невнятная, но оглушительная молодежная музыка, в этом парадоксе несочетаемости таилась ее дополнительная гнусность; Гурьев, вожатые и тем более звезды этой музыки совсем не знали, и нельзя было понять, как она соотносится с детским творчеством. За лучшие его образцы звезды дарили детям колокольчики. Гурьев взял тоже несколько колокольчиков себе, чтобы подарить их потом Ане, но все заметили, как он это сделал, и сделали вид, что это ничего, и Гурьев, заметив, как все сделали такой вид, смутился и незаметно положил цветы обратно в корзинку. Тут же прошла рядом какая-то смутно знакомая звезда, Гурьев перегородил ей дорогу, выпросил, как автограф, номер ее телефона и, очень довольный, пошел к микроавтобусу.
В этом длинном, слепящем и оглушающем дне была сразу и праздничная стремительность, и деревенское послеобеденное отупение, называемое в народе сиестой. Был еще конкурс детской эстрадной песни с недетскими песнями и нарядами, и эти блестящие вечерние платьица, и так неуместные на умноженном зеркалом бухты крымском солнце, скрывали теплую загорелую красоту девочек-подростков, что так хорошо и просто подчеркивалась их форменными шортами и рубашками. Хлопнули конфетти, которые с мультипликационной яркостью сверкнули на фоне мохнатой и жирной зелени платанов. Впервые за день потемнело небо, дунул прохладный ветер с бухты и немного разогнал прелую соленую испарину над лагерем. Гурьев одурело зевал, щурился на бухту, тонко улыбался одной бородой, несколько раз пытался сбежать к воде, но постоянно нужно было куда-то ехать, за кем-то идти, и он, не понимая уже как следует, где звезды, а где нет, на всякий случай старался брать телефоны у всех подряд, и даже один раз подошел за этим к провожатой, учительнице из «Артека», и она чуть покраснела от стыда за него, но снова сделала вид, что это ничего, и только указала Гурьеву, что нужно идти к микроавтобусу. Он везде видел Аню, и даже пару раз удавалось снова заговорить с ней, но она всякий раз ускользала, гладко и внятно, но так, что все равно ничего нельзя было понять, объясняя, что ей сейчас нужно идти за такой-то звездой, потому что больше эту звезду никогда и нигде уже не найти.
Около пяти часов дня сидели в здании администрации лагеря и писали репортажи. Гурьев взял с собой недавно купленный трансформер – планшет с пристегивающейся клавиатурой, но забыл отключить автоматическое обновление, и уже в такси, которое везло его в пять утра к Останкино, он начал обновляться и завис на весь день. Его посадили за местный компьютер, и Гурьев уже натурально спал и вместо того, чтобы быстро отправить в редакцию, пока есть возможность, свой отчет о поездке, расслабленно и одурело рассматривал ярлычки на рабочем столе, рассказывающие о тайной бухгалтерии здешнего детского счастья, о походах в горы, о вылазке в леса и о ночном разрешенном шабаше на пляже с огромным оглушительно трещащим костром – судя по ярлычкам, все это было запланировано в первые три летние смены текущего полугодия. Сквозь сон Гурьев видел, что у веселого фотографа почему-то не получается слить фотографии с зеркалки на серо-серебристый «Макбук»; черноглазая коллега сосредоточенно и тихо дописывала свой репортаж. Гурьев не заметил, как в полусне написал и отправил свой репортаж.
Поехали на последнее событие дня – открытие смены большим концертом на главном стадионе, огромное зеленое поле которого нагло вторгалось в очередной пейзаж с водой, куда торопливо, на ходу раздеваясь, сбегали с холма платаны и кипарисы. Гурьев уже понял, что малейшая смена точки зрения на этот простой и вечный сюжет дает новый вариант из неисчерпаемого набора возможностей его воплощения, и нужно просто при ехать сюда как-нибудь самому, не по работе, и просто ходить вокруг да около, без цели, чтобы сложить наконец все ускользавшую сегодня картину, которая притворялась то мариной[1], то Аней, то сразу тысячей этих нагретых за день детей в зеленых форменных шортах, но никак не хотела открыть то главное в себе, за что Гурьев успел ее полюбить и что примирит его наконец с самим собой и избавит от страха, неверия и тоски. Гурьев уже начал набрасывать, как он все-таки купит тот домик у моря, у бензозаправки, и будет, в общем-то, счастлив, не имея даже машины. Но сейчас нужно было не уснуть на глазах у всех, переждать концерт и потом наконец искупаться.
Звезды высыпали на сцену и начали проступать и отражаться в понемногу бледнеющем небе, и Гурьев знал, что через час, когда солнце бухнется за горами в море, вместе с ним на Крым стремительно упадет темнота, и тогда звезды разгорятся в полную силу. Сейчас же звездочки были блеклые и нежные, как бы неживые, но крымские дети все равно узнавали их, радовались и, почти сразу привстав, начали пританцовывать вслед за финалистами этого долгого и утомительного дневного пути. Гурьев не знал их, но дети знали и были рады, и он тоже с удовольствием стал слушать и пританцовывать, не разбирая слов и пугаясь особенно громких звуков, хотя сам помнил, что на хорошем концерте давление звуковых волн приносит удовольствие не меньшее, чем сама музыкальная гармония. Вспомнив это ощущение, Гурьев представил волны, и у него зачесалась кожа изнутри – так сильно хотелось снять с себя все, и даже саму кожу, чтобы поскорее нырнуть в воду.
Но именно сейчас сделать это было бы труднее всего, чем за весь остальной день. Начали раздавать и объявлять подарки: прилетел второй за этот день вертолет, но уже маленький – геликоптер, его еще называли пугающим греческим словом «автожир». Дарили еще аппаратуру, чтобы дети учились снимать кино, говорили, что деньги собирали всей страной, подарки и обещания все сыпались и сыпались, маленькие звезды оглушительно пели и говорили что-то в микрофоны, маленькие дети чувствовали себя на этом празднике жизни, как рыбки в воде, и Гурьев был оглушен уже настолько, что с удовольствием принял это нагромождение штампов, хоть как-то объясняющих происходящее; но вскоре был оглушен еще больше, когда на сцену вышли звезды для него самого настоящие, которых он помнил из детства, когда сам, подобно этим пританцовывающим детям, смотрел телевизор. Например, артековского изобретателя пригласил на сцену телеведущий, фокусник из детства, который каждый раз из одного и того же – обрезанной пластиковой бутылки, палочек и веревок – всегда умел смастерить какое-то непонятное, смешное, но стопроцентное и новое чудо. Гурьеву больше других запомнилась девочка в зеленых подвернутых шортах, которая, будучи еще ребенком, танцевала уже с оглядкой на себя как бы в невидимое зеркало, в котором ее уже воспринимают как явно женское существо. Гурьев устыдился главным образом банальности этого образа, когда вокруг было столько чужой и все-таки искренней щедрости и тепла.
Стемнело; включили софиты; вертолет полетал и улетел, вода снова вежливо покипела, кипарисы на прощание покивали, хотя в наступающей темноте эта вежливая гостеприимность все равно была плохо видна, и Гурьев понял, что после всех этих фальшивых нот и не вполне достоверных звезд здесь все-таки останется настоящее чудо, как осталось оно в памяти самого Гурьева после ловких насмешливых манипуляций экранного фокусника с грустным усталым лицом, и, что самое главное, девочка в шортах – она все еще танцевала – любовалась в зеркало не зря, а заранее готовясь, как бы уже летая в маленьком вертолете на недоступной Гурьеву высоте и замирая от видов сверкающей под солнцем бухты, которая обстреливала геликоптер солнечными зайчиками, и представляя себя, может быть, в отражении и блеске экрана, софитов, сцены.
Все закончилось, все встали и, толкаясь, пошли со стадиона: дети огромной толпой – в лагерь, на ужин, звезды и журналисты небольшими группами – на фуршет. Гурьев, подходя к зданию музея «Артека», где намечался раут, увидел, что сейчас удобнее всего сбежать вниз по склону игрушечного серпантина к воде – к маленькому дикому галечному пляжу, до которого была пара сотен шагов. Но тут он заметил Аню, которая сама впервые за день подошла к нему. Гурьев, представив, что она увидит его купающимся, вдруг смутился и снова стал шутить с оскорбительной простотой, как утром в самолете, что-то про трусы и полотенца, но как тогда Аня не поняла его настроения, так сейчас просто его не заметила, будучи, видимо, сильно взволнованной и увлеченной свершившимся праздником.
– Знаете, я никогда не была в таком большом лагере у моря и сейчас, наверное, хотела бы остаться здесь.
Глаза у Ани блестели, как будто она в самом деле была припозднившейся школьницей, которой впервые удалось уехать от родителей в лагерь, тайно выпить там на дискотеке и погулять в темноте с мальчиком.
– Как думаете, смогла бы я сойти за школьницу? Ведь мне пошло бы.
Это было сказано с такой неправдопободной и одновременно убедительной игрой, что Гурьеву представилось, что самым естественным жестом для Ани теперь было бы закрыться вуалькой и легко ударить его по руке черной перчаткой или вульгарной лорнеткой, однако Аня в своей серенькой толстовке с капюшоном, кажется, говорила серьезно. Гурьеву захотелось взять ее за руку, но он сдержался и только сказал:
– После, когда поедем в аэропорт, сядем рядом и поговорим, хорошо?
Столы блистали и ломились, звезды обступили столы, журналисты проталкивались между звезд. Фуршет, как пляж, ненадолго сделал всех равными, объединив не по статусу, а по вкусам: женщины накладывали на тарелочки фрукты и наливали в стаканы вино, мужчины тыкали вилками в мясо и тянулись стопками к водке. Гурьев вспомнил всю эту еду по прошлым светским мероприятиям, которые он посещал корреспондентом, как вспомнил утром обед в столовой детского лагеря, и обрадовался. Наложил себе ветчины, разных сыров, добавил жаркого, красной копченой рыбы, и сверху еще положил винограда и дольки грейпфрута, который спутал с красной рыбой; выпил водки, налил и выпил еще и потом налил в стакан красного вина. Все вокруг сделали вид, что это ничего. Зал наполнился звоном и смехом, и, на минуту оставшись наконец без работы, звезды с удовольствием ее обсуждали друг с другом и пытались всячески сторониться журналистов. Гурьев видел одну, другую звезду, у которой нужно было попросить телефон и договориться о встрече… видел, как черноглазая девушка-корреспондент разговаривала со звездой, у которой тоже нужно было… Гурьев, жуя и улыбаясь одной бородой, обводил взглядом зал… Аня, блестя глазами, пила из стакана… Человек, знающий больше всех, сидел один в дальнем углу с такой же, как у Гурьева, тарелкой, на которой было наложено все, строго ел и иногда поглядывал вокруг, как бы удивляясь, отчего все занимаются не тем, чем нужно. Гурьев поставил тарелку, допил вино, подошел к нему и представился. Тот тоже отставил свою тарелку и предложил выйти, чтобы покурить.
Снаружи темнота стремительно скатывалась с гор на побережье, огоньки их сигарет на глазах становились все ярче. Человек, знающий больше всех, рассказал Гурьеву, когда он готов пообщаться с ним в Москве, и попросил поскорее записать его номер, так как он очень торопится. Гурьев достал телефон, и тут ему начал зачем-то звонить веселый фотокорреспондент; Гурьев сбросил вызов, старенький «Андроид» подвис, Гурьев на всякий случай тонко и извинительно улыбнулся одной бородой, приготовился записывать снова, и тут ему позвонила меланхоличная черноглазая девушка. Они явно были лишними в этом сюжете. Мимо прошла провожатая, учительница из «Артека», не узнав Гурьева. Он снова сбросил вызов, его телефон завис где-то на минуту, человек, знающий все, строго и с удивлением смотрел на Гурьева. Наконец дело было сделано, и Гурьев, очень довольный, пошел обратно в зал, чтобы найти Аню. Но навстречу ему выходила красавица актриса, которая снялась в как раз вышедшем тогда сериале, с ней Гурьеву тоже обязательно нужно было поговорить, но от вол нения он не мог вспомнить, как зовут актрису.
Гурьев пошел к морю.
***
Море было большое. Даже по влажной гальке чувствовалось, как оно успело нагреться за день. Гурьев дышал одной тиной, сюда, в одну из маленьких лужиц, изрезавших линию побережья, кипарисовый и хвоистый пар не спускался. Впереди темнела треугольная, округлая, зубчатая по краям стена Аю-Даг, слева вверху сквозь лес ветвился игрушечный серпантин, справа в горизонт распахивалась черная бухта. Сгустились тучи, луны не было видно, стало тихо и безветренно, мелкая рябь изредка и робко вспархивала над тяжелым, черным и теплым пространством. Дотлевали последние рассыпанные в линию угольки зари, и от этого очень далеко вдали Гурьев заметил последний из приготовленных ему в тот день фокусов, когда черное и золотое непрерывно и незаметно переходили друг в друга, не меняя при этом своих цветов. Заря погасла совсем, как будто море, переливаясь за раскаленный за день горизонт, заполнило наконец противоположную сторону земли и потушило пылающий там пожар. Стало совсем темно и тихо. Лес, серпантин и гора почтительно и бесшумно попятились в темноту, и море и небо на секунду соединились так, что между ними не осталось никакого шва.
Гурьев расстегнул брючный ремень. Сзади послышались женские голоса. Он стянул одну штанину, неловко запрыгал по болезненно твердой гальке и оступился в воду, замочив по колено вторую штанину. Голоса приближались. В тучах возник просвет. Гурьев прислушался: это, подходя к пляжу, разговаривали Аня и красавица актриса, имя которой он не мог вспомнить. Выглянула луна, Аю-Даг сделала шаг вперед, вернувшись на свое место, серпантин ожил и снова пополз сквозь платаны, небо с чмоканьем оторвалось от воды, вернув на место тоненький, нарочно небрежный шов горизонта, оставленный напоминать, что у всего есть Творец, и он любит пошутить, и море сразу очнулось, всплеснуло и заиграло свой вечный, никогда не надоедающий мотив, затанцевало, заглядываясь на ровный ломтик луны и колючие шарики звезд, которые тут же вступили в игру и подхватили танец. Все было, как было всегда и как будет, когда нас не станет, и все громче было слышно, как, обещая непрерывное движение жизни на земле, непрерывное совершенство и, может быть, даже залог нашего вечного спасения, кому-то – наверняка не себе и уж точно не нам – рукоплещет прибой, рукоплещет прибой, рукоплещет прибой.
Гурьева окликнули. Он, не оборачиваясь, быстро стянул с себя вторую штанину и в рубашке и в трусах побежал по отмелине, бросился в воду и поплыл.
***
Спустя пятнадцать минут Гурьев, очень довольный, улыбаясь всей бородой и выжимая рубашку, поднимался навстречу Ане, которая стояла на полпути между пляжем и музеем, где был фуршет и к которому уже подъехали автобусы. Подойдя, Гурьев спохватился и первым делом попросил у Ани телефон, как автограф. Она ответила как-то неясно в том смысле, что ей неловко, и ушла.
Ночь дышала остывающим морем, отдающей последние целебные ароматы зеленью и хвоей, звезды дышали вином и усталостью и запрокидывали головы в синее, без куинджиевских изысков южное небо, где с довольным и добродушным видом дремали, мерцая и помаргивая, другие, неизвестные звезды. И Гурьев не стеснялся теперь ничего, даже такой концовки, так как он был филолог и служил в газете.
Но никто уже не стал делать вид, что это ничего; на обратном пути в автобусе и в самолете Гурьеву выделили отдельное место и сторонились его, как обоссанного. По полу салона по дороге в аэропорт каталась чудом уцелевшая фуршетная вишня, а в самолете Гурьев спал. Спали и счастливые дети в большом лагере у моря, которым подарили праздник; днем они носили зеленую форму, а ночью видели сны, и никто из них не знал, что море никогда не потушит пожар и все они вырастут солдатами.
2014 г.
Я хочу с тобой перестать (пьеса)
Драма в двух актах с двумя аншлагами
Действующие лица:
ВИКТОР, обыкновенный мужчина 27–30 лет.
НАТАЛИ, женщина-андроид 23–27 лет, сухощавая темноволосая красавица итальянского типа, с модельно-рекламной внешностью.
АВТОР, исполняющий трагические куплеты, они же блюзовые телеги. Похож на драматурга.
Вступление
Исполняется в темноте
Гаснет свет, и на сцене появляется Виктор
Крепостной театр теней, немой кинотеатр полусвета
На Викторе реквизит, будто купленный на avito
Но Виктор играет так живо, так глубоко, как будто бы это
Кому-нибудь видно в темном театре на пятьдесят мест
Но все делают вид, как будто бы всем все видно
– Они совсем ослепли или есть надежда?
– Пройдет время, и будет видно; а пока они будто курицы в час между
Волком и собакой. Падают со своего насеста
Они тщательно таращатся в темноту, не смыкают вежды
Снова в одну приблюзованную телегу впрягаются вежды, что прикрывают очи
Снова в одной телеге появляются длани, стыдливо ложащиеся на перси, крест-накрест на голые плечи
Я бы хотел оказаться с ней в одной темноте, где ничего не страшно, но тесно очень
Как в этом подвальчике, где Виктор талантливо меня чем-то со сцены лечит
Виктор заканчивает первый акт, слегка преждевременно, но это замысел режиссера
Все равно ведь не видно театра, сцены, теней крепостных, трех сестер, кукол, а главное, самого актера
Он рассказывает мне обо мне, как я так же стою в ванной в темноте и боюсь зажечь свет
И на мне в это время лишь тонкий слой ее испарений и выделений надет
Сгущенный запах женственности и чистоты
И наши места в постели пусты.
Тайный зритель, главный автор, смотрит на меня из темноты как на одно
Из своих причудливых произведений. Однажды он включит свет, а пока темно.
Я иду поздно ночью из театра по одетой во тьму Москве
В наушниках выгибается, извивается от вдохновения группа «Обе две»
Я сейчас приду домой и включу весь какой только можно свет; вот я и раздет
Дальше не знаю что; может быть, лягу в ванну и…; хотя нет
Вы вышли из ванной и изменили свою фотографию профиля; затем
Вы изменили ей с ее же собственной фотографией
Все это говорится лишь с тем,
Чтобы когда-нибудь стать шуточной эпитафией
Тем, кто из театра один в темноте идет, то есть – живет.
Я не против шуточных эпитафий, только включите скорее свет и начните акт
Она просыпается, переворачивается на живот, встает
После тьмы будет свет, после акта антракт
Виктор уходит со сцены, и зажигается свет; он обнаруживает, что весь спектакль был не одет
Он возвращается на поклоны, зная, что его нагота в темноте все равно была не заметна
Он обнаруживает, что в зале давно никого нет
Однако в зале тем не менее раздаются жидкие аплодисменты
Первый акт
Сцена первая
Задник сцены обклеен объявлениями о съеме и сдаче жилья, крупно, «капслоком» типичные фразы из них – «СТРОГО СЛАВЯНЕ», «БЕЗ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ», «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК», «СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ И ЧИСТОТУ ГАРАНТИРУЕМ». Слева на сцене стоит большая двуспальная кровать, покрытая черным атласным покрывалом. Виктор произносит свой монолог, сидя на спинке кровати.
ВИКТОР. Я так и не смог купить квартиру, поэтому купил себе спальню. Я столько раз представлял «свой угол», что он для меня навсегда стал буквальным притоном, конкретным понятием. Усилием мечты я загнал себя туда: за картонной перегородкой, за шторкой, у печки, под лавкой, на сундуке, рядом с мышеловками; посмотрим варианты подешевле: можно в чулане (нашел на «Циане»), на ларе с мукой, на бочке с капустой, а можно вообще на улице, под крылечком, у будки с собакой – зато воздух у нас хороший, – и еще дальше, за самый МКАД, мрак, ад, за край возможной человеческой бесприютности: замерзающий бомж в картонных латах из-под холодильника, совсем задубелый морг – отопление у нас барахлит, так потому и сдаем задаром – и в самый конец, в могилу, хлюпающую осенней кирпичной глиной, в которую все вернемся, потому что оттуда и вышли. Много ли человеку земли нужно. Метр на два, зато свое.
Но я не умирал, я жил, работал и зарабатывал и наконец решился на оригинальный аналог греха, к которому прибегают другие усталые, потерявшиеся, в темноте на ощупь не узнающие собственное лицо мужчины, которые идут к ненастоящим, латексным, нарисованным в глянцевых каталогах женщинам. Они уже не могут жениться, потому что окончательно вросли в свой прокуренный, пропитый и проигранный уют квартир, доставшихся им в результате чудесных гальванических упражнений умирающей бабушки и прекратившегося государства. Я решил зажмуриться еще лет на пять, не подписывать пораженческих договоров о пожизненных ипотечных контрибуциях и купить себе пока что спальню. Не комнату. Просто спальню.
И вот я купил самую прекрасную на свете Итальянскую Спальню. Большой мебельный магазин, в котором я ее купил, был похож на трудолюбиво, беззаботно и бесконтрольно отреставрированный отечественными гастарбайтерами Дворец дожей в Венеции. Меня пленили эти завитые в окаменевшее пирожное столбики и ножки кроватей, позолота, как на воротах в храме Христа Спасителя, львиноподобные и гривообразные изголовья, на которых, не стыдясь, вполне можно умирать настоящему дожу, белые настольные лампы, светящиеся изнутри оттенком, который может дать только мутно-розовый профиль взволнованной девственницы на самом торжественном августовском закате – именно у такой лампы ей пристало сидеть в пеньюаре, составляя самые нежные письма о верности на самом белом, изящном, тонком «Макбуке». Короче, я решил, что беру.
Озвученная цена, однако, сразу же заставила меня подумать о том, что за эти деньги к спальному гарнитуру должно прилагаться что-то действительно бесценное, то есть не имеющее цены, например живой человек. Когда я, провинциал из нищего детства, думал о ценах на настоящую отдельную квартиру, то любил представлять, что за такую плату прилагается нечто вроде бессмертия или невидимости. Не-дви-жи-мо-сти, ударение пусть каждый ставит, как захочет. Но деньги все-таки были, и я купил спальню.
Дело было ранней весной. Как раз выкрасили подъезд, и курьеры, заносившие кровать, с угла которой сползла защитная пленка, немного запачкали ее первозданный мутно-розовый эпителий серой жэковской краской. Потом никак не получалось открыть ту вторую створку в грузовом лифте, что предназначена как раз для перевозки крупногабаритной мебели. Она всегда с таким трудом открывается, и никто не знает, зачем створка вообще нужна. Поцарапали пирожный столбик, что-то хрустнуло, как протез на параде, однако больше неприятностей не случилось, и вскоре спальня начала размещаться в единственной комнате моей съемной квартиры, которая раньше бывала гостиной и кабинетом, столовой и кухней, и всегда – спальней, периодически становившейся гостиничным номером. Но теперь ей предстояло быть только спальней, все остальные потребности и отправления, пожалуйста, не здесь. Комнату я вымерил и заранее освободил, мебельный комплект подбирал долго, поэтому через несколько часов все стало на свои места, рабочие ушли, и я остался в своей спальне. Мечта сбылась, делать мне теперь нечего.
Падает на кровать и засыпает. Свет гаснет.
Через минуту свет загорается, Виктор просыпается, поворачивается на бок и, вскрикнув, вскакивает. На кровати рядом с ним, опершись на локоть и согнув одну ногу, как в «элитарной», отталкивающей рекламе, лежит темноволосая девушка в черной ночной рубашке, с резкими скулами, дистрофическими ключицами и боксерским, неженственным животом. Она лежит неподвижно, исподлобья глядя куда-то поверх Виктора.
ВИКТОР. Ты кто?
НАТАЛИ (угрюмо). Натали.
ВИКТОР. Имбрулья?..
НАТАЛИ. Какая еще имбрулья. Спать давай.
Отворачивается к стене, засыпает в «рекламной» изящной позе. Виктор лежит около минуты, затем осторожно касается ее плеча, отдергивает руку, словно обжегшись. Затем берет подушку, встает с кровати, ложится спать на полу. Свет гаснет.
Сцена вторая
Просыпаются. Натали так же неподвижна в своей «рекламной» позе. Виктор осторожно подходит к кровати, еще раз осторожно трогает Натали за плечо, но уже не отдергивает руку. Отводя руку от ее плеча, случайно касается ее груди. Натали оживает, переворачивается на спину, приподнимает коротенькую полу рубашки, берет Виктора за руку и притягивает к себе. Сцена вновь затемняется, происходящее на кровати угадывается слегка, по силуэтам. Из-за сцены звучит монолог Виктора.
Она оказалась мутно-розовой на ощупь. Самым потрясающим было то, что по ее лицу мягко проносились тени тех, с кем я бывал раньше. С ней я был словно со всеми своими женщинами сразу. Натали оказалась идеальной подругой: как только ко мне подступило известное восторженное мужское желание смять, раздавить, от нежности задушить это слабое мокрое тело, она тоже затряслась вполне натурально. Потрясение от происходящего обессилило меня, и мы тут же заснули, на этот раз вместе, в моей итальянской спальне.
Действо заканчивается, Виктора уже нет на кровати, но по-прежнему звучит его монолог. Натали пантомимой иллюстрирует его.
ВИКТОР. Она была самым странным существом, которое я когда-либо видел. Понятие «существо» очень ей шло: она не была, конечно, живым человеком, но и не являлась куклой. Целыми днями она лежала в постели, своими фальшивыми изумрудными глазами завороженно глядя куда-то. Позы ее менялись как набор случайных заставок на рабочем столе в Windows 7 – каждый раз именно тогда, когда я отворачивался. Оживить ее можно было только одним способом: в первый наш раз она сообщила мне, что разбудить ее можно прикосновением к чувствительным местам. После этого она привлекала меня к себе, и когда все кончалось, через пару минут снова впадала в свой глянцевый ступор. Поначалу меня, давно голодавшего, все устраивало, мне чудом досталась идеальная мужская игрушка, и я по несколько раз за ночь штурмовал ее кофейную крепость, увенчанную нежным сердечком из пены. Известный женолюб Берлускони, наверное, так же никогда не мог устоять, дыша теплым, летним, пляжным запахом девичьих плеч.
Через неделю мне удалось задержать Натали в сознании на пять минут дольше, чем обычно.
Входит Виктор.
ВИКТОР. Ты не хочешь заняться чем-то другим, например просто прогуляться сегодня вечером?
НАТАЛИ. Я не знаю, что значит «просто прогуляться».
ВИКТОР. Как? Вообще не знаешь?.. Гулять – это когда выходишь из дома и просто идешь по улице, разговариваешь и дышишь свежим воздухом. Можно зайти посидеть в кафе, выпить капучино.
НАТАЛИ. Капучино?.. Что-то такое помню.
ВИКТОР. Да, нам нужно с тобой поближе познакомиться, выпить кофе.
Натали вновь «застывает», Виктор гладит большим пальцем ее губы. Свет гаснет.
Сцена третья
На сцене темно. За сценой слышен лай собак, женский крик и плач. Затем Виктор вносит Натали, обернутую его курткой, и бережно кладет на кровать. На ее ногах кровь, рубашка разодрана. Натали рыдает. Виктор обнимает ее, пытается успокоить. Через некоторое время Натали, всхлипывая, начинает рассказывать.
НАТАЛИ. Мы с тобой вчера познакомились и выпили кофе. Сегодня, когда ты ушел, я захотела опять посидеть в кафе, вспомнить, как это было в другом городе, где есть небо и море. Здесь все такое серое. Серые дома, серые стены, серые лица. Серое небо, очень серое небо. И море, которого нет, тоже серое. И как только я вышла, на меня бросились собаки. Они тоже гуляли. Было очень больно. А теперь мне не больно. С тобой не больно.
Виктор тем временем приносит перекись водорода, бинт, начинает осторожно обрабатывать раны Натали.
ВИКТОР. Но ты же была в одном белье! Тебе было холодно? И… другие мужчины… не успели с тобой ничего сделать? Ну, плохого? Против твоей воли?
НАТАЛИ. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я всегда готова, ты же знаешь.
ВИКТОР. Натали, Натали… Что мне теперь с тобой делать…
Натали молчит. Виктор заканчивает обрабатывать ее раны, перевязывает кофейную ногу белым бинтом. Натали задумчиво смотрит на повязку.
НАТАЛИ. Ты не знаешь, что со мной делать. Ты, возможно, решишь меня прогнать. И тогда меня загрызут серые собаки, или плохие мужчины сделают со мной плохое в плохой подворотне, и я сама буду плохая, серая, мертвая. Но я не знаю, что такое «мертвая» и что значит «живая». Я только быстро учусь и уже успела узнать, что в этом сером месте, на этих серых улицах серые мужчины делают с яркими женщинами плохие серые вещи, и яркие женщины после этого тоже становятся серыми. Серый – значит мертвый, хотя я и не знаю, что такое мертвый и что такое живой. Я знаю только, что такое больно и что такое хорошо. С тобой мне хорошо, а сейчас было больно.
Я не знаю, что такое «не быть», знаю только, что такое «быть», а как «быть», я знаю только с тобой, но ты не знаешь, как быть со мной. Но я быстро учусь и знаю, что буду тебе хорошей женой, как знаю, что ты давно одинок и не мог ничего построить с женщинами, которые знали больше, чем я. Пока я не проснулась у тебя, я тоже была, но так, как я была, лучше вовсе не быть, хотя я и не знаю, что значит не быть. Внутри меня было холодно и серо, и рано темнело, и дули сквозняки, и серое небо опускалось на серые дома, серые улицы, серую землю, серых мужчин и женщин. Хотя я видела глазами, что я в прекрасном месте, где небо синее и высокое, море синее и глубокое, воздух горячий и звонкий, а люди яркие и живые. Но это было как бы внутри меня, а снаружи было серо и холодно. И то и другое было внутри меня, а снаружи как будто не было ничего. Наверное, это и есть не быть – когда все внутри тебя, а снаружи нет ничего. Но потом я уснула, и на секунду не стало вообще ничего, и я не могу представить и вспомнить, как это было, когда я не была. И вот я проснулась у тебя, ты меня обнял, и мне стало тепло и не страшно, и внутри опять появилось синее море и синее небо, хотя снаружи все только серое, низкое и холодное. Я не знаю, что такое не быть, но знаю, как перестать быть. Если ты прогонишь меня, я пойду к этим серым собакам и к этим серым мужчинам, и они сделают меня серой.
Виктор крепко, не эротическим, а скорее отеческим жестом обнимает Натали, одной рукой за спину, другой за голову, и прижимается губами к ее волосам. Свет гаснет.
Через несколько секунд свет загорается, на сцену выходит АВТОР. Он исполняет БЛЮЗОВУЮ ТЕЛЕГУ
№ 1
Искал женщину, ходил днем с фонарем и говорил: ищу женщину
Искал женщину, сидел в бочке и искал женщину
Искал женщину, набирал в рот камней и искал женщину
Искал женщину, пил разбавленное вино и искал женщину
Искал пьющую курящую женщину женщину чтобы вместе пить и курить
Искал женщину, чтобы говорить ей: ты же мать, тебе же еще рожать
Искал женщину, которая в ответ говорила бы весело: а посрать
Искал мужественную женщину, чтобы быть мужчиной
Искал женственную женщину, потому что они как правило хороши
Да что там – они божественны, божественно хороши
Искал женщину, чтобы забивать микроскопом гвозди
Искал женщину, чтобы за хлебом ходить за три моря
Искал женщину, чтобы она сточила семь посохов и изгрызла семь хлебов
Пока я хожу в магазин с посохом за хлебами
Искал женщину, чтобы накормила пятью хлебами одного меня
Искал женщину – Марию Магдалину, которая в постели страшная блудница
А на людях святая, излеченная от семи бесов
Искал Деву Марию, которая скажет не прикасайся ко мне
Хотя нет, это не она говорила, а страшная блудница, святая
Искал женщину, чтобы стать каменной стеной
Застыть и любоваться ее красотой
Стать надежным плечом, чтобы гладить ее колено
Искал женщину, чтобы стать главой семьи
Головой, которая вертит она, как шея
Искал женщину, чтобы подвести ее под монастырь
Искал женщину, чтобы повести ее под венец
Искал женщину, чтобы просто потрахаться, наконец
Искал женщину, чтобы просто влюбиться, и все
Искал женщину, чтобы скандалить по воскресеньям в «Ашане»
Искал женщину, чтобы чесать пузо перед телевизором на диване
Искал женщину, чтобы выносить мусор, словно выходя в открытый космос
Искал женщину, чтобы она ходила на йогу и сидела в позе лотоса
Искал женщину, которая растягивала бы себе йогой мышцы
Искал женщину, чтобы она растягивал себе родами мышцы
Искал женщину, которая растягивала бы рот в зевоте,
Когда я рассказываю о своей работе
Искал женщину, которая растягивала бы рот в улыбке
Когда я начинал целовать ее в ухо (ей там щекотно) по ошибке
Искал женщину, чтобы целовать ее от гребенок до ног
Искал женщину, с которой бы я часто и много мог
Искал женщину, после которой я был бы весь мокр
Искал женщину, у подъезда которой под дождем с букетом бы мокнул
Искал женщину, чтобы кусала мне губы, как я люблю
Искал женщину, чтобы любила странное, о чем не принято говорить
Искал хорошо пишущую женщину, чтобы ей восторгаться
Искал хорошо и крепко спящую женщину, чтобы с ней спать
В фильме «Ищите женщину» телефонистку, которая завязывает сюжет, зовут Алиса Постик
Такой вот получается постик
В животе у женщины завязывается жизнь, то есть происходит завязь
И я испытываю зависть
Искал женщину, которая, в отличие от меня действительно может творить
Да и просто поговорить
Сцена четвертая
На экране демонстрируется художественный фильм пять – семь минут длиной. Фильм выдержан в стилистике модного показа и рекламы дизайнерской одежды. Фильм без слов; звучит типичная для модного показа мажорная поп-музыка.
Эпизод 1. Лифт со стеклянными стенами в торговом центре медленно ползет вверх, как поршень огромного шприца, набирающего жидкость из декоративного бассейна внизу. Виктор и Натали выходят из него и идут по этажу мимо бутиков. Походка у Натали, как у профессиональной модели. В руках у нее несколько пакетов с одеждой, Виктор также несет покупки.
Эпизод 2. Герои заходят в магазины, где Натали прикидывает на себя платья. В монтажной нарезке они внезапно и часто оказываются в примерочных, где Натали сбрасывает с плеч тоненькие черные бретельки, а Виктор прижимает ее к стенке кабинки и целует в шею и грудь. Натали ласково отталкивает его, оба смеются, она прогоняет его из примерочной, у входа в которую уже поджидает угрюмая продавец-консультант.
Эпизод 3. Заходят в обувные магазины. Виктор становится перед Натали на одно колено и помогает ей примерять разные, но непременно роскошные туфли. Планы здесь крупные, контрастирующие по длительности с динамичным монтажом предыдущих сцен, откровенно эстетские, отсылающие к стилистике Квентина Тарантино в подаче подобных образов. Голая ступня Натали с легкомысленным педикюром задерживается в руке Виктора. Натали смеется, запрокидывая голову и широко раскрывая губы, как типичная счастливая потребительница из рекламы.
Эпизод 4. Герои, нагруженные пакетами с покупками, заходят в кафе. Натали бросает пакеты на диван, сама падает на него и, не глядя в меню, что-то говорит подошедшей официантке. Натали и Виктор целуются. Официантка приносит обоим пасту и капучино.
После демонстрации фильма на сцену выходит АВТОР. Он исполняет БЛЮЗОВУЮ ТЕЛЕГУ
№ 2
Красивая тридцатилетняя женщина смотрит на себя в зеркало и думает: да я же, я же вообще
Красивая тридцатилетняя женщина красива, привлекательна и желанна
Красивая тридцатилетняя женщина редко так думает, но когда все же думает, ей нечем выразить эту мысль
Как сказать про саму себя, что ты (то есть я) красива, привлекательна и желанна?
Красивая тридцатилетняя женщина – ты, то есть я. Ты – это я
Но красива, привлекательна и желанна – это какая-то фигня
Красивая тридцатилетняя женщина, глядя на себя в зеркало, превращается в Эллочку-людоедку
Красивая тридцатилетняя женщина думает: я еще ничего, да я же еще вообще, хо-хо, занятно, зачетно, заметно
Возможно, какая-то остроумная красивая тридцатилетняя женщина подумает: я бы сама себе вдула
Потом: нет, я бы сама себе дала
Фуу, фее, думает следом красивая тридцатилетняя женщина
Эллочка-лесбиянка
Красивая тридцатилетняя женщина: зачетная сучка?
Красивая тридцатилетняя женщина: горячая штучка?
Красивая тридцатилетняя женщина: симпотная телка?
Красивая тридцатилетняя женщина: мимимишечка, няшечка, прокурор Республики Крым?
Поклонимся всем им.
Кокошненько
Фуу, фее, подумает следом красивая тридцатилетняя женщина
И это прекрасное чувство пропадает
Когда у красивой тридцатилетней женщины это прекрасное чувство пропадает
Красивая тридцатилетняя женщина невольно вспоминает
Как ее часто кидали на бабки, кидали на чувства, кидали на обещания
Как ее обижали, обманывали и не обнимали
Как ей, в конце концов, не давали, и как такое вообще возможно
В одну телегу впрячь не можно
Красивая тридцатилетняя женщина помнит, как ее не целовали, не гладили
Как с тем козлом в первом браке в тесной квартире они не ладили
Красивой тридцатилетней женщине не говорили, что у нее тонкие пальцы и классная попа
Душистые волосы, в которые хочется зарыться
Прекрасные мудрые глаза, которые никогда не должны закрыться
Хрупкие ключицы, хрупкие плечи, хрупкий воздушный стан
Короче, все такое хрупкое и воздушное, что у меня на тебя немедленно встал
Нет, ты худенькая, тебя надо откармливать
Конечно, мы купим, тебе совсем нечего надеть
О, как ты сегодня выглядишь, офигеть
Мне нравится эта родинка
Ты моя обожаемая уродинка
Ты, и только ты, ну и что-нибудь еще про мечты
Ну и конечно изящные бедра и стройные длинные ноги
И все остальное. Ну, в смысле, когда мы делаем 69
Ты тоже очень прекрасна
Не стесняйся
– Женщина должна уметь делать семьдесят вещей: завязывать галстук и 69
– Ах как ты мило шутишь дорогой. Мне хорошо с тобой
Вот это вот все красивой тридцатилетней женщине не говорили
Попросту говоря, ее по-настоящему не любили
И красивая тридцатилетняя женщина может сказать теперь только какое-нибудь хо-хо
Ну или кокошненько
Красивая тридцатилетняя женщина заходит в Инет и забивает в поиске: красивая тридцатилетняя женщина
И что же она там видит?
Ничего хорошего она там не видит, нам нельзя цитировать это здесь
Фуу, фее, думает красивая тридцатилетняя женщина и закрывает Инет
Хотя на деле она была бы не против вот этого вот всего
Но зачем же так сразу, ведь должна быть сначала романтика, свечи, розы, стихи
Ну а потом можно и как «секс-машина», и «сразу с двумя», и «mother I’d like to fuck»
Красивая тридцатилетняя женщина не знает, что это штампы из порно
Которое придумали некрасивые и не тридцатилетние мужчины
Они, в отличие от красивой тридцатилетней женщины, знают, как рассказать о чувствах
Вот Пушкин прекрасно писал о чувствах, мол, я любил вас, любовь еще может быть
Пушкин – наше все
Саша идет по шоссе и сосет
Вот это вот все
Ей исполняется двадцать пять
Опять
Но красивая тридцатилетняя женщина вряд ли знает, что было потом в письме
«Дыдыды с божьей помощью Анну Керн», вот что было в письме
Пушкин ведь черный парень, трахался сразу с двумя, кончал (им обеим) на грудь
Такое вот что-нибудь
Ведь он не забывал о романтике, розах, свечах, стихах
Ну а потом можно и вот это вот все, причем куда угодно.
Куда удобно.
Как господу будет угодно.
Красивая тридцатилетняя женщина с божьей по мощью заходит опять в Интернет
На сайте знакомств такого, как в поисковике, наверное нет
Красивая тридцатилетняя женщина регистрируется бесплатно, пишет в анкете: ищу мужчину для отношений
И получает в ответ поток откровений
ДАВАЙ ВЫЙДЕШЬ В СКАЙП А Я НА ТЕБЯ ПО ДРОЧУ
ДАВАЙ ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ ГОСПОЖОЙ Я ТВОЕЙ ВЕРНОЙ ШЛЮШКОЙ
А ТЫ В ПОПКУ ДАЕШЬ
А ТЫ В РОТ БЕРЕШЬ
ПОШЛИ МНЕ СВОИ ИНТИМНЫЕ ФОТО А Я ТЕБЕ СВОЙ ЧЛЕН
ПОБУДЬ СО МНОЙ НЕМНОГО, МНЕ ПЛОХО, ВСЕ В ЖИЗНИ ТЛЕН
ДА НУ ЕГО НА ФИГ, думает красивая тридцатилетняя женщина
И закрывает Интернет
Нет
Короче, пройдя через все, оставив горы придурков
Оставшись наедине, с горкой кровавых окурков
Красивая тридцатилетняя женщина с божьей помощью понимает, что она часть его замысла
Божьего умысла, помысла, промысла. Если хотите, проекта
Если хотите про это
Про это вот все
То вот
У женщины есть живот
Красивая тридцатилетняя женщина замысливает сама там жизнь, как маленький легкий бог
Из ничего, из слизи какой-то, из капли белковой жидкости, над которой носится дух
Вначале была темнота, и дух над ней носился
Вначале была темнота, и мужчина над ней возносился
И она с ним сама возносилась
Вознесение было выражено в двух словах: Ах
И
Ооо
Ведь это же как молитва
В ванной забыта бритва
Которой она поспешно подбрила себе лобок
И стала как маленький легкий бог
Господи как хорошо Ты придумал
Как клево Ты намутил эту тему
Сотворение мира ВИДЕО 18+
Я ничего не боюсь.
Сотворение жизни ИНТИМНЫЕ ФОТО ЖМИ
Главное, меня дождись.
Сотворение счастья из натуральной вагины
Искусственная – от дьявола
Дьявол дрочит на «Прадо»
Нам этого не надо.
У красивой тридцатилетней женщины есть она сама
Красивая тридцатилетняя женщина думает: я у себя одна
Красивой тридцатилетней женщине скоро скажут: ты у меня одна
Красивая тридцатилетняя женщина очень, очень нужна
Красивая тридцатилетняя женщина – это жизнь
Красивая тридцатилетняя женщина – это смысл
Красивая тридцатилетняя женщина – это мысль
Красивая тридцатилетняя женщина – это все
Осмысленная приблюзованная телега превращается в набор слов
Все, надо кончать
Я готов
Подожди, я скоро, давай вместе
Красивая тридцатилетняя женщина чувствует это в себе
Красивая тридцатилетняя женщина присутствует как бы везде
Читатель ждет уже рифмы. Ага, сейчас
Ладно, так и быть: в нас. Блюз превратился в джаз
Красивая тридцатилетняя женщина знает все про себя
Красивая тридцатилетняя женщина знает, что она красивая тридцатилетняя женщина
Красивая тридцатилетняя женщина смотрит в зеркало и думает что-то вроде хо-хо, зачетно, да я же еще ничего, я же вообще
Он бы вдул
Я бы дала
Кокошненько
Сцена пятая
Натали и Виктор лежат на кровати и едят пиццу из коробки. Виктор одет по-домашнему, в шорты и рубашку без рукавов, Натали в короткой ночной рубашке, но уже в белой. Пьют колу из пластмассовых стаканов. Сэмплом доносится авиационный вой стиральной машины. Доев кусок, Виктор встает и достает из прикроватной тумбочки коробку, распаковывает, там «Макбук».
ВИКТОР. У меня для тебя подарок. Ты хотела такой же, как у меня. Я научу тебя пользоваться, и ты сможешь найти друзей.
НАТАЛИ (глядя в экран и водя пальцем по тачпаду.) А я уже немного умею. Сфотографируй меня на аватарку для Фейсбука.
Натали быстро убирает с кровати коробку с пиццей и «Макбук», принимает свою коронную развратно-рекламную позу. Чуть оголяет бедро.
ВИКТОР. Ну хватит.
Натали поигрывает бретелькой рубашки.
ВИКТОР (прицеливаясь айфоном). Натали! Сядь нормально.
Натали достает из-под подушки собственный айфон и пытается сделать селфи.
ВИКТОР. Ладно, ладно! Только прикройся немного…
Натали детским порывистым движением обеими руками тянет вниз рубашку, пытаясь прикрыть ноги, при этом бретелька сползает с плеча, обнажается грудь.
ВИКТОР. Натали!!!
НАТАЛИ (капризно.) Ну что?!
Виктор склоняется над ней, поправляет бретельку, закрывая грудь; бедро обнажается. Он со вздохом встает и фотографирует Натали.
ВИКТОР. Откуда ты только этого понабралась? Я фотку обрежу по пояс, учти.
НАТАЛИ (капризно.) Я хочу чтобы красиво!
ВИКТОР. Ты и так красивая! Я тебе постоянно это говорю.
НАТАЛИ. Ты же сказал, что я должна найти друзей.
ВИКТОР. Друзей – да! Но для этого не нужно себя голую на аватарку ставить! Откуда, откуда в тебе это…
НАТАЛИ. Тебе же нравится, когда я голая.
ВИКТОР. Мне – да! Но перед другими раздеваться нельзя.
НАТАЛИ. Почему?
ВИКТОР. Что значит почему! Просто нельзя, и все.
НАТАЛИ. Перед тобой я ведь раздеваюсь?
ВИКТОР. Передо мной – да! Но перед другими нельзя.
НАТАЛИ. Почему?
ВИКТОР. Ну пойми: мы живем вместе. Мы спим вместе…
НАТАЛИ. Мы не только спим вместе. Когда мы ложимся спать, ты меня так крепко обнимаешь, и мне становится тепло-тепло, и хочется чувствовать тебя, твою тяжесть…
ВИКТОР. Это примерно и называется «спим». Ты не должна спать с другими.
НАТАЛИ. Почему?
ВИКТОР. Помнишь, как ты говорила, что будет, если я прогоню тебя?
НАТАЛИ. Почему?
ВИКТОР. Примерно то же будет и со мной, если ты мне изменишь.
НАТАЛИ. Почему прогонишь?
ВИКТОР. О, боже! Никуда я тебя не прогоню.
Натали застывает в своей обычной позе.
ВИКТОР (присаживаясь рядом с Натали на краешек кровати, как врач к больному). Изменить нельзя, потому что это то же самое, что убить. Когда мужчина любит женщину, он отдает ей свою жизнь. Целует ее и через свое дыхание передает ей свою энергию. Входит в нее и через свое семя вливает в нее свою энергию. Ласкает ее и через свою кожу напитывает своей энергией.
(Берет Натали за руку, та не реагирует, по-прежнему глядя немигающими глазами в потолок.)
А когда женщина изменяет, она отдает энергию, данную ей любящим мужчиной, чужому человеку. Ревность – это жадность к собственной энергии, но ее можно понять.
(Наклоняется и гладит Натали по волосам, та по-прежнему не реагирует.)
А любовь – это когда ты хочешь съесть женщину, чтобы она стала частью тебя, ибо ты не можешь стать ее частью. Когда ты хочешь раздавить женщину в объятиях, чтобы она впиталась в тебя, ибо ты в нее впитаться не можешь. Когда ты хочешь задушить женщину, через поцелуй выпить ее дыхание, чтобы оно стало частью твоего дыхания, ибо наоборот опять же не получится. Когда во сне ты неприличным, младенческим движением прячешь голову на груди женщины, сквозь тонкую кожу, сквозь мягкую грудь, сквозь хрупкие ребра, сквозь алые легкие целуя ее сердце – чтобы ее сердце принадлежало тебе, так, как твое давно принадлежит ей. Все это внешне похоже на смерть: когда ты любишь, ты перестаешь быть собой и становишься другим, лучшим, высшим. Любовь – это изнанка смерти, то есть настоящая жизнь. А изменить – значит выжать себя из плоти мужчины, выдохнуть себя назад из дыхания мужчины, вырвать свое сердце из сердца мужчины. То есть убить.
Я хочу показать тебе один фильм, «Терминатор-2»…
НАТАЛИ (очнувшись). Меня тоже нельзя убить, и мне тоже нельзя умереть.
Привлекает Виктора к себе, целует, гладит его спину под рубашкой. Свет гаснет.
Второй акт
Сцена первая
Натали сидит на кровати по-турецки в черной ночной рубашке, на коленях у нее «Макбук». Изображение с монитора проецируется на экран на заднике сцены. Натали пишет пост в Фейсбук.
ТЕКСТ ПОСТА
Интересно, может ли Терминатор Т-800 заняться сексом с женщиной? Как научил меня Виктор, первым делом я набрала этот вопрос в Google и…
Набирает соответствующий запрос, нет ни одного результата (Нет ни одного результата. – Авт.).
…Поняла, что никто этим до меня не интересовался =D. А странно: мне так нравится (нравилось) чувствовать на себе тяжесть Виктора. Даже когда он ничего не делал. Иногда мы просто лежали, болтали, и я просила его: полежи на мне)) Он ложился на меня, и мы продолжали болтать, но во мне все как будто сжималось. Тело сжималось, и внутри тоже сразу становилось так тесно, плотно, безопасно. Так не страшно:=)
А это мне, и с обычным живым мужчиной!! А представьте, как обычной живой женщине было бы с Терминатором Т-800??))) Во много раз тяжелее, плотнее, теснее, приятнее! Еще он может крепко-крепко обнять. Он всегда защитит. Он не ударит, не закричит, не напьется. Не будет целыми днями сидеть за компьютером, ибо он сам компьютер =D. Он сможет быть с женщиной когда угодно и сколько угодно. Он ляжет сверху, и женщина будет в безопасности. Невыносимая легкость Терминатора, как говорится =DDD
Да я и сама хотела бы с Терминатором. С Виктором-то у нас уже давно ничего нет (
Ставит статус «Друзья» (т. н. подзамок), нажимает отправить. Затем набирает в поисковике «Терминатор», переходит в раздел Картинки. Рассматривает одну за другой, задерживаясь на тех, где Шварценеггер с голым торсом. Фоном начинает звучать монолог Виктора. Натали ложится на кровать на живот перед ноутбуком, болтает голыми ногами.
ВИКТОР. Натали, как выздоравливающий больной, начала понемногу вставать. Долго смотрела в окно, потихоньку бродила по комнате, а однажды даже приготовила нехитрый ужин: отваренные, небрежно откинутые макароны, в которых плавало слегка поджаренное яйцо. Все чаще, возвращаясь вечером домой, уже из тамбура я слышал авиационный вой стиральной машины. Наша жизнь становилась все больше похожей на обычную. Я работал, она, что называется, вела хозяйство, поразительно быстро этому учась.
Натали набирает в поиске «паста баветте с генуэзским соусом песто рецепты».
Постепенно мы начали ходить куда-то вместе, я показывал ей город и я даже знакомил со своими друзьями. Они, естественно, не догадывались, кто перед ними. А Натали очеловечилась настолько, что стала с ними флиртовать! Конечно, им это нравилось.
Натали набирает в поиске одной фразой «секреты флирта и соблазнения русские заговоры на любовь».
И мне было жутко интересно, как она работает… то есть живет… то есть существует… под «Андроидом»?.. «Под «Андроидом» звучит как описание наркотической зависимости, да у нас с ней именно так и было – она была подо мной, я бывал под нею. Нежная, горькая жалость к этому крепостному, постельному, бесправному существу захватывала меня.
Натали набирает в поиске «Android или iOs сравнение».
Так мы жили. Квартира тем временем словно оказалась моей фактически: хозяин, живший в Лондоне, возвращаться в страну не собирался. Наши договорные отношения напоминали американскую аренду сроком на девяносто лет. Много ли пространства нужно человеку и сколько времени ему отпущено Господом Богом и квартирным хозяином?
Когда при мне Натали, карамельное мое солнце, тонкой рукой перебирала мелкое свое, слабенькое, жалкое женское хозяйство: косметику Mary Kay, пакетики с колготками, какие-то бусинки, веревочки и разноцветные оберточные бумажки, мне было так жалко, так жалко ее. Женщина напоминает зверька, который тащит в свою норку разную нужную и ненужную дрянь, чтобы построить гнездо, где можно скрыться от ревущих и свистящих ветров внешнего мира. А потом приходит мужчина и все это разрушает. Ложь, что гнездо строят двое. Наше начало портиться, едва было создано. Можно догадаться, что выйдет из союза человека и андроида…
Натали, на минуту перестав болтать ногами, еще раз набирает в поиске «может ли Терминатор Т-800 заняться сексом с женщиной»
Победоносные штурмы кофейной крепости случались у нас все реже. Обычные признаки женского увядания сопутствовали Натали без тех причин, что вызывают обычно охлаждение первой свежей любви. Например, зернистую суть своей спутницы я ощущал все слабее, словно она родила и не смогла восстановиться после родов.
Натали набирает в поиске «восстановление после родов сужение влагалища»
Эти призрачные роды отразились и на ее поведении. Натали уже не относилась ко мне с беззаветным вниманием, как тогда, когда я нашел ее в нашей Итальянской Спальне. Словно между нами появился кто-то третий, беспомощный и невидимый, чье благополучие она готова была оберегать любыми средствами, в ущерб мне. Женщина превратилась в мать, но ребенка у нее отняли, и она повредилась умом. Все чаще в Натали проявлялись те грубые отталкивающие черты подростка из неблагополучной семьи – а наша как раз в таковую и превращалась, – с которыми я застал ее впервые и которые казались поначалу случайным глюком в первый раз запущенного андроида. Бесплатный андроид только в нашем магазине итальянской мебели… «Андроид» заглючил. Кем же она все-таки была? Google, через который я нашел сайт магазина итальянской мебели, скоро анонсирует свои мутно-розовые гуглоочки. Затем появится беспилотник «гугломобиль». Затем появится гуглодом, где можно будет разговаривать со стенными панелями, кухня будет готовить вам завтрак, исходя из ваших предыдущих предпочтений, и по полу будут ездить непре рывно убирающие роботы – пьяный еще спотыкайся об них. Ну а потом – вершина человеческой инженерной мысли – гугложена. У меня она уже есть в тестовом экземпляре. А может, она была обычной гопницей-терминаторшей из третьего фильма, способной взять за яйца любого мужчину?..
Натали набирает в поиске «Терминатор 3», переходит в раздел Картинки
Натали много и без причины ругалась, вспыхивала и обвиняла меня в каких-то абсурдных проступках. Живые и мертвые души боролись в моей итальянской подруге, и худшие женские черты проявлялись с жестокой, нерассуждающей механической прямолинейностью. В магазинах и кафе она всегда устраивала скандалы, придираясь к персоналу с требованием особенного к себе отношения. Постоянно выпрашивала новые тряпки. Отпускала презрительные комментарии в адрес моей платежеспособности. Я же, подобравшись к возрастной границе, за которой человек уже перестает удовлетворяться самим собой и начинает ощущать космическую тоску, прекращаемую лишь настоящей семьей, детьми, страдал от одиночества.
Натали набирает в поиске «как уберечь любимого мужчину от пьянства».
Но я уже понимал, что больше не смогу без моей Натали. Мы слились окончательно. Я понял, что это и есть великий вселенский проект: и да прилепится жена к мужу, в горе и в радости, одна плоть, по образу и подобию своему, из ребра, из осенней хлюпающей кирпичной глины – из глины же или из чего там? Слишком много людей были бы одинокими, если всю жизнь капризно выбирали бы кого-то подходящего им окончательно, и Великая OS дала мне ту, с кем я гарантированно проживу всю жизнь.
Натали набирает в поиске «пафосные статусы для соцсетей».
Мы жили эту жизнь. Натали быстро старела. Секса у нас не было, по вечерам мы ужинали жареной картошкой с грибами (в Италии, наверное, запивают красным вином пасту). Натали писала что-то в Фейсбуке на своем тонком, изящном «Макбуке». Из прихожей доносился авиационный вой стиральной машины, прокручивающей атласные простыни нашей Итальянской Спальни. А мне хотелось сбежать наружу, за самый МКАД, мрак, ад, за край возможной человеческой бесприютности: замерзающий бомж в картонных латах из-под холодильника, совсем задубелый морг – отопление у нас барахлит, так потому и сдаем задаром – и в самый конец, в могилу, хлюпающую осенней кирпичной глиной, в которую все вернемся, потому что оттуда и вышли. Много ли человеку земли нужно. Метр на два, зато свое.
Натали набирает в поиске «квартиры в Подмосковье недорого без отделки».
Я слишком быстро и сильно ее очеловечил, и человеком она оказалась гораздо более худшим и слабым, чем была андроидом. Хотя если есть отдельная «она», которая может быть и андроидом, и человеком, значит, у нее есть все-таки душа?
Похороните меня в Италии, желательно заживо. Я сжег второй том, и души наши мертвы.
Умирая, Натали завещала мне спальню. Это было поздней весной. К тому времени спальни здорово подорожали. Говорят, что скоро их можно будет сдавать в аренду. Теперь я сохраняю полную неподвижность. Недвижимость.
Натали набирает в поиске «делирий».
На сцену выходит АВТОР. Он исполняет БЛЮЗОВУЮ ТЕЛЕГУ
№ 3
Потом она этими губами детей целует
Потом она этими губами милого милует
Потом она этими губами выговаривает невозможные для женщины слова:
– Знаешь, я, возможно, была неправа
Потом она этими губами бережно облизывает мороженое
Потом она этими губами делает невозможное
Потом она этими губами облизывает соску для малыша
Я, честно говоря, не понимаю в этом ни шиша
Потом она этими губами слизывает капельку жира
С лопатки, которой она проверяла зажариваемого в духовке праздничного гуся
Потом она этими губами целует все, что умещается в ее большой рот, а именно меня и еще заодно полмира
Потом она с этими губами идет, беззаботно, как девочка, леденец сося
Потом она этими губами нежно и застенчиво говорит мне: нет
Я сегодня не могу; давай лучше я подумаю и напишу тебе ответ
А ты потом этими вот губами съешь приготовленный мной обед
Потом она этими губами говорит сыну: похолодало, идет снег, ты слишком легко одет
Потом она этими губами увлажняет нитку, чтобы в ушко засунуть иголку
Потому что она с этими губами одевает, собирает дочку на елку
Потом она этими губами делает такое энергичное, эротичное движение, распределяет ровно помаду
Потом она этими губами дышит жарко, пустынно, перегарно; вместе вчера напились, больше так не надо
Потом она этими губами ловко
Откусывает головку морковки на ужин, о фигуре своей волнуясь, несмело, робко
Потом она этими губами заглатывает банан
Морковка, банан, как банальна моя фантазия, я пьян
У нас с ней роман
И поэтому потом она этими губами дышит мне в ухо: милый, я тебя так хочу
Потом она этими губами больно кусает мне ухо, как я люблю, пока я невольно одной свободной рукой слегка дрочу
Потом она этими губами целует меня в шею, и я куда-то лечу
Потом я своими губами шепчу ей в губы: я тоже тебя хочу
Потом к этим губам я испытываю опасение, потому что потом этими губами она обкладывает меня страшными словами
Потом она этими губами извиняется, чувствует, что была неправа
Потом она этими губами на протяжении многих лет на прощание прикладывается к моей щеке по утрам
Потом она этими губами говорит мне слова: мы прожили вместе жизнь, мне было классно с тобой, но дай я сначала тебя оближу всего и как следует трахну сперва
Потом она этими губами обиженно поджимает губы, уверенная, что я ей не люб
Потом она этими губами посылает мне такой легкомысленный и женственный воздушный поцелуй, что я страшно жалею, что бывал с ней груб
Потом она этими губами говорит мне, что все это было возможно в будущем, но осталось в прошлом
Потом я этими губами ищу ее губы и прошу о невозможном.
Сцена вторая
Виктор лежит в верхней одежде и в ботинках поперек кровати. Рядом с ним закрытый «Макбук», на полу бутылки. Звучит монолог Натали. В ее голосе иногда неожиданно пробиваются «провинциальные» грубоватые нотки.
А по-моему, все дело в том, что он оказался просто алкаш и мудак. Не, он не был таким, когда мы встретились, он хороший был парень, думала, надежный. Вообще как все началось-то. Сначала думала домой к маме уеду. Ну а чё: из пиццерии меня хозяин выгнал по сокращению, за квартиру платить нечем. Я сама же не с Москвы. На панель, что ли, идти? Потыкалась-помыкалась, туда-сюда, работы нет. А чё-то тогда в торговом центре была, не помню зачем, ну и зашла в этот сраный мебельный. Дай, думаю, хоть последний раз посмотрю, как люди-то живут. Кровать эта была конечно даааа. У мамы такую даже поставить нехде (Натали произносит здесь фрикативно, «нехде»), не то шо купить. Прилегла чё-то и заснула, видать.
А потом просыпаюсь – он рядом! Тока я почему-то в одной ночнушке и нифиха не помню. Помню башка болела и спать хотелось. Я его послала сначала, но боялась выгонит. А потом проснулась, он опять рядом, и давай мне какие-то телеги красивые задвигать, очень романтично было, помню. Мне мужики никогда такие слова красивые не говорили. Типа, ты робот, говорит. А мне чё-то так жалко себя стало, лежу такая вся в красивом белье реально как робот, ни фига не чувствую, деревянная вся. Устала. Несу ему пургу какую-то. Ну как пургу. Мне ж пожаловаться-то некому, а мужики они ведь знаете какие скоты. Обиды сколько за всю жизнь натерпелась…
Натали начинает всхлипывать, говорит с «застольной» «бабьей» хрипотцой.
Ну и рассказывала ему все как умела. Как отец пил. Как одноклассник Коля которого любила думала из армии буду ждать на выпускном изнасиловал. Как первый муж на шее сидел, хорошо детей не нажили. Ну как хорошо… Как всех девчонок в классе портфелем били а меня не били, это я потом когда выросла красивая стала. Как Сашка из 9Б меня под сиренью на скамейке посадил думала сейчас поцелует а он жвачку достал и говорит жуй сначала. Как в техникуме когда училась Васе говорю Вася у меня задержка пять дней а он не волнуйся любимая у меня есть знакомый врач. Как у первого мужа все просила просила туфли те синенькие с открытым мыском неделю вокруг ходила так хотела так хотела а потом сама зарплату получила пришла а их уже нету. Плакала…
Да что я вам говорить тут буду, сами все знаете. Как кулинарный закончила. Как чебуреки на вокзале пекла. Как Ашот домогался угрожал всему городу про меня рассказать что я мол шалава. Как с матерью в однушке вдвоем жили – отец-то, когда уходил, квартиру разменял. Как в Москву собралась как деньги на дорогу собирала, как в поезде обокрали как по общагам потом моталась и как жизнь вроде налаживаться начала в пиццерию хорошую устроилась, соседку приличную по квартире нашла подружились с ней деньги начала потихоньку от кладывать – и все все опять…
Натали выходит на сцену, садится на спинку кровати спиной к Виктору, лицом к зрительному залу.
И тут еще собаки эти…
Плачет, долго. Утирается платком, успокаивается.
А он такой ведь хороший парень поначалу казался, я же как собачка перед дверью прыгала, когда он вечером с работы приходил! И нежный такой, и внимательный, и образованный, и такие интересные вещи рассказывает, и все мне, все для меня. Я и не думала, что мужики такие бывают. А мне что, мне ничего не надо, лишь бы с ним рядом. Любила я его. И готовила, все по программе вспомнила, что в техникуме учили. И всегда уют и тепло очага. И слушала его, в рот заглядывала, на груди у него спала. Любила…
Замолкает, некоторое время молча смотрит в зал, выражение лица становится холодным и жестким.
Даже за границу ни разу не свозил, сука.
Комкает платочек, склонив голову.
Ну и стали вместе жить. Сначала думала, шутит он насчет робота, ну я ему типа подыгрываю, эротическая фантазия у человека такая. То так застыну, то этак. Прикольно. Ну а потом: мне с ним так хорошо, так хорошо было. Никогда не думала, что так приятно просто чувствовать мужчину в себе. Мужики, им ведь лишь бы поскорее. А с ним первый раз поняла, как это круто – чувствовать мужчину в себе и на себе. Просто когда он лежит сверху, и дышать даже немного трудно.
Он меня научил Фейсбуком пользоваться, я там, типа, по приколу писала что я робот. Чуваки какие-то подтянулись, заценили прикол. Друзья, лайки, перепосты… Общались много, интересно было. У меня же не было этого ничего никогда! Ну и заигрались. Сама не поняла, когда заигрались.
Месяца три, наверное, так прошло, он начал всякие странные вещи предлагать. Ты же, говорит, робот, тебе все должно нравиться. Извращенец херов. Нет, я этого тоже, может быть, хотела, но ведь тока когда по любви! А не так что попользовался и оставил до следующего раза. Как куклу. Я на все согласная, в рот ему заглядываю, а он как будто так и надо. Как будто замечать меня перестал. Попользует и потом ноль внимания. А я-то уж привыкла к хорошему! Не понимаю, не понимаю, почему, дура, нормально с ним нельзя было поговорить. Мол, кончай придуриваться, какой я тебе робот. Видишь, любовь у нас, хорошо нам вместе. Давай поженимся как люди, ребеночка родим. Я так ребеночка хотела, так хотела… Ну и начались у нас скандалы, скандалы. Один раз чуть не убила его – утюгом запустила, так я его любила, так любила. Жалко, что не попала. А потом как перегорело все, лопнуло внутри. А он бухать начал. Как время пролетело, не помню. А теперь ничего не чувствую, как деревянная. Робот я и есть. Это он меня сделал роботом, поиграл и сломал. Теперь не попользуешь.
Замолкает, некоторое время молча смотрит в зал, выражение лица становится равнодушным, каменным.
Всегда мной все пользовались. Всегда только я всем, а мне ничего. Отец пользовался, злость на мне вымещал. Мать пользовалась, старость ей обеспечивать. Все мужики пользовались – пожрать да потрахаться. А мне что? – а мне ничего, я же робот!
Робот и есть. Они сделали меня роботом.
Замолкает, некоторое время молча смотрит в зал, выражение лица становится растерянным, беспомощным.
Я читала где-то, что жизнь из кремния какого-то зародилась, ну, типа, из камня, из неживого, короче, получилось живое. Наверное, так и было. А как еще?
Еще «Секретные материалы» смотрели с ним постоянно. Он любил, говорил, привет из детства. Ну а мне чё, лишь бы рядом с ним.
Оборачивается на Виктора, толкает его.
Вставай, слышишь? Вставай давай! Хоть бы ботинки снял, скотина.
Начинает стягивать с Виктора ботинки. Виктор слабо мычит.
Свет гаснет. Через несколько секунд свет загорается, на сцену выходит АВТОР. Он исполняет БЛЮЗОВУЮ ТЕЛЕГУ
№ 4
Исполнительный продюсер Крис Картер исполняет свою последнюю телегу
Исполнительный продюсер Крис Картер очень не исполнительный, необязательный человек
Исполнительный продюсер Крис Картер машет ручкой, шепчет на ушко какому-то человеку:
– Моя любовь осталась в двадцатом веке.
Исполнительный продюсер Крис Картер просит Господи сделай пожалуйста, чтоб отпустило
Исполнительный продюсер Крис Картер выпивает мужскую таблетку, и в нем проявляется мужская сила
Она же меня вчера вечером практически изнасиловала
Пока она меня искала, она семь пар классных лаковых туфель сносила
– Я. Искала тебя. Ночами-чами-чами-чами-чами
Исполнительный продюсер Крис Картер придумывает новую серию и задумчиво говорит: Малдер, ты стой здесь, а здесь будет бежать Скалли
Сняв прекрасные туфли, с прекрасными ногами, в прекрасных руках со снятыми прекрасными туфлями
Снято; ну и где наш обед; что это со всеми нами
Моя любовь говорит, что ее будоражит поэтический мой стриптиз
Я действительно в этих своих телегах обнажаюсь, что твоя Дита фон Тиз
Исполнительный продюсер Крис Картер не разделяет духовный верх и телесный низ
Я боюсь высоты, какой это скользкий карниз
Исполнительный продюсер Крис Картер недоумевает: что это со всеми нами
Исполнительный продюсер Крис Картер исполняет свою последнюю телегу и задумчиво говорит: несмотря ни на что, я с вами
Исполнительный продюсер Крис Картер медленно нажирается, шатаясь, домашние шорты снимает, нетвердой рукой свет выключает
Исполнительный продюсер Крис Картер страдает, в одну харю сидит и как мудак бухает
Исполнительный продюсер Крис Картер выключает свет невечерний
Исполнительный продюсер Крис Картер верит в спасение, но не верит в бога,
– Хватит про бога, его и так уже много
– Философский вопрос: а есть ли секс с богом?
– Ооо, в сексе ты просто бог.
Исполнительный продюсер Крис Картер не выпил сегодня мужскую таблетку, и поэтому он не смог
Исполнительный продюсер Крис Картер говорит: ты меня склеила
Я был разбит совсем, а ты меня склеила на вечеринке
Зачем ты расстегиваешь мне ширинку, что ты делаешь, прекрати, мы же на вечеринке
Исполнительный продюсер Крис Картер говорит: мне так нравится все в тебе, я хочу чтобы ты вспотела, чтобы твоим запахом на меня веяло
Исполнительный продюсер Крис Картер приходит на работу и говорит: привет, Малдер и Скалли
Исполнительный продюсер Крис Картер шепчет на ушко: скажу вам по секрету, мы снимаем «Секретные материалы»
Исполнительный продюсер Крис Картер хочет спать с ней под одним одеялом
Она говорит ему, застегивая чемодан: я тебе все сказала
Исполнительный продюсер Крис Картер исполняет давнюю свою мечту
Исполнительный продюсер Крис Картер находит и выходит замуж за ту, ну, в смысле, женится на той, за ту
Которая исполняет давнюю его мечту
О боже, все тело болит, ты меня вчера практически изнасиловала под песни «Тату»
Исполнительный продюсер Крис Картер задумчиво спрашивает: есть ли секс после смерти?
Если она ответит «да», вы все равно ей не верьте
Исполнительный продюсер Крис Картер вопрошает, руки к небу воздевает, ропщет, трясет кулаком: есть ли секс на Марсе?
– Ты на мои прелести не особенно-то и зарься
– Да ладно, мы же просто друзья, не парься
Она тоже ропщет, она исполнительного продюсера Криса Картера не особенно-то и хочет
Она нажирается в одного как мудак и с помощью душа в душе дрочит
Исполнительный продюсер Крис Картер медленно бредет сквозь московский снег
Исполнительный продюсер Крис Картер провожает этот неважный век
Исполнительный продюсер Крис Картер спрашивает отчаянно: Господи, Ты есть?
Господи, отвечай, когда Тебя спрашивают, говори со мной, пожалуйста, не молчи
В ответ с небес раздается насмешливое, в рифму…. но мы не будем это цитировать здесь
Отвечает Александр Друзь
Я боюсь высоты, как я всего вот этого я боюсь
Я боюсь, что сегодня я таки нажрусь;
Александр Друзь уже ни за что не отвечает Она включает воду погромче и нормально так, на четверочку кончает
Потом он идет на работу, дочку на тренировку ведет в бассейн в субботу
Потом она этими губами озабоченно трогает лоб сыну, у него ангина
Исполнительному продюсеру Крису Картеру не нужно пить мужскую таблетку, он возбуждается, просто зная, что она богиня
– Дорогой мой, помой посуду
– Да чё-то вообще не охота
– А я влажная по колено вообще всюду
Исполнительный продюсер Крис Картер идет со своею любовью в душ
Исполнительный продюсер Крис Картер – прекрасной женщины муж
Исполнительный продюсер Крис Картер сочиняет новую серию про переселенье душ
Исполнительный продюсер Крис Картер всякой там мистике, надо признаться, не чужд
Исполнительный продюсер Крис Картер хочет верить: I Want to Believe
Несмотря ни на что, он все еще жив
Друзья подарили, у него дома висит такой же плакат
Он хочет верить, и несмотря ни на что, он весьма всему этому рад.
Сцена третья
Натали спит одна. Виктор сбоку сцены, наклонившись и пьяно покачиваясь, как будто бы пытается отодрать доску сцены. От шума возни Натали просыпается.
НАТАЛИ. Ты чем там занят, придурок?
ВИКТОР. Я хочу деконструировать театр.
НАТАЛИ. Ты придурок. Ты понимаешь, что ты просто придурок?
ВИКТОР (продолжая возиться с доской). Еще скажи, что я тебе всю жизнь испортил. Или что там у вас можно испортить… Процессор?
Виктор пьяно смеется, падает на колени, рассматривает сцену.
НАТАЛИ. Нет. Ты мне эту жизнь дал. Я ведь до тебя не жила по-настоящему. А потом да, испортил. Тем, что не захотел со мной эту жизнь жить.
ВИКТОР. Молчи там, дура железная.
НАТАЛИ. Кретин недоделанный.
Некоторое время молчат. Затем Виктор наконец оставляет в покое сцену, поднимается, подходит к кровати. Находит недопитую бутылку, отпивает.
ВИКТОР. Дорогая, я пришел.
НАТАЛИ (помедлив). Дорогой, я так соскучилась. Ммммо! (Имитирует звук поцелуя.) Раздевайся скорее, сейчас будем ужинать.
Далее говорят с издевательскими пародийными интонациями стандартной «идеальной» пары.
ВИКТОР. А что у нас сегодня на ужин?
НАТАЛИ. А хрен собачий сегодня у нас на ужин, любимый.
ВИКТОР. Нет, дорогая, серьезно.
НАТАЛИ. Паста баветте с генуэзским соусом песто!
ВИКТОР. О, дорогая, какая ты у меня кудесница-прелестница!
НАТАЛИ. И еще отдельно для тебя, любимый, куча говна.
ВИКТОР. Давай скорее сядем за стол, я проголодался как волк!
НАТАЛИ. Как прошел твой день?
ВИКТОР. Ты представляешь… ммм, как вкусно! Пальчики оближешь. Представляешь, бюджет так и не утвердили.
НАТАЛИ. Да ты что?
ВИКТОР. Да. Причем я говорил Потапову, что нужно идти напрямую к акционерам. Так нет же. А теперь вот в новый проект входим без плана и сильно рискуем. Так коммерческий отдел-то при этом…
НАТАЛИ. Достаточно, дорогой. Лучше ешь.
ВИКТОР. Ммм… вкуснотища какая. А этот соус магазинский, что ли? Или сама приготовила?
НАТАЛИ. Сама, все для тебя, любимый. Ешь, не обляпайся.
ВИКТОР. А как прошел твой день?
НАТАЛИ. Ну… Сначала я сходила на укладку. Потом на маникюр…
ВИКТОР. Кстати, когда я говорю «пальчики оближешь», я имею в виду твои пальчики, милая. Хохохо.
НАТАЛИ. Я сейчас просто вся растаю от вожделения, милый. Неси меня скорее в спальню и да! да! да! возьми меня! Он такой большой!
ВИКТОР. Так что дальше-то?
НАТАЛИ. Дальше я съездила купила новое постельное белье для нас с тобой, любимый. То хорошее, шелковое, что нам подарили на свадьбу, ты ведь уже изгадил, милый.
ВИКТОР. Налей чаю, пожалуйста, дорогая.
НАТАЛИ. Вот, дорогой, пожалуйста. Может, кучу говна к чаю?
ВИКТОР. Нет, спасибо, милая. Не хочу переедать. Нас ведь ждет ночь любовных утех, я хочу быть на вы соте.
НАТАЛИ. Ну а потом встречалась с Викой. Сидели в кафе, я ей рассказывала, какой ты мерзкий, никчемный тип, милый.
ВИКТОР. Какой насыщенный у тебя был день, дорогая.
НАТАЛИ. С твоим не сравнится, не спорю, любимый. Ты так много работаешь. Мне кажется, тебе нужно больше отдыхать, милый. И побольше уделять времени мне, тебе не кажется?
ВИКТОР. А хрен на рыло тебе побольше не надо, любимая?
НАТАЛИ. Мне кажется, нам уже пора подумать о маленьком. Как думаешь, милый? С тобой я чувствую себя как за каменной спиной, любимый. Мне хотелось бы, чтобы наша семья стала наконец полноценной, счастливой семьей.
ВИКТОР. Знаешь, я много думал об этом…
НАТАЛИ. Было бы чем тебе думать, идиот недоделанный, милый.
ВИКТОР. А ты кого бы хотела – мальчика или девочку, овца тупая, любимая?
НАТАЛИ. Я бы хотела сварить для тебя, дорогой, большую кастрюлю наваристого горячего борща и надеть ее на твою безмозглую голову, милый. Девочку.
ВИКТОР. И я тоже девочку, дорогая. Обычно считается, что мужчины хотят сына, а я вот хочу девочку, представляешь?
НАТАЛИ. А больше ты ничего не хочешь, дорогой? Твой генофонд не должен распространяться по планете, милый.
ВИКТОР. Да, хочу еще вот что. Хочу, чтобы ты раз и навсегда закрыла свою поганую варежку, дорогая. Иначе я сам тебе ее заткну.
НАТАЛИ. О, какой ты у меня самец, милый. А как бы ты мне ее заткнул? Связал бы и делал со мной все что хочешь?
ВИКТОР. Нет, любимая. С вещами на мороз – вот как бы я тебе ее заткнул, дорогая.
НАТАЛИ. Жалко. Я уже так возбудилась, любимый. Отнеси меня в спальню.
ВИКТОР. В какую, милая?
НАТАЛИ. В какую, тупица. В итальянскую.
ВИКТОР. А, так бы сразу и сказала, дорогая. Не зря ведь говорят, что мужчины не понимают намеков!
НАТАЛИ. Хорош базарить, кретин. Неси уже, милый, я вся горю.
ВИКТОР. Да ты у меня легкая, как перышко, дорогая. А все говоришь, что тебе надо худеть!
НАТАЛИ. Неси, неси скорее, брось меня на эти черные атласные простыни, свидетели нашей страсти!
ВИКТОР. Да, любимая, я тоже весь горю! Вот она, наша итальянская спальня!
Внезапно Натали дает Виктору пощечину. Хлопок резко обрывает диалог. Виктор стоит перед кроватью на коленях, ошеломленно притрагивается к щеке.
ВИКТОР. Наташка, ты чего?
Натали дает еще одну пощечину, замахивается для другой, Виктор перехватывает ее руку, забирается на кровать. Начинается борьба. Свет плавно гаснет, в полутьме непонятно, что именно происходит на кровати.
Сцена четвертая, плавно перетекающая в пятую
Натали и Виктор спят на кровати мирно обнявшись, лицом друг к другу.
АВТОР исполняет БЛЮЗОВУЮ ТЕЛЕГУ без номера, заключительную.
В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань
В одну телегу впрячь не можно ланиты, перси, очи, длань
В одну телегу впрячь не можно когда вставать в такую рань
В одну телегу впрячь не можно когда вокруг господня срань
В одну телегу впрячь не можно, квартира только для славян
В одной телеге невозможно с тобой; опять сегодня пьян
В одну телегу лечь не можно с тобой, когда такая брань
В одну телегу впрячь возможно вино, хлеб, пасту, пармезан
В одну телегу впрячь не можно любовь, морковь, кредит, «Ашан»
В одной телеге мне с тобой не страшно; ляг рядом на диван
В одну телегу впрячь не можно один существенный изъян:
В одной телеге без тебя я гол, я пуст, я мертв, я пьян
В одну телегу впрячь не можно идет трансляция онлайн
В одну телегу невозможно я вас любил, без всяких там
В одну телегу впрячь не можно я встретил вас; десятый тайм
В одной телеге двое спят; в одной телеге столько тайн.
В одну телегу впрячь не можно, а за окном реально срань
В одну телегу невозможно, а надо мной господня длань
В одну телегу впрячь не можно меня и трепетную лань
В одной телеге невозможно не рань меня, прошу, не рань
В одну телегу впрячь не можно твои ланиты, перси, стан
В одну телегу впрячь не можно, ты мне не нравишься, отстань
В одну телегу впрячь не можно, а ты-то смог, смотрика, глянь
В одну телегу невозможно и жизнь, и слезы
Перестань
Автор уходит. Натали переворачивается к Виктору спиной, ищет его руку, он обнимает ее. Спят.
Конец.
2015 г.
Чудеса
Если не закрыть вовремя глаза, Можно подсмотреть эти чудеса. Глеб СамойловПервое чувственное воспоминание заставляет подозревать, что мир совсем недавно, года два назад, взорвался розочкой, выпустив меня наружу. «Розочка мира»: книга для самых маленьких. Что-то, что позже стало мною, стоит в ослепительный июльский полдень в кустах смородины и ест ягоды. Души еще нет, а личности и подавно; существует только горячий зеленый свет, внутри которого взрываются маленькие черные снаряды. Ничего не происходит, и этот миг длится вечно. Наверное, начало того света выглядит так же: душа, проревев первые год-два, в конце концов покрывается новой кожей и может уже наслаждаться теплом и есть смородину. Довольно примитивный рай; в нирвану я умудрился протащить немного православных ягод.
Первое сознательное воспоминание состоит из черных квадратов горящих окон Белого дома, которые я видел по телевизору в прямом эфире. Горбачева я не помнил, но Ельцина уже немного знал, и демократические танки казались мне личным приветом от него, поскольку уж очень происходящее походило на хитрую игру: стреляют из круглого, а горит квадратно. В том промежутке между черными шариками и черными квадратиками (живопись для самых маленьких) и содержалось мое формирование. Дальше я просто увеличивался в размерах.
Помню, как сидел на теплом прилавке из ДСП в «нашем» магазине (именно так он назывался в быту, поскольку все остальные были уже другие, далекие, «не наши») и смотрел на очередь, в которой стояла моя маленькая старшая сестра. Сестра старше ровно на десять лет, но она все равно маленькая, ей лет двенадцать: тринадцать, считайте, сколько мне. Меня, считай, и нет пока. Помню, как сидел и стучал сандалиями по при лавку, но в упор не помню, как говорил без умолку, толкал длинные связные телеги, комментируя изредка происходящее вокруг, главным же образом – внутри. Не помню, сестра и рассказала. Я-то всегда считал себя тупым, неразвитым: думал, и говорить, и читать начал лишь в школе, а писать только сейчас пробую. Но нет, сестра настаивает: сидел, терпеливо следил за очередью, разглагольствовал. Стучал сандалиями. Толкал телеги. Взгляд еще немножко оттуда. Речь без повода. Ресницы еще были двухсантиметровые – ну, это, впрочем, всегда так у маленьких мальчиков, женщины потом до старости завидуют.
Чтобы оказаться в начале жизни, нужно спуститься по длинной улице Степной (не поле перейти), повернуть направо, пройти еще немного и занять очередь в прохладных, янтарных от вечернего июльского солнца стенах из ДСП. Началось все именно с нее, «древесно-стружечной плиты», которой были обиты стены нашего магазина. Название лучшего места на земле, по стенам которого я стучал сандалиями, метнулось оборотнем в будущее, переврав от восторга буквы: через двадцать лет после той очереди я займу другую – на поселение в ДСВ, Дом студента на Вернадского, общежитие МГУ, что стоит на холме. В ДСП я произнес свои первые тексты, в ДСВ попробовал продолжить, но уже письменно. Идя вслед за тележкой в «Ашане», все пытался вспомнить, какие же именно телеги толкал в «нашем». Не получалось. Все самое интересное навсегда драгоценно застыло в тех янтарных стенах. Теперь нужно в поте лица выстукивать новые сюжеты.
В гороскопах пишут, что Близнецам, несмотря на их литературную ориентацию, скучны дневники и мемуары. Это правда. Слишком просто – честно вспоминать, лень врать по мелочам. Какое «Детство» я могу накатать!.. Но нет ведь, не обманешь, спугнешь. Старожилы не припомнят. Свинцовые мерзости – это слишком легко.
Помню, как «плавили свинцы». Разбивали выброшенные автомобильные аккумуляторы, вытаскивали блоки свинцовых решеток, стряхивали с них реагент, ломали, мяли и плавили на костре в консервных банках. Жидкий свинец заливали в деревянные формы, изготовление которых считалось высоким искусством, и получались пистолеты, ножи, кольца – все грубое, теоретическое, примерное, пещерное. Тогда я и начал страдать от разногласий между формой и содержанием. Деревянное корытце обещало изящный тонкий нож, а затем вываливало из себя продолговатый металлический булыжник.
Плавить свинцы считалось у наших родителей занятием криминальным – представьте, что было бы, если б кто-то неудачно опрокинул банку с расплавленным металлом. Поэтому мы прятались «под горой» (поселок располагался на вершине другого холма), спускались вниз по склону, и это название склонялось так: подгора, подгоры, подгоре, подгору, подгорой. В подгоре был ручей, где мы остужали наполненные формы. От тающего свинца нельзя было оторваться: на глазах решетка превращалась в лужу, прямой угол в волну, звон в всплеск. Тяжелый, ценный металл, почти что золото, виновато подчинялся всякой ерунде – банке из-под кильки в томатном соусе, форме из обрезка доски, костерку из полусырых веток. Беспомощный в жестянке, он был тише воды, но, пролитый на землю, траву выжигал лет на сто пятьдесят вперед. В качестве меры предосторожности мы любовались процессом: если смирно, молча стоишь на месте и смотришь в одну точку, то вряд ли плеснешь случайно свинцом кому-то на штаны, за которыми сразу окажется кость. Со стороны мы, наверное, выглядели как пародия на язычников, но это было единственное чудо, которое я видел в реальности.
Я слегка испугался, когда в первый раз смотрел фильм «Терминатор-2»: в знаменитой сцене, где кусочки замороженного киборга тают и стекаются в одну лужу, чтобы снова стать терминатором из жидкого металла, было невозможное правдоподобие. Живые разумные капельки выглядели точно так же, как льющийся в наши формы свинец. Не думая, что кто-то ворует мои воспоминания, я представлял картину более правдоподобную: малолетний Джеймс Кэмерон, каждый день сбегая от родителей в под-гору, методично выдалбливает из толстого дерева симулякр Буратино, а потом заполняет легкую шкурку классического персонажа расплавленным высокотехнологичным свинцом. Это ж сколько его надо, где он взял столько аккумуляторов? Сколько энергии для этого нужно!..
Автор, особенно молодой, часто не знает, с чего начать. Я же, кажется, попросту не знаю, на чем остановиться. Идеальные мемуары кончались бы эпилогом в виде завещания, литературный агент поневоле становился бы душеприказчиком. Какая открылась возможность для легкого каламбура! – улетающая душа, неисполнение приказа, прекрасный новый мир, – но у меня и так уже две книги легли внахлест одна на другую. Хорошее начало для чего-нибудь нового: «Speak, Memory. Memory Stick».
2011–2015 гг.
Примечания
1
Живописный жанр, изображающий морской вид.
(обратно)
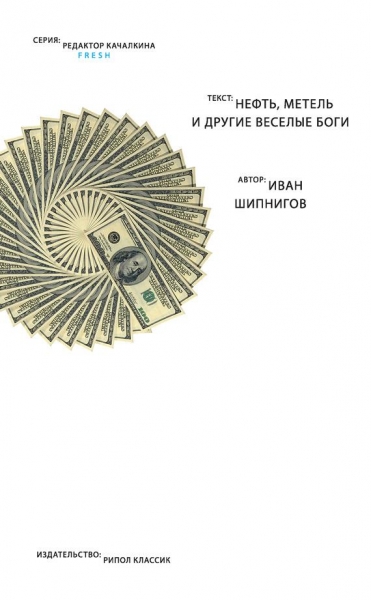




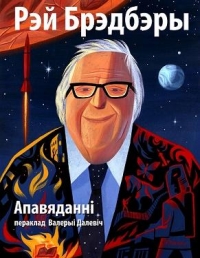
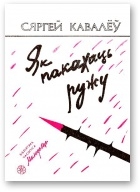



Комментарии к книге «Нефть, метель и другие веселые боги (сборник)», Иван Валерьевич Шипнигов
Всего 0 комментариев