Борис Шапиро-Тулин История одной большой любви, или Бобруйск forever (сборник)
© Шапиро-Тулин Б., текст, 2016
© Соркин М., иллюстрации в тексте, 2016
© Жижица А., иллюстрация на переплете, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Предисловие
«При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас». Это цитата из романа «Золотой теленок». Видимо, Ильф и Петров знали нечто такое о тайных сторонах жизни вожделенного Бобруйска, что не зря упомянули его, описывая сборище блудных «детей лейтенанта Шмидта».
Сегодня благодаря героям книги «История одной большой любви, или Бобруйск forever» у нас появилась уникальная возможность приоткрыть таинственную завесу и оказаться в самой сердцевине страстей, переживаемых жителями этого, как бы помягче сказать, непростого города. Недаром автор книги Борис Шапиро-Тулин однажды с иронией заметил, что, согласно версии местных обывателей, люди произошли от Адама и Евы с одной существенной поправкой: вначале от этой парочки произошли исключительно будущие жители Бобруйска, а потом уже все остальное население Земли. Может быть, поэтому каждый вновь появившийся на свет бобруйчанин твердо убежден, что большинство мировых знаменитостей каким-то мистическим образом прямо или косвенно связаны с его родным городом.
Не знаю, как насчет всех знаменитостей, но замечательный писатель Шолом-Алейхем точно побывал в Бобруйске, где основательно испачкал обувь, пробираясь через легендарное болото на центральной улице, зато, по его словам, обрел место в загробном мире, которое обещала ему одна юная почитательница в знак благодарности за то, что без билета он провел ее на свой литературный вечер.
Заманчиво предположить, что, побродив по бобруйским закоулкам и насмотревшись на колоритные картинки местной жизни, именно здесь Шолом-Алейхем произнес свою крылатую фразу: «Каждый человек может быть писателем, тем более еврейским. Бери перо и пиши!»
Борис Шапиро-Тулин последовал совету своего великого предшественника – взял перо и написал. Написал, мастерски воссоздав атмосферу неиссякаемого «исторического оптимизма», царящего в городе, который кратко можно определить как «смех сквозь слезы».
Уверен, что читателя, открывшего книгу «История одной большой любви, или Бобруйск forever», ждет увлекательное погружение в то не так уж далеко отстающее от нас прошлое, куда погрузиться без точно выверенной авторской навигации было бы непростительной ошибкой.
Геннадий ХазановМоей любимой, без которой не было бы этой книги
Вместо предисловия
Бобруйск – это не только ставни, заборы, столбы, антенны на крышах, асфальт и булыжник, не только заводские корпуса и чадящие автомобили, не только клекот голубей, гудки паровозов, нежные слова и проклятия, музыка из окон ресторана и тишина по утрам в воскресенье. Нет, не только.
Бобруйск – это больше, чем сгрудившиеся дома, облезшие обои, затемненные спальни, тикающие часы и хлопанье выстиранного белья на ветру. Бобруйск – это еще и заросли жасмина по берегам Березины, это весенние яблони и поздние цветы в палисадниках, это луга, обласканные ветром, и таинственное безмолвие в заповедной дубовой роще.
А еще Бобруйск – это безумные соловьи, оглушающие своими трелями два кладбища по обеим сторонам автомобильной дороги. Два кладбища – православное с крестами и красными звездами на обелисках и иудейское с каменными надгробиями и точно такими же звездами и обелисками. А безумные соловьи весенними ночами, усевшись на кладбищенских кустах, путают жизнь со смертью и выплескивают коленца мелодий, в которых живые просят покоя и забвения, а мертвые требуют покаяния и мести.
Бобруйск – это портные, сапожники, кровельщики, работяги в промасленных робах, музыканты с тонкими пальцами, торговки, подслеповатые старики, художники в мастерских, загнанных в подвалы, и, конечно, женщины. Женщины с потрясающей походкой, с загорелыми руками, с вызовом в глазах. Ах, эти женщины! Луна, повисшая над городом, дурманит их своим светом, делает влажными их губы, распускает волосы, открывает ноги, обольщает и обещает. И женщины, переполненные лунной нежностью, щедро дарят ее, дарят без остатка, дарят, растворяя в ней наше одиночество и наши страхи.
Бобруйск – это наша надежда вернуться. Вернуться туда, где нас одурманил этот город своими звуками и запахами. Где река Березина обволокла своими утренними туманами, своей тоской, своей неизбывной тягой в неведомое. И мы, поддавшись этой тоске и этой тяге, рванулись вперед, чтобы уйти, уехать, улететь, разбрестись по городам и странам, а потом вернуться в смиренном покаянии к этой реке, к ее отмелям и берегам, заросшим осокой и камышами. Вернуться к нашему городу, затеряться меж его домов и домишек, меж ночных фонарей и утренних голосов. Раствориться среди мерцания его окон и магазинных витрин, среди слез и любовных вскриков, среди запахов сирени, наплывающих с окраин, и среди запаха дыма, столбами поднимающегося из печных труб, и, конечно, среди его осени, среди запаха влажной земли и пожухлых листьев.
Бобруйск – это строгость прямых улиц, уходящих в бесконечность.
Бобруйск – это родина, это земля под ногами, это небо над головой.
Бобруйск – это вечное возвращение.
Подобно Иерусалиму небесному, который является копией Иерусалима земного, да, подобно ему, существует где-то в глубинах вселенной небесный Бобруйск – точная копия города, который мы когда-то знали и в который однажды вернемся. А перед входом в этот небесный город, перед самым входом в него, перед входом, украшенным затейливым орнаментом, кто-то любовно поместил указатель: сверху его белой краской на синем фоне выведено – БОБРУЙСК НАВСЕГДА, а чуть пониже – синей краской на белом фоне – BOBRUISK FOREVER.
Фортепьяно
Музыкальная школа в городе Бобруйске это вам не просто так. Более того, это совсем не просто так. И даже совсем, совсем. Музыкальная школа в Бобруйске – это туннель во времени и пространстве. Ты входишь в нее с облупившегося цементного крыльца, тянешь на себя тяжелую дубовую дверь с косо привинченной ручкой, а выходишь прямо на сцену нью-йоркского Карнеги-холла, парижской «Олимпии» или на худой конец Берлинской филармонии. И это невзирая на облупленное крыльцо и криво привинченную ручку. Какая разница, как ее привинтили, если на выходе у тебя беснующиеся от оваций залы, эвересты букетов и фотографии на обложках самых престижных журналов. За тобой гоняются корреспонденты мировых изданий, умоляют об интервью, а ты, развалившись в кресле с бокалом сухого мартини, говоришь, что всем лучшим в тебе ты обязан скромной музыкальной школе в городе Бобруйске. «Where is the Bobruisk?» – переглядываются озадаченные акулы пера. И ты, обидевшись, хочешь ответить как в детстве: «Где-где, в Караганде». Но это будет неправда – в Караганде нет Бобруйска. Бобруйск там, где ты его оставил, на берегу реки Березины, около заповедной дубовой рощи и на расстоянии нескольких десятков лет между тобой теперешним, купающимся в славе, и тем робким мальчиком на цементном крыльце, стоящим перед тяжелой входной дверью, которую надо было тянуть со всей силы, потому что тугая пружина, прикрепленная по другую ее сторону, отчаянно сопротивлялась, не желая впускать тебя в скрытое за ней будущее.
Никто не может сказать, почему так произошло, но между жителями города и его музыкальной школой существовала странная, не поддающаяся осмыслению связь. Школа, если хотите, была чем-то вроде мистического центра Бобруйска, местом, которое одни вожделели, желая оказаться среди счастливчиков, сумевших проникнуть за тяжелую дубовую дверь, другие же, вытянувшие заветный билет, начинали вскоре ненавидеть ее всеми фибрами своей юной души, пытаясь отсрочить или вообще отменить очередное и неизбежное с ней свидание. Туннель во времени и пространстве, находящийся внутри этого здания, был безжалостен к чувствам тех, кто оказался зажат между его шестеренками и колесиками. Он требовал неукоснительного подчинения своим бесчеловечным прихотям, то есть ежедневным и многочасовым упражнениям на инструменте, который судьба приготовила каждой его жертве.
Дорога к длинному серому зданию школы для одних казалась выстеленной лепестками роз, для других была полита слезами, а само здание не раз мысленно подвергалось сокрушающему удару ураганного ветра. Этот нафантазированный ураган сминал стены, разбивал окна и возносил на воздух рояли с болтающимися, как крылья, крышками, стаи скрипок и виолончелей, вылетавших гуськом за неповоротливым контрабасом, множество флейт и кларнетов, кувыркавшихся среди облаков, и даже толстую медную тубу, которая не могла взлететь высоко и потому болталась, раскачиваясь, на макушке ближайшего телеграфного столба.
Увы, но действительность упорно перечеркивала эти вожделенные мечты и раз за разом возвращала неудавшихся заклинателей ветра туда, где вместо захватывающих дух фантазий действовали суровые законы диалектического материализма. К тому же по иронии судьбы находилась эта школа не на улице Чайковского или, скажем, Мусоргского, а стояла она на улице Карла Маркса – одного из главных радетелей самого что ни есть материального материализма.
Портрет этого бородатого радетеля вкупе с портретом другого бородача – Фридриха Энгельса вывесили на видном месте напротив директорского кабинета, и я почти уверен – знаменитый анекдот про то, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – «не муж и жена, а четыре разных человека», родился в стенах именно этой школы. Вундеркинды на то и вундеркинды, чтобы, проведя долгие часы в душных, заполненных запахом канифоли классах, вырваться наконец на волю и придумать что-нибудь этакое.
Вряд ли кто-нибудь предполагал, что после водружения соответствующих портретов для почтительного их созерцания в музыкальной школе города Бобруйска могут начаться необратимые перемены. Но суровая действительность и здесь решила расставить все по своим местам.
Началось с того, что в святая святых исполнительского искусства, где ежедневно ковалась растущая смена Рихтерам, Ойстрахам, Гилельсам и далее по списку, назначили нового директора, бывшего майора госбезопасности, незадолго до того отправленного в отставку. Решающую роль в этом назначении сыграл, видимо, тот факт, что у нового директора была вполне себе созвучная должности фамилия – Дудка, а кроме того, все свои сентенции бывший майор начинал обычно со слов: «Как говаривал римский композитор Корсаков» – и лишь после такого глубокомысленного вступления доносил до слушателей очередную информацию про посещаемость, дисциплину и уровень политической подготовки вверенного ему коллектива.
Возможно, по приказу сверху, возможно, по собственной инициативе, а возможно, как утверждали недоброжелатели, вступив в сговор с мировыми знаменитостями, опасавшимися конкуренции с вундеркиндами из Бобруйска, но свою деятельность новый директор начал с того, что один за другим уволил всех педагогов с подозрительными фамилиями. Закончив эту очистительную процедуру, товарищ Дудка сразу же приступил к утверждению в школе атмосферы нового порядка, включающего благонадежность диезов и патриотизм бемолей, а потому затеял необходимую для подобных новаций генеральную перепланировку. Он разрушил стены классных комнат, растащил по углам громоздкие рояли, приволок бидоны с краской и мешки с цементом, отчего интеллигентный запах канифоли исчез вовсе. А когда испуганные преподаватели, протерев от известкового налета круглые винтовые стульчики, усаживали на них будущих виртуозов, он незаметно подкрадывался сзади и давал ценные педагогические советы.
– Какие проблемы? – спрашивал он, возникая внезапно у одного из инструментов.
– Да вот, – смущалась преподавательница, – Фимочка сегодня почему-то не попадает по нотам.
– Целиться надо тщательнее, – поучал майор в отставке, – а главное, как говаривал римский композитор Корсаков, не забывай при этом прикрывать один глаз.
Находились, конечно, зловредные энтузиасты, которые советы своего начальства подробно записывали, надеясь в будущем внести их в золотой фонд отечественной педагогики, но сделать этого, увы, не успели. Отставного майора посадили за хищение стройматериалов, часть из которых обнаружили вместо школы на его дачном участке, а потому упоминать о совместной работе с ним становилось делом опасным и даже имеющим определенную судебную перспективу.
Справедливости ради надо сказать, что чехарда с директорами музыкальной школы, начатая после ареста гражданина Дудки, никакого облегчения ее коллективу не принесла. Ремонт перешел в хроническую, вялотекущую стадию, и мировые знаменитости смогли вздохнуть спокойно, по крайней мере со стороны юных бобруйчан им ничего уже не угрожало.
Все эти изменения не могли, естественно, не сказаться на отношении жителей города к тому, что происходило за стенами длинного серого здания. Бобруйчане внезапно стали чувствовать ничем не объяснимый страх, стоило им оказаться рядом со школой. Дошло до того, что, если вдруг какой-нибудь припозднившийся прохожий вынужден был, скажем, весной после полуночи пройти мимо ее двери, он, как правило, перебегал на другую сторону и старался, трясясь от страха, как можно быстрее миновать это место.
Масла в огонь подливали жители дома напротив. Несчастливые цифры, черные кошки или пустые ведра – все это на поверку выходило детскими страшилками по сравнению с рассказами тех из них, кому удавалось заглянуть в темные, поблескивающие при луне окна.
А творилось за этими окнами нечто ужасное. Жалобно всхлипывали струны у какой-нибудь оставленной без присмотра виолончели, дробно, как зубы, постукивали клавиши у рояля, стоявшего в пустом и гулком актовом зале, аукался с кем-то рожок, выглядывавший из футляра, ударяли сами себя тарелки на старом барабане, приютившемся в конце длинного коридора. Странные силуэты в камзолах и при париках мелькали в окнах с дирижерскими палочками, а стоны детских душ, загубленных бесконечными гаммами и невыносимым сольфеджио, сливались в единый хор. Надо сказать, хор этот весенними ночами так донимал жителей соседних домов, что им постоянно приходилось защищаться от него при помощи проверенной в таких случаях продукции местного пивзавода имени XX партсъезда.
Самое интересное заключалось в том, что бутылки с этой продукцией, как и многое другое в городе, тоже имели непосредственную связь с музыкальной школой. В данном конкретном случае связь эту осуществлял главный технолог завода Семен Исаакович Левин. Он был нашим соседом, и я хорошо помню его сутулую фигуру и гриву разлетавшихся в разные стороны седых волос. Мой папа утверждал, что сосед наш как две капли воды походил на знаменитого ученого Альберта Эйнштейна и что, если бы Семена Исааковича учили, как Эйнштейна, играть на скрипке, он, может быть, тоже придумал какую-нибудь занятную теорию.
Но Семен Исаакович выбрал собственный путь. Он учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и при этом даже на фоне бобруйских вундеркиндов выделялся своими несомненными способностями. Правда, к его несчастью, местный НКВД пианистов почему-то не жаловал. Имея возможность выбирать из огромного количества поднадзорных граждан кого-нибудь одного на роль главного троцкиста города, он выбрал отца Семена, и юный музыкант вместо титула талантливого исполнителя в одночасье получил клеймо сына врага народа. Короче, мировой музыкальной общественности так и не удалось усладить слух виртуозной игрой маэстро Левина, зато пивзавод обрел в его лице главного технолога, ставшего на некоторое время предметом гордости истинных ценителей пенистого напитка.
Все в городе знали, что во время долгих часов работы над улучшением качества выпускаемой продукции Семен Исаакович запасался проигрывателем и набором пластинок с фортепьянными произведениями Шопена. Трепет, вызываемый в душе бывшего ученика музыкальной школы прелюдиями любимого композитора, таинственным образом проникал в создаваемую им рецептуру, отчего пресловутое качество поднималось до таких недосягаемых высот, что местные знатоки пришли к единодушному выводу – в пиво, сваренное по рецепту Семена Левина, водку можно было уже не добавлять.
С тех пор пиво «Жигулевское» – так оно именовалось раньше – получило негласное название «Форте-Пьяное», а заведение под вывеской «Пиво-Воды», где эту пенную жидкость качали из бочек прямо в бокалы страждущих, назвали «Левин в разливе», что благодаря некоторому созвучию с главным государственным именем придавало продукции пивзавода дополнительную идеологическую крепость.
Возможно, конечно, что без помощи «форте-пьяного» напитка мелькающие силуэты в окнах школы так бы никогда и не появились, но то, что голоса из этого здания весенними ночами действительно были слышны, за это я могу поручиться, находясь, как любят выражаться нотариусы, в трезвом уме и твердой памяти.
Дело в том, что ночные безобразия, так пугающие жителей города, напрямую соприкоснулись с моей личной историей. И хоть история эта была с определенным привкусом горечи, зато она имела подлинный мистический окрас, что так характерно, когда речь идет о длинном сером здании таинственной музыкальной школы.
А началось все с одного события, которое произошло в самом начале сентября. Этот день я запомнил, потому что выздоравливал после очередной ангины, и мама решила переместить меня из спальни в небольшой двор, в середине которого красовалась клумба с распустившимися георгинами, наполненными сочным бордовым цветом. Мама поставила раскладушку так, чтобы я мог любоваться этими цветами, и я оказался между почерневшей от времени бревенчатой стеной дома, приобретенного когда-то моим дедом, и старой развесистой яблоней, все еще хранившей на корявом стволе следы нанесенной по весне побелки.
День был теплый и тихий, листья на ветках яблони висели практически неподвижно, и солнечные лучи, пробившиеся сквозь них, желтыми пятнами медленно скользили по моему одеялу, по ступенькам чисто вымытого деревянного крыльца, по клумбе с бордовыми георгинами и по зеленой траве, которая курчавилась по бокам вытоптанной дорожки.
Я задремал и, наверное, даже уснул, но вскоре меня разбудил звук подъехавшей машины. Потом раздались чьи-то отрывистые голоса, потом заскрипела калитка, и во двор вошел отец, а за ним медленно протиснулось нечто странное. Это странное состояло из длинного и тяжелого ящика, замотанного в серую мешковину, и двух мужчин, одетых, несмотря на летнее еще тепло, в изрядно потрепанные телогрейки. На плечи обоих были наброшены широкие ремни, и длинный ящик, слегка покачиваясь, висел на них, ничем не выдавая ни тайную свою суть, ни цель своего перемещения под своды нашего дома.
Разгадка, впрочем, не заставила себя ждать. Когда грузчики удалились, а с ними исчез и стойкий запах перегара, который, как облако, окутывал их небритые физиономии, мне наконец позволили покинуть раскладушку и войти внутрь. То, что я увидел, стало для меня настоящим сюрпризом. В простенке между двумя окнами, сразу за обеденным столом, покрытым, как всегда, белоснежной льняной скатертью, рядом с тумбочкой, на которой размещался трофейный радиоприемник, возвышалось черное лакированное чудо. В центре этого чуда красовался небольшой барельеф какого-то господина в парике, и это было для меня так же неожиданно, как три желтые педали внизу и два медных подсвечника по краям. А когда папа повернул ключ в маленьком замке и откинул крышку, прикрывавшую клавиши, на ее внутренней стороне обнаружились, отсвечивая потускневшим золотом, буквы, составлявшие непонятное иностранное слово.
– «Бюхнер», – прочитала мама и добавила: – Это же здорово.
А папа вставил две белые свечки в медные подсвечники, поджег фитильки, достал из пачки «Беломора» папиросу, прикурил от ближайшего к нему огонька и сказал:
– Ну вот, теперь я спокоен.
Разговоры о том, что до войны отец посещал музыкальную школу и даже, как уверяли преподаватели, подавал большие надежды, шли в нашем доме постоянно. Но случилось так, что при форсировании какой-то реки со странным польским названием он получил тяжелую контузию и, как следствие этого, постоянный шум в голове. Справляться с ним он в конце концов научился и лишь досадовал на то, что зловредный шум не позволял ему улавливать тончайшие нюансы любимой музыки. После войны отец начал мечтать только об одном – подрастающий сын подхватит скрипичный ключ, выпавший из его рук, и сумеет стать достойным продолжателем музыкальной династии, которую заложил еще его дед. Фотография деда во фраке и за роялем, на фоне портрета Николая II, тайком хранилась в нашей семье как одна из самых ценных реликвий.
В общем, с раннего детства я настолько был готов к выполнению возложенной на меня почетной миссии, что, когда на нашем трофейном приемнике отец находил трансляцию какого-нибудь концерта, я брал палочку от подаренного мне барабана, становился посреди комнаты и начинал дирижировать невидимыми музыкантами так, как делал это капельмейстер на открытой веранде в центральном парке, когда там играл оркестр городской пожарной части.
В этот же день, когда грузчики принесли пианино, произошло еще одно событие. Мы готовились ко сну – мама стелила постели, я, с трудом дотягиваясь до умывальника, полоскал горло и чистил зубы, а папа крутил ручку настройки приемника, пытаясь поймать какой-то ускользающий от него радиоспектакль. И вдруг со стороны сеней мы услышали звуки, похожие на детский плач. Мама приоткрыла дверь, чтобы выглянуть наружу, и в образовавшийся проем тотчас же проскочила рыжая с белыми подпалинами кошка. Она стремглав пробежала вдоль комнаты, вскочила на приемник, с него ловко перебралась на самый верх пианино, бесцеремонно уселась там и начала вылизывать передние лапы.
Сказать, что после этого возникла требуемая по драматургии немая сцена, было бы, наверное, не совсем точно. Мама машинально продолжала выглядывать за дверь, словно там могли находиться еще несколько таких же наглых существ, я уронил в раковину коробку с зубным порошком, а папа от неожиданности вместо ручки настройки крутанул ручку громкости, и это в конце концов вернуло нас к реальности.
Все трое мы медленно подошли к инструменту и практически одновременно сказали: «Брысь!»
Кошка и ухом не повела. Она сменила позу, уютно улеглась, свернувшись калачиком, зевнула и только после этого посмотрела в нашу сторону. И тут мы увидели, что смотрит она одним левым глазом, потому что второй был наглухо затянут желтым бельмом.
– Бедняжка, – сказала мама.
А папа подумал и добавил:
– Странная душа у этого инструмента.
Я тогда так и не понял, что он имел в виду.
С этого дня мы стали жить вчетвером. Слепая Мария – не помню уже, кто из нас дал ей это прозвище, – быстро освоилась, но пианино покидала только тогда, когда мама выставляла на кухне блюдце с едой или когда появлялась необходимость посетить лоток с песком, стоящий в сенях.
К нашей одноглазой соседке, как и к самому инструменту, мы быстро привыкли. До моего предполагаемого поступления в музыкальную школу надо было ждать еще целый год, и трофейное пианино, несмотря на тесноту небольшой комнаты, превратилось просто в громоздкое дополнение к интерьеру. На это дополнение ставили цветы в высокой стеклянной вазе и складывали стопки книг, оставляя место, где любила лежать кошка. Правда, стоило открыть крышку инструмента, как Слепая Мария тотчас же спрыгивала на клавиши и начинала в бешеном ритме перебирать их всеми четырьмя лапами. При этом она так вдохновенно орала, что если бы кто-нибудь догадался обозначить нотами издаваемые ею звуки, то вполне могла бы получиться торжественная оратория в честь, допустим, дня весеннего равноденствия, когда коты со всех окрестных помоек собирались у нас под окнами, чтобы объясниться в любви такой интеллигентной и такой высокохудожественной подруге.
Собственно, на этом благостная часть моей музыкальной истории, полная волнительных, но радостных ожиданий, закончилась. Но закончилась совсем не так, как об этом мечталось.
Выяснилось, причем неожиданно, что музыкальный слух, которым обязан был обладать любой человек, родившийся в городе Бобруйске, обошел меня стороной. И не просто обошел, а сделал при этом такой извилистый крюк, что, когда на выпускном детсадовском утреннике я попытался встроиться в хоровое исполнение государственного гимна, родители, пришедшие полюбоваться своими чадами, горестно закачали головами и изо всех сил старались не смотреть в сторону моей мамы, от души сочувствуя постигшему ее несчастью.
Мечта о том, что купленное год назад трофейное пианино станет стартовой площадкой, которая выведет меня на орбиту мировой славы, в один миг рухнула окончательно и бесповоротно. Я оказался недостоин надежд, которые на меня возлагали, мне даже стало казаться, что отец начал смотреть на меня как-то не так, что, когда он поворачивался в мою сторону, его глаза за очками становились какими-то пустыми.
Из-за постигшего меня фиаско я стал плохо спать по ночам и частенько зарывался с головой в одеяло, чтобы никто не слышал, как я всхлипывал от душившей меня обиды. В эти непростые минуты одна лишь Слепая Мария пыталась оказать мне свою поддержку, она мягко прыгала на кровать, ложилась рядом и тихонько подвывала вместе со мной.
Я уже не помню точно, кому первому пришла в голову мысль передать ставший ненужным инструмент с барельефом, тремя педалями и двумя подсвечниками в дар музыкальной школе, но однажды хмурым зимним днем в дверь постучали два уже знакомых мне грузчика, одетых все в те же поношенные телогрейки и с тем же стойким запахом перегара, витавшим вокруг их небритых физиономий. Они пришли, чтобы в некотором роде повернуть вспять историю нашего дома и возвратить ее к тому самому моменту, когда в простенке между двумя окнами располагалась одна только тумбочка с трофейным радиоприемником.
Я нисколько не жалел о расставании с инструментом, выглядевшим теперь как лакированное надгробие, высившееся на развалинах моей мечты. А вот исчезновение вместе с ним Слепой Марии стало для меня настоящим ударом. Да и не только для меня. Мама еще долгое время не убирала место, где стояла ее миска, и все прислушивалась, не раздадутся ли за дверью звуки, похожие на детский плач. Хотя чего уж там – и я, и папа, и мама прекрасно знали, где находится сейчас это странное создание с рыжей шерстью, белыми подпалинами по бокам и бельмом на левом глазу. Знали об этом и коты со всех соседних дворов, которые темными весенними ночами собирались под стенами музыкальной школы и исполняли страстные песни в честь своей подруги, владеющей филигранной техникой игры на черных и белых клавишах.
Вот и вся разгадка ночных ужасов, окружавших, по легенде, серое здание на улице имени Карла Маркса.
А что касается мелькавших в окнах силуэтов с их старинными кафтанами и париками… Жаль, я тогда еще ничего не знал про теорию реинкарнации, иначе запросто можно было предположить, что это душа Генделя, а может быть, даже и Баха каким-то образом переселилась в Слепую Марию и терзает по ночам музыкальные инструменты. Впрочем, единственным аргументом в пользу такого предположения было бы то, что оба композитора под конец жизни потеряли зрение и могли извлекать звуки исключительно на ощупь.
И все-таки наиболее правдоподобной выглядит версия по поводу крепости соответствующего продукта пивзавода имени XX партсъезда, то есть того пенного напитка, который в больших количествах потребляли жильцы дома, стоящего напротив музыкальной школы, а если честно, то и не только этого дома. Дело в том, что, после того как комиссия, пришедшая на пивзавод, выявила злостное нарушение государственных стандартов и Семена Исааковича посадили на довольно внушительный срок, странные тени в камзолах и париках исчезли, без следа растворившись в окружающем пространстве. Хотя некоторые особо внимательные бобруйчане утверждали, что иногда видели, как они мелькали на задворках пивного заведения, носившего, несмотря на все перипетии, прежнее название «Левин в разливе».
Вот, пожалуй, и вся история про музыкальную школу. Я, наверное, не стал бы ее рассказывать, если бы однажды, спустя много лет не приехал в свой родной город и почему-то не решил навестить это место, которое одновременно притягивало и отталкивало меня всей своей загадочной сущностью. Лучше, наверное, я бы этого не делал.
Улица по-прежнему носила имя Карла Маркса, из окон по-прежнему раздавались звуки музыкальных инструментов, но само здание выглядело как-то по-другому. Оно было отштукатуренным, свежевыкрашенным, крыльцо обложили плиткой, дверь поменяли, ручка ее была прикреплена строго вертикально. Я испытал такое же чувство, как во время просмотра старых черно-белых фильмов, которые зачем-то решили сделать цветными. Все вроде стало краше и приятней для глаза, только вот таинственное притяжение, существовавшее внутри старой кинопленки, куда-то исчезло.
Моя музыкальная школа тоже осталась в том черно-белом прошлом и навсегда превратилась в иллюзию. А иллюзии, как сказал один умный человек, не терпят, когда в них всматриваются слишком пристально, потому что тогда они исчезают и вернуть их назад, как правило, уже не удается.
Засекреченные новости
Из Москвы в Бобруйск тетя Софа приезжала раз в год всегда в одно и то же время – в первых числах августа. Как только приходила заветная телеграмма с указанием номера поезда, вагона и на всякий случай – места, где располагалась она и два ее необъятных чемодана, в Бобруйске начиналось что-то невообразимое. Из дома в дом передавалось заветное – «едет»! И это «едет» было как сигнал горниста ко всеобщей мобилизации для всех тех, кто знал и любил тетю Софу.
Дома́, в которых она могла появиться, подвергались тщательной уборке. Красили заборы, выбивали ковры, стирали и перестирывали скатерти. А полы! О, полы – это была особая песня! Полы мыли специальной водой, в которой растворяли кусочки земляничного мыла – все знали, что тете Софе очень нравился этот запах.
И конечно, продукты. Счастливчики, которые получали право устраивать в ее честь званые обеды, в панике носились по колхозному рынку, требуя у продавцов раскрыть всю подноготную того, что они желали приобрести. Испуганные продавцы, завидев их, пытались скрыться, убегали в соседние павильоны или прятались за газетные киоски, но их настигали, отрезали пути к отступлению и выясняли наконец, как звали корову, из молока которой готовился любимый тетей Софой клинковый сыр.
Вообще-то перечень продуктов, входящий в ее, выражаясь по-современному, шорт-лист, знали наизусть и иногда даже хвастались этим знанием друг перед другом. Творог должен был стелиться пластами, сметана – ласкать язык, яблоки – хрустеть на зубах, груши – радовать бархатистой мягкостью, черешня отливать глубоким темным цветом, название которому в Бобруйске, как ни бились, придумать так и не смогли.
А мясо! Если бы доблестные сотрудники центрального отделения милиции вели в эти дни статистику хищений социалистической собственности и, скажем, строили на основании полученных данных соответствующий график, то к моменту приезда тети Софы график выгибался бы как горб у верблюда, достигшего высшей стадии своей зрелости. А если бы они полюбопытствовали, около какого места мог находиться этот гипотетический верблюд, то выяснилось бы, что привязан он аккурат у проходной бобруйского мясокомбината. Но доблестные сотрудники центрального отделения сохраняли завидное хладнокровие и правильно делали. Для местных Шерлоков Холмсов все равно осталось бы неразрешимой загадкой, как мимо опытных вахтеров можно было пронести объемистые пласты нежнейших, без единой прожилки, вырезок, а также свежие и еще теплые телячьи языки. Дефицитный продукт словно растворялся в воздухе, исчезал из всех конторских и бухгалтерских книг, чтобы потом неведомым образом материализоваться среди горячего пара и дразнящих запахов какой-нибудь кухни. И все в честь тети Софы! В честь ее приезда! И во славу ее!
Словом, практически весь Бобруйск был задействован в подготовке торжественного приема.
И наконец этот день наступал. Не было тогда, увы, красной дорожки, которую можно было бы расстелить от дверей вокзала до ступенек вагона, указанного в телеграмме. Не было и оркестра, который играл бы торжественное «Семь сорок». В смете железнодорожной станции «Бобруйск» статья расходов ни на красную дорожку, ни на оркестр не предусматривалась. Да это было и не важно. Какая дорожка, если толпа встречающих готова была на руках вынести тетю Софу из вагона, доставить ее в здание вокзала и устроить небольшой митинг в той его части, где около развесистого фикуса стояла гипсовая скамейка, на которой гипсовый Ленин, закинув ногу на ногу, внимательно слушал то, что внушал, наклонившись к нему, гипсовый Сталин. Бобруйчане очень любили эту скульптурную группу. Им казалось, что товарищ Сталин выговаривает вождю мирового пролетариата за то, что он так и не удосужился посетить их замечательный город, начальство которого ради такого случая с радостью изолировало бы всех гражданок по фамилии Каплан, среди которых шесть человек носили подозрительное имя Фанни.
В отличие от вождя мирового пролетариата, тетя Софа ни на какие дополнительные меры, обеспечивающие ее пребывание в городе, не претендовала. Ей не нужна была ни красная дорожка, ни оркестр, ни даже толпа встречающих, которая пыталась бы с тетей Софой на вытянутых руках протиснуться в довольно узкую дверь вокзала. Существовало только одно условие – во время дружественного визита родственники и знакомые должны были организовать транспорт, на котором тетя Софа перемещалась бы по своим многочисленным маршрутам. Родственники и знакомые в таком незначительном капризе отказать, естественно, не могли, и в день ее приезда спецтранспорт для тети Софы торжественно подавался к ступенькам вокзального строения.
Роль спецтранспорта для тети Софы выполняла «Победа» модного тогда цвета детской непосредственности, чисто вымытая и натертая специальным воском до слепящего блеска. Машина принадлежала продавцу пива в буфете кинотеатра «Пролетарий», известному в городе по прозвищу Гриша Врубель. Так его звали не из-за любви к живописи и даже не из-за возможного (а почему бы и нет?) родства с известным художником. Хотя есть подозрение, что Гриша вообще не знал о таком мастере изобразительного искусства. Просто на любую просьбу, даже самую невинную, он обычно отвечал: «Это обойдется тебе в рубель».
Итак, Гриша Врубель важно прохаживался около машины в чистой рубашке и почему-то в большой кавказской кепке, которую носил обычно на главные государственные праздники. Всем своим видом он показывал, что любой вопрос, обращенный к нему, обойдется сегодня рубля в три, не меньше. А встречающие тем временем постепенно накапливались на перроне, пытаясь угадать, в каком именно месте остановится заветный вагон.
Когда паровоз показывался на мосту через реку Березину, давал гудок и начинал замедлять ход, в перестуке его колес всем встречающим четко слышалась одна и та же фраза: «К нам е‑дет те-тя Со-фа, к нам е‑дет те-тя Со-фа». Жаль, никому не приходило в голову повторять это вслух. Представляю, какой мощный хор возник бы на привокзальной платформе, поглотив собой шумы и скрежеты развешанных на столбах репродукторов. И было бы им поделом – они так буднично и уныло объявляли о прибытии и времени стоянки поезда, будто и слыхом не слыхивали, какая долгожданная гостья через несколько мгновений должна ступить на землю застывшего в ожидании ее Бобруйска.
Я сказал – «застывшего», – и это не было преувеличением. Кто-то в небесной канцелярии, курирующий город Бобруйск, внимательно следил за тем, как поезд останавливался, проводницы протирали поручни, два попутчика выносили чемоданы тети Софы и помогали ей спуститься на выщербленный асфальт перрона. И в тот самый момент, когда толпа встречающих готова была броситься к ней с распростертыми объятиями, небесный куратор внезапно нажимал кнопку «пауза», и все сразу останавливались, застыв в самых разнообразных позах. А главное, застывала, раскинув руки навстречу друзьям и родственникам, сама тетя Софа. Застывала, чтобы все успели разглядеть ее новое крепдешиновое платье с короткими рукавами, похожими на крылышки, ее покрытое тонким слоем пудры лицо, на котором выделялись губы, подведенные помадой такого же ярко-красного оттенка, как цветы на платье, ее идеальную прическу, на которой неведомо каким образом держалась кокетливо сдвинутая набок небольшая шляпка, ее крупные янтарные бусы, ее длинные перчатки из гипюра, облегавшие руки вплоть до локтевого сгиба, ее такие же красные, как губы, остроносые туфли-лодочки.
В эти мгновения, когда замирали шестеренки на больших вокзальных часах, повисал неподвижно дым над паровозной трубой, застывала в воздухе птица, едва добравшаяся до середины Березины, в эти мгновения все понимали, что сошла на перрон не просто тетя Софа, вместе с ней на перрон сошла частица Москвы, той самой, где «утро красит нежным светом стены древнего Кремля» и где «московских окон негасимый свет» создает атмосферу праздника, обрамленного державным величием, словом, всего того, что показывали в фильмах, снятых в какой-то другой, неразличимой жителями города Бобруйска галактике.
Насладившись паузой, необходимой для осмысления происходящего, небесный куратор нажимал на кнопку «play», и сразу все опять обретали движение, суетились, бросались к тете Софе, обнимались и целовались, заполняли пространство радостными восклицаниями, а смотрящий с небес на этот копошащийся муравейник начинал постепенно подталкивать его к выходу, потому что весь город, а не один только железнодорожный вокзал ждал дорогую гостью.
Дальше в дело вступал уже Гриша Врубель. Осознавая тяжесть ответственности, лежащей на его плечах, он вклинивался в толпу, расчищал своим мощным торсом проход к машине, силком вырывал чемоданы из рук добровольных помощников, заталкивал один в багажник, другой – на заднее сиденье, усаживал тетю Софу и говорил, обращаясь к присутствующим: «Всем – ша!»
А когда наступала тишина, требовал обратный отсчет.
– Десять, – радостно взрывалась толпа, – девять, восемь, семь…
Гриша Врубель садился за руль, командовал сам себе: «Ключ на старт» – и под дружный вопль «Поехали!» трогался с места, оставляя позади исполнивших свой долг встречающих, на щеках у которых красовались яркие следы от помады тети Софы.
На самом деле все, что происходило на привокзальной площади, было своеобразным алаверды, то есть бобруйским ответом на московский ажиотаж по случаю полета Гагарина, случившегося за четыре месяца до приезда тети Софы. Через долгожданную гостью горожане как бы передавали туда, где «холодок бежит за ворот» и «шум на улицах слышней», частичку и своей причастности к этому грандиозному событию. Дружный «обратный отсчет», «ключ на старт» и «поехали» – пусть в форме некоего, выражаясь по-современному, перформанса, было не чем иным, как демонстрацией того, что мы хоть и в стороне от основной магистрали, но все равно находимся внутри общей кровеносной системы. А тетя Софа была для нас тем связующим звеном, которое на вопрос: «Контакт?» – должна была ответить: «Есть контакт!»
И она отвечала. Контакт нес за собой флер духов «Красная Москва», который оставался в доме даже после того, как его покидала гостья. Он был в щебете подружек, прогуливающихся с ней по центральной Социалистической улице, прозванной бобруйчанами антипатриотичным Бродвеем. Тетя Софа, естественно, шла в центре, и это можно было обнаружить по китайскому зонтику от солнца, который она брала на каждый выход в город. Зонтик был бамбуковый с натянутым на спицы красным шелком, украшенным тонкими фигурками аистов. Тень, которую он отбрасывал на идущих рядом, тоже была красной, и она вполне сочеталась со свежим маникюром на ухоженных руках тети Софы, с губной ее помадой и бархатной шапочкой такого же примерно оттенка. Из-под этой тени иногда вырывался приглушенный смех, иногда презрительное – фр-фр-фр, а иногда таинственное – гур-гур-гур, что указывало не только на цветовую, но и на звуковую составляющую прочно налаженного контакта.
Но была у этого контакта еще и материальная сторона. В одном из объемных чемоданов тети Софы находились так называемые гостинцы, которыми она баловала своих местных почитателей. Всякий раз она привозила нечто необычное, о чем в Бобруйске даже не подозревали, а если и подозревали, то считали подобное уделом небожителей. В этот приезд тетя Софа привезла целый чемодан дефицитных баночек финского сыра Viola, на крышках которых приветливо улыбалась румяная и упитанная блондинка. Слух об этом чудесном продукте сразу облетел город и стал предметом горячего обсуждения. Во‑первых, через него бобруйчане приобщались к зримым символам внешнеэкономических связей, во‑вторых, это сближало их с сильными мира сего, которые могли ежедневно требовать к столу бутерброды, намазанные толстым слоем финского сельскохозяйственного чуда. В‑третьих, не будем забывать и о его эстетической стороне. Круглая крышка с изображением блондинки через несколько дней появилась на стене прилавка в фойе кинотеатра «Пролетарий», за которым торговал пивом Гриша Врубель. И надо сказать, что некоторые любопытствующие заходили сюда не только для того, чтобы перед началом сеанса выпить бокал-другой разбавленного Гришей напитка, но и для того, чтобы одобрительно поцокать языком, глядя на зарубежную красотку.
Впрочем, это была одна, если хотите, явная, прозрачная часть контакта. Существовала и другая, к которой бобруйчане тоже могли считать себя причастными хотя бы потому, что знали о ней и даже были допущены, чтобы лицезреть глухую стену, ее огораживающую. За глухой стеной находилась скрытая от любопытных глаз государственная тайна. А часовым у этой стены стояла, естественно, тетя Софа, но не та, которая – маникюр, помада и зонтик, а другая тетя Софа – верная жена своего засекреченного мужа и она же – заботливая мать своего не менее засекреченного сына.
В скрытую составляющую жизни тети Софы бобруйчане верили безоговорочно и даже считали, что ее фамилия Тигерс (по мужу) тоже была внесена в особые секретные списки, потому что с такой фамилией в городе никто и никогда не сталкивался. Тетя Софа объясняла, что фамилию муж получил от своего отца, служившего в Кремле латышским стрелком, а вот почему латышский стрелок назвал своего сына Львом, этого не знала даже она. Бобруйчане, любившие покопаться в генеалогическом древе тети Софы, единодушно решили: Лев Тигерс – в этом было что-то особенное, и искренне сожалели, что своего единственного отпрыска новая семья назвала по-будничному каким-то там Константином, а не, скажем, Гепардом или на худой конец Тиграном. Но как бы там ни было, за спиной тети Софы, как за непроницаемым занавесом, таились тени двух засекреченных мужчин семейства Тигерс, и это обстоятельство придавало ей еще больший вес в глазах общественности нашего города.
Иногда, правда, тетя Софа слегка приоткрывала непроницаемый занавес, вернее, отгибала самый маленький его уголок. Через этот отогнутый уголок можно было увидеть ее квартиру на последнем этаже очень длинного и очень монументального дома. Квартира имела не менее монументальный балкон, выходивший на шумное Ленинградское шоссе. А напротив балкона, буквально через дорогу, располагалось летное поле, откуда взлетали и куда садились правительственные самолеты. Мы понимали, что этот балкон тоже включен в государственную тайну. Не зря же его выделили вместе с квартирой мужу тети Софы, потому что именно он, будучи полковником в ведомстве, которым когда-то руководил враг народа товарищ Берия, отвечал за безопасность перелетов первых лиц государства. Это было все, что полагалось нам знать. Дальше тетя Софа многозначительно умолкала, мол, выводы, дорогие мои сограждане, делайте сами.
И мы делали. Польщенные оказанным доверием, мы мысленно дорисовывали детали этой важной и опасной службы. Мы даже делились друг с другом предположениями о том, как полковник Тигерс проводит свой рабочий день на засекреченном балконе и как он, не отрываясь, наблюдает в бинокль, не крадется ли по летному полю засланный врагами диверсант. Если дело было летом, то на балкон можно было выходить в пижаме, наверняка она имелась у такого высокопоставленного сотрудника органов. Да и туфли можно было не надевать. Сунул ноги в тапочки, взял бинокль в руки – и на работу. Летом это было, наверное, даже приятно. Ворковали рядом вездесущие голуби, солнце грело, машины внизу шуршали по асфальту, а самолеты беспечно взлетали, потому что верили – муж тети Софы обеспечивал им абсолютную безопасность.
Конечно, если требовал устав, то вместо пижамной куртки можно было надеть гимнастерку, а вот менять пижамные штаны на галифе было совершенно ни к чему: кто снизу мог разглядеть, в чем находится на балконе последнего этажа полковник Тигерс? Весной или осенью – другое дело. Тут уже нужны были и китель, и брюки, и фуражка с лакированным козырьком, а может быть, даже и шинель или плащ-палатка. Да и зимой в тапочках на босу ногу уже не постоишь, так что приходилось, наверное, влезать в сапоги, руки прятать в теплые кожаные перчатки, а на голову надевать серую каракулевую папаху. Но главное было не в этом, главное – не пропустить врага, крадущегося по летному полю. И судя по тому, что никаких сообщений о диверсиях на воздушном транспорте для руководящих лиц не поступало, полковник Тигерс с возложенными на него обязанностями справлялся на «отлично».
Какова была роль во всем этом тети Софы, можно было только догадываться. Наверняка человеку на такой серьезной работе требовалось трехразовое питание, смена белья, выстиранная и выглаженная пижама и начищенные до блеска сапоги. А ночной сон полковника? Нужно же было еще не забывать и об этом. Не говоря уже про заботу о сыне, который работал в настолько закрытом ящике, что любому завалящему шпиону было понятно – речь может идти исключительно о секретных космических разработках.
В общем, с приездом тети Софы бобруйчане начинали ощущать всю полноту жизни Страны Советов – от дефицитного сыра до покорения вселенной, то есть от отсутствующих продуктов до присутствующего Гагарина.
Вот, собственно, с Гагарина и началась дальнейшая история, связанная с пребыванием тети Софы в нашем городе. Вернее, не с самого Гагарина, а с того человека, который должен был стать следующим в космической гонке.
Сказать, что бобруйчане заболели темой космоса, – значит ничего не сказать. Можно было подумать, что других более важных дел у них не было. А с другой стороны, может, действительно не было. Жизнь шла по накатанной колее, а тут – здрасте вам – человек в космосе. Если в Одессе про космос сочиняли анекдоты, то в Бобруйске рассказывали абсолютно правдивые истории. Например, история о том, как горздрав на своем заседании постановил, что отныне такие болезни, как лунатизм и метеоризм, можно считать связанными исключительно с космосом. Или о том, как Изя Кацман, который работал продавцом в отделе бытовой химии, явился в ЗАГС с требованием поменять его фамилию на более современную – Кацманавт. Или абсолютно правдивая история о том, как одна ученица десятого класса перепутала тему сочинения и вместо предложенной – «Почему я хочу стать космонавтом?» написала – «Почему я хочу спать с космонавтом?», что среди целомудренных бобруйчан вызвало настоящий шок. Педагогическому коллективу школы пришлось срочно принять все возможные воспитательные меры, после чего эта ученица не могла спать теперь уже не только с космонавтом, но перестала спать вообще.
Словом, темой космоса упивались, острили, заключали пари, кто полетит следующим – еврей или армянин, а потом появился Яша и поставил в космической эпопее Бобруйска большую и жирную точку.
Яша среди горожан был личностью знаменитой и носил почетную по тем временам кличку – Има Су́мак. Здесь, я думаю, надо кое-что пояснить. В годы, предшествующие полету Гагарина, большой ажиотаж среди меломанов СССР вызвала перуанская певица Има Су́мак. Она владела диапазоном в 5 октав, могла петь одновременно на два голоса и была любимицей тогдашнего начальника страны Никиты Хрущева. Он платил ей огромные гонорары, а она услаждала его слух разнообразными звуками сельвы, куда он, очевидно, не раз мечтал сбежать от тяжкого бремени навьюченных на себя властных полномочий. Но сбежать ему так и не удалось, да и с Имой Су́мак что-то пошло не так. Говорят, что у себя в гостинице она наткнулась на выводок тараканов, устроила дикий скандал и спешно уехала в свои Америки. Впрочем, злые языки утверждали, что это были не тараканы, а совершенно безобидные электронные жучки, которые она обнаружила в телефоне и настольной лампе. Но суть не в этом. Меломаны лишились возможности дивиться пяти перуанским октавам, и слава ее постепенно сошла на нет. Сошла везде, кроме Бобруйска. Именно в нашем городе нашелся достойный продолжатель ее нелегкого дела. Не знаю точно, каким диапазоном обладал Яша, но то, что он мог весьма достоверно подражать, скажем, писклявым фразам Рины Зеленой, а затем без каких-либо затруднений имитировать государственный голос Левитана, об этом в городе знали все и даже гордились таким талантливым земляком.
В Бобруйске Яша работал на самом острие технического прогресса. Этим острием было полуподвальное помещение в магазине радиоаппаратуры на бывшей Инвалидной улице. Над входом в помещение висела вывеска, извещающая о том, что за толстой металлической дверью находится «Студия звукозаписи», а если посетитель по выщербленным ступеням полутемной лестницы проникал внутрь, то там его ждал аппарат фирмы «Телефункен», на который Яша клал гибкий диск, и в унисон тому, что посетитель говорил в микрофон, специальная иголка бороздила на пластинке звуковую дорожку.
В городе студию звукозаписи знающие люди называли «Скелет моей бабушки». Это название было конспиративным, передавалось из уст в уста исключительно шепотом, потому что имело отношение к нелегальному бизнесу. Впрочем, в Бобруйске, если дело касалось чего-то скрытного и нелегального, об этом, естественно, знали все. То есть каждый житель нашего города знал, что Яше можно было принести рентгеновские снимки любых поврежденных частей тела, он вырезал из них нужного размера круг, сигаретой прожигал в центре небольшое отверстие, ставил на все тот же «Телефункен» и записывал для заказчика рок-н‑ролл и прочие американские буги-вуги, за оригиналами которых раз в полгода ездил на черный рынок в Одессу. Эти рентгеновские диски, выходившие под рубрикой «музыка на костях», Яша хранил стопками в старом круглом умывальнике, приделанном к кирпичной стене своего полуподвала, а рядом держал ведро с водой на случай, если местная милиция решит нагрянуть с обыском. Наполнить умывальник было делом одной минуты, а дальше сиди себе и изображай самого честного гражданина города Бобруйска.
Другое дело – его непосредственная работа по изготовлению звуковых писем. Высо́ты мастерства, которые он достигал в своем узком и тесном полуподвале, заставляли бобруйчан смотреть на него не сверху вниз, как обычно, а совсем наоборот – снизу вверх, что в силу врожденной фанаберии было весьма затруднительно. Тем более что Яша был еще сравнительно молодым, щуплым, носил фланелевые рубашки с мятыми воротниками, спортивную шапочку с помпоном и вышедшие из моды широченные брюки, прозванные в народе парашютами. И все же, как по-другому прикажете смотреть на человека, который мог говорить не только голосом председателя местного райисполкома, но и голосами куда более высокопоставленных товарищей как республиканского, так и всесоюзного масштаба.
Со времени установки в Яшиной студии громоздкого «Телефункена» Бобруйск охватила новая мода. Особым шиком стало считаться изготовление звуковых писем для дальних родственников и знакомых, на которых с праздниками и юбилеями их поздравляли известные всей стране люди.
Яша такую работу любил, а заказчик заранее обхохатывался, представляя, как его адресат получит поздравление, поставит диск на проигрыватель, а там Аркадий Райкин со своим неповторимым голосом: «Здравствуй, дорогой друг! Передаю тебе привет из города Бобруйска, где живут евреи разных национальностей». Или чуть позднее входящая в моду Эдита Пьеха со своим эротическим: «Если я тебья сама придумала – встань таким, как я хочью». Или, на худой конец, поздравление с особым кавказским акцентом от подвергнутого идеологической обструкции вождя народов, которого бобруйская интеллигенция ласково называла Коба-Потрошитель.
Для Яши подражание разнообразным голосам было не работой, а истинным наслаждением, которому он посвящал себя целиком. Так что формула «Любой каприз за ваши деньги» в студии звукозаписи обретала свои зримые черты не только в плановом порядке или в рамках социалистического соревнования с фанерным фотоателье, расположенным у входа на рынок, но также и в нерабочее время в результате частной договоренности между исполнителем и особо уважаемыми клиентами.
Но ценили Яшу не только за это. Его творческий багаж был настолько велик, что теплыми летними вечерами на одной стороне «Бродвея», там, где допоздна работала забегаловка «Пиво‑Воды», он голосом Лемешева исполнял какую-нибудь неаполитанскую песню – чаще всего по просьбе опохмеляющихся это было знаменитое «Скажите, девушки, подружке вашей…», – а затем переходил на другую сторону к чугунной ограде сквера и по-шаляпински, басом, выдавал арию из композитора Гуно: «Сатана там правит бал, там пра-а‑а‑вит бал».
Ему аплодировали, за ним ходили стайки поклонниц, а он милостиво принимал знаки внимания и пел на бис до тех пор, пока какой-нибудь некультурный гражданин, предпочитавший спокойный сон разбушевавшемуся сатане, решившему править бал в городе Бобруйске, не вызывал дежурный наряд милиции, и стражи порядка требовали прекратить безобразия, резонно полагая, что никакого Гуно нет в природе, потому что у приличного композитора не может быть такой странной клички.
И всё, кроме милиции, разумеется, у Яши было хорошо, пока в городе не появлялась тетя Софа. Но отдавать без боя пальму первенства какой-то там заезжей «столичной штучке» – нет уж, увольте.
Как родилась у ревнивого Яши идея разыграть именитую гостью и выставить ее на посмешище перед досточтимой публикой, доподлинно неизвестно. Известно только, что для реализации своего плана он выбрал одного из юных своих должников, который никак не мог расплатиться за очередные буги-вуги, записанные на рентгеновском снимке открытого перелома его собственного пальца. Но на сей раз это был не просто должник, это был сын Муры Конторович. Той самой Муры Конторович, которая считалась давней подругой тети Софы, потому что как они сели за одну парту начиная с первого класса, так – по утверждению обеих – не вставали с нее вплоть до выпускного бала.
Имея в виду это обстоятельство, Яша в своей теплой фланелевой рубашке с мятым воротником, спортивной шапочке со знаменитым помпоном и широченных брюках метался по битком набитому обнаженными телами городскому пляжу в поисках юного Конторовича, который в компании таких же оболтусов, как он сам, все жаркие дни летних каникул проводил, практически не вылезая из прохладных вод реки Березины. Наконец после долгих поисков Яша заприметил свою жертву у самой кромки воды, отозвал в сторону и предложил тайную сделку. Он прощает долг, а взамен ему надо знать только одно – день, когда тетя Софа останется ночевать в их квартире, чтобы порадовать ее одним неожиданным, но очень приятным сюрпризом.
Надо сказать, что за право оставлять у себя на ночь тетю Софу боролся не один десяток домов города Бобруйска. Но, как правило, первые несколько ночей тетя Софа проводила у своей закадычной подруги. Утром, когда родители юного Конторовича после долгих бессонных часов, заполненных волнующими воспоминаниями, уходили на работу, тетя Софа еще долго отлеживалась в постели, потом варила себе кофе, потом наводила марафет и ждала, когда у подъезда притормозит надраенная до блеска «Победа».
Собственно, долго ждать не приходилось. Гриша Врубель подъезжал заранее, выходил из машины, садился на лавочке возле подъезда и ждал того незабываемого мгновения, когда московская гостья начинала варить в своей красивой медной джезве умопомрачительный кофе. Его густой аромат через открытую форточку выплескивался наружу, растекался вдоль стены дома, внедрялся дуновением бразильских плантаций в комнаты соседей, намекая на то, что есть где-то иная жизнь, связанная по утрам не с поиском вчерашних окурков и остатков пива на дне бутылки, а с маленькой чашкой пахучего напитка, который надо смаковать не спеша и при этом, поднося к губам, непременно оттопыривать мизинец.
Именно так пила свой кофе тетя Софа, и именно в этот священный для нее момент Яша предложил юному Конторовичу поставить на недавно купленную родителями модную по тем временам радиолу «Октава» пластинку с его сюрпризом.
Выполнить Яшину просьбу было несложно. Как только тетя Софа сняла джезву с огня, перелила содержимое в небольшую фарфоровую чашку, села за стол, закинула ногу на ногу и приготовилась отдаться ритуальному блаженству, юный Конторович вышел в соседнюю комнату и опустил иголку на гибкий диск, переданный ему накануне. И тотчас же торжественный голос Левитана победно произнес: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем сообщение ТАСС! 3 августа 1961 года в 10 часов по московскому времени в Советском Союзе произведен новый запуск на орбиту спутника Земли космического корабля «Восток». Корабль «Восток» пилотируется гражданином Советского Союза инженером-космонавтом товарищем Тигерсом Константином Львовичем. Бортовые системы, обеспечивающие жизнедеятельность инженера-космонавта, функционируют нормально. Самочувствие товарища Тигерса Константина Львовича хорошее».
Когда юный Конторович осторожно выглянул из комнаты, он увидел, как тетя Софа опрокинула чашку и медленно сползла со стула.
«Скорая» приехала быстро. Едва тетю Софу привели в чувство, первое, что она спросила, где сейчас ее сын. Врач из бригады «Скорой» недоуменно развел руками, а юный Конторович сказал: «Летит, – и, чтобы успокоить тетю Софу, добавил: – Бортовые системы работают нормально».
После этих слов тетя Софа снова упала в обморок. Гриша Врубель, все это время дежуривший у подъезда, помог погрузить носилки в машину, узнал, в какую больницу отвезут внезапно заболевшую гостью, а сам поехал известить о случившемся Муру Конторович.
В больнице между лечащим доктором тети Софы и ее верной подругой состоялся непростой разговор. Доктор заявил, что у тети Софы все в полном порядке, кроме одного – она рассказывает своим соседям по палате, что ее сын летит сейчас вокруг Земли, требует, чтобы ее поздравили, а также допустили к ней корреспондентов, которые почему-то должны толпиться около дверей больницы. А еще доктор сказал, что больные обычно жалуются на разные голоса, но с такой формой галлюцинаций, когда пациент слышит сообщение ТАСС, он, честно говоря, встречается впервые. Да и не только он, к сожалению, в Бобруйске специалистов, умеющих бороться с поселившимися в голове правительственными сообщениями, нет и пока не предвидится.
Все могло закончиться достаточно печально, но когда юный оболтус Конторович услышал от мамы про ее разговор с доктором, он наконец-то осознал всю глубину дьявольской задумки, соучастником которой его сделал ревнивый к чужой славе Яша. Родители удивленно смотрели, как он метнулся в комнату, открыл крышку радиолы, прокрутил для них злополучный диск, затем достал спички и стал сжигать его в кухне над мусорным ведром.
Наверное, немногие знают, как пахнет рентгеновский снимок, когда его предают очистительному огню. Запах, который заполнил квартиру Конторовичей, вполне мог быть соотнесен с Яшиной любимой арией: «Сатана там правит бал, там пра-а‑а‑вит бал». Вот только сатана бобруйского разлива оказался до смешного мелковат, хотя удушливый запах сожженного диска еще долгое время никак не мог выветриться из квартиры.
Тем же вечером Мура Конторович забрала тетю Софу из больницы. Они проговорили всю ночь и даже плакали, обнявшись, о чем-то своем, таком потаенном, что никому из самых близких не полагалось знать, о чем именно. А утром вдвоем, никого не предупредив, уехали на вокзал. Небесный куратор города Бобруйска, без ведома которого все это, естественно, произойти не могло, на сей раз сделал так, чтобы перрон был практически пуст и никто из посторонних, кроме сидящих на гипсовой скамейке Ленина и Сталина, не заметил отъезда тети Софы. Хотя, наверное, никто бы и без бдительного куратора не признал в спутнице Муры Конторович ту победительного вида долгожданную гостью, чьи туалеты были продуманы до мельчайших деталей, чьи столичные новости шокировали и будоражили, в честь которой мыли полы, стирали скатерти и собирали застолья. Нет, невозможно было ее узнать, потому что тетя Софа надела темные очки, скрывавшие заплаканные глаза, повязала как-то совсем по-бабьи глухую косынку вокруг головы, спрятала свой красный зонт в один из двух чемоданов, и, наверное, ей самой хотелось вместе с ним спрятаться туда же. Нелегкие сутки, которые за двадцать четыре часа вознесли ее сына на вершину мировой славы, сутки, которые заставили ее терять сознание от тягостного ожидания почему-то прекратившихся новостей, сутки, которые завершились залпом оглушительного обмана, – вот что она увозила на сей раз из нашего города. И колеса поезда, приближавшегося к платформе, выстукивали однообразно и уныло: «За-что-за-что-за-что».
Вечером Мура Конторович рассказала мужу, как она прощалась с тетей Софой и как обе понимали, что в город Бобруйск ее подруга никогда уже не приедет. А еще она повторила то, что грустно прошептала ей на ухо тетя Софа, перед тем как подняться на ступеньки вагона: «Если мы будем и дальше оставаться шлимазолами, которые свято верят в то, что говорят по радио, то для всех нас кончится это… (тут она употребила словосочетание, которое позднее один знаменитый артист охарактеризовал крылатой фразой: «Мягко говоря, грубо выражаясь»)».
При этих словах Конторович-старший почему-то оглянулся, потом встал и закрыл форточку.
О Яшиной пластинке решено было никому не говорить. Но, несмотря на принятые меры предосторожности, весь город уже был в курсе, что сын тети Софы отправился покорять космос, вот только из-за сугубо секретных соображений народу эта радостная новость пока еще не объявлена. А ровно через день (случайность или проделки все того же небесного куратора?) по радио сообщили об успешном запуске корабля «Восток‑2» с космонавтом Титовым Германом Степановичем на борту.
Бобруйчане, выслушав это известие, впали в ступор. Сына тети Софы звали Константин, отчество – Львович, фамилия – Тигерс, все в городе, естественно, знали, что летит именно он, а при чем тут майор Титов и какая очередная тайна за этим скрывалась, людям было совершенно непонятно.
И все-таки, к чести города Бобруйска, нашлись среди его населения мудрые люди, которые смогли расшифровать и этот ребус, хотя на самом деле засекречено все было по высшему классу. «Посудите сами, – говорили они, – первый слог фамилии Тигерс – это «ти» Титов, второй слог «гер» – это Герман, буква «с» – Степанович.
Красота разгаданного секретного кода заставила лучшие умы Бобруйска собраться внутри заведения под названием «Пиво‑Воды», чтобы за кружкой пенного напитка пропеть осанну государственным мужам, сумевшим в очередной раз изящно обвести вокруг пальца полчища иностранных шпионов, желавших выведать наши космические секреты.
Правда, осталась одна закавыка – с одной стороны, тетя Софа никак не могла быть матерью космонавта Титова, но, с другой стороны, он все-таки каким-то образом должен был быть ее сыном. А поскольку эту логическую головоломку никто до конца разгадать не смог, то интерес к космической эпопее незаметно рассосался, и бобруйчане вернулись к своим повседневным делам, тем более что впереди замаячил Карибский кризис и надо было срочно засекречивать совсем другие новости. Впрочем, находились и такие, кто, вспоминая про второго космонавта, еще долгое время задумчиво повторял про себя: с одной стороны, вроде бы – да, а с другой стороны, точно – нет…
Похоже, один только Гриша Врубель, раздосадованный ускользнувшим от него заработком, догадался, кто на самом деле стоял за запуском в космос сына тети Софы. Об этом можно было судить по разбитому носу Яши, помпону, оторванному от его спортивной шапочки, а также по тому, что в один прекрасный день в студию звукозаписи нагрянули сыщики, заявили, что обыск надо делать чистыми руками, и подошли к висевшему на стене умывальнику. Говорят, что все это время невдалеке стояла «Победа», принадлежавшая буфетчику кинотеатра «Пролетарий».
А что касается тети Софы, в наш город она действительно больше не приезжала. Зато ровно через тридцать лет со всеми нами случилось то, о чем мягко говоря, но очень грубо выражаясь она предупреждала Муру Конторович. Страна под названием СССР перестала существовать, и, кто знает, может быть, маленьким, едва заметным камешком, вызвавшим сход огромной лавины, были те самые слова, которые она произнесла, покидая досточтимый Бобруйск. Не зря же один мудрый автор настойчиво предостерегал: «Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться».
Разговоры о погоде
1
Леонид Леонидов – под таким псевдонимом он публиковал свои карикатуры в местной газете – вышел из дома около полудня и не забыл на всякий случай закрыть форточки, которые по старой привычке все еще были для него иллюминаторы. Приятели называли его просто Лёдя, а квартиру, доставшуюся от родителей, окрестили холостяцкой каютой. Закончив службу на Северном флоте, он приехал в Бобруйск, снес перегородку между комнатой и кухней, а образовавшееся пространство оснастил множеством морских причиндалов – от миниатюрного якоря до штурвала, снятого с какого-то парусника. Штурвал он прикрепил около двери и каждый раз, выходя из дома, крутил его на счастье. Сегодня Лёдя проделал то же самое.
Оказавшись на жаркой, основательно прокаленной солнцем улице, он привычно посмотрел на небо. Синоптики обещали жару и переменную облачность, и Лёдя подумал, что, наверное, перед тем, как дать прогноз, они высовывались из окна и тоже смотрели, что делается наверху. Небольшие разрозненные облака выглядели так, будто какой-то скучающий художник положил невнятные мазки на огромный синий холст и теперь не знал, что с ними делать – то ли начать создавать картину под названием «Дожди прилетели», то ли тщательно все смыть и оставить небеса в их первозданной чистоте.
Впрочем, уже минут через пять Лёдя вспомнил старый анекдот: синоптики не ошибаются, они просто путаются в датах. Внезапно поднявшийся ветер выкатил из-за горизонта лиловую, чудовищных размеров тучу, и стало ясно, какой сюжет вынашивал художник, чтобы наконец предъявить свою картину заинтригованным зрителям.
Бобруйчанам такая картина говорила о многом. В городе существовало поверье, что, если на следующий день после оглушительной жары погода портилась ровно в полдень, считай, что лето кончилось, толком даже и не начавшись. Как правило, дождь, дождавшись своего часа, вначале казался пустячным, так – капля за каплей, но потом он постепенно обретал силу, расходился не на шутку и лил уже дней сорок, напоминая разверзшиеся хляби, от которых библейский Ной в страхе спасал многочисленную живность. Разница была лишь в том, что в Библии это безобразие называлось потоп, а в Бобруйске почему-то называлось лето.
2
– Ты промок до ниточки, – сказала Подруга, когда Лёдя вбежал под козырек автобусной остановки, где они договорились о встрече. Каждый раз, глядя на нее, Лёдя удивлялся, как же быстро прошла она путь от Привлекательной Незнакомки до Прелестной Коллеги и, наконец, стала просто Подругой. В это слово он вкладывал гораздо больше интимного смысла, чем просто понятие «дружба».
– Да и ты не лучше. – Лёдя привычно прикоснулся губами к ее мокрой щеке, в глубине души проклиная себя за то, что так легкомысленно доверился синоптикам.
– Зонтик совершенно не спасает, – сказала она капризно.
– Как же ты теперь поедешь? – спросил он.
Подруга пожала плечами.
– Сначала тебе надо переодеться, – решил Лёдя, подсчитывая в уме, сколько времени займет поездка к ней домой.
Его Подруга жила, по бобруйским меркам, чертовски далеко. Район, где ее семья получила квартиру, назывался Даманский. Этот шедевр градостроительства представлял собой слегка упорядоченное сборище унылых пятиэтажек, которые начали строить во время конфликта с китайцами за маленький, никому не нужный остров. Коренным бобруйчанам, считавшим центром земного шара рынок на Социалистической улице, район Даманского казался не просто окраиной, а местом запредельным, стоящим на краю мира, за которым уже и сама жизнь если и была, то имела какие-то не поддающиеся воображению формы. Честно говоря, Лёдя тоже считал этот район чем-то вроде Тмутаракани, куда по вечерам лучше не забредать.
Впрочем, он не стал посвящать Подругу в эти грустные мысли. Тем более что проку от них не было никакого. Все равно придется теперь дождаться автобуса, трястись на нем до нелюбимого им Даманского, а потом, пересекая практически весь город, вернуться на вокзал. И не просто вернуться, а успеть на пригородный поезд, идущий до дачного поселка, что километрах в двадцати от Бобруйска, где в то лето жил сын Подруги. По самой оптимистичной прикидке получалось около трех часов, не меньше.
– Успею, – улыбнулась Подруга, словно прочитав его мысли.
3
В автобусе было тесно, влажно и душно. Их вначале отделили друг от друга, но потом Лёдя сумел протиснуться к ней поближе, и она положила голову ему на плечо.
– Подожду тебя здесь, – кивнул Лёдя в сторону кафе-мороженого, когда они вышли из автобуса.
– Нет, пойдем. – Его спутница потянула Лёдю за собой. – Я просушу твою одежду.
– А что, дома никого?
– Только Хранительница Очага. – Так она почему-то называла свою бабушку, с которой он несколько раз успел пообщаться по телефону.
– Но ведь… – попытался было возразить Лёдя.
– Она все знает, – улыбнулась Подруга.
Как только автобус отошел, ветер швырнул в них такой порцией дождя, словно специально готовил ее к этому моменту. Зонтик в руках у спутницы Лёди начал дергаться из стороны в сторону, пытаясь вырваться и улететь. Он перехватил его, но ветер изловчился и вывернул спицы наизнанку.
– Ну и пусть, – сказала она, – побежали.
Улицы превратились в сплошной поток. Машины с зажженными фарами медленно двигались вдоль кромки тротуара. Казалось, им было еще труднее, чем пешеходам.
4
– Ужасная погода, – проворчала Хранительница Очага, открывая дверь на настойчивые звонки. Лёдя ожидал увидеть сухонькую, сморщенную старушку, но перед ним стояла стройная высокая женщина с пышной гривой белых волос. В зубах у нее торчала папироса, а на груди болтались очки на длинной серебряной цепочке.
– Я не одна, – сказала Подруга, подталкивая Лёдю вперед.
– Вижу. – Хранительница поднесла очки к узкому орлиному носу и выпустила почти идеальное кольцо дыма. – В следующий раз, когда будете просить мою внучку к телефону, не меняйте голос, я думала, грузин какой-то звонит.
В коридоре с одежды натекла небольшая лужица.
– Тапочки наденьте, – приказала Хранительница и исчезла в глубине квартиры.
Лёдя достал из-под вешалки большие замшевые шлепанцы, но, сообразив, что они принадлежат мужу Подруги, оглянулся и задвинул их обратно. Ему сразу стало как-то очень неуютно.
– Иди скорее сюда, – позвали его из комнаты.
Подруга успела уже переодеться. На ней был легкий, почти прозрачный халатик, едва достававший до колен. Лёдя подошел к ней и попытался обнять. Но руки были как чужие, они не слушались.
5
– У нас в родне не жалуют моего мужа, – сказала Подруга, когда им удалось поймать такси и они ехали по направлению к вокзалу.
– А ты?
Вместо ответа она взяла его ладонь и нежно прошлась по ней кончиками пальцев.
– Ты ему раньше изменяла? – спросил Лёдя, прислушиваясь к движению ее руки.
– Только один раз, – сказала его спутница.
– И кто же это был?
– Танк, – засмеялась она. – Танк, который шел напролом. Мы встречались с ним два года.
– Ничего себе один раз. – Лёдя криво усмехнулся.
6
В вагоне пригородного поезда им удалось сесть. На скамейке напротив устроилась дородная дама с едва заметными усиками над верхней губой. Рядом с ней примостилась стройная девушка в длинном белом сарафане, на котором выделялись загоревшие до черноты руки. Лёдя мысленно окрестил ее – Юная Особа.
– В Сочи я потеряла листок с его адресом. Просто не знала, что делать, – сказала Юная Особа, продолжая прерванный разговор.
– Позвонила бы сюда, – посоветовала ее соседка.
– Ну да, до тебя пока дозвонишься. Я подошла к милиционеру на вокзале и спрашиваю, где живет Сандро Гунавия.
– Молодец, – сказала дама с усиками.
– А милиционер говорит, большой человек Сандро, откуда знаешь. И проводил до самого дома.
– Вот видишь. – Усики над губой одобрительно дернулись. – Ну а с погодой как там?
– Лучше не придумаешь. За две недели ни одного дождя.
Юная Особа время от времени поглядывала на Лёдю, и он испытывал почему-то неловкость оттого, что Подруга, осмотрев вагон и не найдя ни одного знакомого лица, привычно положила голову ему на плечо.
Когда они сошли на нужной станции, Лёдя краем глаза увидел, что Юная Особа со своей соседкой покинули вагон вслед за ними. Обе раскрыли было зонтики, но дождь на этот раз взял паузу, словно решил набраться сил для своих новых бесчинств.
– Дальше не ходи. – Подруга остановилась у ступенек переходного моста. – Муж иногда встречает меня.
– Ладно, – сказал Лёдя.
– Завтра он уедет в город, и я останусь здесь с сыном на целую неделю. – Она быстро прикоснулась губами к его щеке. – Завтра я буду ждать тебя тем же поездом.
Юная Особа, поднявшаяся уже на несколько ступенек, вдруг обернулась, и Лёдя почувствовал себя так же неуютно, как совсем недавно в квартире Хранительницы Очага.
7
Дождь держал паузу ровно до того момента, пока у перрона не затормозил нужный Лёде поезд, но едва состав тронулся, он снова решил напомнить о себе и всю дорогу до самого города хлестал по окнам вагона косыми рваными струями.
Дома Лёдя с трудом стянул с себя промокшую насквозь одежду и включил сразу все, что можно было включить: свет, газ, горячую воду и телевизор. Миловидная девушка в рискованном бикини выходила из морской воды и предлагала купить крем для загара. Он снял трубку и набрал номер телефона, по которому столько раз звонил в квартиру, где жила Подруга.
– Алло, – раздался в трубке хриплый голос Хранительницы Очага.
– Скажите, я похож на идиота? – спросил Лёдя.
– Конечно, – заверили его на том конце провода.
8
Назавтра дождь лил, почти не переставая. Промокший, злой на всё и на всех, Лёдя доехал до станции и собрался уже было купить билет, когда кто-то дотронулся до его плеча.
Лёдя обернулся. Перед ним стояла та самая Юная Особа, что рассказывала вчера про поездку в Сочи.
– Здравствуйте, – сказала она.
– Привет! Так какая все-таки погода на юге?
– Отличная. На юге все время было солнце, а здесь я совсем продрогла. – Она протянула к нему тонкую загоревшую руку, покрытую мелкими пупырышками.
– Где же вы так успели? – спросил Лёдя.
– На перроне. Я пропустила два поезда, дожидаясь вас.
– Зачем?
– Я загадала. Если дождусь, все будет хорошо.
– Что все? – спросил Лёдя.
Юная Особа пожала плечами, мол, все – это значит все, и ничего больше.
– Ясно, – сказал Лёдя.
– А та женщина, что сидела вчера рядом с вами, она ведь не ваша жена, правда?
– Похоже на допрос, – усмехнулся Лёдя. – Зачем вам эти подробности?
– Догадайтесь, – ответила Юная Особа и вдруг добавила без всякого перехода: – Не надо вам ехать к той, вчерашней.
– Ну, знаете, – сказал он, – это уже слишком.
– Пожалуйста. – Юная Особа заглянула ему в глаза как-то по-особенному, и Лёдя ощутил, что внутри у него что-то екнуло. – Не надо туда, хотите, я провожу вас домой.
Они ехали в такси и молчали. Юная Особа все время держала его за рукав плаща, словно боялась, что он мог передумать.
– Это мой дом, – произнес Лёдя, когда они вышли из машины. – Что будем делать дальше?
Юная Особа неожиданно приподнялась на носки, прижалась долгим поцелуем к его губам, повернулась и побежала по лужам.
– Эй! – крикнул Лёдя. – А дальше? Что дальше?
Но Юная Особа бежала, не оглядываясь.
9
Вечером он опять снял трубку и набрал знакомый номер.
– Вы знаете, – сказал Лёдя, – в меня, кажется, влюбились.
– Кто? – поинтересовалась Хранительница Очага.
– Понятия не имею.
– Тогда все в порядке, – сказала она.
– Кстати, – спросил он, – вы не слышали, какую нам ждать погоду? – ему не хотелось заканчивать разговор.
– Синоптики обещали, что к вечеру, как всегда, стемнеет, – сухо сказала Хранительница Очага и повесила трубку.
Лёдя стоял, слушал гудки и смотрел в окно. Похоже, что на этот раз синоптики не ошиблись.
Ночью ему не спалось. Он прошелся по комнате, крутанул штурвал, снял висевшую на стене боцманскую дудку, приложил было к губам, но не дунул, а просто тихо сказал: «Свистать всех наверх!»
Свистать было некого. Один только дождь монотонно шелестел за окном, и он, наверное, тоже чувствовал себя одиноким, потому что улицы в этот поздний час были пусты, а значит, никто не вытягивал из-под укрытия руку и не поворачивал ее ладонью кверху, чтобы капли дождя, соприкасаясь с ней, могли ощутить обычное человеческое тепло. По крайней мере, Лёде так почему-то казалось.
Женщина на том берегу
Свет в окнах небольшого дома, где жила Женщина, гас по вечерам всегда в одно и то же время. Мужчина безошибочно различал ее окна среди множества других, светящихся на той стороне Березины. После того как гас свет у нее, он еще некоторое время сидел в темноте, словно говоря себе, что там к ней и здесь к нему ночь пришла одновременно и это каким-то образом могло их соединить. Но свет потом все-таки зажигал, хотя была это не наглая шестирожковая люстра, свисавшая с потолка, а маленькая настольная лампа под красным металлическим грибком, оставшаяся еще от старых добрых времен.
Раньше Мужчина приезжал из Бобруйска в свой дачный домик только по выходным дням. Но с тех пор, как увидел ее, гуляющую вдоль берега реки с двумя маленькими сыновьями, стал приезжать каждый день. И каждый день он говорил себе, что вот сегодня обязательно переберется на ту сторону и подойдет к Женщине. Но все кончалось лишь ожиданием того момента, когда в ее окнах гас свет.
Женщина не знала, что за ней наблюдают, но какая-то необъяснимая тревога все эти дни не покидала ее. Она боялась воспоминаний, которые накатывались на нее, когда она смотрела на противоположный берег, и в то же время ощущала порой неодолимую тягу снова оказаться там, на песчаном пляже под высокими соснами. Были минуты, особенно ранним, едва еще брезжившим утром, когда ее сознание словно раздваивалось – она одновременно ощущала себя здесь с двумя сыновьями и в то же самое время там, под высокими соснами, легким шагом идущую по нагретому песку. Это были не простые минуты. А если она снова засыпала, ей снилось, что она бежит, бежит изо всех сил, чтобы оттолкнуться и перелететь на тот берег, но потом чувствовала что силы ее оставляют, каждое движение дается с неимоверным трудом, и невозможно уже было ни добежать и не перепрыгнуть. После такого сновидения ей нужно было выговориться, и она за завтраком как бы невзначай роняла, что, когда ей было 17 лет, она жила на том берегу. Мальчишки смеялись и напоминали ей, что она это уже говорила, когда они снимали здесь дачу.
У Мужчины была лодка. Много лет она лежала на дачном участке, перевернутая кверху днищем. Зимой на ней нарастала шапка сугроба, а летом обнажались почерневшие извилины и трещины. По тому, как медленно загнивала лодка, Мужчина ощущал ход времени. Не быстрый, пульсирующий ход, а именно такой – размеренный и неспешный: шапка сугроба, извилина, трещина и снова по кругу – от шапки сугроба до новой трещины. Лодка была дорога ему, как память о Женщине. Он мог в подробностях представить ее, осторожно вступающую в слегка покачивающийся корпус, опускающуюся на скамью, боязливо хватающуюся за борта. Он даже помнил, как мальки суетились у его ног, когда он бережно отталкивал лодку от берега, как скрипели тогда уключины, как пахли скошенные луговые травы. Никогда больше он не ощущал такой пьянящий аромат.
Как-то раз она предложила взять кисточки и написать на борту каждый со своей стороны название лодки. Она написала его имя, а он – ее. Это была самая странная лодка на реке, лодка с двойным названием.
После завтрака Женщина брала сыновей, и они шли купаться. Мальчишки натягивали на себя резиновые круги и смешно бултыхались у берега. Потом она растирала их досуха, доставала из сумки игрушки, а сама ложилась на старое одеяло, сделанное из колючего верблюжьего меха, запрокидывала руки за голову и, щурясь, смотрела куда-то в глубину голубого, еще не знойного неба. Если лежать неподвижно, то наступала минута, когда казалось, что земля внезапно теряла притяжение и она взлетала над ней высоко-высоко, а потом вокруг нее начинали появляться воздушные шары, вначале один, потом несколько, потом еще несколько и еще. Шары были разных цветов, а один из них, самый большой, подплывал все ближе и ближе, она хватала его за ниточку, и он бережно опускал ее на землю, и она снова бежала, как в своем утреннем сне, но только уже там, на противоположном берегу. С размаху бросалась на песок, нежилась в его тепле и ждала, что вот сейчас уткнется носом в прибрежный ил их странное суденышко.
Мужчина молча курил, прислонясь к краю летней кухни, и поглядывал на виднеющуюся сквозь кусты сирени реку. Он обдумывал план действий, и этот план был связан с его лодкой, потому что лодка была связана с прошлым, а в том прошлом Женщина робко-робко вступала в ее качающийся корпус. Он докурил сигарету, погасил ее, смяв пальцами, и забросил далеко в кусты. Потом подошел к лодке и погладил ее шершавое днище. Дерево за день нагрелось и испускало едва уловимый запах илистого дна.
Ночью Женщине не спалось, и она, накинув на плечи цветастый платок, подаренный мужем, вышла к реке. Фонари не горели, было совсем темно, и противоположный берег скрывался за плотным, непроницаемым занавесом. Женщина думала, почему ее до сих пор так туда тянет, и решила, что она просто тоскует по себе, той семнадцатилетней, что навсегда осталась на другом берегу. Она пыталась сбросить это наваждение, обхватывала плечи руками, словно говорила себе: «Вот же я, здесь, а не там». Но душа все равно разрывалась от тоски.
А потом пошел дождь, и она осталась стоять, открывшись его теплым и сильным струям.
Самым тяжелым оказалось для Мужчины дотащить лодку до кромки воды. Шаг за шагом он, напружинив мышцы, стаскивал ее по прохладному ночному песку. Лодка сопротивлялась, скрипела, и ему казалось, что этот скрип далеко разносится по всей реке. Он садился на корточки, приваливался к одному из ее бортов, доставал сигарету и, пока курил, думал, что ночью на такой лодке к противоположному берегу – затея бессмысленная и невыполнимая. Но потом пошел дождь, и вопреки всему Мужчина решил не отступать.
Женщина по-прежнему стояла неподвижно. Платок сделался мокрым и тяжелым. Но дождь был теплый и даже, как показалось ей, какой-то светлый. Она вдруг снова почувствовала себя необыкновенно легкой, как будто стоит только сбросить с себя эту тяжелую, наполненную влагой материю и сразу за спиной расправятся крылья. Она подумала, что это были бы очень красивые крылья. А еще она представила, что летит, но не одна – Мужчина был рядом. И тогда она стала придумывать себе сон, что они летят высоко в небе, а потом, подогнув крыло, падают в какой-то белый туман, а из этого тумана проступает лицо Мужчины, его глаза. Глаза, которые так ей были знакомы, золотисто-карие цветки с черной сердцевиной посередине.
Мужчина греб яростно. Лодка постепенно заполнялась водой, но он знал, что дотянет до берега. Женщина внезапно увидела его, вынырнувшего из непроницаемой темноты, и тихо отступила, спрятавшись за старый разросшийся куст жасмина.
Мужчина с трудом вылез из лодки, поднатужившись, опрокинул набок, слил воду, а затем медленно вытащил ее на берег.
Ни одним движением не выдала Женщина своего присутствия.
Мужчина постоял немного и пошел вдоль берега к мосту, невидимому за потоками дождя. Лодку он оставил для нее, как память и как клятву.
Утром мальчишки обрадовались появлению невесть откуда взявшегося судна. Целый день они практически не вылезали из обшарпанного, полусгнившего корпуса. Женщина сидела рядом, обхватив руками колени. «До сих пор говорю его словами, – думала она. – Боже мой, до сих пор говорю его словами. Даже чувствовать стараюсь его чувствами, словно вся еще на том берегу рядом с ним в старом заброшенном доме».
Следующим вечером Мужчина на дачу уже не приехал. Он словно отрезал от себя ту часть своей жизни, в которой ходила по Березине странная лодка с двумя разными именами по обеим ее сторонам.
А свет в окнах дома, где жила Женщина, горел в этот вечер долго. Очень долго.
Прощальное воскресенье
Ну не любил Семен Маркович воскресенья. Все самые нелепые случайности выпадали для него почему-то именно на эти дни. Все неприятности словно ждали, когда наконец наступит выходной, чтобы приветливо помахать ему ручкой, дескать – мы тут. Вот и сегодня. Телефон зазвонил без четверти шесть. Семен Маркович, правда, уже не спал, лежал, уставившись в потолок, на который проецировались красные цифры новомодных часов – подарок от коллег на шестидесятилетие. Цифры ритмично сменяли друг друга, и на фоне этого зримого движения времени он пытался вспомнить свой сон.
Из глубины памяти всплывали разрозненные детали: какой-то человек, с головы до ног укутанный в черный балдахин, пытался жестами убедить его следовать за собой, рыжий кот выпрыгивал из темноты, хватал за штанину и рвал ее на части, а потом он оказывался вдруг в длинном и пустом коридоре со множеством распахнутых дверей – но все это не связывалось в единый сюжет, нужны были еще некие подробности, и казалось, они вот-вот выплывут из небытия, но как раз в это время и раздался долгий нетерпеливый звонок.
Тут только Семен Маркович вспомнил, что сегодня воскресенье и будить его в такую рань никто из знакомых или сослуживцев наверняка бы не стал. И тогда он понял, откуда этот звонок. Понял, потому что втайне ждал его. Ждал с того самого момента, как мама наотрез отказалась переехать к нему в Москву. Он даже знал, что будет делать после такого звонка, а потому заранее рассчитал самый быстрый маршрут – вначале из Домодедово самолетом в Минск, а оттуда на любом проходящем поезде до Бобруйска. Уложиться можно было часов за семь. Но это если только не в воскресенье. В воскресенье наверняка он нарвался бы на сильный ливень, шквалистый ветер или какие-нибудь снежные заносы, не обозначенные в прогнозе, а потом начались бы задержки с вылетом, сбой в расписании поездов, и в результате он опоздал бы к самому главному. К какому такому «самому главному» Семен Маркович ни разу для себя четко не сформулировал. Если бы мама уже покинула этот бренный мир, то задержка в несколько часов никакого значения не имела. Во всех остальных случаях она просто не стала бы его оповещать – такой у нее был характер. Она столько раз отказывалась от домработниц, которых Семен Маркович подыскивал ей, когда периодически приезжал в Бобруйск, что ее согласие на то, чтобы соседка покупала продукты, лекарства и помогала с уборкой, оценил как свою маленькую, но несомненную победу. Соседка и позвонила: «Мама в больнице, состояние тяжелое». «Успею?» – спросил Семен Маркович. «Не знаю», – ответила соседка.
В такси, в котором он ехал в аэропорт, водитель долго крутил ручку настройки приемника, потом нашел то, что искал, и начал подпевать какой-то попсовой песенке. Семен Маркович вначале поерзал на сиденье, а потом попросил выключить радио. Ему хотелось тишины и сосредоточенности. Но как только музыка стихла, в голове непроизвольно стала прокручиваться другая мелодия. Мелодия, предварявшая передачу, которую вся страна, под названием СССР, слушала обычно по выходным: «Воскресенье – день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем».
Мелодия была назойливой, и чтобы как-то от нее отключиться, Семен Маркович попытался думать о маме, но осенняя серость еще не проснувшегося воскресного города мешала отделиться от него, подняться над дворами и крышами, чтобы вне его улиц, мигающих светофоров, ранних троллейбусов и пустых еще трамваев вспомнить нечто важное, что, наверное, полагается вспоминать в таких случаях.
И только когда такси миновало Москву и выехало на Кольцевую, Семену Марковичу удалось осуществить задуманное. Он нащупал некую щель во времени, впереди которой была неизвестность, а позади была жизнь – жизнь его и жизнь мамы, две жизни, в недавнем еще прошлом неотделимые друг от друга. И он окунулся в это прошлое, но почему-то не в какие-то светлые и радостные мгновения, а в то, что тревожило его, что, оказывается, никуда не ушло с тех давних, очень давних времен. А из этого прошлого первым делом всплыли воскресные дни, которые он так не любил еще с детства даже тогда, когда начинались они вроде бы с чего-то очень приятного.
Ему не надо было особо напрягать память, чтобы вспомнить, как по воскресеньям мама ходила мыть полы в школу через дорогу, потом приходила, будила его и они устраивали небольшой пир. Особенно если в доме появлялся сыр, а осенью к нему еще и виноград. Мама обожала заворачивать ягоды винограда в тонкие ломтики сыра и наслаждаться их вкусом. Ей казалось, что именно так проклятые буржуи прожигают свою роскошную жизнь. Маленький Семен Маркович ставил на патефон пластинку Вертинского. Мама ставила на примус чайник. Примус шумел, чайник закипал, Вертинский пел: «В бананово‑лимонном Сингапуре, в бури, когда поет и плачет океан…» – а они вдвоем сидели за столом и улыбались друг другу.
А потом маленький Семен Маркович переворачивал пластинку и изо всех сил начинал подпевать другой песне: «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина…» И это тоже была традиция. Мама обычно говорила: «Подожди, я сейчас встану у окна». Согласно заведенному правилу, Семен Маркович должен был спросить ее: «Зачем?» Он спрашивал, и мама отвечала: «Пусть соседи видят, что ты так вопишь вовсе не потому, что я тебя истязаю». Ему никогда не удавалось допеть эту песню до конца. Мама называла его исполнение «вокальные безобразия», хотя маленькому Семену Марковичу казалось, что петь надо как можно громче, иначе как же соседи узнают, какой замечательный певец живет рядом с ними.
А бывало и так, что он не пел, но зато мама начинала танцевать. Танцевала она потрясающе – до войны считалась лучшей ученицей в балетной студии Дома пионеров. Студия эта располагалась в здании бывшей губернской усадьбы. Они иногда ходили туда гулять, как говорила мама – по местам боевой славы, но от давней роскоши перестроенной усадьбы осталась только веранда, украшенная несколькими классическими колоннами, да выщербленная мраморная плитка, заменявшая пол.
На самом деле маленький Семен Маркович не любил эти воскресные танцы и даже боялся их, потому что мама вдруг становилась какой-то чужой. Ей нравилось изображать знойных женщин, для чего она надевала широкую юбку, голову украшала красной повязкой, кружилась по комнате, поднимала руки и щелкала пальцами, как кастаньетами. «В бананово‑лимонном Сингапуре, в бури, запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, Вы любите меня». Иногда жестами она приглашала и его присоединиться к этому танцу, но он мотал головой, забивался в угол и оттуда частенько со слезами на глазах следил за вихрем, который самозабвенно создавала мама в их довольно тесной комнате с высоким резным буфетом, двумя железными кроватями, этажеркой, забитой книгами, и небольшим круглым столом, на котором по выходным красовался патефон, доставшийся от бабушки Семена Марковича.
В седьмом классе он совершенно случайно (случайно ли) разбил эту пластинку. Мама тогда жутко расстроилась. Он потом предлагал ей взамен другие записи Вертинского, но она капризничала и хотела точно такую же, потому что, видите ли, эту пластинку когда-то подарил ей очень (слово «очень» было выделено специальной интонацией) очень хороший знакомый. Спустя много лет, когда Семен Маркович оказался на конгрессе математиков в Тель-Авиве, он специально пошел на блошиный рынок и отыскал-таки тот самый диск. Но прокрутить его не удалось: патефон, который он помнил с детства, вначале долго пылился на самой верхней полке в чулане, а потом и вовсе куда-то исчез.
И все-таки «вокальные безобразия» и даже танцы под Вертинского могли остаться лучшими минутами детства, если бы по воскресеньям после завтрака мама не заставляла его чистить примус. А примус он ненавидел. И не потому, что тот неприятно шумел, а потому, что в его обязанности входило раз в неделю корпус, пахнущий керосином, протирать специальной ветошью и до блеска начищать зубным порошком. Каждый раз, опуская обломок старой зубной щетки в коробку с белой смесью, маленький Семен Маркович мысленно повторял любимую мамину фразу: «Терпение и труд все перетрут». И не потому, что она ему нравилась, а потому, что он мечтал набраться терпения и протереть корпус так, чтобы в его латунной оболочке образовалась наконец дырка. Тогда мама выбросила бы этот агрегат на помойку. Тем более что у всех соседей к тому времени появились уже керогазы, а их драить каждую неделю было совершенно не обязательно. Но мама примус жалела, может быть, потому, что если корпус натереть до блеска, то тогда начинало казаться, что вокруг него появлялось некое сияние. А этого как бы сияния в ее жизни было очень мало.
А еще маленький Семен Маркович не любил воскресенья из-за водопроводчика, который тоже жил через дорогу рядом со школой и которому за высокий рост дали кличку Полтора Матвея. Однажды, когда уже доживший до седых волос Семен Маркович впервые увидел по телевизору президента Обаму, он вдруг понял, что Полтора Матвея из Бобруйска и Барак Обама из Вашингтона оказались чуть ли не двойниками. Полтора Матвея был практически точной копией американского президента, просто позитив и негатив. Правда, в отличие от своего двойника, Полтора Матвея не учился в университетах, не играл в гольф, не руководил страной, зато умел пробивать засоры в канализации и знал один анекдот. Маленького Семена Марковича не покидало чувство, что его мама была единственным человеком, которая над этим анекдотом смеялась. Семен Маркович понимал, что это был вежливый смех, правда, иногда он казался ему каким-то чересчур заискивающим, что ли. Но он не осуждал маму. Просто он ненавидел тот воскресный день, случавшийся раз в месяц, когда Полтора Матвея приходил к ним в гости с неизменной четвертинкой, а мама ставила перед ним тарелку с горбушкой свежего черного хлеба и чесноком, разделенным на несколько долек. И это при том, что мама знала, как маленький Семен Маркович любил эти горбушки. Но в такие моменты он отходил на второй план, потому что никак не вписывался в ритуальное действо, происходившее раз в месяц. Скорее наоборот – Семен Маркович из него выписывался, точнее, вычеркивался. Да, да, именно так.
Полтора Матвея наливал себе стопку водки, втирал чеснок в горбушку, выпивал, закусывал, а затем, смачно крякнув, рассказывал наконец свой любимый анекдот. После чего маленького Семена Марковича сразу же выпроваживали на улицу. Он кругами ходил вокруг дома, глотал слезы и клялся никогда не давать своим детям имя Матвей и никогда не прикасаться к чесноку. Первую часть клятвы ему удалось выполнить легко – детей у Семена Марковича не было, а вот со второй частью он не справился. Несколько раз в год он покупал себе четвертинку, черный хлеб и головку чеснока. Он не крякал, как это делал Полтора Матвея, и не рассказывал дурацких анекдотов. Но, видимо, таким образом он пытался вытеснить водопроводчика из своего детства, в котором мама должна была любить только его и никого больше. Иногда, правда, его при этом посещали мысли, а не записаться ли на прием к психиатру, но он так и не решился сделать это.
И, конечно, маленький Семен Маркович не любил воскресенья из-за того, что по выходным два раза в месяц мама водила его в баню. Называлось это – банный день. Мама будила Семена Марковича ранним утром, и они шли к длинному приземистому зданию, у которого окна были закрашены белой масляной краской. Маленький Семен Маркович не понимал только одного – почему его не купали дома. Ведь висела же на стене кладовки ванночка из оцинкованной жести, в которую он в то время мог легко уместиться. Неужели так тяжело было согреть на примусе воду? Нескольких небольших кастрюль вполне хватило бы, чтобы вымыть его с головы до ног. Нет, мама упорно тащила Семена Марковича за руку к этому страшному зданию. Тащила в любую погоду. Если был дождь, они шли под старым зонтом с вылезшей спицей, если была зима, мама везла его на санках, и полозья скрипели по желтому песку, которым посыпали улицы. Но главные мучения Семена Марковича начинались в предбаннике. Мама поднимала его на деревянную скамью и ловко освобождала от всех одежд. Семен Маркович застывал, чувствуя себя выставленным на всеобщее обозрение, и ждал, пока разденется мама, чтобы нырнуть затем во влажный воздух, заполненный странным гулом.
Этот гул Семен Маркович запомнил надолго. Он состоял из плеска воды, звона тазов, женского смеха и неразборчивых возгласов. А еще этот гул состоял из его позора. Вокруг Семена Марковича возникали намыленные головы, блестящие от воды груди, маленькие с торчащими сосками или большие, отвисшие до живота, покрытые синими прожилками. Он старался отвести глаза в сторону, но все равно натыкался либо на чью-то точеную фигурку, склоненную над тазом, либо на жирные складки, опускающиеся на широченные бедра, красные от резких движений мочалки. Мама тоже терла его мочалкой, окатывала водой, иногда отвечала на чьи-то замечания, что Семен Маркович еще совсем маленький, чтобы его стеснялись. А он, прикрывая ладошкой пипку, сгорал от стыда. Ему казалось, что все эти тети специально выставляют напоказ свои голые тела для того, чтобы унизить уже живущего в Семене Марковиче маленького мужчину, а унизив, вдоволь насладиться его беззащитностью. Странно, что его мама не замечала этого. Впрочем, она никогда не замечала того, чего замечать не хотела.
Бывали, правда, выходные, когда у них с мамой не было никаких дел и обязанностей, но и они имели свой привкус горечи. Особенно если это были походы в кино жаркими летними днями. На Семене Марковиче обычно красовалась сиреневая майка, заправленная в короткие штанишки на лямках, которые ему сшила соседка. Они заходили в прохладу фойе, где на стенах были развешаны фотографии знаменитых артистов, почти все вполоборота и с каким-то неестественным взглядом поверх голов их поклонников. А в дальнем углу стоял синий лоток продавщицы мороженого и дымился сухой лед, которым был обложен большой бидон с вожделенным лакомством. Продавщица брала вафельный стаканчик из стопки, стоящей на подносе, набирала алюминиевой ложкой белую массу из бидона и целиком внедряла ее в стаканчик, да так ловко, что поверх его всегда выпирала поблескивающая морозом покатая горка.
Семен Маркович бредил этим мороженым. Он теребил маму, подтаскивал ее к синему лотку, капризничал и даже пытался повалиться на пол. Но мама была непреклонна. «С твоим горлом, сыночка, – говорила она, – ни за что». И только когда распахивались двери в зрительный зал и фойе пустело, она подходила к продавщице и выпрашивала у нее вафельный стаканчик. Просто вафельный стаканчик. Пустой вафельный стаканчик. Семен Маркович сидел в темноте зала, беззвучно заливался горькими слезами и жевал хрустящую оболочку этого псевдомороженого, даже не подозревая, как во многом его жизнь будет потом похожа на этот стаканчик, куда не захотели или не смогли положить что-то очень для него важное.
Долгое время под словом «важное» Семен Маркович имел в виду свои отношения с прекрасным полом. С грустью он думал о том, что у него никогда не было того, что называется «первое свидание». Нет, свидания, конечно, были, но такого – с душевным трепетом, со стуком сердца, который слышен всем вокруг, такого не было. В один из воскресных дней, в классе, наверное, 9‑м, он пригласил в кино девочку из соседней школы. Маме Семен Маркович решил ничего не говорить, да она и ни о чем не спрашивала, просто молча смотрела, как он надраил ваксой ботинки, а затем намочил под краном чуб, пытаясь придать ему хоть какую-то видимость прически. Он торопился, опаздывал, но его вдруг усадили на стул и рассказали анекдот, как некий сын привел домой несколько своих подружек, а затем спросил у своей мамы, какую из них, по ее мнению, он хотел бы взять в жены. «Наверняка ту рыженькую», – ответила мама. «Как ты узнала?» – спросил сын. «Тоже мне бином Ньютона, – усмехнулась мама, – она единственная, кто мне сразу не понравилась».
Вроде бы просто анекдот. Но он как заноза застрял в голове у Семена Марковича. Кстати, в кино он тогда не успел, зато на всех своих потенциальных жен начал смотреть мамиными глазами. И тогда с ужасом обнаружилось, что ни одна из предполагаемых избранниц ей бы не понравилась. Мама почему-то свято верила, что ее сын станет нобелевским лауреатом по математике и, естественно, рядом с ним должна была быть женщина, достойная королевского бала. Все эти годы Семен Маркович не хотел огорчать ее тем, что в шведской академии не присваивают нобелевской премии по математике, и все из-за того, что возлюбленная господина Нобеля сбежала от него с неким коварным обольстителем. А коварный обольститель, к несчастью для всех математиков, занимался именно этой наукой.
В общем, к своим весьма уже почтенным годам Семен Маркович так и не сумел совершить свой выбор. У него не было даже любовницы, которая значилась бы женой, скажем, проректора по хозяйственной части института, где Семен Маркович возглавлял кафедру математики, и он не сбежал с ней в какой-нибудь Сыктывкар, чтобы тем самым войти если не в историю шведской академии, то хотя бы стать притчей во языцех внутри своего родного учреждения.
Однажды, когда ситуация с созданием собственной семьи зашла в очередной тупик, он взял отпуск, приехал в Бобруйск и сказал: «Выбери мне жену, мама, а я, так и быть, проживу с ней долго и счастливо, и умрем мы, как и полагается, в один день». Но мама была непреклонна. Она сказала: «Выбирать будешь ты, а утверждать твой выбор – этот труд, так и быть, я возьму на себя». Семен Маркович возразил, мол, он же математик, а не психолог, чтобы сделать верный выбор. Но мама ответила: «Вот именно, ты – математик, ты ее вычислишь».
Весь год после этого Семен Маркович пытался вычислить ту, кто бы ей понравился больше всего, а когда этого не случилось, положился на случай. Он нашел несколько брачных агентств, заполнил какие-то анкеты и стал надеяться на чудо. Недели через две ему позвонили. Сказали, что у них есть вариант, и попросили назначить время и место для знакомства. Он выбрал воскресенье, назвал адрес собственной квартиры, сделал уборку, сбегал в магазин, купил сыр, виноград, бутылку шампанского, набрал всяческих пирожных и прихватил в палатке на углу букет роз. Тех, что нравились маме, кремового цвета, не было, но он решил, что для такого случая вполне подойдут бордовые. Потом Семен Маркович надел костюм, который мама выбрала для него перед защитой докторской диссертации, и стал ждать. Он даже представил во всех подробностях, как сейчас откроется дверь, войдет Она, прекрасная незнакомка, и жизнь его изменится самым чудесным образом. Он так накачал себя этим видением, что ощутил и душевный трепет, и стук сердца такой, что его, пожалуй, могли услышать соседи. Если бы Семен Маркович в это время измерил давление, то, наверное, лучшим исходом для него была бы невеста, идущая на свидание после дежурства в больнице с полным набором медикаментов в сумочке с красным крестом.
А потом раздался звонок. Он схватил букет, подмигнул маминой фотографии, стоявшей у него на рабочем столе, и… остался на месте. Мама смотрела на него из-под стекла красивой отполированной рамки таким строгим и в то же время таким предостерегающим взглядом, как будто уже заранее знала, кто именно нажал на кнопку звонка, а потому была категорически против возможного альянса Семена Марковича и той, что стояла сейчас по другую сторону двери.
Когда звонки прекратились, он обреченно опустился на стул и вдруг вспомнил виденную когда-то карикатуру. На ней был изображен человек в арестантской робе, сидящий за решеткой. В руках этот человек держал легкий воздушный шарик, а к ногам его цепью был прикован другой шар – черный, тяжелый, чугунный. Семен Маркович уже забыл, что за подпись стояла под этой карикатурой, да и стояла ли она там вообще. Впрочем, это было не важно. Сейчас он ощущал себя точно таким же арестантом, только вместо воздушного шарика он держал в руке букет бордовых роз, а роль прикованного к ногам чугунного груза с тем же эффектом выполнял строгий взгляд мамы, не оставлявший его все эти годы.
Картинка, которая всплыла из потаенных глубин памяти, выглядела настолько достоверно, что Семен Маркович невольно посмотрел себе под ноги, не лежит ли рядом с ними тяжелый шар, пресекающий любую возможность побега. Это движение – глазами вниз – вывело его из того сомнамбулического состояния, в котором он пребывал большую часть поездки. А машина между тем уже свернула с Кольцевой и мчалась по ровной асфальтовой трассе, упиравшейся в стремительно приближающиеся аэродромные постройки.
Тяжелые осенние облака, накрывавшие оставленный позади город, здесь поредели. Казалось, они не выдерживали стремительного напора взлетающих и садящихся самолетов, а потому там вдали, над самым летным полем, нехотя расступались, образуя проталины, в которых виднелось светлеющее, предрассветное небо.
Когда остановились у одного из шлагбаумов и водитель приоткрыл окно, чтобы нажать кнопку для въезда на стоянку аэровокзала, в салон ворвался такой почти по-зимнему студеный воздух, что Семен Маркович втянул голову в плечи и невольно поднял воротник пальто. И тут он вдруг услышал голос мамы, как всегда спокойный и как всегда не терпящий возражений. «Сыночка, – прозвучало то ли рядом с ним, то ли внутри его, – не забудь повязать шарф, на улице ветер, а у тебя горло». У Семена Марковича на мгновение перехватило дыхание, потом сердце тяжело ухнуло куда-то в бездонную пропасть, но тотчас же возвратилось и забилось часто-часто, так что его обдало жаром, а руки и ноги стали совсем пустыми, и глаза стали пустыми, и даже слово «мама», которое он попытался произнести, тоже растворилось в этой овладевшей им пустоте. Он все понял. Понял, что не успел. Понял наконец, что было тем самым главным, ради которого он так торопился.
Он проходил через рамку металлоискателя, брал билет, стоял в накопителе, шел к своему креслу в салоне самолета и был при этом всего лишь какой-то оболочкой, выполнявшей заученные механические действия. Настоящий, истинный Семен Маркович, отрешенный от царящей вокруг суеты, находился совсем в другом месте, в том, куда он опоздал и где должен был сделать то, что теперь уже никогда не сможет сделать. А должен он был сидеть рядом с постелью мамы и разговаривать с ней, разговаривать без пауз, без перерыва, и она должна была рассказать ему о детстве, о семье, об отце, которого он никогда не видел, обо всем, что было на душе у нее, о том, что она любила, что помнила и что хотела бы забыть. А еще он держал бы ее за руку, а когда она уже не могла говорить, они бы просто молчали, и она чувствовала бы его тепло. А потом, когда ее рука стала бы холодеть и безжизненно опустилась, он бы понял, какой важный момент они пережили вместе, потому что мама была бы не одна перед тем, как вечность поглотила ее, и что, если бы он был рядом, может быть, она сумела преодолеть тот не поддающийся осмыслению страх, который переживает каждый человек, уходящий в небытие.
Он думал об этом все время, пока не опустился в свое кресло, а когда самолет вырулил на полосу, взревел мощными двигателями и стал набирать скорость, он закрыл глаза и не открывал их в течение всего полета. Ему то ли снилось, то ли грезилось, что мама сейчас почему-то исполняет тот самый танец, что так пугал его в детстве по воскресеньям. На ней была широкая юбка и красная повязка на голове, но только все это происходило уже не в их тесной комнате, а в каком-то огромном пространстве, у которого не было ни верха, ни низа, ни ограждающих его стен. Мама улыбалась, поднимала руки, щелкала пальцами, как кастаньетами, и звала его присоединиться. И он впервые в жизни сумел преодолеть себя и присоединился к этому танцу, а еще он наконец сумел допеть ту песню, что была на обратной стороне пластинки: «Вы ошибаетесь, друг дорогой, мы жили тогда на планете другой, и слишком устали, и слишком мы стары и для этого вальса, и для этой гитары…» Мама тоже впервые не прервала его, и они еще долго кружили друг вокруг друга. А там в их прошлом, «на планете другой», на круглом столе, в тесной комнате стоял патефон, и иголка шуршала, подойдя к самому концу пластинки, но не было в этой комнате никого, кто мог бы ее поднять и прекратить это вращение.
Реставрация
Бобруйским особнякам, построенным их владельцами для своих возлюбленных, посвящается
Все нутро мое было разворочено. Остатки обоев свисали со стен неряшливыми кусками. Из-под отбитой штукатурки проступала дранка. Окна зияли пустыми проемами, и это было мучительно, потому что сквозь щели в досках, которыми их наспех заколотили, всякий мог заглянуть внутрь и подивиться моему позору.
Только двери в полуподвал, где хранились материалы и инструменты, были заперты крепкими амбарными замками. От одного воспоминания об этих замках меня начинало мутить. Вся моя сущность, весь мой дух настолько противился любым навесным и встроенным запорам, что это стало чем-то вроде навязчивой идеи, моим кошмаром, причиной многих конфликтов и недоразумений.
Замки каждый раз проверял маленький толстый человечек, которого все вокруг называли Прорабом. Однажды, когда все жильцы уже покинули меня, он появился в одной из комнат и прикрепил на стене выцветшую от старости фотографию. На ней я узнал себя совсем молодым, когда был цел еще балкон и стояли перед самым входом четыре колонны, неизвестно куда потом подевавшиеся.
На снимке вокруг этих колонн и дальше во всю ширь мостовой толпился народ, а в воздухе застыли вскинутые вверх фуражки и шляпы. И все это было в честь той, что вышла на балкон, в благодарственном жесте прижав к груди руки. Это был триумф Великой Женщины, для которой за несколько лет до этого я был построен и подарен с любовью.
Старая фотография меня настолько разволновала, что Прораб показался вначале не то чтобы другом, но по крайней мере близким и хорошим знакомым. И только когда я понял, что интерес его к моему прошлому был вызван желанием восстановить внутри меня все, что было связано с памятью о Великой Женщине, я ужаснулся. До меня дошло вдруг, что отныне я снова буду обречен на соприкосновение с обстановкой, в которой жила она, и что видение моей хозяйки, с таким трудом изгоняемое из памяти, вновь обретет свою реальность.
Наши взаимоотношения, не простые с самого начала, обернувшиеся трагедией для Великой Женщины, грозили обернуться трагедией для меня самого, но теперь уже на долгое, бесконечно долгое время.
Я понимал, что каждая деталь восстановленного интерьера будет снова излучать ненависть, которую хозяйка стала питать ко мне с того самого момента, как покинул ее человек, преподнесший в качестве подарка мою модную по тем временам постройку. Ненависть эта, возраставшая с годами, делалась все более и более невыносимой, потому что именно меня Великая Женщина определила в заложники своего одиночества и медленного увядания.
Она знала все мои наиболее уязвимые места и во время приступов жгучей неприязни отсекала от меня одну комнату за другой, навешивая на каждую тяжелые амбарные замки. От этого у меня перехватывало дыхание, отказывало зрение, исчезало чувство реальности. Я начинал терять себя, мне необходимо было защититься, показать характер. А это означало только одно – войну.
Хозяйка пыталась укрыться от меня в одной из самых дальних комнат, но и там я не оставлял ее в покое. Я терзал ее былыми видениями, покачивал над ней грозивший обрушиться потолок, ядовитыми пятнами сырости проступал на выцветших обоях. Но когда ночами Великая Женщина вскакивала с постели и, всхлипывая, била кулачками по моим стенам, я не испытывал ни удовлетворения, ни жалости. Ко мне лишь приходило понимание того, что мы оба, в сущности, узники собственного одиночества, прикованные друг к другу цепью взаимных обид, счет которым был давно уже потерян.
Однажды утром я нашел ее посреди коридора, опрокинутой на спину, с остекленевшими глазами. Дряблое тело Великой Женщины было совсем легким. Рядом с этой легкостью бессмысленным оказался весь груз наших накопившихся раздоров.
Я нянчил тело, лежащее на полу, и беззвучно плакал. Я отпевал свою хозяйку, понимая при этом, что отпеваю самого себя, потому что с ее смертью что-то и для меня вдруг оборвалось, ушло безвозвратно.
Из состояния забытья, в которое я погрузился после торжественных похорон, меня не могли вывести ни странные кухонные запахи, состоящие из смеси керосина и жареного лука, ни унылые голоса многочисленных жильцов, получивших право занять опустевшие комнаты.
Я не удивился и не воспротивился происходящему. Измотанный войной с Великой Женщиной, я не чувствовал более ожесточения. И когда внезапно исчез неумолчный гомон множества семей, ютившихся в узких пеналах, возведенных ими внутри меня, я не испытал ни радости, ни облегчения. Меня посетила холодная, бесстрастная мудрость. Застывший в ее неподвижности, я даже не мог предположить, какую боль вызовет во мне все то, что деловито ощупывающие меня люди назвали страшным словом – реставрация.
Единственная, кто на короткое время смогла вывести меня из состояния отчаянной безысходности, была бог весть откуда взявшаяся юная практикантка, которую Прораб за глаза называл Вздорной Девчонкой.
Чураясь людей, не доверяя всем тем, кто измерял меня рулеткой, простукивал стены, соскабливал с дверей краску, я и Вздорную Девчонку вначале встретил очень настороженно. Но когда она приступила к взятию проб паркета и деревянных перегородок, мое отношение к ней стало постепенно меняться. Она так нежно касалась старых, изъеденных временем частей, так умилительно уговаривала нежным шепотком немножко потерпеть, что я и впрямь старался выглядеть еще молодцом.
Я стал испытывать даже какое-то странное удовольствие от того, что именно ей приоткрывал тайну своего происхождения. Мне хотелось, чтобы она непременно узнала о моем блистательном прошлом, о том, каким большим и каким щедрым я был когда-то.
Мне начинало нравиться в ней буквально все. И то, как она вбегала с улицы, словно торопясь на назначенную ей встречу, как легко взлетала по ступенькам, как весело здоровалась со всеми. Даже следы ее ног, отпечатанные на тонком слое известки, приводили меня в умиление.
Особенно я любил, когда она появлялась в только что восстановленном мраморном зале. Я специально приоткрывал туда дверь, чтобы Вздорная Девчонка, проходя мимо, непременно заглянула в это удивительное помещение, которым когда-то я так гордился. И она, словно чувствуя мое желание, заходила внутрь и застывала посреди мраморных плит, отшлифованных до зеркального блеска. А я, многократно повторяя на стенах ее отображение, начинал испытывать чувство неизъяснимого волнения.
Только два существа на земле смогли вызвать во мне подобные эмоции – Великая Женщина и Вздорная Девчонка. И когда я однажды подумал об этом, то вдруг осознал, как похожа юная практикантка на ту молодую женщину, ставшую впоследствии моей хозяйкой, которая впервые вошла под эти своды и застыла посреди предназначенного ей великолепия. Это был момент, когда мы оба поняли, что судьбы наши переплелись навсегда, и легкий ветерок вечности прошелестел по распахнутой анфиладе комнат.
И вот теперь благодаря Вздорной Девчонке сквозь завесу мрачных воспоминаний о вражде и ненависти внезапно проступила та солнечная пора моей любви к Великой Женщине, о которой я не вспоминал уже многие десятки бесконечно долгих лет.
Но, пока я блаженствовал в теплых лучах воспоминаний, нечто непоправимое произошло во взаимоотношениях Прораба и юной практикантки. Вздорная Девчонка начала приходить все реже и реже, а появившись, торопилась сделать свою работу и убежать.
Наступил день, когда она не пришла совсем.
Только однажды я еще раз увидел ее. Она подошла ко мне совсем близко, но войти не решилась, а лишь постояла немного, облокотившись на оранжевые перила лесов.
И тогда я понял – моя хозяйка никогда не оставит меня. Это были ее проделки. Это были козни злого духа Великой Женщины, которая еще при жизни не могла простить мне того, что из свидетеля ее триумфов я стал свидетелем разрушающейся красоты, трясущихся рук и слезящихся глаз. И теперь, спустя столько лет, этот дух приревновал меня к юной особе, боясь, что, доверившись ей, я смогу унизить Великую Женщину воспоминаниями о долгой, отвратительной старости.
И, осознав это, я вдруг ясно и совершенно трезво представил себе, каким Вздорная Девчонка видела меня все эти дни – наполовину разобранным, уродливым, поскрипывающим и подслеповатым.
И тогда я решился. Меня уже не волновало, был ли это мой собственный выбор или управляла всем железная воля Великой Женщины.
Я всегда знал, как соединить два конца электрической проводки, чтобы вызвать короткое замыкание. Знал слишком хорошо, потому что всегда этого боялся.
Когда примчались пожарные, я уже весь был в красных пятнах огня. По моим пустым глазницам хлестали водой. Мои внутренности заливали густой пеной. Длинными баграми растаскивали остатки моих перекрытий. Все было напрасно.
В какое-то мгновение сквозь вихрь обезумевшего огня мне показалось, что среди сбегающихся на пожар мелькнуло лицо Вздорной Девчонки. Я вгляделся, да, это была она. Я различил даже слезы, блеснувшие в ее глазах. И было в них столько тоски, столько неподдельной горечи, что я не выдержал. Я потянулся к ней. И рухнул.
Ленин, Лермонтов и Митя
1
В Бобруйске все любили считать, ну, или почти все. Продавцы на рынке считали прибыль, покупатели – убытки, оптимисты считали звезды на небе, пессимисты – дырки от бубликов, те, кто мучился бессонницей, считали по ночам бесчисленных овец. И только Мария Францевна Лиходиевская считала людей. Но не простых, а обязательно чем-то прославившихся. Впрочем, считала она не их самих, а цифры, указывающие на день, месяц и год рождения. И делала из своих подсчетов определенные выводы. То, чем она занималась, называлось нумерологией, но Мария Францевна никогда это слово не произносила. Нумерология считалась лженаукой, служанкой капитализма, а возможно, даже в чем-то и опиумом для народа. А Мария Францевна была женщиной осторожной. Когда-то давным-давно, задолго до своего появления в Бобруйске, она работала в Институте марксизма-ленинизма и занималась детальной, буквально по дням и часам, биографией почившего в бозе вождя самого передового во всем мире государства рабочих и крестьян. Существовала, правда, у некоторых горячих голов установка на то, что передовым это государство являлось также и во всей вселенной, но за неимением данных о существовании других планет, заселенных рабочими и крестьянами, с этой идеей решили пока повременить.
Мария Францевна была сотрудницей молодой, добросовестной, но, очевидно, чересчур въедливой. Ее интересовали не только циркуляры полиции, донесения охранки и анонимки всяких завистливых соратников, но прежде всего даты самых значительных событий в жизни своего героя. В этой работе ей нравилось все, кроме здания, в котором она работала. Здание было новым, построено почти в самом центре Москвы любителями кубических форм, и поэтому фасад его назойливо напоминал Марии Францевне огромную бетонную решетку. Наверное, такое сравнение можно было назвать предвидением, наверное, еще как-то похлеще и потаинственней, но когда прямо на рабочем месте ее арестовали и отвезли на Лубянку, это почему-то не стало для нее большой неожиданностью. Скорее большой неожиданностью стало то, что она выжила в лагерях, потом на поселении встретила своего мужа инженера Лиходиевского, работавшего до ареста врагом народа внутри крупного строительного треста, и уже вместе с ним после освобождения оказалась в благословенном Бобруйске.
Впрочем, и для Бобруйска их появление тоже было неожиданным. Они оба возникли как бы из небытия: вчера еще их не было, а сегодня – здрасте. В Бобруйске такие фокусы не любили. Должна же была прослеживаться хоть какая-нибудь причинно-следственная связь, объясняющая их появление. И хотя даосское учение о причинно-следственных связях кумушки, лузгающие семечки около своих палисадников, не жаловали, ну хотя бы потому, что ничего о нем не знали, тем не менее они с упорством, достойным лучших китайских мудрецов, пытались связать воедино город Бобруйск и внезапно появившуюся в нем чету Лиходиевских. А поскольку факты для выстраивания достоверной картины у них отсутствовали, то великое даосское учение – то самое, о котором они ничего не знали, – пришлось задвинуть куда подальше. Зато в пику ему была выдвинута устроившая всех версия, что оба пришельца сбежали от своих бывших благоверных и решили под конец жизни свить гнездышко в благословенном Бобруйске, куда, по мнению его жителей, стремились все, но не всем выпадало такое счастье.
2
Неудавшийся враг народа, а ныне прораб Лиходиевский, руководивший возведением гостиницы под оригинальным названием «Бобруйская», худо ли, бедно, но в окружавший его ландшафт вписался. Был он коренастый крепыш, носил потертое кожаное пальто, кепку-восьмиклинку и сапоги, всегда начищенные до зеркального блеска, голову при этом он брил наголо, курил папиросы «Беломорканал» и водку покупал, как все, исключительно за 2 рубля 12 копеек.
А вот с Марией Францевной дела обстояли далеко не блестяще. Чувствовалась в ней какая-то нездешняя утонченность, чрезмерная вежливость и благожелательность, переходящая всякие установленные в городе границы. Где это видано, чтобы продавцам, которые тебя только что беззастенчиво обсчитали, виновато улыбнуться в ответ и, уходя, вместо десяти египетских казней пожелать доброго дня и всяческих благ. В общем, белая ворона и никак иначе. Хотя сходства с вороной у Марии Францевны не было никакого. Скорее ее плоское личико, крючковатый нос, большие круглые очки с толстыми стеклами да к тому же короткая прическа делали ее похожей на ученую сову, которая сидит в дупле, обложившись книгами, курит, очевидно по лагерной еще привычке, дешевые папиросы и упорно желает судить об окружающем мире исключительно по тому, что об этом написали разные мудрые авторы.
Летом роль дупла для Марии Францевны выполнял балкон на втором этаже самого обычного дома. Дом был обычным, а вот балконы на нем почему-то называли бобруйскими. Нет-нет – на первый взгляд все было вполне привычно. Бобруйские балконы также нависали над тротуаром, на них можно было даже выходить – местные архитекторы для этих целей спроектировали дверь, позволяющую курсировать между балконом и комнатой, но все это лишь на первый взгляд. На второй – внимательный наблюдатель обнаружил бы, что между так называемыми балконами по-бобруйски практически нет никаких разрывов. Протиснуть между ограждающими перилами двух соседних балконов сложенную пополам городскую газету «Коммунист», наверное, было возможно, но на большее рассчитывать не приходилось. Короче, для того чтобы перейти с одного балкона на другой, никаких особых усилий не требовалось, чем, кстати, многие живущие по соседству беззастенчиво пользовались. Пригласишь, например, к себе домой подругу, устроишь романтический ужин при свечах, добьешься наконец желанного поцелуя и уже готов перейти к более интимным пунктам программы, как вдруг на твоем балконе появляется небритый сосед в майке и тренировочных штанах, вздутых пузырями на коленях, чтобы одолжить клистир, поскольку его супруга третий день не может опорожнить кишечник. Впрочем, если бобруйские архитекторы ставили перед собой сверхзадачу по духовному сближению жильцов этого дома не только внутри его стен, но и непосредственно с их наружной стороны, то, надо сказать, справились они с этим блестяще.
3
Может быть, именно этот каприз архитекторов и привел к тому, что в жизни Мити появилась путеводная звезда под названием «Лермонтов», хотя, может быть, здесь сыграл свою роль случай, а возможно, вступила в дело некая просчитанная нездешними умами матрица, в которой четко действовал закон сохранения всего сущего, то есть если в каком-то месте убыло (имеется в виду Мария Францевна с ее мужем), то в другом месте прибыло. Во всяком случае, чета Лиходиевских прибыла аккурат в соседний с Митей подъезд, в квартиру на втором этаже, имеющую балкон, находившийся в непосредственной близости от того, на котором Митя проводил последний месяц лета.
Впрочем, не все ли равно – каприз, случай или матрица. Назовем это Судьбой, приняв во внимание определение, данное ей мудрыми жителями города Бобруйска. Судьба – это когда ты идешь по улице и на голову тебе падает кирпич. Правда, такая формулировка имела и свою обратную сторону: если кирпич пролетел мимо, то, следовательно, это уже не судьба. Но в Митином случае у Судьбы был заготовлен третий вариант, и состоял он не из одного, а сразу двух кирпичей, которые не стали падать ему на голову, а просто лежали на соседнем балконе и выглядели как обычные книги: одна побольше – коричневого цвета, другая поменьше – зеленая. Книги лежали на столике, придвинутом к уютному плетеному креслу, на котором Мария Францевна любила, оторвавшись от чтения, подымить очередной папиросой или покормить крошками суетливых воробьев. Хитрые птицы оставляли своих часовых на соседних деревьях, и как только те давали сигнал, моментально слетались к ее балкону.
Мите было тогда 15 лет, он перевелся в вечернюю школу и готовился идти на завод, чтобы зарабатывать трудовой стаж, необходимый по тем временам для поступления в институт. Наверное, только молодостью можно объяснить, что, не почувствовав никакого подвоха со стороны все той же Судьбы, он, когда Мария Францевна в очередной раз ушла в глубину своей комнаты, протянул руку к столику на соседнем балконе. Это был роковой момент! Если бы Митя знал, что перед ним всего лишь наживка, которую он должен был заглотить, чтобы случилось все последующее, неизвестно, стал бы он любопытствовать по поводу того, что именно читала ученая сова в эти теплые дни уходящего лета.
А с другой стороны, может быть, Судьба, сидящая в полутемном партере за режиссерским пультом, уже высветила своим фонариком то место в тщательно прописанном сценарии, где Митина рука должна была непременно просунуться между прутьями ограждения и коснуться обложки одной из оставленных книг, а стоящая за кулисами Мария Францевна в то же самое время занесла ногу, чтобы сделать шаг из комнаты на балкон и, увидев, как он покраснел, произнести сакраментальное: «Нет ничего зазорного в том, что юноша тянется к знанию».
Книга, до которой Митя дотянулся, оказалась каким-то томом из полного собрания сочинений Ленина. Хорошо изданная, в твердом переплете, с барельефом вождя на обложке – на него она не произвела ровным счетом никакого впечатления. Ну, книга, ну, барельеф, ну, Ленин. В жизни Мити его присутствие ощущалось в те годы постоянно. Памятники, статуэтки, значки, картины и картинки – Ленин был почти как член семьи у всех, кто населял тогда огромную страну СССР. Появившийся позже анекдот о том, что в магазинах продается трехспальная кровать под названием «Ленин с нами», был больше чем просто анекдот, это было признание. Про Ленина пели песни, Ленину присягали, его именем клялись. И Митя, естественно, клялся вместе со всеми. За пять лет до встречи с Марией Францевной, когда его класс принимали в пионеры, он, стоя в актовом зале школы, покорно повторял за старшим пионервожатым: «Торжественно клянусь жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин».
В гулком зале слова клятвы смешивались с отголоском какого-то политически неблагонадежного эха, а потому превращались в сплошное: там-та-ра-ри-та-та-та. И лишь в самом конце церемонии, когда старший пионервожатый, желая перебить невнятную монотонность, зычно гаркнул два последних слова из положенной в таких случаях речи: «Будьте готовы!» – Митя вздрогнул, заученно поднял руку, отдавая салют, и испуганно ответил вместе со всеми: «Всегда готовы!»
Но к тому, что произошло в августовские дни на двух расположенных рядом балконах, он не был готов абсолютно. Неизвестно, почему именно его Мария Францевна выбрала на роль покорного слушателя. Может быть, ей было чересчур одиноко, может быть, она просто истосковалась хоть по какой-нибудь мало-мальской аудитории, а может быть, все та же неугомонная Судьба следила, чтобы написанный ею сценарий неукоснительно выполнялся. Так или иначе, но в ближайшие несколько часов Мите пришлось совершить множество удивительных открытий.
4
– Годы жизни Ленина: 1870–1924, – доверительно сообщила ему Мария Францевна. – Если их последовательно сложить, – продолжила она, – то получим 16 и 16, а если будем складывать дальше: 1+6 и 1+6 … – Тут она взяла многозначительную паузу и начала протирать очки, напомнив Мите учителя математики, который, перед тем как поставить очередную двойку, тоже тщательно протирал очки, потом произносил свою коронную фразу: «Художник Репин, «Не ждали», – и любовно выводил в дневнике честно заработанную оценку. Митя не знал, сколько еще продлится повисшая пауза, но, вспомнив своего школьного учителя, поспешил подвести итог:
– Получится семерка и семерка.
– Отлично! – заулыбалась Мария Францевна так, будто он только что решил задачу невероятной сложности. – Именно две семерки, – радовалась она, прижимая к своей груди том, входящий в полное собрание сочинений вождя мирового пролетариата. Наверное, Герман из «Пиковой дамы» не был так счастлив, узнав карточный секрет графини, как сейчас Мария Францевна была счастлива тому, что кто-то еще, кроме нее, сумел прикоснуться к тайне великого человека.
Потом она достала из лежащей возле кресла деревянной шкатулки очередную папиросу, чиркнула спичкой, затянулась, разогнала рукой струйку дыма и уже совершенно спокойным голосом сказала:
– Если у кого-либо число рождения совпадает с числом смерти, то, как написано в старинных манускриптах, такой человек пришел в наш мир, чтобы перетряхнуть все его грязное белье.
То, что манускрипты – старинные рукописи, Митя уже знал, но то, что товарищ Ленин занимался грязным бельем, разбросанным по разным странам и континентам, это было для него, пожалуй, чересчур. Марию Францевну, однако, его эмоции не очень-то интересовали. Она снова затянулась, снова разогнала ладошкой дым и продолжила:
– Надеюсь, Вы поняли, что число «7» для нашего с Вами Владимира Ильича было главным, то есть все основные моменты его жизни так или иначе оказались связаны именно с ним.
Вначале Митя уловил только одно – оказывается, Мария Францевна обращалась к нему на «Вы», после этого открытия он попытался осмыслить связь Владимира Ильича с загадочной семеркой, но, если честно, у него ничего не получилось.
– Ну, это же просто, – заметив его затруднение, подбодрила Мария Францевна, – Владимир Ильич – человек числа «7», и это все, что надо знать, чтобы правильно ориентироваться в его биографии.
Вряд ли эти слова для Мити хоть что-нибудь прояснили. Человека с таким числом он знал только одного – это был Зураб Джадашвили, или просто Джада, как все его называли. Джада выступал за футбольный клуб бобруйского СКА и был кумиром всех местных мальчишек. Он блестяще отрабатывал в защите и в нападении, играл в команде, как тогда говорили, «правого полусреднего» и носил на своей красной футболке большую белую цифру «7». Но представить себе, что вождь мирового пролетариата в шипованных бутсах, гетрах, натянутых почти до колен, в длинных черных трусах и в красной майке с номером «7» на спине бегает по футбольному полю, кричит: «Пас, батенька, пас!» – а потом, высоко выпрыгнув, головой забивает архиважный мяч в сетку ворот противника – это, знаете ли, попахивало выговором по комсомольской линии и характеристикой, закрывавшей двери для поступления не только в институт, но даже в ученики сапожника, сидящего в своей будке напротив колхозного рынка.
Митя отогнал от себя крамольное видение, но на смену ему тотчас же пришло другое.
– Вспомним, – сказала Мария Францевна, – что именно седьмого числа в декабре 1887 года Володю Ульянова отчислили из университета и выслали под надзор полиции.
Тон у нее был такой, будто Митя все это знал, вот только, может быть, подзабыл немного. А так, конечно, сидит его превосходительство ректор Казанского университета, макает в чернильницу ручку и думает, а когда, собственно, отчислить из студентов этого неугомонного Ульянова. Шестого числа вроде бы еще рано. Восьмого – будет уже поздно. Уволю-ка я его седьмого. И с тех пор покатилось. В длинном списке судьбоносных событий, помеченных числом «7», которые Митя запомнил, значилась Надя Крупская с мамой и тяжеленным чемоданом, в котором были книги и варенье, – 7 мая они приехали к будущему мужу и зятю в Шушенское. Затем некий господин Карпов – под этим псевдонимом 7 ноября 1905 года Ленин нелегально пересек границу России и появился в гриппозном и дождливом Петербурге, а через два года тоже 7-го числа, но только уже в декабре, вынужден был бежать из любимой Родины куда подальше по очень тонкому льду Финского залива. А еще врезались Мите в память польские жандармы, которые в самом начале Первой мировой нетерпеливо посматривали на августовский календарь, когда же наступит это чертово число «7», чтобы начать операцию по аресту подозрительного русского. И, конечно, присоединившиеся к ним ищейки Керенского, они тоже не стали портить общей картины, дождались 7 июля, только уже 1917 года, и объявили наконец в розыск гражданина Ульянова (Ленина), а тот, уйдя у них из-под носа, укрылся в конспиративном шалаше и посылал оттуда ненавистным буржуям свой пламенный пролетарский привет.
И это была лишь малая толика тех событий, когда семерка выскакивала, словно чертик из табакерки, путая карты противникам будущего вождя и спасая его в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. А когда все же случилась непредвиденная закавыка и главное дело его жизни – пролетарская революция – произошла вопреки всем расчетам Марии Францевны почему-то 25 октября, то и здесь история поспешила исправить ошибку: большевики, по настоянию Ленина, перешли со старого юлианского календаря на новый григорианский, и ноябрьское отлитое в бронзе число «семь» гордо воссияло над миром.
5
Если честно, то, как Митя вскоре покинул балкон, было похоже на элементарное бегство. Он оказался переполнен информацией. Число «7» стояло у него в глазах, лезло из ушей, отдавало странным привкусом во рту, если он пытался его произнести. Единственное, что Митю еще какое-то время удерживало около Марии Францевны, была зеленая книга, лежащая по-прежнему на круглом столике и, казалось ему, хранившая куда как больше тайн, нежели тот коричневого цвета том, который все это время нежно прижимала к себе его соседка.
Но с этой зеленой книгой все вышло совсем не так, как можно было предположить. Судьба словно раздумывала, стоит или нет передавать ее в Митины руки, а потому мешкала и всячески оттягивала заветный момент. Во всяком случае, той же ночью за стенкой его квартиры, которая граничила с квартирой Лиходиевских, послышались какой-то странный шум и чужие голоса. Слышимость в доме благодаря славным бобруйским строителям была почти идеальной, но понять, о чем бубнили за тонкой стенкой, ни он, ни проснувшиеся родители так и не смогли. Митина мама предположила, что соседей грабят и надо вызывать милицию, на что его папа резонно возразил, что в таком случае были бы слышны крики о помощи, а раз с той стороны никто не кричит, значит… тут папа и мама переглянулись, и папа шепотом сказал: «Это обыск».
Митя не спал до утра, лихорадочно вертелся в постели, и ему казалось, если это обыск, то, наверное, придут и к ним. А что, если, думал он, число «7» в биографии Ленина составляет некую государственную тайну, а Мария Францевна об этой тайне догадалась и даже разгласила ее совершенно постороннему человеку. Те резоны, что разговор на балконе никто не мог услышать, полностью разбивались о качество перегородок, возведенных в доме. Он уже не сомневался, что кто-то из соседей все тщательно зафиксировал и сразу передал добытую информацию в соответствующие органы. Обливаясь холодным потом, Митя даже пытался вычислить предполагаемого доносчика, но потом решил, что это бессмысленно, поскольку сотрудники в синих фуражках с чистыми руками и горячим сердцем уже были на месте и перетряхивали за стенкой все подозрительные вещи в поисках антигосударственной крамолы.
Ранним утром он дождался момента, когда соседи внизу включили на полную громкость радио, передающее утреннюю гимнастику, и под настойчивые фразы: «Встаньте прямо, голову держите выше, плечи слегка отведите назад, на месте шагом марш» – бесшумно пробрался на балкон и неожиданно наткнулся на мужа Марии Францевны. Тот, видимо, только что в очередной раз побрил голову и сейчас, укутав ее белым вафельным полотенцем, шарил в деревянной шкатулке, пытаясь отыскать папиросу.
– Здравствуйте, – осторожно поздоровался Митя.
– Здравствуй, – ответил муж Марии Францевны, – и, ради бога, извинись от моего имени перед родителями за ночной шум, Маше стало плохо, пришлось вызывать «Скорую». Теперь она в больнице.
– Какое счастье, – невольно вырвалось у Мити.
Лиходиевский как-то странно посмотрел в его сторону, сдернул с головы полотенце и ушел в комнату.
– Это не то, что вы подумали, – крикнул Митя ему вслед, а затем поежился от утренней прохлады и под бодрый фортепьянный аккомпанемент поставил, как велел неугомонный диктор, левую ногу в сторону на носок, руки поднял кверху, сделал вдох, с удовольствием потянулся и не забыл вернуться в исходное положение.
6
Митин отец работал завхозом городской больницы, а потому узнать, где именно лежит их соседка, особого труда не составило. Он не помнил уже, какой тогда был день, да это было и не важно. Халат ему выдали не по росту, он завернулся в него, как в большой белый мешок, и, неся перед собой кулек с истекающей соком вишней, осторожно приоткрыл дверь огромной палаты. Марию Францевну поместили в дальнем углу около окна, и, если бы не зеленая книга на тумбочке рядом с ней, Мите пришлось бы поплутать между десятком металлических коек, всматриваясь в лица их обитателей.
Мария Францевна лежала на спине, без очков, а потому подслеповато щурилась, глядя в большое больничное окно, заляпанное косыми струйками начинающегося дождя. Появление Мити она восприняла как должное и указала кивком на расшатанный деревянный стул около тумбочки. Когда он с опаской уселся и выложил вишню в большую тарелку с желтым ободком, которую дала ему какая-то тетка с соседней койки, Мария Францевна удовлетворенно кивнула, но не проронила ни единого слова. Митя даже вначале подумал, что врачи запретили ей разговаривать. Так они и сидели некоторое время.
– Когда меня арестовали, – внезапно сказала она, как будто продолжила прерванный разговор, – я была беременна. Сын родился уже в тюрьме, но прожил недолго, мне даже не дали его похоронить. С тех пор на каждый день рождения я готовлю для него какой-нибудь подарок. В лагере это были всякие поделки, которые мы мастерили в нашем отряде, а когда вышла на волю, стала дарить ему книги. Та, что лежит на тумбочке, – последняя.
Она снова замолчала. Дождь за окном усилился, стало слышно, как капли барабанят по обитому жестью карнизу, и звонкое их цоканье начало перекрывать легкий гул, который стоял в палате. Лицо Марии Францевны за эти дни осунулось до неузнаваемости, хотя, может быть, Мите так показалось, потому что он никогда не видел ее без очков. Но что точно изменилось, так это губы, они превратились в две полоски синюшного цвета и вместе с темными кругами под глазами выдавали какую-то общую болезненную обреченность. Одни только руки, лежащие поверх одеяла, жили своей жизнью. Большие узловатые пальцы все время теребили грубое полотно больничного пододеяльника и, казалось, не имели ничего общего с дряблой, морщинистой кожей, покрытой пятнами старческого увядания. Когда он уходил, она едва заметно кивнула, и все.
Митя еще некоторое время постоял под козырьком входной двери, ожидая, когда дождь из молодого и наглого превратится в шаркающего старика и закончит свои похождения безобидными каплями, слетающими с растрепанных деревьев, а потом поднял воротник и, обходя бесчисленные бобруйские лужи, пошел домой. Больше он со своей соседкой не виделся.
7
Марии Францевны не стало через два дня. Ее муж привез со стройки несколько рабочих, они вынесли гроб из больничного морга, погрузили в грузовик и отвезли на кладбище. От жильцов дома на этих похоронах был только Митя. Когда все закончилось и на свежий желтый холмик поставили фанерный обелиск с красной жестяной звездой, а рабочие распили бутылку водки и потянулись к выходу, Лиходиевский подошел к нему и молча протянул руку. Митя тогда первый раз в жизни понял, что значит настоящее мужское рукопожатие.
Через несколько дней в дверь его квартиры позвонили. На пороге стоял муж Марии Францевны, в руках его была та самая зеленая книга.
– Возьми, – сказал он Мите, – Маша просила, чтобы я обязательно передал ее тебе.
Зеленая книга оказалась первым томом из четырех, выпущенных к стапятидесятилетию со дня рождения Лермонтова. Митя повертел ее в руках, а потом поставил во второй ряд книжной полки, которая висела над столом, где он обычно делал уроки. Ему почему-то не хотелось, чтобы она была на виду, словно тем самым он невольно выдавал чью-то тайну.
Потом прошло почти полгода, и Митя постепенно забыл о ней, так много дел – завод, вечерняя школа, первая любовь – навалились на него практически одновременно. Но книга сама напомнила о себе. Случилось это ранней весной, когда начальник цеха, где он к тому времени уже самостоятельно работал за токарным станком, подрядил его и еще несколько комсомольцев на уборку заводской территории к какому-то очередному празднику. В помощь им были приданы две телеги, гордо именуемые внутризаводским транспортом. В эти телеги обычно впрягали двух грустных меринов, которые жили в особом загоне около проходной и постоянно шлепали губами, словно хотели на что-то пожаловаться. Завод выпускал специальные кормозапарники для окрестных колхозов, и кто-то из благодарных клиентов подарил заводчанам этих флегматичных созданий, символизирующих пресловутую лошадиную силу. Неизвестно, как их именовали в родных пенатах, но на заводе им присвоили совершенно особые клички – одного из них назвали Пушкин, другого – Лермонтов. Это ни в коем случае не выглядело как насмешка над классиками русской словесности, упаси бог, просто жители города Бобруйска именно так привыкли демонстрировать свой культурный уровень. А как еще прикажете его проявить, если не называть что-либо в окружающем пространстве именами великих личностей. По крайней мере, все будут в курсе, что эти имена вам известны.
Мите досталась телега с лошадью по кличке Лермонтов. Но едва он дотащил до нее очередную тяжеленную болванку и с трудом перебросил ее через деревянный бортик, как Лермонтов почему-то решил, что с него хватит, и начал движение в сторону ворот. Проблема была в том, что нога Мити оказалась под задним колесом. И когда колесо медленно по ней проехало, единственное, что он успел – вскрикнуть и сдернуть с ноги ботинок, потому что переломанные пальцы стали тотчас же распухать, а вся ступня запульсировала невыносимой болью.
Так он оказался на больничном с ногой, укутанной в гипс, и массой неожиданно свободного времени. «Привет», который передал ему заводской Лермонтов, романтичная душа Мити восприняла как некий сигнал, требующий тщательного осмысления. Он понял, что сама жизнь не оставила ему иного выбора, кроме как осторожно встать на стул и достать из второго ряда книжной полки заветный зеленый томик. Так он и сделал – достал его, открыл и пропал.
Лермонтов не покидал его теперь ни днем ни ночью. Во сне вместе с поэтом приходила к Мите еще и Мария Францевна, только гораздо моложе, чем та, которую он знал, и они – Лермонтов и Митина соседка – на два голоса начинали говорить с ним какими-то особенными стихами. Митя просыпался, пытался вспомнить, что это были за стихи, но они ускользали от него, растворялись в ночном воздухе, а он пытался уснуть, чтобы на сей раз удержать в памяти их затейливую вязь. В общем, это все надо было пережить, этим надо было переболеть. К концу его вынужденного заточения он окончательно понял, кто его любимый поэт. Единственное, чего он еще тогда не знал, какую роль суждено было сыграть Лермонтову в личной Митиной судьбе. И узнать ему это пришлось еще не скоро.
8
Через два года Митя уехал из Бобруйска, поступил в институт, потом попал по распределению в Москву, в один из многочисленных тогда «почтовых ящиков», а потом случилось лето, когда в окрестностях столицы начали гореть торфяные болота. Он хорошо помнил тот тяжелый августовский зной. Комнату, в которой Митя трудился, солнце прогревало так, что рыжий линолеум, постеленный на пол, плавился и, казалось, прожигал насквозь подошвы легких туфель. Окна из-за запаха гари держали закрытыми. Сотрудники в белых халатах, надетых на голое тело, двигались медленно, как сонные мухи, а вся работа делилась между периодами, когда на линолеум выливали ведро холодной воды, и теми получасовыми перерывами, когда почти все дремали, сидя около своих чертежных досок.
Митя, наверное, был один из немногих, кто не чувствовал на себе воздействия жара, скорее наоборот – его время от времени била лихорадочная дрожь. Объяснялось это вовсе не какой-то особой жароустойчивостью организма, а тем, что как раз в эти дни многое в его жизни могло измениться. Он послал свои рассказы одному известному писателю, набиравшему семинар для подготовки будущих, как тогда любили говорить, инженеров человеческих душ, и теперь, со все нарастающим волнением, каждый день ждал заветного звонка.
Утром того воскресного дня, когда ему наконец позвонили и пригласили на беседу, с погодой произошло чудо. Синоптики вещали что-то о распавшемся антициклоне, и было заметно, что на сей раз они попали в яблочко. На небо периодически набегали еще робкие, но уже подающие надежду облака, ветер дул с разных сторон, пытаясь нащупать направление главного удара, и даже запах гари впервые за долгое время не досаждал своими удушливыми волнами.
Писатель, как и положено всем маститым и знаменитым, жил в огромном сером доме практически напротив кремлевских башен. Митя шел к нему от метро «Библиотека имени Ленина» мимо Дома Пашковых, а затем по Большому Каменному мосту и чувствовал на фоне открывающихся перед глазами столичных красот какую-то неизвестную ему доселе робость и даже неуверенность в том, сможет ли он достойно существовать в этом державном пространстве, благоволящем к одним и безжалостно превращающем в труху и пепел множество других, не вписавшихся в жесткие рамки его бескомпромиссных правил.
В подъезде дома, куда он вошел, запах гари еще так до конца и не выветрился, но чем выше Митя поднимался, тем все легче и легче дышалось свежим прозрачным воздухом, проникающим сквозь приоткрытые окна лестничных площадок. Дверь ему открыла женщина в цветастом фартуке с тряпкой в руке – явно отмывала квартиру от закончившегося наконец зноя. Она провела его по длинному коридору, сплошь уставленному книжными шкафами, в комнату, похожую на мебельный салон какого-то антикварного магазина, и оставила стоять посреди ее, словно дав Мите время насладиться красотой изящно инкрустированного стола, затейливого вида диваном с синей бархатной обивкой, стульями с высокими спинками и закругленными поручнями, каждый из которых был, очевидно, копией какого-нибудь трона, предназначенного для царственных особ.
Но поразило Митю не это. В самом углу комнаты на небольшом столике, стоящем между золоченым торшером и черным стеклянным баром, расположился предмет его зависти – пишущая машинка Optima, над ней висел внушительных размеров портрет Ленина, а рядом с машинкой лежал зеленый томик стихов Лермонтова. Тот самый. Он знал, конечно, что квартира принадлежит писателю, который прославился работами о вожде мирового пролетариата, но увидеть здесь еще и томик стихов Лермонтова – это было уже как-то чересчур.
Впрочем, увиденное подействовало на него лучше всякого успокоительного. Он почему-то уверовал, что раз здесь находится его любимая книга, то все должно разрешиться наилучшим образом, и когда из боковой двери появился будущий наставник – так Митя уже мысленно о нем думал, – коленки его не дрожали, взгляд был ясным, а рукопожатие крепким.
Наставник выглядел странно и даже несколько комично. Был он небольшого роста, одет в широкие синие джинсы на подтяжках и джинсовую же рубашку, с трудом застегнутую на выпирающем животе, отчего фигура его в профиль смахивала на разрезанную пополам большую перезрелую грушу. Но внешние несуразности компенсировались зарядом такой мощной внутренней энергии, что через какое-то время Митя уже не замечал ни изъянов фигуры, ни растрепанных седых волос, ни коротких пальцев, нервно барабанящих по любому попавшемуся под руку предмету. А еще Митю поразило его лицо. Если бы не обвисшие щеки, выбритые до синевы, то крючковатый нос и круглые толстые стекла очков делали наставника похожим на мудрую сову, такую же, на которую когда-то была похожа давняя Митина соседка.
9
Наставник, видимо, никуда не торопился. Он подробно разобрал Митины литературные опусы, а потом, пока женщина в цветастом фартуке осторожно протирала мебельные раритеты, они сидели на кухне, пили заваренный на каких-то целебных травках чай, и Митя рассказывал о загадочной цифре «7», которая столько раз самым чудесным образом появлялась в биографии Ленина. Наставник похохатывал, постукивал пальцами по столу, а иногда срывался с места, чтобы проверить ту или иную дату. Потом посерьезнел и сказал:
– Альберт Эйнштейн считал, что есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Похоже, твоя соседка хотела, чтобы в ее мире главным был второй способ.
Митя пожал плечами, но мысль великого Эйнштейна запомнил. До сих пор ему казалось, что он жил по первому варианту, но теперь он не прочь был испробовать на себе вторую часть постулата. Тем более что действительность в этот день на всяческие чудеса не скупилась. Когда они снова оказались среди тщательно протертого антиквариата, Митя набрался храбрости и спросил, что делают стихи Лермонтова под портретом вождя, который с лукавым прищуром вглядывался в зеленую книгу.
– Это грустная история, – сказал наставник. – Я пишу сценарий фильма о последних днях Ильича и вот раскопал. – Он взял в руки книгу и открыл ее в том месте, где была закладка из сложенного пополам листа писчей бумаги. – Стихотворение «Сон», одно из последних, написано незадолго до дуэли, – и начал читать нараспев: – «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я…» – потом захлопнул книгу и положил ее на место. – Саша лучше прочтет, – сказал он.
Митя постеснялся спросить, кто такой Саша. Наверное, подумал он, актер, которого утвердили на роль вождя.
– Я знаю этот стих, – сказал Митя и продолжил начатое: – Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилася моя… Но при чем здесь Ленин? – спросил он.
– Видишь ли, – подойдя вплотную к Мите, доверительно сообщил наставник, – Владимир Ильич любил это стихотворение, а незадолго до смерти прочел его наизусть и после этого ни с кем уже не общался, интеллект его умер, хотя жизнь еще продолжалась, врачи смогли продлить ее практически на две недели.
– Когда это произошло? – спросил Митя.
Наставник полез в свои записи.
– 7 января, – сказал он, а потом внимательно посмотрел на Митю, словно хотел уличить его в каком-то подлоге.
Теперь Митя понял, почему на тумбочке в больнице у Марии Францевны лежал томик Лермонтова, а еще догадался, какое именно стихотворение читала она перед тем, как уйти из этого мира. Но это были еще не все чудеса, случившиеся в тот воскресный день.
– Ты в команде, – сказал наставник перед тем, как они попрощались, – и у меня к тебе просьба. Отвези, будь добр, приглашение на закрытый прогон моей пьесы. – Он сунул Мите какой-то затейливый конверт, затем подошел к машинке, вставил лист бумаги и ловко всеми десятью пальцами напечатал адрес и фамилию того, кому это приглашение предназначалось. – Слава богу, это последнее, – произнес он, провожая Митю по длинному коридору к двери, – по остальным адресам твои будущие коллеги уже побывали.
– Команда, коллеги, команда, коллеги, – повторял про себя Митя, сбегая по лестнице. Ему нравились эти слова, нравился наставник, нравилась улица, на которую он, не сбавляя скорости, выскочил из подъезда – теперь она была к нему дружелюбна и внушала надежду, – нравилась даже погода, несмотря на ветер, который все крепчал и грозил нагнать дождливые облака. Он вынул из кармана листок с адресом и прочитал: Ленинский проспект, дом 7. Ехать оказалось недалеко. Он сел в полупустой троллейбус и стал оглядываться по сторонам. Обычно Митя этого не делал, каждую свою поездку он старался использовать для придумывания сюжета какого-нибудь нового рассказа, а потому, как правило, был углублен в себя и почти не замечал тех, кто находился рядом. И все же сегодня ему хотелось каких-то радостных, а возможно, даже и ободряющих взглядов, но народу в салоне было мало, и никому не было никакого дела до его желаний. Только одна девушка, устроившаяся на параллельном сиденье, отделенном от Мити узким проходом, оторвала взгляд от книги и посмотрела в его сторону, но по ее взгляду было ясно – ее интересовал не Митя, а то место за окном, около которого притормозил троллейбус. И тут Митя вспомнил слова Эйнштейна, вернее, вторую часть его постулата: жить так, как будто вокруг одни чудеса. Оказалось, он уже целый день жил по этому принципу, и чудеса выплывали откуда-то из небытия, обретали свой цвет и свою форму, и всего-то надо было не разминуться с ними, не пройти мимо, довериться происходящему – девушка в воскресном московском троллейбусе читала Лермонтова. На коленях у нее был томик его стихов. Тот самый. Зеленый.
Сошли они на одной остановке около большого девятиэтажного дома, выкрашенного блеклой желтой краской. Девушка, не оглядываясь, прошла вперед и завернула во двор. Митя еще раз сверил адрес – все верно: Ленинский, дом 7. Ого, подумал он, Ленинский, да еще 7, как же он сразу не обратил на это внимания. Митя тоже свернул во двор, нашел нужный подъезд и медленно поднялся по лестнице. Он уже ЗНАЛ, кого встретит за дверью. Ему показалось, что следом за ним также медленно поднимается Михаил Юрьевич Лермонтов, в парадном мундире с золочеными эполетами. Перед дверью они остановились, перевели дух, и Митя позвонил. А еще ему показалось, что невдалеке на лестничной площадке сидел на подоконнике Владимир Ильич Ленин в костюме, голубой рубашке и в галстуке с крупными белыми горошинами. Ленин лукаво, как на портрете в квартире наставника, щурил глаза и одобрительно кивал.
Через два месяца Митя и Маша, так звали девушку из троллейбуса, поженились.
А еще через несколько лет, но тоже в августе, Митя снова оказался в Бобруйске. Он привез сюда книгу своих рассказов, и в городской библиотеке устроили его авторский вечер. На этом вечере он решился и впервые в жизни рассказал историю своей любви, в которой основными персонажами были Мария Францевна, Ленин с его цифрой «7 и зеленый томик стихов Лермонтова. Правда, недоверчивые бобруйчане ему не поверили, они сочли, что это всего лишь сюжет для очередного рассказа.
Накануне отъезда он купил кулек вишен, взял такси и поехал на кладбище. Минская улица, в конце которой, собственно, и находилось это печальное место, за время его отсутствия практически не изменилась: так же по правую сторону в самом конце ее было еврейское кладбище, а по левую – русское. Мощные корабельные сосны росли и там и там – им было абсолютно все равно, кто погребен под их разлапистой сенью. К своему удивлению, Митя легко нашел место, где была похоронена его давняя соседка. Вот только фанерного обелиска на ее могиле уже не было, вместо него стоял серый валун, на котором приделали табличку: «Лиходиевская Мария Францевна 1903–1966, а чуть пониже: «Лиходиевский Венечка 1937–1937».
Митя машинально сложил цифры, написанные на табличке, – число рождения и число смерти у Марии Францевны оказались равными друг другу. Он вспомнил ее слова, что люди с такими цифрами рождаются, чтобы что-то такое перетряхнуть в нашем огромном мире.
«Наверное, это может быть нечто глобальное, – подумал Митя, – а наверное, всего лишь одна человеческая судьба. Кстати, у Венечки Лиходиевского эти цифры тоже совпадали, но в них не было жизни, в них была одна только смерть».
Митя осторожно развернул кулек с вишней и высыпал содержимое рядом с валуном. Через некоторое время сюда подлетел первый воробей, потом еще один, потом целая стайка. Они захлопотали вокруг вишневой горки, стали толкаться, взлетали и снова возвращались. Митя посмотрел на них и подумал, что Марии Францевне это, наверное, понравилось бы.
Конфета из буфета
1
В один из воскресных дней конца июня, когда Москва вконец обезлюдела от нестерпимого зноя, мы с женой решили проехаться по магазинам в поисках мебели для только что отремонтированного кабинета. В кабинете помимо письменного стола, рабочего кресла и небольшого дивана должен был разместиться компьютер, заменивший мне пишущую машинку. А рядом с ним я хотел поставить настольную лампу, точно такую же, что красовалась когда-то на тумбочке около моей постели. Я запомнил ее с той безмятежной поры детства, проведенного в славном городе Бобруйске, когда все еще было впереди, а мир казался приветливым и уютным.
Мы объехали целый ряд магазинов от проспекта Мира до проспекта Вернадского, но ничего подходящего отыскать так и не сумели. Не скажу, чтобы мы по этому поводу сильно расстроились. Нам было хорошо друг с другом, и, наткнувшись на какое-то кафе со столиками, вынесенными под солнцезащитные зонтики, мы славно пообедали, отыскав в меню соблазнительные грузинские блюда. От бокала охлажденного «Цинандали» пришлось отказаться: я был за рулем и мне не хотелось испортить этот день каким-нибудь непредвиденным инцидентом. Впрочем, вскоре я пожалел о таком опрометчивом решении. Повара явно не поскупились на острейшие приправы, и постепенно рот мой превратился в огнедышащее жерло вулкана, а гортань чувствовала себя так, словно она только что соприкасалась не с нежнейшими кусочками мяса, а с наждачной бумагой, которую долго мочили в наперченном соусе.
Я невольно нажал на газ, предвкушая, как достану из холодильника запотевшую бутылку сухого вина и одновременно с ней две, нет, три бутылки с чистейшей родниковой водой. Но в это время жена произнесла свою сакраментальную фразу:
– Останови здесь.
Среди массы всяческих достоинств у моей второй половины был один небольшой, но входивший в серьезные противоречия с правилами дорожного движения недостаток. Едва она замечала среди проносившихся мимо вывесок ту, которая привлекла ее внимание, как тотчас же просила немедленно остановиться, невзирая ни на скорость, ни на запрещающие знаки. Я уже не говорю о водителях, которые начинали произносить в мой адрес не самые дружелюбные слова, когда я ни с того ни с сего круто перестраивался из крайнего левого ряда в крайний правый и резко тормозил в самых неподходящих для этого местах.
На сей раз все обошлось. Но едва я припарковался у кромки тротуара, милая картина с домашним холодильником, незадолго до этого нарисованная моим воображением, растаяла в мгновение ока.
Магазин носил незатейливое название «Книги», и стоило мне подумать о длинных стеллажах с фолиантами, выстроенных по его периметру, как я ощутил себя одиноким странником, бредущим по раскаленной Сахаре без всякой надежды на встречу с человеком, везущим тележку, наполненную прохладительными напитками.
Помимо всего прочего в магазине было нестерпимо душно. Продавцы стояли понуро, как цапли на высохшем болоте, и время от времени вяло обмахивались газетами. Не скажу, что они вообще не обратили на нас никакого внимания. Девушка, сидевшая за стеклом кассы, попыталась изобразить улыбку, впрочем, лучше бы она этого не делала.
Жена по-хозяйски оглядела представшую перед ней картину и решительно направилась в дальний угол магазина, где духота почти физически ощущалась сгустившимся воздухом, лежащим между книжными стеллажами. Среди массы достоинств и уже упомянутого маленького недостатка у моей жены было одно удивительное качество: она точно знала, что именно в ближайшем будущем мне непременно могло пригодиться.
Приподнявшись на цыпочках к самой верхней полке, она из массы стоящих там книг бережно вынула одну и протянула мне:
– Это как раз то, – сказала она, – что я так долго для тебя искала.
Книга оказалась среднего формата с желтой бумажной обложкой, на которой была изображена нелепая фигура какого-то глиняного идола. Снизу вверх шло вертикально расположенное название «Вслед за Солнцем», а над странной фигуркой располагалось имя автора – Ангелина Снегирева.
– Вот это да! – разглядывая книгу, выдавил я из себя тяжело ворочающимся языком.
Моя жена даже догадаться не могла, в какие глубины памяти погрузило меня одно только имя автора, набранное на обложке синим шрифтом – АНГЕЛИНА СНЕГИРЕВА.
Я почти не сомневался, что это та самая Снегирева, которую в студенческие годы мы вначале звали Геля, а потом, когда все в нашей тесной компании получили какие-то прозвища, стали звать ее просто и незатейливо – Птаха.
Но каким образом жена могла выискать эту книжку среди множества других?! Что она знала об этой Снегиревой? Клянусь чем угодно – ничего. Конечно, за нашу немалую уже совместную жизнь она тем или иным способом пыталась выяснить о былых моих увлечениях. Но чувство вины, которое я до сих пор испытываю перед той далекой студенческой историей, было так глубоко загнано внутрь, что даже под перекрестным допросом не выдал бы я, наверное, ни имени Гели, ни всего того, что мы с приятелями так легкомысленно наворотили, ворвавшись в чужую судьбу и пытаясь внести в нее свои собственные поправки.
2
Как бы там ни было, но первым делом, когда мы оказались дома, я бросился не к холодильнику за вожделенной водой в симпатичных прозрачных бутылках, а к нижнему ящику письменного стола, куда жена складывала, аккуратно разместив по папкам, все мои по разным причинам незаконченные рукописи, обрывки стихов, да и просто какие-то заметки, которые я делал по уже давно забытым поводам.
Мне пришлось развязать множество тесемок, прежде чем я обнаружил в самой последней, лежащей на дне папке несколько пожелтевших листков без названия, соединенных почему-то огромной металлической скрепкой.
Признаюсь честно, когда-то, лет двадцать тому назад, я уже пытался описать историю, произошедшую с нами в далекие студенческие годы, и тем самым хоть как-то сгладить преследующее меня жгучее чувство стыда. Но, во‑первых, это была совсем юношеская проза, и она не дала мне желаемого чувства облегчения, а во‑вторых (и это самое главное), осталась неоконченной, потому что тогда я просто не мог предвидеть завершение, которое было уготовано Судьбой для моих героев, а уж тем более того, что однажды Геля Снегирева по прозвищу Птаха заставит меня вплотную соприкоснуться с некими сокровенными событиями моей жизни.
И тем не менее именно с этой рукописи, где почти с документальной точностью изложены все перипетии мучивших меня событий, я хочу начать свое повествование. Не изменив ни единого слова, преодолев мучительный соблазн заняться тщательным редактированием, я перепечатал все в том виде, в каком и забросил когда-то эти страницы, позволив себе в скобках лишь скупой комментарий и дописав концовку, в то далекое время мне еще не ведомую.
3
«В городе N, в самом конце улицы А стоит четырехэтажный дом. Я сообщаю об этом факте не потому, что четырехэтажные дома большая редкость в городе N, и даже не потому, что этот дом, согласно распоряжению начальства, каждое лето менял свою окраску, превращаясь из бледно-зеленого в бледно-голубой, чтобы на следующий год превратиться в бледно-желтый. Нет, право же, из-за этого начальственного каприза я не начинал бы свой рассказ. Я сообщаю об этом исключительно потому, что история любви Георгия Чернова началась именно здесь, на последнем этаже четырехэтажного дома, стоящего в самом конце улицы А, там, где ее окольцовывали трамвайные рельсы.
В наше время по этим рельсам бежали веселые красные вагончики, и не менее веселые, раскрасневшиеся под стать трамваям вагоновожатые каждое утро, исключая, естественно, воскресные дни, кричали в хриплые микрофоны: «Граждане студенты, не переполняйте задний проход, пройдите в середину вагона!»
Я говорю «в наше время», потому что несколько лет уже не был на улице А, и теперь отсюда, с высоты этих лет, трамвайчики кажутся веселыми, вагоновожатые остроумными, а комната № 412 на последнем этаже того самого дома – необыкновенно милой и уютной.
Не составляет большего труда догадаться, что речь идет о самом обычном студенческом общежитии. Хотя немного жаль вот так, одним словом, «ОБЩЕЖИТИЕ» обозначить все то, что в течение пяти лет было хрупким и нежным вместилищем всех наших надежд и разочарований. (Оставляю эту фразу и подобные ей только лишь для того, чтобы не менять общее впечатление от подлинника.)
В то время общежитие наше было знаменито тем, что комендант его, отставной майор милиции, носил звучную фамилию Кедрёнин, а мы все, естественно, именовались Кедрёнины дети. Впрочем, кроме этой редкостной фамилии, комендант никакими сколько-нибудь заметными достоинствами или недостатками не обладал. То есть, возможно, он и обладал ими, но мы, студенты, не могли похвастаться тем, что хоть однажды видели ветерана милиции вблизи и имели возможность его рассмотреть.
Всеми местными делами заправляла жена бывшего майора Анна Адамовна. А поскольку мы все прочитали к тому времени роман «Мастер и Маргарита», то супругу товарища Кедрёнина за глаза именовали Аннушкой, имея, конечно, в виду, что масло она уж точно где-то разлила и кому-то из нас было суждено не сносить головы, то есть потерять в общежитии заветную койку.
Являясь для всех нас одновременно и Фемидой, и вестником Судьбы, она, прошуршав однажды невидимыми крыльями по коридору четвертого этажа, остановилась у дверей 412‑й комнаты и, поправив болтающийся на одной кнопке призыв «Стучите к соседям», втолкнула к нам щуплого низкорослого юношу, явно не обтесанного еще первокурсника.
– Знакомьтесь, – сказала Аннушка, – это Георгий. Он будет жить с вами.
Если бы Георгий, так неожиданно впорхнувший в нашу комнату, мог предвидеть, какое участие мы примем в его судьбе, он, возможно, не смотрел бы на нас так спокойно и доверчиво. Но Георгий, увы, этого еще не знал.
Дело было, конечно, не в Георгии как таковом. Волей судеб он стал лишь жертвой, принесенной на алтарь «свода законов» нашего общежития. Одна из заповедей этого свода, запечатленного на невидимых глазу скрижалях, гласила примерно следующее: «Упаси боже, затрагивать честь пятикурсников – грандов будущего диплома, подселением к ним желторотых и ядовито-зеленых первенцев институтского обучения!» Но заповедь была нарушена, и, следовательно, поругана честь славной 412‑й. Что ж… Ave, Георгий! Идущие на диплом, приветствуют тебя!
Идущих на диплом в нашей комнате было трое. В момент вторжения Аннушки один из нас, Митя Фоканов, по прозвищу Митяй, возлежал на кровати, над которой была прибита поблескивающая черным лаком табличка: «Не кантовать! При пожаре выносить в первую очередь!» Под этой табличкой он обычно проводил весь период между сессиями, исчезая иногда, как он объяснял, для очередной попытки вступить в гражданский брак. Очередная попытка вскоре заканчивалась ничем, и он снова возвращался в прежнее положение, придавая тем самым нашей комнате устоявшийся и вполне привычный вид.
Паша Тонких, по прозвищу Папаша, сидел в этот знаменательный миг за столом и строчил бесконечное письмо своей любимой жене Зое, которая, по моим подсчетам, уже два года пребывала на восьмом месяце беременности, что говорило о весьма непростых взаимоотношениях этих двух глубоко чувствующих сердец.
Впрочем, вынужден признаться, что и мои занятия в описываемый промежуток времени не носили ярко выраженный научный характер. Я мучительно выдавливал из себя шуточное приветствие от нашего факультета институтскому смотру художественной самодеятельности и уже битый час искал рифму к слову «ректор». Ничего, кроме «Гектор» и «прозектор», на ум не приходило, но при чем тут эти оба применительно к нашему руководителю, никакого вразумительного объяснения подобрать я так и не смог.
Вот, собственно, вся экспозиция того момента, когда гражданкой Кедрёниной была нанесена нам кровная и незаслуженная, с нашей точки зрения, обида.
Должен заметить, мы были и так достаточно дружны, но та самая минута, когда порог нашей комнаты переступил Георгий, еще больше сплотила нас в преддверии наступающих событий.
Теперь о самом герое.
Георгий был именно – Георгий. Не Жора – это звучало бы как-то по-одесски, и не Гера – от этого имени веяло чем-то вальяжно городским. Наш герой, отец которого был директором сельской школы, а мать – преподавательницей математики в оной же, единственный и любимый сын двух уважаемых представителей деревенской интеллигенции, с полным правом мог носить такое красивое и звучное имя.
Фамилия Георгия была Чернов, отчество – Васильевич. Когда пришла пора отразить каким-то образом членство новичка в нашем коллективе, на свет появился тщательно составленный документ, носивший название «График еженедельных дежурств по комнате № 412». Поверьте, это была не просто бумажка, которую обычно прикрепляли к дверям с внутренней стороны. Это было произведение! Выполненное на белом листе ватмана, оно привлекало взгляд строгостью линий, умело заштрихованными разноцветными квадратиками и графической четкостью подписей, располагавшихся в самом низу. У каждой графы, обозначавшей очередную неделю месяца, сверху вниз под словом «дежурный» шло перечисление ответственных за чистоту нашей комнаты. Первым в этом списке был Чернов Георгий Васильевич, вторым – Георгий Васильевич Чернов, третьим – Чернов Георгий, и замыкал всю эту славную когорту просто Чернов.
Справедливости ради надо сказать, что мы были за честное распределение обязанностей. И если уж злой рок сделал Георгия вечным дежурным 412‑й комнаты, то Фоканов, как наиболее часто присутствующий в означенном помещении, брал на себя нелегкие обязанности старосты, Паша Тонких назначался его заместителем по политической части, а мне предписывалось заниматься культурно-массовой работой. Об этом свидетельствовали наши подписи, располагавшиеся в самом низу графика, вызвавшего острую зависть у обитателей соседних комнат.
Вам, наверное, будет интересно узнать, как отнесся Георгий к такому распределению обязанностей? Каковы были предприняты им по этому поводу шаги и какие совершены поступки? Так вот, их просто не было: ни шагов, ни поступков. Никаких. Абсолютно.
Георгий исправно дежурил по комнате. Паша Тонких продолжал писать длинные письма своей жене, которая по-прежнему оставалась на восьмом месяце беременности. Митя Фоканов исполнял тяжелые обязанности старосты, лежа на постели и время от времени подбадривая себя мелодиями популярных песен. Я сочинял очередное стихотворное приветствие к очередному институтскому мероприятию.
Казалось, постепенно все вошло в свою колею. Георгий был каким-то нешумным и незаметным. Он рано ложился спать, не обращая внимания на свет, который горел в нашей комнате порой далеко за полночь. Вставал он тоже рано, умудряясь не потревожить наш сладкий утренний сон. В общем, Георгий как Георгий, ничего особенного.
Мы успокоились или, как говорил потом Паша Тонких, притупили бдительность. А конфликт созрел великолепным зимним вечером, когда на небе было полно звезд и суббота, так чудесно заканчивавшаяся в ресторане под названием «Юность», таила в себе еще немало приятного.
Дело в том, что по установившейся традиции накануне последнего воскресенья месяца мы шли в ближайший к общежитию ресторан, где заказывали бывшее всегда в наличии ароматное вино «Лидия», а к нему, как положено во французских романах, сыр тонкими ломтиками, а потом уж и салат, и чего-нибудь такого – поесть, и, конечно, кофе со страшно крепкими польскими сигаретами Sport в красных пачках.
И как-то так получилось, что оркестр играл в этот вечер неплохо, а за соседним столиком сидели три милые девушки из дружественного нам пединститута, отмечавшие какую-то свою годовщину. И мы танцевали с ними, а одна из них, высокая стройная блондинка, уже просто висела на мужественном красавце Паше Тонких. Да и уговорить их пойти после ресторана к нам в общежитие не составило особого труда.
Существовало несколько способов провести мимо бдительных вахтеров в наше «святая святых» лиц, состоявших в категории непроживающих. Эти способы были проверены на практике не одним поколением студентов и зависели сугубо от пристрастий и слабостей того или иного стража нашей непорочности. В тот вечер на вахте сидел усатый дядька, которого за глаза называли Штамп. Прозвище это вполне соответствовало жесткому курсу, проводимому им в жизнь в зоне, разделявшей человечество на две категории: «чистых», то есть нас, и «нечистых» – всех остальных. В реестр его слабостей был внесен один-единственный пункт: Штамп был неравнодушен к песням Булата Окуджавы. Поэтому нами решено было применить способ, носивший кодовое название «Гитара».
Из комнаты на втором этаже был извлечен знаменитый на весь факультет гитарист Коля Дзюбин. Поднятый с постели, он в тренировочном костюме и шлепанцах спустился в вестибюль и устроился на диване, стоявшем сразу за столом вахтера. И вскоре оттуда, с этого дивана, уже неслось доверительно и интимно: «Девочка плачет, шарик улетел…» А во время слов: «Плачет старушка – мало прожила…» – мы знали это по опыту, глаза стража порядка увлажнялись, он начинал отстукивать ритм рукой по колену и всем корпусом разворачивался в сторону Коли-гитариста.
Как три легкие грации, проскользнули в заветную дверь наши прелестные гостьи, а из холодного зимнего вестибюля еще некоторое время доносилось: «Но комсомольская богиня, ах, это, братцы, о другом…»
Георгий уже сладко спал, и мы не хотели, чтобы его пробуждение было внезапным и огорчительным. Наше благодушное настроение распространялось в этот вечер и на него – младшего собрата 412‑й комнаты. Поэтому мы что-то прошептали ему на ухо, плавно стянули одеяло и вежливо поставили на пол. Ничего не понимающий Георгий оказался посреди комнаты на холодном паркете в длинных сатиновых трусах и мешковатой сиреневой майке.
– Воробушек наш, – умиленно глядя на него, сказал Митяй, – пойдем, я отведу тебя спать к соседям. Сегодня ты между нами лишний.
По-моему, после этого возникла небольшая пауза, хотя Фоканов утверждал потом, что это не соответствует действительности, иначе он сумел бы принять необходимые меры обороны. Но, как бы там ни было, Георгий немыслимым образом взметнулся кверху и, как заправский боксер, выкинул, вперед свою правую руку. Мы не успели даже сообразить, что произошло, а Фоканов, чей рост составлял в тот исторический период 1 метр и целых 88 сантиметров, как-то боком перелетел через стоящий рядом с ним стул и ударился носом о металлическую спинку кровати.
– Наших бьют, – удивленно сказал он и размазал по лицу кровь.
– Мальчики, – закричали девочки и повисли у нас на руках.
– Девочки, – свирепо произнес Паша Тонких и распахнул дверь в коридор, – я попрошу вас выйти.
– Только вместе с вами, – хором ответили девочки.
Из соседних комнат стали выглядывать любопытные. А по лестнице, стуча сапогами, уже мчался снизу усатый вахтер, за спиной которого маячил Коля-гитарист, извлекая из своего инструмента мелодию, отдаленно напоминавшую траурный марш Шопена.
…Потом мы долго провожали наших спутниц. Они водили нас по зимним улицам какими-то замысловатыми маршрутами. Мы замерзли и успокоились.
К моменту нашего возвращения Георгий уже спал или притворялся, что спит.
Фоканов постоял над ним, потом потрепал по щеке и спросил:
– Послушай, Чернов, неужели тебя никогда не тянуло к женщинам?
Георгий повернулся к стене и заплакал.
Вечером следующего дня, после того как Анна Адамовна решила поставить перед деканатом вопрос о нашем дальнейшем пребывании в общежитии, мы собрались на военный совет. В повестке его был единственный вопрос: как быть с Георгием? Решено было перейти в наступление по всем линиям, включая бойкот и экономические санкции. Что такое экономические санкции, мы представляли весьма смутно, зато по поводу бойкота у нас имелся накопленный за несколько месяцев солидный опыт. Большое внимание было уделено и разработке секретного оружия. Стратегию его действия в общих чертах обрисовал Фоканов, он же брал на себя руководство всей операцией. Паша Тонких возглавил информационный центр. Мне поручался ввод в действие секретного оружия.
Вот здесь-то пришло время объявиться новому персонажу, которому было суждено сыграть решающую роль в зловещем плане Фоканова. Персонаж носил имя Ангелина Снегирева, более известная по прозвищу Птаха. У Птахи была копна золотистых волос, целый рой золотистых веснушек и золотистые ободки вокруг совершенно зеленых зрачков. Но главное было не в ее внешних данных, главное состояло в том, что за Птахой утвердилась репутация, которую коротко можно было сформулировать так: своя в доску. Произошло это практически сразу, буквально с первого курса, когда нас направили на уборку картофеля в подшефный колхоз, а Геля взялась кашеварить в наскоро построенном сарае, который нам отвели под столовку. Она готовила умопомрачительные блюда из все того же картофеля, а по вечерам, когда мы, скинувшись по рублю, несли из местного ларька портвейн «Три семерки», пила наравне с нами, а потом, извлекая аккорды из какой-то допотопной гитары, выводила простуженным от кухонных сквозняков голосом слова популярной тогда песни:
…Когда на сердце тяжесть И холодно в груди, К ступеням Эрмитажа Ты в сумерках приди…Помимо всего прочего у Гели оказалась масса разнообразных достоинств, которые вызывали наше острое любопытство. Она повсюду таскала за собой увесистый атлас звездного неба, могла в ясную ночь показать нам любое созвездие, а узнав дату и место рождения кого-нибудь из желающих, выдавала развернутую и, надо признать, точную характеристику всех слабых и сильных сторон его личности. Кроме того, она великолепно разбиралась в хитросплетении линий на наших ладонях, и девчонки просто атаковали ее, выспрашивая о своих суженых, количестве детей и результатах очередной сессии. Ходили даже слухи, что Птаха тайком пишет какую-то книжку с изложением собственного понимания тогдашней лженауки астрологии. Что, впрочем, воспринималось всего лишь как версия, поскольку никто не мог похвастаться, что видел хотя бы один лист из черновика будущего произведения.
Между мной и Птахой установились с первого институтского дня довольно странные отношения. Внезапно выяснилось, что я и Птаха оказались не только земляками, приехавшими сюда из славного города Бобруйска, но даже имели общее прошлое, а именно ходили в один и тот же детсад № 3, более известный среди горожан под конспиративным названием «Конфета из буфета». Так местные остряки прозвали это дошкольное учреждение из-за того, что старейшая и заслуженная его сотрудница, толстая дама с плоским лунообразным лицом, задав своим воспитанникам какой-либо вопрос, барабанила пальцами по столу и хрипло приговаривала одну и ту же фразу: «А за правильность ответа дам конфету из буфета».
После детсада № 3 судьба разбросала нас с Птахой по разным школам и умудрилась сделать так, что пути наши больше ни разу не пересеклись, до того самого момента, пока мы не оказались в одном институте, на одном факультете и даже в одной группе. Как бы там ни было, но чрезмерная доверительность, которая зачастую возникает между земляками вдали от их родных мест, помешала нам перейти некий невидимый барьер, хотя порой казалось, что нужно всего лишь небольшое усилие с моей или ее стороны, чтобы эти отношения переросли в нечто большее, гораздо большее. Но мы так и не рискнули нарушить сложившуюся дистанцию, а потому в течение всех пяти последующих лет Птаха была чуть ли не официальной поверенной всех моих душевных взлетов и кризисов. Именно ей и отвел Фоканов роль секретного оружия в борьбе с провинившимся Георгием.
Не могу сказать, что Птаха охотно приняла наш план. Вначале она даже отказалась и сделала это довольно резко. Но Митяй о чем-то пошептался с ней, и Птаха дала себя уговорить при одном условии, что во время ее переговоров с Георгием я буду находиться рядом.
Мне сейчас сложно восстановить в памяти тот день, когда по замыслу главного стратега Фоканова пришла пора начинать. Помню только, что это было вечером ранней весной. В помещение кафедры по обработке металлов резанием, куда мы пришли на очередную консультацию, уже горел свет. Все сгрудились у доски, перед которой стоял руководитель нашей практики, а мы с Птахой проскользнули по узкому коридору, заставленному стеклянными шкафами, где испокон веков находились образцы всевозможных резцов, сверл и прочих занимательных инструментов, в пустой кабинет заведующего лабораторией. Мы уселись на стол по обеим сторонам телефонного аппарата, и я набрал номер общежития.
Позвать Георгия к телефону не составило особого труда. Нужно было только назваться его родственником, приехавшим из далекого Сыктывкара. К этому городу наши вахтеры испытывали особое почтение. Тайна, наверное, состояла в том, что не все могли правильно выговорить это мудреное название.
Когда Георгий наконец подошел, я передал трубку Птахе.
– Здравствуй, Георгий, – сказала она и посмотрела в мою сторону.
Я одобрительно кивнул.
– Мне не просто все это сказать, но ты мне нравишься, Георгий, очень нравишься. Я. – Она глубоко вдохнула и продолжила: – Я влюбилась в тебя.
Георгий, очевидно, что-то промямлил на том конце провода.
– Нет, – сказала Птаха, – ты меня не знаешь, наверняка видел в институте, но не знаешь.
Потом повисла пауза, потом Георгий решился задать наводящий вопрос.
– Кто я? – переспросила Птаха. Она снова посмотрела на меня и сказала так тихо, что Георгий ее, может быть, и не расслышал: – Влюбленная девочка, у которой хватает смелости лишь на то, чтобы объявить об этом по телефону.
Я понимал, что, не имея готового текста, а лишь в общих чертах ознакомившись с нашим планом, Птахе пришлось в течение последующих пяти минут заняться сплошной импровизацией. Но, бог мой, как талантливо она это делала! Ее голос звучал выразительно и проникновенно. В нужных местах он трепетал, а там, где это было необходимо, поднимался до пафосных высот.
Как я жалел в те минуты, что ни одна из моих подружек не могла объясниться по телефону, да и не только по нему, подобным образом. Я представил себя на месте Георгия и понял, что Фоканов придумал действительно сногсшибающее оружие.
Когда Птаха повесила трубку, лицо ее горело.
– Ну как? – спросила она.
Я молча поднял кверху большой палец.
– Больше не буду, – сказала Птаха.
– Как это, – опешил я, – мы же договорились.
– Звонить не буду, – сказала она, помолчала и добавила: – Буду писать письма.
Я пожал плечами.
– Не беспокойся, первым читать их будешь ты, и, если одобришь черновик, я перепишу все набело, а ты положишь письмо в конверт и отнесешь его в общежитие. Согласен?
А что, собственно, мне оставалось делать.
В главном и единственном вестибюле нашего общежития сбоку от лестницы, ведущей на второй этаж, висел ящик. Этот ящик был разделен на равные ячейки, на каждой из которых красовалась та или иная буква алфавита. Вскоре в ячейке под буквой «Ч» раз в три дня стали появляться однотипные конверты с маркой, изображавшей первый спутник Земли. В конверты были вложены письма, адресованные Чернову. Но что это были за письма! Я оставил у себя все до единого черновики и время от времени перечитывал их, поражаясь тому, как Птаха тонко и умело вела с Георгием странную игру в любовь.
Вот всего лишь несколько выдержек.
«Бесконечное письмо пишу я тебе, любимый. У него нет начала. Здесь не годится обычные «Здравствуй» или «Добрый день». Я бы написала так: «Доброй жизни!»
Это письмо не для тебя. Оно, скорее, для меня. Это мне надо разобраться в той свинцовой тяжести, что лежит на сердце. Когда я думаю о тебе, я чувствую свою душу. Медицина учит, что в нормальном здоровом состоянии человек не должен ощущать свои органы. А я чувствую свою душу, потому что она болит. Болит оттого, что мы не вместе. Болит по ночам. Днем она бинтуется разными неотложными делами. И чем больше дел, тем толще слой бинта. Но по ночам… По ночам, когда вокруг тишина, я срываю бинты, и вместе с ними сходит с моей души розовая корочка, которая успела нарасти днем. По ночам душа кровоточит.
Я пытаюсь понять, почему в моей любви к тебе так много тоски. Может быть, потому, что эта любовь единственная… После нее останется только звенящая пустота, и я буду отмерять отпущенный мне путь с безразличием механического робота.
До сих пор не могу заставить себя подойти к тебе. И все, что мне остается, – это чувствовать долгими ночами, как болит моя душа. Почему? За что?
Да, это письмо для меня. Только я одна, наверное, смогу ответить на эти вопросы. Только я».
Или, например, такой отрывок.
«Я не хочу писать тебе. Не хочу и все-таки пишу. Боюсь бумаги. Так много надо сказать тебе… Нет, не хочу писать. Больше всего на свете хочу сейчас оказаться рядом с тобой. Освободиться от нелепого груза одежд. Провести осторожно пальцами вдоль спины. Коснуться губ. А потом сделать так, чтобы мы стали одним целым, раствориться в тебе, исчезнуть в океане наслаждения, который способна создать моя любовь. И когда мы вернемся оттуда к оставленному берегу – знать, что все это может быть только с нами. Потому что мы – друг для друга. Потому что двадцать лет назад я появилась на свет, чтобы встретить тебя и полюбить первой и последней в жизни любовью.
Как ты прекрасен! Как ты любим и желанен!Клянусь, я не хотела писать. Рука сама потянулась к бумаге, чтобы заполнить ее невыразительными словами. Но душа моя, тело мое, вся моя сущность – как они тянутся к тебе».
Или вот.
«Когда-нибудь с чувством облегчения или легкого сожаления ты будешь вспоминать о том, как ворвалась в твою жизнь незнакомая девчонка, вознамерившаяся повернуть ее по-своему. Девчонка, не имеющая на тебя абсолютно никаких прав, кроме призрачного и не поддающегося разумной логике права Любви. Но кто уполномочивал ее, эту девчонку, подчиняясь чувству, завладевшему разумом и сердцем, обрушивать на тебя неуправляемую стихию эмоций? Было ли оставлено в твоей размеренной жизни Хорошего Человека место для подобного вихря? Ждал ли ты его? Пересохли ли твои губы от томительного пекла обыденности и молил ли ты судьбу хотя бы о глотке живительной страсти? Нет, конечно же, нет.
Да и как может человек, если он не враг себе, а мудрый и осторожный друг, пожелать такого.
Ты будешь еще долго вспоминать обо мне. Вихрь, взметнувшийся на твоем пути, если даже и не задел тебя своим крылом, то, надеюсь, заставил хотя бы вздрогнуть и прикрыть глаза рукой.
На какой случай пишу я тебе это письмо? За что хочу обидеть? Просто три долгих дня даже издали не удается мне увидеть тебя. Три дня в пустыннейшей из пустынь. Три тысячелетия. Мне стало страшно. И я написала это письмо».
Вот такие послания раз в три дня получал Георгий.
С ним стало твориться что-то невероятное. Он ходил по институтским коридорам, заглядывая в глаза всем встреченным персоналиям женского пола. Движения его стали суетливыми, на щеках горел лихорадочный румянец. Он худел на глазах, рассеянно листал конспекты и в конце концов завалил два экзамена из четырех.
Фоканов радостно потирал руки. Он был отомщен»…
Дальше шла зачеркнутая фраза, над которой сверху было мелко написано: «Прости нас, Георгий», а потом целый абзац, заштрихованный так тщательно, что мне не удалось разобрать, что же такое я пытался тогда написать.
Вот, собственно, и все. Рукопись осталась неоконченной. Несколько раз я пытался возвратиться к ней, но потом потерял интерес, скорее всего, из-за того, что не знал дальнейшего продолжения этой истории.
4
После диплома мы разъехались по разным городам необъятного тогда Союза. Мне посчастливилось попасть в Москву в одно из «закрытых» КБ, где моя дипломная работа вызвала у руководства определенный интерес. Птаха подалась куда-то в Прибалтику, а Георгию оставалось еще четыре года жить под бдительным оком Анны Адамовны Кедрёниной.
И вот однажды в отделе КБ «Спецмаш», где я занимался проектированием узла к одному очень важному по тем временам изделию, раздался телефонный звонок.
– Молодой человек, – донеслось из кабинета начальника, – это вас.
Надо сказать, что мой непосредственный руководитель был уже в том почтенном возрасте, когда запоминать чужие имена и фамилии становилось задачей непосильной, да и по большому счету ненужной. Вновь появившихся сотрудников он называл, обобщив паспортные данные и половые признаки, одной универсальной фразой – «молодой человек». При этом каждый из нас был волен сам выбирать, к кому именно высокое начальство обращалось в очередной раз.
Несколько голов одновременно высунулись в проход между длинными рядами чертежных досок. Каким-то седьмым чувством я определил, что этот звонок предназначен мне, и, опережая остальных конкурентов, первым оказался у телефонной трубки.
– Узнаешь? – спросил чей-то удивительно знакомый голос. – Это я, Геля Снегирева.
– Птаха! – закричал я так громко, что мой начальник вздрогнул и поспешно покинул кабинет, плотно прикрыв за собой дверь.
– У меня полтора часа до поезда, – сказала Геля. – Успеешь?
Минут через сорок мы уже сидели с ней на одной из скамеек подземного вестибюля метро «Белорусская». Вначале мы просто держались за руки, забрасывая друг друга вопросами, потом Геля достала из пакета кучу фотографий, и мы принялись их разглядывать, наперебой комментируя те, что относились к годам нашего институтского братства. В огромном целлофановом пакете, где содержалась вся эта мешанина из знакомых нам лиц и ситуаций, лежал конверт поменьше, который Геля припасла напоследок.
– А это мои свадебные, – сказала она тихо.
Не помню точно, что я тогда сделал: то ли вскрикнул, то ли присвистнул, а может быть, просто онемел от увиденного. Не помню, да суть и не в этом. Я мог совершить любое действие, от этого персонажи на фотографии не изменились бы, а тем более не исчезли. На цветных глянцевых снимках стояла Птаха в белом до полу платье и кокетливой, скорее напоминавшей шляпку, нежели фату, накидке, а рядом с ней застенчиво улыбался Георгий. Он был в каком-то мешковатом костюме и съехавшем набок галстуке. Фотографий было три, я это помню точно. На одной молодожены смотрели прямо в объектив, на другой, где они сняты были в профиль, Георгий надевал кольцо на палец своей невесты, и, наконец, еще одна запечатлела их, обменивающихся ритуальным поцелуем.
– Ты сейчас к нему? – спросил я после небольшой паузы.
– Сейчас от него, в Бобруйск, к родителям. Неделю назад мы оформили наш развод.
Мне понадобилось время, чтобы переварить услышанное.
– Что же ты не спрашиваешь – почему? – сказала Птаха с вызовом.
– Почему? – послушно повторил я.
– Потому, что все эти годы я на самом деле любила только одного-единственного человека, с которым ты очень хорошо знаком.
Слава богу, у меня хватило ума не спрашивать, кто этот давний знакомец.
Тормозили и вновь разгонялись вагоны метро, что-то невнятное по внутренним динамикам объявлял диктор, заполнялось и пустело пространство станции, а я все сидел, тупо уставившись на глянцевые картинки.
– У меня десять минут до поезда, – напомнила Птаха.
Потом мы шли с ней по перрону, где остро пахло сгорающим в тамбурных котлах углем. Проводницы в черных шинелях зябко кутались в пушистые шарфы, отворачивая лица от порывов осеннего ветра.
– Мой вагон, – сказала Птаха, остановившись.
– Почему ты никогда ничего не говорила мне раньше? – спросил я.
– Догадайся, – сказала Птаха и, помолчав, добавила: – А за правильность ответа дам конфету из буфета.
Старая присказка нашей детсадовской воспитательницы, о которой, честно говоря, я давно уже забыл, прозвучала так неожиданно, что я споткнулся о какую-то невидимую преграду и едва не выронил из рук чемодан. Птаха словно возвращала мне никуда не ушедшее прошлое.
– Не прошлое, а будущее, – сказала она, подхватила свой чемодан и исчезла в глубине вагона.
Наверное, со стороны я выглядел довольно нелепо.
– Бывает, – разворачивая желтый флажок, сочувственно улыбнулась мне проводница.
Поезд медленно тронулся. В одном из окон показалась Геля. Она проводила меня взглядом, и глаза у нее при этом были грустные-грустные.
5
Надо ли говорить, что после того, как я проводил Птаху, несколько дней ушло у меня на поиски ее адреса. Я восстановил несколько, казалось бы, навсегда утерянных бобруйских связей, хотя для этого пришлось основательно потрудиться: в городе своего детства я не был уже так давно, что там почти не осталось тех, кто все еще помнил обо мне. Но, как бы там ни было, листок, где были обозначены улица, дом и даже подробная схема проезда, оказался наконец передо мной, а значит, предстояло решить, как действовать дальше: предупредить Птаху о своем появлении, при этом рискуя получить отказ от какой бы то ни было встречи, или явиться внезапно, а там будь что будет. Я выбрал второе. Три дня отгула, которые накопились у меня за череду праздничных дежурств, – вот и все, чем к тому времени я мог располагать. Я решил, что для начала это не такой уж маленький срок, и пошел отпрашиваться к начальству.
В Бобруйске, в отличие от Москвы, осень еще только начиналась. Нудный дождь перемежался с редкими просветами в облаках, а единственная гостиница, на которую решительно указывал кепкой, зажатой в руке, монументальный Ильич, поставленный на постаменте неподалеку от входа, хоть и не ломилась от обилия приезжих, но стойко держала марку, выставив у окошка администратора привычную табличку «Мест нет». И только мой рассказ о том, что я ищу потерянную здесь невесту, плюс десять рублей, вложенные в паспорт, решили проблему. Мне выдали ключ от номера, который на местном языке именовался «полулюкс». Находился он почему-то под самой крышей, а поскольку она, эта крыша, оказалась скошенной на прибалтийский манер, то два окна были вырезаны прямо под потолком, а занавески, прикрывавшие окна, спускались сверху красными полукружиями, слегка напоминавшими надутые ветром паруса. Кроме странных занавесок, ничем примечательным номер этот не выделялся, но я до сих пор могу восстановить в памяти все подробности его интерьера: большая кровать, застеленная блеклым синим покрывалом, массивный коричневый сервант, за стеклянными дверцами которого сиротливо стояло несколько высоких бокалов, да еще два зеленых, основательно продавленных кресла около треугольного столика, из разряда тех, что скромно именуют журнальными. Впрочем, для полноты картины сюда следовало бы добавить дразнящие запахи, подымавшиеся снизу из ресторанной кухни.
Всю вторую половину дня я провел у дома Птахи, пытаясь угадать момент ее появления. Мой модный по тем временам плащ «болонья» становился то влажным от накрапывающего дождя, то снова просыхал, когда выглядывало на несколько минут не по-осеннему жаркое солнце.
Птаху я увидел в последний момент, она вышла из-за угла дома, поравнялась со мной и кивнула так буднично, словно я чуть ли не каждый день поджидал ее на этом самом месте. Ни слова не говоря, она скрылась за дверью подъезда, а я остался стоять, чувствуя, как ноги сделались почему-то ватными, ладони влажными, а сердце заколотилось так, как будто мне предстоял прыжок в неведомую бездну. Не знаю, сколько это продолжалось, но, когда снова распахнулась дверь и в проеме показалась Птаха с каким-то свертком в руках, я испытал такое чувство облегчения, что все напряжение этого нелегкого дня мгновенно улетучилось, а я, как казалось мне, снова обрел способность спокойно и даже несколько иронично реагировать на все дальнейшие события. Господи, каким самоуверенным я был в эти минуты.
Поймав такси, я усадил Птаху на заднее сиденье, а сам разместился рядом с водителем. Я смотрел по сторонам, делая вид, что меня бесконечно интересуют проплывающие за окном пейзажи знакомого и в то же время чужого уже города, а Птаха сидела молча, и я не знал, добрый это знак или, наоборот, в ее молчании скрывалось нечто такое, что таило в себе угрозу для нашей внезапной встречи.
Но когда уже в гостиничном номере я помог ей снять длинный бежевый с капюшоном плащ и она, не дожидаясь, пока я сброшу свою «болонью», прижалась к моим губам долгим горячим поцелуем, я понял, какие проблемы решала она для себя, погрузившись в молчание на заднем сиденье такси.
– Хочу испытать с тобой все-все-все, – произнесла Птаха прерывистым шепотом.
И мы испытали это «все-все-все».
Никогда еще мне не приходилось переживать подобное тому, что произошло в этот вечер. Наши тела, каждая их часть, каждый изгиб, каждая клеточка, тянулись навстречу друг другу, старались соприкоснуться, передать один другому свой чувственный порыв и подхватить ответный, столь же яркий и столь же неутомимый. Вначале я еще слышал, как скрипела под нами разболтанная гостиничная кровать, но потом все звуки исчезли, растворились в жарком шепоте Птахи, в ее протяжном стоне и в долгих паузах, когда наши тела общались на ином неподвластном осмыслению уровне.
– Хочу пить, – сказала Птаха, когда мы в изнеможении разметались по краям неправдоподобно широкой постели.
Я с трудом поднялся, собрал свою разбросанную на полу одежду и спустился вниз, где в почти пустом еще ресторане несколько музыкантов настраивали свои инструменты. Когда с двумя бутылками лимонада я поднялся в номер, Птаха была уже одета, причесана и тюбиком губной помады наносила последние штрихи на свои припухшие губы.
– Как, уже? – задал я, наверное, самый нелепый вопрос из тех, какие должен был задать в этот вечер.
– Сядь, – сказала Птаха и подтолкнула меня к креслу.
За бокалами, стоящими в серванте, она отыскала консервный нож, открыла обе бутылки и одну протянула мне. Я осушил ее сразу наполовину. А Птаха развернула пакет, который принесла с собой, и поставила на журнальный столик небольшую фарфоровую фигурку узкоглазого человека, сидящего на троне с белыми поручнями. На плечи человека был накинут цветной халат, усеянный звездами, а голова его с маленькой жидкой бородкой и странной шапочкой, надвинутой на лоб, медленно покачивалась из стороны в сторону.
– Это император Лао, – сказала Птаха.
Я вспомнил, что подобная фигурка стояла когда-то у нас дома на черной лакированной крышке трофейного пианино и была она одной из самых больших загадок моего детства. Родители называли это фарфоровое чудо «китайский болванчик», и я порой садился напротив и долго, стараясь не моргать, смотрел на него в надежде не пропустить момент, когда «болванчик» наконец устанет и голова его прекратит укоризненно покачиваться. Но все мои попытки никакого результата так и не принесли. Однажды, правда, я все-таки попытался раз и навсегда выяснить мучившую меня тайну. Это произошло летом, когда родители куда-то ушли и я остался дома один. Окна были распахнуты, прохладный ветерок гулял по комнате, и голова фарфорового «болванчика» раскачивалась из стороны в сторону чаще, чем обычно. Я выкрутил почти до конца сиденье винтового стула, стоящего у пианино, с трудом вскарабкался на него и встал на крышку, прикрывавшую клавиши. И тут случилось непредвиденное. Едва я закончил свое утомительное восхождение, как тотчас же подошвы моих сандалий заскользили по отполированной поверхности инструмента. Пытаясь удержать равновесие, я сделал судорожную попытку ухватиться за фарфоровую фигурку, но спасти положение это уже не могло.
Подробности падения стерлись из моей памяти совершенно. Осталось лишь воспоминание о том, что я лежу на полу, мимо меня к двери медленно катится голова бедняги, а множество фарфоровых осколков протянулись белеющей дорожкой от пианино до опрокинутого стула.
Я уже хотел было поделиться своими воспоминаниями, но Птаха встала напротив меня, взяла со стола фигурку и произнесла небольшую речь. Смысл сказанного сводился к тому, что она дала себе зарок, если мы когда-нибудь встретимся, то ее талисман по имени император Лао будет передан мне, чтобы время от времени напоминать о том главном, что есть в нашей жизни.
Птаха, наверное, ждала, что я спрошу, о чем таком главном должен был напоминать ее фарфоровый приятель, но вся эта ситуация показалась мне вдруг такой забавной, что я снова потянулся к недопитому лимонаду, чтобы скрыть неуместную для такого момента улыбку.
Птаха выдержала паузу и произнесла как-то чересчур официально:
– Может быть, ты поймешь все это не сразу, но император Лао считал, что жизнь нам дана для того, чтобы мир осознал себя через нашу Любовь, вобрал ее в себя и сам стал Любовью. Без этого чувства все в одночасье может рухнуть, рассыпаться, превратиться в ничто.
Возможно, я не совсем точно передал то, как на самом деле звучали ее слова, но смысл произнесенного был именно таким, за это я ручаюсь.
– Держи, – сказала она и протянула мне фарфоровую фигурку.
Я бережно взял ее, потом, как ценный приз, поднял двумя руками над головой и сказал, придав своему голосу как можно больше пафоса:
– Перед лицом императора Лао торжественно обещаю – любил, люблю и буду любить!
– Не ерничай, – сказала Птаха, – любовь – это когда чувствуешь, что сердце твое обожжено. А у тебя оно как книга за семью печатями, и сдается мне, что за все прошедшие годы ты не сумел сорвать даже первую из них.
Потом она сняла с вешалки свой плащ.
– Ну вот и все. Не ищи меня больше.
Я приподнялся с кресла, совершенно не понимая, как мне надо сейчас себя вести и что говорить. Наверное, в этот момент я выглядел не самым лучшим образом. Птаха подошла, взяла мою руку и прижала к своей щеке.
– Не огорчайся, – сказала она тихо. – Возможно, мы еще встретимся, только это будет совсем иная, странная встреча.
Все время в течение этого прощания император Лао стоял на журнальном столике и умудренно покачивал головой. Казалось, он знал намного больше, чем то, что могла мне сообщить Птаха.
Потом я провожал ее домой. В такси мы оба разместились на заднем сиденье и за всю дорогу не проронили ни единого слова. Не знаю, о чем думала Птаха, а я думал о том, что на самом деле уже дважды в своей жизни предал ни в чем не повинного Георгия. Первый раз, когда мы решили унизить его, избрав для этого самое изощренное оружие – любовь, и второй – сегодня, в гостиничном «полулюксе», когда я старательно делал вид, что в жизни Птахи его, Георгия, не существовало вовсе. А еще я думал о тех, кого вольно или невольно предавал на протяжении всех этих лет. Всякий раз, когда мне признавались в любви, я зажимал свое сердце в тиски, чтобы уберечь себя от взрывных страстей. Может быть, инстинктивно я понимал, что это еще не она, та, единственная, а может быть, просто боялся, как говорила Птаха, «обжечь свое сердце». О такой ли любви напоминал император Лао? Или существовала какая-то другая – без потрясений и предательств, без слез и укоров?! Без мести, наконец. Последнее мое увлечение, «лицо нашего КБ», гордая и неприступная красавица, которая несколько месяцев изводила меня всевозможными колкостями, а потом написала записку: «Злюсь, потому что влюблена в тебя, как девчонка», так вот она, когда мы расставались перед моей поездкой к Птахе, плакала, наклонив голову так, чтобы слезы капали на пол, не размывая нанесенную на ресницы тушь, и говорила всхлипывая:
– Ты отомстил мне за всех мужчин, которых я когда-либо отвергла, пусть найдется та, которая отомстит за меня.
Наверное, она имела в виду Гелю Снегиреву.
Но Геля сделала гораздо больше, нежели примитивная месть.
Она при помощи императора Лао просто открыла передо мной всю глубину пропасти между прекрасным замыслом и ничтожным его воплощением. Мне, как и каждому человеку, дали шанс на любовь, но при этом не научили, как я должен был им воспользоваться. И не предстояло ли теперь самое страшное – прожить всю дальнейшую жизнь с ощущением несделанного урока, который на поверку оказался главным?!
Ночью я уехал в Москву.
В душном купе, под синеватым светом ночника ворочались и похрапывали мои попутчики. Я, как ни старался, так и не смог уснуть. Мне многое надо было обдумать, что-то отринуть, к чему-то новому прикоснуться. Я думал о Паше Тонких и Мите Фоканове. Тогда я еще не знал, что Зоя, та самая, которой Паша писал бесконечные письма, родит ему ребенка, а потом попытается свести счеты с жизнью, наглотавшись сильнодействующего снотворного. Не знал, что Фоканов будет трижды женат, и в конце концов следы его затеряются где-то на Северах, кто-то из наших признает его в пьяном грузчике продовольственной лавки. Не знал ничего и о себе, о том, что резко изменю свою жизнь, занявшись исследованием так называемых секретных учений, буду писать книги, выступать по телевидению, а перед тем, как все это произойдет, все-таки встречу ту единственную, кто обожжет мое сердце и поможет понять наконец, о какой именно любви говорила тогда Птаха. А ее предсказание о том, что мы встретимся, но каким-то иным, странным образом, исполнилось в точности. В моем кабинете на самом видном месте стоит ее книга «Вслед за Солнцем». Надеюсь, несколько глав в ней Геля писала, думая обо мне.
Вместо послесловия, или Прошло тридцать лет
Часы показывали 18 часов 15 минут. До начала телеэфира оставалось не так много времени. Пора было решать, какую одежду выбрать на этот раз. Я подошел к платяному шкафу, занимавшему почти половину спальни, и распахнул дверцу. В зеркале, прикрепленном к ее внутренней стороне, отразился человек в махровом халате. Человек этот мне не понравился. Лицо его выглядело осунувшимся, темные круги под глазами придавали взгляду ощущение накопленной усталости, а мне, естественно, хотелось выглядеть свежим и по возможности энергичным.
– Так не годится, – сказал я себе и вспомнил про йоговское упражнение, напечатанное в какой-то популярной брошюре. Для того чтобы вернуть утраченную энергию, надо было вначале минут пять вращать глазными яблоками, затем растянуть в неимоверной гримасе рот, представить себя тигром и громко зарычать.
Все это, стоя перед распахнутым шкафом, я и проделал.
– Что с тобой? – спросила жена.
– Выбираю костюм.
– Интересный способ, – сказала она.
Я мог выбрать себе любую одежду. Дело в том, что это не имело никакого значения. В конечном счете жена доставала из шкафа именно то, в чем, по ее мнению, я лучше всего выглядел в те или иные периоды моей жизни. На сей раз это были серый пиджак и черная водолазка.
– А если рубашку с галстуком? – попытался предложить я иной вариант.
– Галстук будет тебе только мешать, – спокойно сказала жена.
Конечно, она была права. Галстук всегда мешал мне, когда я сидел в этом чертовом кресле перед глазком телекамеры. В какой-то момент мне вдруг начинало казаться, что галстук съезжает набок, и я судорожно старался выправить его положение. Со стороны это, наверное, выглядело смешно.
Перед самым выходом жена осмотрела меня с головы до ног, поцеловала и, слегка отстранившись, произнесла:
– Сегодня тебе лучше очки не снимать.
Машина, присланная за мной, уже ждала в условленном месте, водитель поздоровался и больше за всю дорогу не произнес ни единого слова.
На самом деле я был за это ему весьма признателен. Небольшой отрезок времени, который мне предстояло провести в пути, я хотел использовать для того, чтобы хоть как-то сосредоточиться и приблизительно представить себе сценарий предстоящей беседы под названием «Есть ли жизнь после смерти». Но мои усилия были безуспешными. Мысли путались: то я снова видел собственное отражение в зеркале, то вспоминались обрывки каких-то текстов, то ободряющий взгляд жены, который она подарила мне перед тем, как я закрыл за собой дверь.
За этим мелькающим перед глазами калейдоскопом я не заметил, как мы подкатили к ярко освещенному подъезду телецентра, на ступеньках которого уже ждала меня, обмахиваясь папкой с бумагами, милая дама – редактор, уговорившая меня принять участие в предстоящей программе. Крепко сжав мой локоть и щебеча о чем-то совершенно необязательном, дама почти силком протащила меня по лабиринту студийных коридоров, пока наконец не втолкнула в небольшую уютную гримерную.
С меня сняли очки, на пиджак набросили нейлоновый фартук и принялись обрабатывать лицо смесью каких-то кремов подозрительно коричневого цвета.
Минут через пять я посмотрел в зеркало. В нем отражался хорошо отдохнувший человек с южным загаром на бесцветной до того физиономии. Это был высокий класс. Я подмигнул своему респектабельному двойнику, но засиживаться в гримерной мне не дали.
Стремительный бросок через два лестничных пролета – и вот меня уже втолкнули в студию, где в кресле сидел ведущий телепрограммы, заглядывавший в листки и на разные лады пробовавший фразу: «Есть ли жизнь после смерти?» Еще одно кресло резко двинули под мои коленки и, когда я рухнул в приготовленную западню, тотчас же защелкнули на лацкане пиджака миниатюрный микрофон, а прямо в глаза направили яркий луч света. Я невольно заслонился рукой и робко попросил:
– Очки.
Через мгновение они оказались на моем лице.
– Тишина в студии! – крикнул ведущий.
Пути к отступлению были отрезаны. Сердце бухало так, что, казалось, заглушало все посторонние звуки. Сквозь этот грохот прорвалось наконец музыкальное вступление, и на мониторе появилась заставка передачи.
– Начали, – сказал ведущий и перекрестился.
Разговор получился, по-моему, динамичным, и, наверное, тем, кто смотрел нашу передачу, скучать не пришлось. А потом настало время отвечать на звонки телезрителей, лампочка телефонного аппарата, установленного в студии, и так уже достаточно долго мигала красным тревожным светом.
– Ну что ж, – бодро сказал ведущий, – давайте послушаем теперь того, кто так настойчиво пытается к нам дозвониться.
– Хочу обратиться к вашему гостю, – приятный женский голос раздался откуда-то сверху, – как он считает, а существует ли жизнь до момента смерти?
– Спасибо за вопрос, – сказал по инерции ведущий, но потом осекся и переспросил: – Я хотел бы, если можно, уточнить формулировку.
– Есть ли жизнь до смерти? – Голос, который пробивался сквозь эфирные помехи, показался мне необыкновенно знакомым.
– Это же Птаха, – произнес я и выпрямился в кресле.
– Какая еще Птаха? – спросил ведущий. Я чувствовал, что он начинает нервничать. – Объясните, пожалуйста, телезрителям смысл этого вопроса.
– Охотно, – сказал я. – Жизнь до момента смерти существует, но в одном-единственном случае: если в этой жизни присутствует любовь.
– Даже тогда, когда это мучительно больно? – спросила Птаха.
– Даже тогда, – ответил я.
– Все так, – сказала Птаха и добавила: – А за правильность ответа съешь конфету из буфета.
– Ничего не понимаю! – воскликнул ведущий.
Мне показалось, что моя жена, которая дома, сидя у телевизора, наблюдала за нашей беседой, при этом отчаянном возгласе слегка улыбнулась. А еще мне показалось, что в глазах ее в этот момент почему-то стояли слезы. И только фарфоровый император Лао, располагавшийся на полке за телевизором, как всегда, умудренно покачивал головой.
Необходимое пояснение
Имена действующих лиц, а также названия предприятий и учреждений изменены. Для получения достоверной информации следует обращаться по адресу: Бобруйск Небесный, улица Праведника Ноя, Туристическое Бюро имени «Сорокалетнего похода по пустыне». Пароль «Бобруйск Forever». Отзыв «Таки YES».




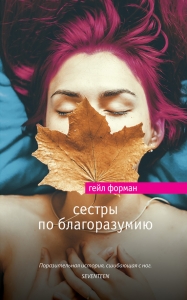



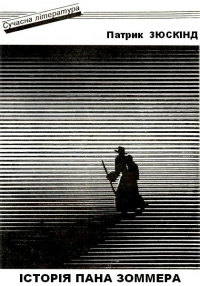
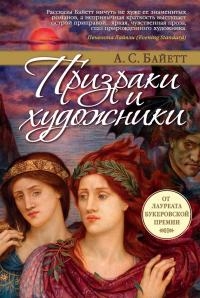


Комментарии к книге «История одной большой любви, или Бобруйск forever», Борис Евсеевич Шапиро-Тулин
Всего 0 комментариев