Марсель Эме ПОМОЛВКА Р а с с к а з ы
MARCEL AYME
Составление и вступительная статья: Л. Виндт
Художник: М. Майофис
Состав, переводы, статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1979 г.
Рассказы Марселя Эме
Марсель Эме, талантливый французский писатель нашего времени, к сожалению, мало известен у нас. Французский ум, трезвый, насмешливый и логичный, чувствуется в каждой его строчке: романы, пьесы, рассказы Эме пронизаны смехом, местами саркастическим и язвительным, местами мальчишески озорным. По свидетельству сверстников Эме, в нем долгое время видели просто забавного фельетониста, не понимали его, не принимали как писателя всерьез, а между тем произведения Эме дают яркое изображение современной ему Франции, украшенное измышлениями самой изощренной фантастики и целым фейерверком ошеломляющих гротескных шуток.
Эме любил отрицать всякую связь своего творчества с другими писателями — и прошлыми, и современными. И все же, несмотря на свою неоспоримую самобытность, Эме — сын своего народа. Его талант вскормлен исконным галльским юмором: сквозь современную ткань его произведений слышатся отзвуки задорного смеха средневековых народных фарсов, фаблио и новелл эпохи Возрождения. Один из его сборников даже носит название «Городские и сельские соти» (соти — средневековые сатирические пьески). И конечно, тот же смех звучит у Рабле, а позднее — в философских повестях Вольтера и в «Озорных рассказах» Бальзака. Вопреки утверждениям Эме, его творчество тесно вплетено в историю французской литературы. Особенно близок ему Анатоль Франс: их роднит, помимо общей окраски юмора, и пристрастие к веселым анекдотам былых времен, и симпатия к бродягам и неудачникам, которые иной раз оказываются лучше окружающих людей (у Франса — Кренкебиль, Гестас, Жонглер богоматери).
Марсель Эме — почти ровесник века. Он родился в 1902 году Жизнь его не богата событиями. Детство он провел в горной деревне департамента Юра (там происходит действие нескольких его «сельских» романов). Его отец, бродячий кузнец, после смерти жены пристроил детей у родственников и больше о них не заботился. Марсель воспитывался у деда, державшего небольшую черепичную мастерскую, потом у дяди — мельника. В своих автобиографических заметках Эме пишет: «На мельнице я наблюдал такое же обращение с людьми, как и у деда: его можно было определить как уважение к личности. Ко всем проявляли одинаковое внимание, одинаковое почтение, независимо от состояния и положения, и даже с удвоенной серьезностью и радушием, когда имели дело с самыми горемычными, обездоленными, слабоумными». Ласковое, бережное отношение к «малым сим» впоследствии никогда не изменяло писателю.
Переехав в городок Доль, где он учился в коллеже, мальчик не порывает связи с родной деревней: он проводит в ней летние каникулы, пасет коров на общинных лугах. По окончании коллежа Эме начал заниматься на медицинском факультете, но помешала болезнь. Затем он отбывал военную службу в занятой французами Рейнской области. Мечты о высшем образовании пришлось оставить. Нужно было зарабатывать на жизнь. Пестрым калейдоскопом сменяются самые несовместимые профессии: продавец газет, чернорабочий, банковский служащий, статист кино, агент по страхованию жизни, журналист и еще много других.
Первый роман Эме, «Брюльбуа», вышел в 1925 году; герой его — один из тех добродушных и недалеких людей, которых он потом не раз изобразит в своих произведениях. Эме писал примерно по одному роману в год. Двум из них были присуждены премии, в том числе роману «Безымянная улица» (1930) — премия популистского романа. Популизм — литературное течение 20—30-х годов, ставившее целью изображать убогую повседневную жизнь городской и деревенской бедноты, не связывая ее с социальными конфликтами эпохи и не вдаваясь в психологический анализ. А для Эме темы «низов общества» были всегда органически близкими. Однако первые его романы читательского успеха не имели и не могли обеспечить ему средств к существованию. Слава пришла неожиданно, ее принес роман «Зеленая кобылка» (1933) — деревенский роман, полный гротескного юмора. Автор не без горечи писал: «Вдруг все переменилось, когда я опубликовал «Зеленую кобылку», в которой увидели прежде всего фривольный роман. Последующие, ни в коей мере не обладающие этим свойством, сильно разочаровали публику, но со мной остались те, кто привязался к моим книгам по причинам более достойным…» (Впоследствии роман «Зеленая кобылка» был экранизирован, как и некоторые другие его произведения). Теперь биография Эме становится чисто литературной. Он создает ряд романов с сильным накалом чувств, где смешиваются фантастика и сатира, и выпускает в свет несколько сборников новелл; помещает в журналах критические статьи и рассказы, пишет предисловия к книгам, в частности по искусству. В театрах ставят его пьесы, и он присутствует на репетициях. Работает он и для кино, принимая участие в создании сценариев: «Преступление и наказание» (по Достоевскому), «Он приехал в день поминовения» (по роману Сименона), «Безымянная улица» (по своему собственному роману), а также в создании сценария хорошо известного у нас фильма «Папа, мама, служанка и я».
Целиком отдавшись литературе, Эме стал домоседом и почти не появлялся в обществе. Он любил бродить по Монмартру, где протекает жизнь многих его героев, а в воскресенье пойти в кафе поиграть в домино с друзьями. Эме не примыкал ни к какой литературной группировке, не выступал публично и, ревниво оберегая свой внутренний мир от назойливого любопытства репортеров, категорически отказывался сообщить им свою точку зрения на тот или иной предмет и отделывался издевательскими ответами вроде: «У меня нет никаких точек зрения».
Вкусы у него были строго классические: в музыке — Шуберт, Массне, Берлиоз; в изобразительном искусстве он любил именно изобразительность, отрицая абстрактность; в литературе выступал против порчи французского языка и изощрений авангардистских писателей.
Эме всегда испытывал неприязнь к демагогически политиканской возне. Он отвергал всяческие почести: отказался и от ордена Почетного легиона, и от приглашения в Елисейский дворец к президенту Ориолю и даже от кресла «бессмертного», то есть члена Французской академии.
Во время войны и после нее жизнерадостный тон произведений Эме заметно мрачнеет. Это относится в особенности к романам: «Травелинг» (1941), «Путь школьников» (1946), «Уран» (1948); об этих книгах писали, что их не сможет обойти ни один историк, который будет изучать эпоху второй мировой войны. Моральная атмосфера, в которой живут герои этих романов, отчасти сходна с той, что царит в произведениях, более или менее близких к экзистенциализму: одиночество, растерянность, страх, утрата моральных принципов. После 1948 года Эме пишет преимущественно пьесы, В 1960 году вышел его последний роман, «Ящики незнакомца». В конце жизни Эме переиздавал свои романы, объединяя «парижские» и «провинциальные» в отдельные тома. Переиздавал он и рассказы, группируя их по-новому; вышло три сборника: «Городские и сельские соти» (1958), «Оскар и Эрик» (1961) и «Большие шаги» (1967).
Умер Марсель Эме в октябре 1967 года, в возрасте шестидесяти пяти лет.
И в жизни, и в литературе Эме старался создавать себе позицию (или позу?) стороннего наблюдателя, скептически и равнодушно, без удивления и оценки взирающего на мир. Он тщательно шлифовал этот авторский облик, и этот облик вошел в ткань его книг как эстетический фактор и определил характер его повествовательного стиля. О чем бы он ни говорил — о смешном, о страшном, о невероятном, — тон его всегда спокойный и бесстрастный, а язык простой и лаконичный, и этот контраст еще более усиливает эмоциональное воздействие произведений Эме. Он никогда не морализирует, не поучает — пусть читатель делает выводы сам; но чуткий читатель отчетливо различит отношение автора к своим персонажам. Мизантропические настроения уживаются в нем с мягкой и слегка насмешливой любовью к людям. А нигде не декларированные писателем демократические симпатии окрашивают все его творчество. Своих героев он охотно берет из среды бедняков, мелких служащих, безработных, неудачников всякого рода, бесчисленных и безликих Мартенов; имя это носят герои многих его рассказов («Последний», «Статуя», «Меня уволили»), оно даже вошло в название сборника — «За домом Мартена». Они зачастую смешны, эти Мартены, как и все, кто попадает под перо Марселя Эме, но в то же время вызывают сочувствие и жалость. Это братья Акакия Акакиевича Башмачкина во французском обличии.
Совсем особое отношение у писателя к крестьянам. Воспоминания о сельской жизни, где люди живут общими интересами, как одна большая семья, хотя бы и недружная, будили в его душе тоску по потерянному раю. Эта жизнь в его глазах неизмеримо выше жизни городской с ее «безымянными улицами», безликими домами, где люди живут рядом, не зная друг друга. Его крестьяне, попав в город, чувствуют себя несчастными, вырванными из родной почвы. Сельские романы и рассказы Эме — это отнюдь не идиллии, автор не идеализирует крестьян; но, показывая их смешные и неприглядные стороны, он в то же время любуется их здравым смыслом, привязанностью к земле, их медлительностью, лукавством и здоровой чувственностью.
Люди, близко знавшие Марселя Эме, говорят о его душевной деликатности, застенчивой мягкости, тщательно скрываемой за ширмой насмешки. Они проскальзывают и в его произведениях, часто с парадоксальным, даже смешным оттенком, у персонажей, от которых этого меньше всего ожидаешь. Так, в рассказе «Жосс» автор сперва обстоятельно лепит непривлекательную фигуру грубого, даже жестокого солдафона, чтобы тем неожиданнее озарить ее затаенной нежностью к маленькому мальчику. Есть у Эме рассказ «Фабрика» (опубликован посмертно), в котором автор открыто скорбит о судьбе погибшего от непосильной работы ребенка.
Эме больше всего претили всякого рода духовная косность и нетерпимость, навязывание официальной морали, все высокопарное, претендующее на величие. Перед читателем его новелл проходит вереница уродливых, смехотворных и жалких фигур. Вот обломки французской аристократии, еще сохранившие веру в свою «голубую кровь» («Помолвка»). Вот новые хозяева-капиталисты, доводящие до парадокса свои псевдодемократические устремления («Назад»). Вот люди, облеченные властью, большой и малой, от крупных начальников до жандармов, которые в глазах автора служат олицетворением должностной тупости; для наглядности он сталкивает их со сверхъестественными существами — феями, кентаврами («При лунном свете», «Помолвка»), которым они пытаются задавать анкетные вопросы. Вот дельцы от религии, живущие спекуляцией на людских суевериях («Улица Святого Сульпиция»).
А его сатира на судейское сословие в пьесе «Чужая голова» (1952) была настолько резкой, что писателя хотели арестовать за клевету. И роман «Мельница на Сурдине» (1936) вызвал неудовольствие главным образом потому, что в нем буржуазная мораль была выставлена в очень уж неприглядном виде; почтенные горожане пытались скрыть скандальную истину, предпочитая обвинить заведомо невиновного бродягу.
Где лицемерие и самодовольная важность распускаются особенно пышным цветом, как не у хрестоматийного мещанина, обывателя, мелкого буржуа? Образ его давно зафиксирован во французской литературе — вспомним хотя бы новеллы Мопассана, Доде, Ренара и многих других. В рассказе Эме «Ключ под циновкой» лицемерная мораль честного отца семейства вступает в конфликт с его непреодолимой алчностью и приводит к фарсовой развязке. В рассказе «Две жертвы» тот же (или почти тот же) добродетельный отец, узнав, что его сын обольстил двух девушек, не разрешает ему жениться ни на одной из них — якобы «в наказание», а на деле — чтобы устроить ему более выгодный брак.
В таких случаях присущая Эме повествовательная невозмутимость, которая заставляет нас верить в невозможное, служит и усилению иронии, маскируя ее мнимой авторской солидарностью с персонажами. Для этого часто используется несобственно прямая речь, как, например, рассуждения о выходном костюме в «Трости». Или писатель употребляет как бы от себя высокопарные эпитеты, не вяжущиеся с ничтожными фактами («важное событие», «неслыханное оскорбление» и т. д.). Присутствие насмешливого, а подчас и «лицемерного» автора входит в стилистику комической новеллы. У Эме это присутствие скрыто очень тщательно, и тем действенней оно сказывается.
Смех Эме разнообразен: в основном он сатирический и целенаправленный. Но есть и смех ради смеха, когда писатель, ошеломляя нас каскадом неожиданных комических черточек, сам искренне радуется своим выдумкам. А бывает, что смех Эме становится жутковатым и жестким. В 1956 году был издан альбом карикатур художника Сине под заглавием: «Плачевные песни без слов Сине с ужасающими подробностями и с предисловием Марселя Эме». В этом предисловии Эме говорит, что он сперва наотрез отказался его писать, но потом, поглядев рисунки, согласился, невзирая на занятость. Что же привлекло его в этих карикатурах? То, что художник беззастенчиво смеется над вещами мрачными и даже трагическими, если в них есть элемент нелепости. Надпись на обложке альбома гласила, что художник, автор альбома, высмеивает высокопарность, излишнюю серьезность и показные добрые чувства — то есть все то, что было особенно противно и Марселю Эме. Сама природа смеха Сине была близка ему, в его рассказах трагический гротеск тоже, случалось, превращался в фарс и смех снимал ужас, обнажая всю нелепость самой ситуации. Так в рассказе «Три случая из уголовной хроники» двое женоубийц, спасаясь в лесу от правосудия и оплакивая свою горькую судьбу, толкнувшую их, таких добрых и хороших, по их собственному мнению, людей, на преступление, встречают еще одного беглеца и принимают его за собрата по несчастью, но узнав, что тот не убил жену, застав ее на месте преступления, хотят расправиться с ним; однако убивают друг друга, а обманутый муж спешит домой: «и с тех пор он не уставал благодарить судьбу, наградившую его женой с голосом сирены и верным другом с огненно-рыжей бородой».
В ряде рассказов Эме, написанных во время и после войны, как и в романах, колорит сгущается, юмор мрачнеет. Повествование в рассказе «Равнодушный» ведется от лица юноши, который попал в тюрьму и, выйдя оттуда, нанялся в убийцы к уголовникам, будто бы в надежде испытать острые чувства. Но что бы ни говорил герой рассказа, каким бы циником ни представлялся, читателю ясно, что перед ним трагически одинокий, очень молодой человек, утративший в силу внешних обстоятельств нравственные критерии и лишь спасающийся за маской «равнодушного». Смех Эме здесь страшен, как страшно само изображение парижского дна времен оккупации.
Сатира всегда хорошо уживается с эксцентрической фантастикой. Она преувеличивает и заостряет житейские ситуации и, перенося их в нереальный план, показывает, к чему они могли бы привести, если бы развивались беспрепятственно. Любовь к эксцентрическим выдумкам сближает Эме с Льюисом Кэрроллом, автором «Алисы в стране чудес». Славу Марселю Эме создали его фантастические рассказы. С ними тесно связаны «Сказки Кота» («Contes du chat perche») — точнее, сказки кота, сидящего на дереве. Ветка прищемила лапу коту, Эме его освободил, и в благодарность кот рассказал ему сказки, а Эме записал их для своей внучки, а заодно и для «всех детей в возрасте от четырех до семидесяти пяти». Но, кроме того, это игра слов, ибо chat perche — это разновидность игры в пятнашки. Никакого кота в ней нет, как нет черепахи в английском блюде «фальшивая черепаха», а между тем она выступает как персонаж «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Эме тоже любил жонглировать словами. Сказки Эме писал всю жизнь. Они издавались сборниками: «Красные сказки Кота», «Голубые сказки Кота», «Другие сказки Кота» и т. д.; выпускались и поодиночке в роскошных изданиях, с иллюстрациями выдающихся художников, в том числе Натана Альтмана. В 1939 году «Сказки» получили премию Шантеклер.
Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери говорил: «Взрослые люди очень странные». Слова эти оправдываются и всеми «Сказками Кота», в них взрослым противостоят не одни дети, но дети и животные. Дети в сказках Эме — это две девочки-школьницы, живущие на ферме, взрослые — их родители. В этих сказках почти нигде не встречаются слова «отец» или «мать», и родители говорят всегда вместе и действуют вдвоем, как какое-то языческое божество, пожирающее и детей, и животных: первых — фигурально, вторых — буквально. Для родителей животные — это только пища, а дети видят в них живых существ, с индивидуальными характерами. Символичен эпизод, когда девочки, желая спасти поросенка, которого собираются зарезать, натыкаются на хижину, где все наоборот; хозяин-боров грозится наказать ленивого парня-работника («Сарыч и Поросенок»). «Не ешьте его», — молят девочки, но оказывается, что хозяин и не собирается его съесть, он возмущен таким предположением. Да нет, он только лишит парня сладкого на неделю, да и то его доброе сердце не выдержит. И девочкам становится стыдно. Потому что и они уже заражены «взрослым», обывательским отношением к жизни. Старшая вразумляет младшую: «Свиньи для того и созданы, чтобы их ели… Быть добрым к животным очень хорошо, но не надо преувеличивать». А когда они стали бранить волка за то, что он пожирает ягнят, тот резонно ответил: «Вы же их едите». И девочкам опять стало стыдно («Волк»). А вот петух желает умереть «естественной» смертью, то есть попасть на сковородку, потому что такова участь всех петухов! Тут уже просвечивает социальный смысл — психология существа порабощенного и смирившегося со своей судьбой.
Дети видят незаслоненную правду жизни. Если нужно узнать количество деревьев в лесу, они при помощи своих бессловесных друзей подсчитывают, сколько их на самом деле, вопреки учительнице, для которой эти деревья — только отвлеченные числа («Задачка»). Такое непосредственное восприятие жизни лежит в основе не только «Сказок», но и многих других произведений Эме. «Сказки» не стоят особняком в его творчестве, они дают ключ к его фантастическим рассказам, романам и пьесам. Нерасторжимое переплетение реальности и фантазии свойственно детству. Сила мечты и вера в эту силу преображают действительность, ей подчиняется сама природа. Как уберечь поросенка от ножа? Если бы у него были крылья! И вот ему приделали крылья, отнятые у хищной птицы, и он взмыл в небо, и бедный школьник, надев сапоги-скороходы, полетел над городом и принес спящей матери пучок солнечных лучей («Сапоги-скороходы»). Скромный служащий вдруг получил способность проникать сквозь любые стены и смог осуществить то, что составляло предел его незатейливых желаний: отомстить начальнику за все унижения и разбогатеть, безнаказанно опустошая сейфы («Проходивший сквозь стены»). Желаний, быть может, неосознанных, но тем более навязчивых и мощных. Нигде не сказано, что он прежде мечтал об этом, как не сказано, что цирковой карлик хотел вырасти. Но ведь это так естественно, настолько само собой разумеется, что об этом не стоит и говорить! Конечно, хотел. И вырос. К чему это привело — вопрос другой («Карлик»). И этому есть аналогия в «Сказках». Белая курочка так пристально рассматривала слона на картинке, что и сама выросла и превратилась в слона («Слон»). Она уже не могла протиснуться в дверь, как карлик уже не помещался в своей кроватке. Карлик так и не вернулся к себе прежнему, а слон снова стал курочкой. Все ее величие, которое намечтали девочки и она сама, при появлении родителей лопнуло, как мыльный пузырь.
Казалось бы, мечта утвердилась навсегда — и вдруг, когда достигнут какой-то предел, когда она споткнулась обо что-то, все оказывается миражем. Да и правда ли, что это длилось так долго? Может быть, это было в каком-то другом измерении, где один миг вмещает в себя вечность? В романе «Прекрасный образ» (1941) невзрачный герой внезапно преобразился, стал красавцем (конечно же, он об этом мечтал, и не раз). После многих перипетий к нему вдруг возвращается прежняя внешность. Он подходит к окошку регистраторши, как в начале романа, и подает ей свои фотографии. «Прежде чем их наклеить, она бегло взглянула на них, как и в тот раз, и мне показалось, что время сомкнулось и что все мое приключение целиком умещается в одну эластичную секунду, чудовищно растянувшуюся, а теперь она вдруг сократилась до пределов самой обыкновенной секунды».
Относительность категории времени сильно занимала Эме; она определила сюжет многих его рассказов, то в виде временных прыжков в будущее и прошлое, то — провалов во времени. Впервые — в «Мертвом времени», где это дано без всякой мотивировки: «Жил однажды на Монмартре бедный человек по имени Мартен, который существовал только через день». Впоследствии подобные аномалии осложняются политической сатирой. Рассказ «Талоны на жизнь» был напечатан во время войны. Ради экономии продуктов питания правительство постановило выдавать талоны, по которым «общественно бесполезным» элементам отпускается пятнадцать или десять дней в месяц, на остальное время они исчезают и пребывают в небытии. Но «полезные элементы» (рабочие) нуждаются в деньгах и продают на черном рынке свои талоны богатым, которые, как всегда, остаются в выигрыше. В «Указе» фантастический прыжок во времени на семнадцать лет вперед, а затем возвращение к отправной точке играет особую роль; тонко и сдержанно, без всяких «жестоких» подробностей, гнет фашистской оккупации показан через психологию человека, который уже был перенесен в послевоенную Францию и вдруг снова очутился в оккупированной зоне, и конца войне не видно (срок окончания войны указан очень туманно, потому что рассказ написан в 1943 году). А в «Рецидиве», опять же по распоряжению правительства, два года считаются за один, с обратной силой: старики молодеют, а молодые становятся детьми; между ними вспыхивает война, но тут новый декрет ставит все на место. Родители вновь получают власть над детьми и в конце рассказа звучит одна из основных тем сказок Эме: тема родительской деспотии и жестокости.
Как понятие времени, так и понятие целостной личности подвергается Марселем Эме сомнению. Человек недоволен собой и своей судьбой; он стремится раздвинуть свои рамки и начинает жить двойной жизнью. Так, в рассказе «Сабины» героиня расщепляется на тысячи двойников, распространившихся по всему земному шару, пока смерть одной из них не уносит в могилу всех. В «Мартене, сочинителе романов» ставится сложный и парадоксальный вопрос о безумии как о средстве добиться свободы воли, избавившись от власти предопределения. Философская мысль, прямо не выраженная, подспудно присутствует в произведениях Эме. Подается она полунамеками, как будто автора удерживает какое-то целомудрие мысли.
Во многих произведениях Эме легко обнаружить пародийные мотивы. Так, в рассказе «Сабины» проглядывает пародия и на психологический семейный роман, и на массовую культуру, и на образцы стандартной красоты, вырабатываемые модными кинозвездами. «Ключ под циновкой» — откровенная пародия на детективную литературу, осложненную темами сентиментальной мелодрамы: раскаяние преступника, возвращение блудного сына.
В «Мартене, сочинителе романов» в гротескной форме пересказывается некая сюрреалистическая поэма о деревьях, которые «уже на корню принимают форму буфета времен Генриха Второго, комода в стиле Людовика Шестнадцатого или стола эпохи Директории». И даже сказка «Волк» — пародия на «Красную Шапочку».
Все, кто пишет о Марселе Эме, в один голос указывают на математический или логический характер его фантастики. Впрочем, об этом говорит он сам. «Будут оспаривать, что человек может существовать через день и что одна и та же личность способна одновременно жить в двух телах… Именно в этих кажущихся отклонениях от правдоподобия мой реализм оказывается наиболее бдительным, так как он строго и последовательно облекается в математическую форму. В самом деле, следуя аналитическому методу, который берет заведомо абсурдное, мнимое число, чтобы извлечь из него требуемые уравнения, я исхожу из воображаемых данных со спокойной совестью и твердой верой в правдивость развязки, так что, заканчивая рассказ, я имею право (поскольку все время был реалистом) игнорировать нелепости, которым притворно поддавался» (из авторской аннотации к сборнику «За домом Мартена»). Там же Эме говорит о рассказе «Мартен, сочинитель романов», об этой «истории писателя-реалиста, который извлекает своих персонажей из столь полнокровной реальности, что в них пробуждается реальная, материальная жизнь и они предъявляют к его произведению требования переживаемой ими реальности, лишая его авторской свободы воли. Мне кажется, никогда еще не писали на столь реалистическую тему». Эме явно смеется над нами. Он так любит насмешку, скрытую под обстоятельной серьезностью! (У него с детства была склонность к мистификации: он разыгрывал взрослых, изображая наивного ребенка; все было обдумано, пишет он в своих воспоминаниях, вплоть до взглядов и интонаций. В новелле «Ключ под циновкой» матери семейств, уходя на бал в мэрию, громко кричат мужьям, чтобы они не забыли оставить ключ под циновкой, когда лягут спать. Это дань детской проделке самого Марселя Эме, который как-то раз крикнул подобную фразу сестре и потом никак не мог уверить родных в том, что крикнул нарочно.) Ну конечно же, Марсель Эме реалист даже тогда, когда он дает волю своему необузданному воображению. В обыденную жизнь он вносит невероятный факт, зачастую лаконично сообщая о нем в первой же фразе, почти протокольным стилем, и смотрит, что же из этого получится. Как будто задает вопрос: «А что было бы, если?..» Рассказ ведется спокойно и обстоятельно, как будто о самых обыкновенных вещах, длинными, закругленными предложениями, с множеством бытовых подробностей. Персонажи рассказа, претерпев некоторый шок, поступают каждый соответственно своему характеру, который в таких непредвиденных обстоятельствах раскрывается особенно ярко, а дальнейшие события развиваются с неуязвимой логичностью по законам самой реальной реальности, в которую ворвалось нечто необычное. На этом же принципе построен гоголевский «Нос». Автор не вырывает своих героев из привычной среды, но деформирует, остраняет ее гротескной ситуацией, в возможности и правомерности которой не сомневаются ни он, ни герои; поддавшись гипнозу сногсшибательных и убедительных выводов, перестаем сомневаться и мы. Эта деловая трезвость в фантастике — отличительная черта трагикомических вымыслов Марселя Эме, особенно отчетливо сказавшаяся в его рассказах.
Этой деловой трезвости соответствует и невозмутимость рассказчика. И если так тщательно выпестованный Эме образ «невозмутимого рассказчика» сыграл положительную роль в художественной ткани его произведений, то в идейно-содержательной линии он прозрачно-обманчив и ничуть не скрывает истинных, демократических симпатий писателя и гуманистических установок его творчества.
Л. ВиндтРАССКАЗЫ
Колодец чудес
Мелитина Трелен вышла на дорогу и сказала торговцу кроличьими шкурками:
— На этой неделе ни одного не забила, мсье Боссле. Понимаете, самец-то у меня вконец обленился, уж и до баловства не охоч. Вот мне и боязно, вдруг останусь ни с чем.
Мсье Боссле кивнул — понимает, мол, хохотнул насчет самца и добавил:
— Точно, встречаются такие самцы, безо всякого понятия на этот счет.
Оба развеселились. Старуха так и закатилась, огромные груди колыхались под кофтой. Еще не отсмеявшись, она сказала:
— А вы все такой же, как были, право слово.
Торговец кроличьими шкурками скромно потупился.
— В нашем деле всякого наслушаешься, иной раз уши вянут, а вот с вами, мадам Трелен, я всегда не прочь на такое посмеяться. А теперь до свиданьица, не опоздать бы мне в Глезан к началу кино.
— Кино? Что еще за кино?
— А как же, сегодня там открывают кино на двести мест. Вот теперь и будут пускать картины по четвергам и воскресеньям, на гумне у прежнего нотариуса. Счастливо оставаться!
Мелитина посмотрела ему вслед и вернулась на кухню. Весь день кино не выходило у нее из головы. То ее охватывала какая-то непривычная веселость при мысли, что такая новинка завелась всего в пяти километрах от ее дома, то ее сердце заходилось от боязни, как примет старик ее сообщение. Нельзя сказать, чтобы он часто злобился или во всем перечил, но очень уж был упрям и если скажет «нет» — его с места не своротишь, даже слушать не станет.
Когда дед Трелен пришел домой, похлебка уже ждала его на столе. Усаживаясь, он спросил:
— Видала кого сегодня?
— Нет, никого не было. Вот только Боссле заходил.
— Это тот Боссле, что шкурками торгует? — уточнил старик. — Экой чудило.
— Намедни я ему всучила шкурку за три франка пятнадцать су. Облапошила его вчистую, иначе не скажешь.
— Облапошила, облапошила, а он все равно похитрее тебя, старуха, будет.
Мелитина залилась деланным смехом и сразу пожалела об этом, почувствовав, что старик насторожился. Она наклонилась над кастрюлей, поворошила огонь в очаге и наконец решилась сказать:
— Знаешь, чего он говорит, Боссле-то?
— Скажешь — знать буду.
— Говорит, будто в Глезане кино открыли.
Старик помалкивал, выжидал, почесывая руку о небритый с воскресенья подбородок.
Мелитина сочла это добрым знаком и с нарочитой непринужденностью заявила о своем решении, будто вовсе и не нуждалась в согласии мужа:
— Охота мне сходить туда в воскресенье, вот что я тебе скажу.
Сперва ответа не последовало. Мелитина было обрадовалась, что старик, как она и рассчитывала, отнесся к ее замыслу равнодушно. Но тот, не глядя на нее, изрек:
— Пустое это дело, в кино ходить.
— Поглядеть-то, вроде бы, есть на что, ей-богу.
Старик медленно повернулся к плите, обильно сплюнул и твердо сказал, не повышая голоса:
— Нечего туда шляться.
Ясно было, что старика не умаслишь и не перехитришь, и Мелитина уже приготовилась к ругани. Но ей помешал истошный вопль на соседнем дворе.
Дед Трелен тихонько хмыкнул себе под нос:
— Опять, должно, Клотер жену в колодец спускает, — сказал он.
Дед снова взялся за похлебку, а Мелитина выскочила из кухни, позабыв о кастрюлях. Возле дома Пиньолей она остановилась, посмеиваясь про себя и упиваясь любопытным зрелищем.
Рыжий мужичонка, приземистый, крепко сбитый, ноги колесом, выговаривал кому-то тонким, пронзительным голосочком, наклонясь над колодцем, а ему отвечал, будто издалека, другой голос, глухой, как у чревовещателя. Это Клотер Пиньоль отчитывал жену.
Говорил он, казалось, беззлобно, иногда даже заливался мелким смешком, отчего плечи у него подрагивали. Мелитина слушала, как он неторопливо осыпает жену бранью:
— Паскуда треклятая, насидишься у меня теперь в холодке. А ну повтори, зараза, что я напился, а ну повтори-ка… я те рога-то обломал, паскуде, нет, что ли? Ах ты паскуда! Сам не знаю, почему бы мне цепь-то не отпустить, чтоб враз с тобой покончить… паскуда…
Мелитина, всласть налюбовавшись на мучителя, окликнула его наконец, прикинувшись донельзя возмущенной:
— Совести у тебя нет, Пиньоль, ну чего ты измываешься над Жукой, она, бедная, такой рев давеча подняла, у священника в доме и то, поди, слышно было.
Пиньоль обернулся и приветливо осклабился:
— А, это вы, Мелитина. Чего вы тут потеряли, глядите, как бы старик не приревновал.
Мелитина не могла удержаться от смеха. Она искренне жалела Жуку, признавала, что Клотер, бесспорно, пьяница и охальник, но стоило ей увидеть его рожу, кривой, потешно фыркающий нос, хитрые глазки и рот серпом, смех так ее и разбирал. И все-таки неугомонный какой-то он был, этот чертов Клотер! Чего только он не придумывал, чтобы помучить Жуку, кроткое создание, безропотно сносившее все его издевательства. Недавно он затеял подвешивать ее в колодец. Вбив крюк внутри деревянной обшивки сруба, он удерживал цепь в таком положении, что Жука, стоя в бадье, висела над самой водой, и оставлял ее там чуть ли не на час, наслаждаясь воплями несчастной женщины. В деревне все знали о его жестоких выходках и все молча потакали ему, становясь, как водится, по деревенскому обыкновению, на сторону грубой силы.
Поглаживая кнутовище, зажатое в кулаке, Пиньоль добавил:
— Эй, слушайте, Мелитина, не подумал бы старик, что мы с вами тут свиданку назначили!
— Куда там, — отозвалась Мелитина, — от свиданок с такой старухой, как я, большой беды не будет.
Пиньоль начал было возражать ей из вежливости, но тут из колодца донесся жалобный голос:
— Вытащи меня, Клотер, а то стряпня моя, того гляди, на плите подгорит.
— Вот чертова баба, что ни делай, она все свое лопочет, — злобно проворчал Пиньоль.
Потом нагнулся над колодцем и пропищал дурацким голоском мальчишки-певчего:
— Сказано, не вытащу. Пойду-ка я к Биро, девчонку его потискать, я с ней уговорился. Мое вам, цыпочки!
И ушел, трясясь от хохота.
Мелитина не решалась поднять бадью с Жукой из страха, как бы не разозлить Пиньоля. Она низко наклонилась над срубом, силясь хоть что-то разглядеть в глубине колодца, но по старости видела только мерцающие блики, когда по поверхности пробегала серебристая дрожь.
Вдруг из глубины колодца послышался тихий, безостановочный плач. Мелитину всю так и перевернуло от этого плача, сердце обмякло от жалости, будто губка, горло сдавило — слова не выговорить. А скорбный плач заполнял весь колодец безысходным отчаянием.
Мелитина робко позвала:
— Жука, золотко мое, Жука!
Плач затих.
— Это вы, что ли, Мелитина?
— Да перестань ты, говорю, кровь себе портить. Живи я с таким шелопутом, как твой, я бы ему живо мозги вправила, верно говорю.
Стоя в бадье, вцепившись обеими руками в цепь, Жука смотрела вверх, где виднелась по пояс бабка Тре-лен, резкой черной тенью выступая посреди светлого круга. Иногда от неосторожного движения Жуки бадья резко накренялась, и это отчаянно пугало ее. Жука была маленькой и тщедушной, а от вечного страха перед затеями мужа она и вовсе съежилась в комочек. На худеньком личике удивленно светились большие голубые глаза с кротким взглядом.
А бабка Трелен все увещевала ее тихим голосом:
— Брось, не реви, не на век же такая жизнь.
— Да что вы, теперь уже, видать, ничего не поделаешь…
— Как знать-то. Такой озорник может враз перемениться. Мой-то, как вспомнишь, тоже не всегда был шелковым.
— Тут и сравнения нет, Мелитина.
— Вон как, по-твоему? А я тебе, к примеру, скажу, что он меня в кино не пускает, новое-то кино, слышь, в Глезане открылось.
— Кино…
— Да, мне в кино охота сбегать, вот взбрело в голову.
— А зачем?
— Как зачем? Да поглядеть. Ты-то в кино ходила, нет?
— С таким муженьком, как мой, вряд ли походишь…
— Ну хоть слыхала про такое?
— Может статься, да не помню. А стоит посмотреть?
— Да. Вот Марго, Бедуимова жена, мне на днях рассказывала, чего она там насмотрелась. Понимаешь, в помещении-то темно, ну, вроде как у тебя в колодце, а как заглянешь вглубь, там полотно навешено и на нем всякое увидишь, будто сама по нему живьем ходишь. А вот про что там дело было, Марго рассказывала, да я запамятовала. В общем, женщина там одна была, ну, красавица, разодета что надо и все такое, и кругом ухажеры, по одежде скажешь — вроде наш советник в Глезане или депутат; словом, народ шикарный и все друг с другом хахалятся. Вишь ты! И сами из себя все прехорошенькие. Марго говорила. А под конец взасос целуются, когда и не ждешь, право слово.
Жука даже позабыла, где она и что с ней. Наклонив голову, слушала она рассказ бабки Трелен и на холодной поверхности воды мерещилась ей счастливая парочка, для которой весь мир сотворен, как на заказ; красивая девушка с красивым парнем ласково смотрели на Жуку, дружелюбно ей улыбались.
— А уж из револьверов-то палят, и говорить нечего, — продолжала Мелитина, — да это делу не мешает. Ну, до чего не везет мне, так всего этого и не увидишь! Надо же было ему забрать себе чего-то в башку дубовую, олуху такому!
— Выходит, и вам счастья нет, — сказала Жука. — Тяжко ведь вам от кино этого отказаться.
Обе призадумались, та, что наверху, и та, что внизу. Когда молчать стало невтерпеж, Мелитина сказала:
— В общем-то, чертово семя эти мужики. Таких гусей обштопать сам бог велел, вот как я это понимаю.
Она вытащила вязальную спицу, воткнутую в волосы, и молча принялась за вязанье, по-прежнему нагнувшись над колодцем.
Немного спустя она огляделась, не идет ли кто, и сказала:
— Слышь-ка, Жука, а что, если нам с тобой туда сходить…
— Да опомнитесь!
— Вот ты меня послушай, дай сказать. Никак в будущее воскресенье твой Клотер поведет корову в Варпуа на случный двор?
— Да.
— Так вот, я моему навру, что Чернушке невмоготу больше на луг ходить, пора, мол, ей под быка, а сама уж расстараюсь, чтоб нам управиться с сеном за субботу; вот ему и придется ее туда же вести в воскресенье. И коли оба из дому уберутся, не так скоро их обратно надобно ждать. А мы пока что успеем в кино сбегать!
Жука была подавлена смелостью этого замысла. Едва она представила себе, к чему может привести такой поход, по телу ее пробежала дрожь и бадья тотчас же качнулась. А Мелитина, наклонясь к ней, все круче гнула свое:
— Чего не пойти-то? Бояться нечего, они только к полуночи воротятся, в дымину пьяные. Тоже мне цацы нашлись, больно надо себе из-за них жизнь портить. Пойдем, говорю.
Жука еще не решалась. А прекрасная парочка все прохаживалась взад-вперед по прозрачной воде, миловалась по-городскому.
— А если узнает?
— Еще чего! Ты подумай, им же не обернуться раньше ночи, да еще, поди, заглянут к Пикле в кабак, вот и прикинь! Ну, как, согласна?
— Согласна, — прошелестело из колодца.
Пиньоль, одетый в пиджачную пару, вышел с коровой на дорогу и закричал:
— Эй, дед, идешь или нет?
— Погоди чуток, — откликнулась Мелитина из окошка, — дай ему воротничок пристегнуть.
Старик на кухне выходил из себя.
— Будет тебе, говорю, сам управлюсь, поди отвяжи Чернушку.
— Ладно, только смотри мне, чтобы дома был к семи часам, слышь? Коли припозднишься, огрею чем попало…
Это она нарочно громко выкрикнула, чтобы услышал Пиньоль. Деду Трелену стало обидно, что с ним на людях так обращаются. Пока Мелитина возилась в хлеву, старик вытащил деньги из заначки под часами. Потом вышел во двор, куда жена привела пятнистую, черную с белым коровенку.
— Собрался наконец, — сказал Клотер, — пошли, что ли.
— Пошли, — сказал старик.
Они уже шагали по дороге, когда старуха Трелен крикнула вслед:
— Никуда заходить не смей, понятно говорю?
Муж, вконец разозленный, обернулся. Сказал, не повышая голоса:
— А я говорю, заткни хлебало.
Экран жестоко обманул ожидания Жуки и Мелитины. Сперва шел документальный фильм об американском свекловичном хозяйстве и они зевали от скуки. А во второй картине, на историческую тему, вовсе нельзя было разобраться. Мелитина мирно дремала, а Жука тщетно искала на экране хоть что-то похожее на тени, всплывшие из глубины колодца в тот вечер, когда Клотер баловался с девчонкой. Но вояка в гусарском мундире, успевавший раздробить сопернику череп и похитить девицу между двумя кавалерийскими атаками, ничем не напоминал нежного, красивого юношу, что улыбался свой невесте точь-в-точь как на глянцевых открытках, выставленных в табачной лавочке. Ее охватила глубокая печаль; ей почудилось, что ее обманула какая-то надежда, будто любимые друзья не пришли к ней на свидание.
После сеанса, когда сообщницы шли домой, Мели-тина кратко подытожила свои впечатления:
— В общем-то куда веселее смотреть, как у Пикле играют в кегли под пластинку «Темный вальс».
Жука только головой покачала.
— Однако уже одиннадцатый час, — продолжала Мелитина, — как бы наши обормоты раньше нас домой не заявились. Никак ты опять ревешь, девонька, с чего бы это?
Жука беззвучно плакала, и только плечи ее вздрагивали, словно от боли.
— Боишься, поди, что твой Клотер уже дома?
— Нет, об этом я и вовсе не думала.
— Так чего же на тебя нашло?
— Сама не знаю, — ответила Жука, — сама не знаю.
Ничего не скажешь, с Пиньолем шататься — одно удовольствие. Повсюду у него друзья, и на угощение он никогда не скупится. Чуть осовелые от выпитого приятели неторопливо шествовали домой, бок о бок со своими коровами. Когда завиднелись крайние дома деревни, старик подал мысль:
— А не завернуть ли нам к Пикле, что скажешь? Ведь еще и девяти нет.
— И то верно, дед, опрокинем с ходу стаканчик и по домам.
— Как это по домам? Я же тебе говорю, времени у нас хоть отбавляй.
— Да ведь я не за себя, за вас беспокоюсь: как бы Мелитина вам сгоряча по шее не накостыляла.
— Куда ей, стерве, она только глотку драть горазда.
У Пикле было полно. С приходом Пиньоля все оживились. Его отовсюду окликали, каждый звал его за свой стол. Кругом гоготали во все горло, веселье так и бурлило, куда ни глянь. Вот он какой был, Пиньоль. Стоит ему заглянуть в кабак, вино сразу так и заиграет. Пиньоль потянул старика за рукав к одному из столов:
— Здорово, Могле, здорово, Клавен, вот к вам-то я и подсяду! Жюльетта, устрой-ка нам литрушку белого.
Польщенные присутствием Пиньоля за столом, Могло и Клавен заказали еще по бутылочке. Старик, не желая отставать в подобном состязании на щедрость, закричал:
— Тащи-ка нам сюда водочку, Жюльетта, я угощаю!
До чего же хороша виноградная водка, с этим яблочным привкусом, от которого приятно щекочет в носу! Так сказал Пиньоль, и все с ним согласились.
— Перекинемся еще разок в картишки, — сказал Могле.
Сыграли три партии, запили белым вином. Игра пошла веселей.
Пиньоль вопил писклявым голоском:
— Держись, Клавен, вот сейчас как дам по усам!
Старик совсем упился и уже не различал козырей. Он бил каждую карту, какая попадалась, приговаривая кротко и тупо:
— Твой король треф? А я ему перо в зад!
— Да ты чего! — орал Пиньоль. — Его козырем крыть надобно!
— А я ему перо в зад, — упрямился старик.
К одиннадцати часам дед Трелен и Пиньоль остались одни в кабаке, совсем пьяные. Сидели и оторопело таращились друг на друга через стол.
— Коли были у тебя козыри, с козырей бы и ходил, — повторял Пиньоль.
Старик уже и говорить не мог, только головой кивал, соглашался.
— Не пора ли нам коров домой вести, а, дед? — сказал наконец Пиньоль.
Коровы побрели знакомой дорогой, хозяева за ними.
Старик, позабыв о Пиньоле, отвел свою корову в хлев и сам рухнул на кучу соломы. Он уже задремывал, когда через раскрытую настежь дверь донесся пронзительный голос Пиньоля:
— Погоди у меня, вредная тварь, я те научу вежливому обхождению!
Пиньоль начал было уже раздеваться у себя в комнате, как вдруг спохватился, что Жуки нет в кровати.
«Куда она подевалась в такой час?» — подумал он.
Пиньоль обошел все три комнаты своего дома, заглянул на гумно и в конюшню.
— Чудеса какие-то, — пробормотал он.
Позвал:
— Жука! Эй! Жука!
Жука не откликалась. Стоя посреди двора, Пиньоль размышлял об этом непонятном исчезновении. Внезапно взгляд его упал на колодец. Ужас охватил его.
— Черт те что, — сказал он, — нет, все-таки, быть такого не может. Да неужто я ее спустил в колодец перед уходом?
От волнения с него и хмель-то вроде бы соскочил. Он подбежал к колодцу и позвал, наклонясь над срубом:
— Жука! Жука!
Цепь была отпущена во всю длину, он потянул. Цепь свободно пошла вверх. Жены в бадье не было… — уже не было, — подумалось ему. Незадачливого гуляку даже озноб пробрал, он сел на каменный лоток возле колодца и попытался собраться с мыслями. Но испуг и винные пары начисто отшибли у него память, и он никак не мог припомнить, что же случилось перед его уходом. Одна мысль тупо засела в голове:
— Неужто я ее спустил в колодец перед тем, как уйти?
Сова закричала в густых ветвях орешника, и от этого крика нестерпимый страх обуял Пиньоля. Дрожа так, что зуб на зуб не попадал, он забрался в каменный лоток и лег там ничком; над ним гукала сова, звала Жуку:
— Жука, ау, Жука!..
Пиньоль вылез из лотка и побежал домой. Открывая дверь спальни, он вздрогнул от какого-то едва слышного шороха и чуть было не свалился без памяти. Потом все же вошел, поборов страх. Жука стояла в комнате, раздевалась. Пиньоль схватил ее за руки, засыпал невнятными вопросами:
— Куда подевалась? Где была-то?
— Где была? — спокойно ответила Жука. — В кино ходила.
У Пиньоля такая тяжесть свалилась с души, что он даже не мог сразу разозлиться. Только стиснул зубы и пробурчал:
— Ну, паскуда! Погоди, завтра разберемся. Спать охота.
Жука встала задолго до него и уже возилась со скотиной. Пиньоль натянул штаны, сунул ноги в деревянные башмаки и вышел на кухню. Исподлобья поглядел на Жуку, готовившую корм для кур, и молча снял со стены кнут. Жука на него не обращала никакого внимания. Это вывело рыжего из себя:
— Ты знаешь, что тебе сейчас будет? — прошипел он.
Жука повернулась к нему и неторопливо сказала:
— Погоди, дай уж кур накормлю.
Сбитый с толку ее непривычным спокойствием, Пиньоль согласился.
— Ладно, задавай им корм, заодно и я чего-нибудь пожую.
Пока он ел, Жука созывала кур, и голос ее звучал весело, как показалось Пиньолю.
— Издевается, зараза, — сказал он, скрипнув зубами.
От налетевшей злобы в лицо полыхнул жар; Пиньоль вышел, сжимая кнут в руке.
— А ну поди сюда, Жука, пора уже. Вчера ты натешилась, сегодня мой черед.
Она спокойно поставила наземь миски с кормом и пошла к колодцу. Когда она проходила мимо Пиньоля, он хлестнул ее кнутом по ногам. На босой ноге отпечатался красный след, но Жука даже не охнула. По приказу мужа она взялась за рукоять, вытащила бадью и встала на край колодца. Бадья была широкой и глубокой. Жука влезла в нее, бадья приходилась ей до полбедра.
Пиньоль проверил, хорошо ли закреплена цепь на стопорном крюке, дал Жуке оплеуху — а та даже глаз на него не подняла — и сказал:
— Поехали.
Затем, покончив с этим делом, он направился к дому, заявив, что проголодался от такой потехи.
Жука прислушивалась к его затихающим шагам. Она подняла глаза к свету, увидела, что наконец осталась одна, и улыбнулась от радости. Чтобы не потерять равновесия, она попыталась присесть на корточки. Это ей почти удалось; подогнув коленки, она погрузилась в бадью по грудь. Глаза ее быстро привыкли к темноте. Она наклонила голову и всмотрелась в неподвижную воду.
Нежная парочка по-прежнему была тут как тут и глядела на нее, ласково улыбаясь. Никогда еще эти влюбленные не были так хороши. А между их лицами Жука увидела в голубой воде отражение своего худенького личика, озаренного ясными глазами. Тогда она распустила свои светлые волосы, вынув из них гребень, и расстегнула кофточку. В холодной чистой воде предстала перед ней хрупкая девушка, несущая в дар колодезным любовникам длинные волосы и обнаженную грудь. А влюбленные в счастливой истоме склонили головы к ее белым плечам.
Потихоньку лица их сблизились, и Жука видела: еще немного — и губы сольются в поцелуе. Тогда она знаком попросила их обождать и прыгнула в воду.
Отступление из России
В своей черновой тетради Рыжик спрягал в прошедшем времени сослагательного наклонения фразу: «Я оскорбил бы моего учителя и моих товарищей». Он писал не спеша. Учитель в наказание велел ему спрягать эту фразу во время перемены, не указав сколько раз. На дворе школьники играли в мяч и гоняли шарики.
Время от времени Рыжик поднимал голову, прислушиваясь к знакомым возгласам:
— Ты пятна!
— Чур-чура!
Он видел, как мимо окна то и дело проходили школьники, наказанные за то, что не выучили урока по истории. Подвергнутые менее строгому наказанию, чем он сам, они должны были всю перемену в молчании гуськом маршировать вокруг двора. Это не помешало Леону Жару, замыкавшему процессию, крикнуть Рыжику через приоткрытое окно:
— Мы-то хоть свежим воздухом дышим. Будешь знать, как оскорблять нас.
— Зато у меня не такой дурацкий вид, как у тебя, — ответил Рыжик, размахивая бумажной солонкой в знак того, что он приятно проводит время в одиночестве. Как только Леон Жар догнал процессию школьников, Рыжик спрятал солонку и вновь взялся за перо. Он покончил с прошедшим временем сослагательного наклонения и теперь не без удовольствия спрягал ту же фразу в будущем времени: «Я буду оскорблять моего учителя и моих товарищей». Ибо Рыжик ни в чем не раскаивался, он сказал то, что нужно было сказать, и если бы учитель умел рассуждать, он должен был бы пылко признать его преданность делу разума. Правда, все это произошло довольно нелепо, и учителя отчасти можно было бы извинить; он не знал о гнусном поведении Леона Жара, явившемся причиной инцидента на уроке истории. В самом деле, во всем виноват этот балбес Жар с его вечными проделками.
У Рыжика были ярко-рыжие волосы, и во всем Вар-пуа лишь мать звала его по имени — Пьер.
По обществоведению, по истории и географии он был силен не по летам. Что касается орфографии, он почти никогда не задумывался при встрече с самыми трудными формами множественного числа. Он умел считать в уме.
— Этому Пьеру Шодэ, — говорил учитель, — нет еще и одиннадцати, а знаний у него хватило бы уже на аттестат зрелости.
Товарищи немного завидовали ему из-за этого, и больше всех — Леон Жар, горластый тринадцатилетний верзила, гордившийся тем, что у него уже пробивался пушок под мышками и на животе. Он постоянно изощрялся в насмешках по поводу цвета волос Рыжика.
— Еще одна охапка, — говорил он, — и ты вспыхнешь как факел.
Рыжик не стыдился цвета своих волос. Он даже считал его изысканным, но из предосторожности любил говорить о превосходстве духа над преходящей внешностью. На шутки Леона Жара он спокойно отвечал:
— Пусть я рыжий, но уж диктовку-то я пишу лучше всех; а пока ты выучишь свои департаменты так же хорошо, как я выучил свои, — поседеешь. Как говорится, дураком родился — дураком умрешь.
Порой возражения Рыжика являлись поводом для споров о пользе образования. Леон Жар не верил в его благотворное влияние и с глубоким отвращением сопоставлял плоды школьных занятий с крестьянским трудом.
— Какая тебе польза, — говорил он, — знать, что слово «возжи» пишется через «з». Это не научит тебя править лошадьми.
— Как будто нет другого дела, как только править лошадьми, — возражал Рыжик, не обращая внимания на ошибку Жара.
— Я прекрасно понимаю, иной раз сходишь к девочке, хоть это и не для тебя, с твоей рыжей шевелюрой. Допустим. Но представь себе, что ты наедине с девушкой. Не будешь же ты читать ей наизусть таблицу умножения.
Рыжик соглашался с этим. Однако он мог бы возразить этому верзиле Жару, что хорошее образование придает некоторую уверенность в обращении с девушками. Он мог бы рассказать ему, что по четвергам он частенько ходит в лес и играет там с Мари Бло, одной из лучших учениц, и что она охотно слушает, как он декламирует «Мор зверей» или «Мой отец, герой с такой нежной улыбкой…»
Такие вещи Жара не касались.
Но сегодня утром, по дороге в школу, раздосадованный самоуверенностью Жара, он решил рассказать ему об этих развлечениях в лесу и поведал ему свою тайну.
Но верзила Жар рассмеялся ему в глаза и произнес тоном надменного сострадания.
— Вот это да! Ты первый ученик в классе, ты решаешь задачи на тройное правило, ты знаешь все войны семидесятых годов, ты не знаешь только, для чего существуют женщины.
Рыжик покраснел, оскорбленный тем, что его могли заподозрить в подобном невежестве. Он сухо ответил:
— Я прекрасно знаю, что они нужны для того, чтобы рожать детей.
— Уже неплохо, — согласился верзила Жар. — К счастью, ты это узнал от меня; если бы не было никого, кроме учителя… А мужчины для чего нужны, знаешь?
— Глупый вопрос, — пробормотал Рыжик.
— Почему же глупый?
— Мужчины — это мужчины.
— Ну, конечно, где же тебе знать: рыжий есть рыжий.
До конца перемены оставалось еще десять минут. Верзила Жар решил пожертвовать партией в шарики для просвещения Рыжика и попытался доказать ему, что нет следствия без причины. Его аргументы были вполне разумны. Рыжик был потрясен. Все это казалось ему совершенно необычным и было чревато последствиями, как он предчувствовал, весьма серьезными. Он робко спросил:
— Так, значит, учитель?..
— Разумеется, — подтвердил верзила Жар, — ведь он женат на учительнице. Ах! Он не очень-то хвалится этим.
Скоро начнется урок; за живой изгородью, метрах в двухстах, показалась школа.
И вот Леон Жар, пропустив Рыжика на несколько метров вперед, бросился бежать, крикнув:
— Кто прибежит во двор последним, тот дурак!
Рыжик пустился бежать что есть мочи. Всякий раз он соглашался на эту игру и, разумеется, всегда приходил последним — ведь у Леона Жара были такие длинные ноги. Тем не менее он прекрасно понимал, что совершенно бессмысленно пытаться установить превосходство ума при помощи галопа, и он мог бы доказать это верзиле Жару — в аргументах у него не было недостатка; но когда он достигал финиша, отстав от своего товарища на пять или шесть метров, у него хватало гордости ничего не говорить об этом и принимать исход соревнования, не стараясь использовать подобные аргументы в свою пользу.
Этим утром, потому ли, что верзила Жар бежал с прохладцей, или он сам был охвачен большим рвением, они прибежали во двор одновременно. Их товарищи с напряженным вниманием следили за исходом борьбы, и когда оба бегуна показались из-за изгороди, все закричали:
— Давай, Рыжик! Давай, давай… Всё! Рыжик первый! Рыжик первый!
Сказать по правде, они добежали до большой акации в конце двора одновременно, но горячее, страстное сочувствие всегда вознаграждает необычное, слава приходит к тем, кто ломает привычные представления.
Поистине Рыжик был победителем, об этом не переставая кричали все:
— Да здравствует Рыжик!
Верзила Жар был взбешен. Воспользовавшись некоторым затишьем, он громко сказал:
— На старте я дал ему не меньше десяти метров форы, и если бы я захотел…
Но никто не хотел его слушать. Рыжик, сияя от гордости, откинув кудри, объятые пламенем, с упоением вдыхал аромат своей блестевшей кожи, от которой на свежем утреннем воздухе шел пар. Он ответил верзиле Жару:
— Не мудрено, что ты пришел последним после всех глупостей, что ты мне только что наговорил.
Все согласились с ним, не зная, о каких глупостях шла речь. Леон Жар, все еще тяжело дыша, искоса взглянул на него, обдумывая месть.
Учитель появился на пороге класса, и урок начался.
Ученики занимали места за партами в соответствии со своими заслугами — лучшие поближе к учителю. Леон Жар, один из самых отъявленных лентяев, сидел в глубине класса, а Рыжик сидел в первом ряду.
Когда все уселись, учитель сделал перекличку, затем сказал, обращаясь к Рыжику:
— Пьер Шодэ, соберите тетради с письменными работами и положите их на мой стол открытыми на странице с заданием.
Этот сбор тетрадей был знаком доверия, которое всегда оказывалось одному из первых учеников. Часто это поручение доставалось Рыжику, и он очень гордился этим. Тем не менее его совесть первого ученика не мешала ему проявлять милосердие к своим товарищам. Если кто-нибудь из них не выполнил задания, Рыжик, уведомленный подмигиванием, проходил мимо провинившегося, не взяв его тетрадь, ловко маневрируя, чтобы не вызвать подозрения учителя.
Подойдя к последнему ряду, он сразу понял по озабоченному лицу верзилы Жара, что тот не написал сочинения. Охваченный благородным порывом Рыжик был рад, что может оказать услугу своему врагу. Маневр удался и на этот раз. Он положил кипу тетрадей на стол, и когда учитель спросил его, все ли тетради он собрал, он ответил утвердительно:
— Да, мсье, все.
Тут верзила Жар встал и возвестил уверенным голосом:
— Мсье, я не выполнил задания.
Глухой ропот пронесся по всему классу, который с негодованием воспринял вероломство верзилы Жара.
Учитель поправил очки и на минуту задумался. Он не очень-то удивился тому, что Леон Жар не приготовил задания, но он строго осудил поведение Рыжика, который должен был сообщить ему об этом проступке.
— Пьер Шодэ, — сказал он, — встаньте. Я уличил вас во лжи. Вы злоупотребили доверием, которое я оказал вам. Отныне вы больше не будете собирать тетради ваших товарищей.
Рыжик, пунцовый от ярости, пытался протестовать. Учитель жестом заставил его замолчать и сказал, обращаясь к Леону Жару:
— Благодарю вас за вашу искренность, Леон Жар, и поэтому я вас не накажу. Вы видите, что искренность всегда вознаграждается. Но почему вы не выполнили ваше задание?
— Вчера у нас зарезали свинью.
— Я ничего об этом не слышал, — заметил учитель. — Мне кажется, у вас очень часто режут свиней. Во всяком случае, если вы не написали сочинения, у вас, очевидно, было достаточно времени, чтобы выучить урок по истории. Расскажите мне об отступлении из России.
У Леона Жара были самые общие представления об истории. Он ответил, что Наполеон был великим человеком. Скорее это было только общее впечатление, которое, отвечая на вопрос учителя, он не мог обосновать анализом фактов. В наказание учитель дал верзиле Жару задание переписать одну главу из учебника истории и предсказал ему мрачное будущее, полное угрызений совести и сожалений по поводу детства, проведенного в бездеятельности. Всю свою жизнь, изолированный от мира невежеством и глупостью, он с завистью будет слушать речи образованных людей, горько сожалея о том, что не смог пожать богатый урожай, предоставленный в его распоряжение попечениями просвещенного правительства. Верзила Жар, скрестив руки, слушал это предостережение с невозмутимостью, за которой отнюдь не скрывалось затаенного беспокойства. Учитель безнадежно пожал плечами и стал спрашивать других учеников. Но их ответы едва ли были более вразумительными.
Все знали, что между Францией и Россией была война, — в истории Франции все проводят свое время к войне, если не считать нескольких чудаков вроде Генриха Третьего, любившего играть в бильбоке, или Людовика Пятнадцатого, любителя кофе; все знали даже, что во время этой русской кампании стояла снежная зима, но не делали из этого решающих выводов.
Учитель, оскорбленный тем, что отступление из России не было оценено по достоинству, назначил коллективное наказание всему классу. Все ученики, не выучившие урока, должны были всю следующую перемену маршировать вокруг школьного двора.
Тем временем Рыжик проявлял явные признаки беспокойства. Вероломство Леона Жара потрясло его, лихорадочная ярость охватила его, сердце усиленно билось; ему не сиделось на месте. Думая, что опрос окончен, он щелкнул пальцами и несколько раз спросил:
— Мсье, можно выйти?
Учитель посмотрел на него удивленным, почти печальным взглядом. За время своего учительства он заметил, что обычно плохие ученики испытывали необходимость выйти во время урока, в то время как хорошие легко терпели до перемены. Пытаясь найти объяснение нетерпению Рыжика, он думал, что его лучший ученик, явно готовый сбиться с пути, хотел уклониться от рассказа об отступлении из России. Неодобрительно покачав головой, он дал разрешение. Но из глубины класса послышался громкий голос: верзила Жар протестовал, уверяя, что он попросил разрешения раньше Пьера Шодэ. Охваченный сомнением учитель боялся проявить несправедливость.
— Хорошо, — сказал он, — идите оба и скорее возвращайтесь.
Рыжик и верзила Жар с прискорбной стремительностью бросились к дверям и столкнулись. Леон Жар вырвался вперед и вышел первым. Весь класс, уставившись на дверь, с интересом следил за этой шумной возней. Возмущенный учитель хотел призвать обоих шалунов к порядку, но его не слушали, и он, ссылаясь на этот печальный пример, объявил, что впредь никто не будет выходить в туалет во время урока.
Во дворе Рыжик дал волю своему гневу и осыпал верзилу Жара горькими упреками:
— Никто из класса не поступил бы так, как поступил ты.
И он обозвал его ябедой, скотиной, подлецом и недоноском.
Верзила Жар, слушавший все упреки со спокойной, циничной улыбкой, внезапно возмутился:
— Недоносок? А ну-ка повтори, если не трус.
Рыжик знал, что сила была не на его стороне. Он сдержался, стиснув зубы. Верзила Жар ухмылялся самым несносным образом.
Они вместе вошли в узкий зловонный сарай, толкаясь и обмениваясь вызывающими взглядами. Через минуту верзила Жар заметил высокомерным тоном:
— Я писаю выше, чем ты.
Он говорил правду; его превосходство было неоспоримо, но высокомерие, с которым он им похвалялся, было нестерпимо для Рыжика, который ответил, пожимая плечами:
— Ну и что из этого? Ты ведь на два года старше меня.
— Не в этом дело. Возраст здесь ни при чем. Вот хотя бы, я писаю так же высоко, как мой брат, а он только что вернулся из армии, ему двадцать один год.
Его недобросовестность была очевидной. Рыжик не преминул опровергнуть такое беззастенчивое бахвальство:
— Все, что ты здесь болтаешь, вздор… Так же высоко, как твой брат! Может, он не очень-то старается. Во всяком случае, должен сказать тебе одно, и нечего тут спорить: чем старше становишься, тем выше можешь писать. Уж это верно.
Он уже собирался вернуться в класс, но верзила Жар преградил ему путь к двери.
— Ты говоришь, что это вопрос возраста?
— Я это сказал и повторю еще раз.
— Если дело в этом, то почему же тогда шестидесятилетние не писают выше домов? Взять хотя бы нашего учителя: почему же он не писает выше мэрии, а?
Рыжик искал ответа, но трудно было опровергнуть аргумент, так строго логически обоснованный. Это доказательство от противного заставило его замолчать. Ему казалось, что арифметика изменила ему, что она уже больше не объясняла действительности. Оскорбленный в своем внутреннем понимании пропорциональных величин, он усомнился в силе разума.
— Вот видишь, — торжествовал верзила Жар.
Он прибавил:
— Рыжие никогда не смогут писать высоко, это всем известно.
И он бегом вернулся в класс. Рыжик медленно последовал за ним и сел у подножия высокой акации, где он только что одержал победу. Он с отвращением смотрел на окна класса. Ему казалось, что густой мрак внезапно окутал всю школьную премудрость.
Боже мой, к чему учить деление, правописание и другие столь сложные науки? И к чему быть первым по арифметике или по географии, если все эти знания не смогут восторжествовать над наглой недобросовестностью какого-то Леона Жара?
Стоит ли быть прилежным учеником, гордящимся своим знакомством с великими умами, чтобы видеть, как истина высмеивается и оскорбляется с помощью логики, и не иметь возможности протестовать?
Он встал, охваченный злобой, и нехотя поплелся в класс.
Учитель встретил его строго:
— Пьер Шодэ, вы попросили разрешения выйти, чтобы посидеть под деревом?
Рыжик вернулся на свое место, даже не сославшись на головную боль, что было бы вполне естественно. Учитель, раздраженный его молчанием, продолжал угрожающе-ироническим тоном, призывая в свидетели весь класс:
— Несомненно, мсье Шодэ надеялся, что длительное отсутствие освободит его от необходимости высказать свое личное мнение об отступлении из России.
Ученики угодливо засмеялись, громче всех верзила Жар. Скрестив руки на парте, Рыжик с презрением смотрел на это угодливое веселье на его счет. Лицо его побледнело от печали и гнева, и веснушки еще ярче проступили на молочной коже.
— Итак, — сказал учитель, — вернемся к отступлению из России. Я слушаю вас, Пьер Шодэ. Встаньте.
Рыжик встал из-за парты и, не глядя на учителя, начал:
— Наполеон вступил в Москву четырнадцатого сентября тысяча восемьсот двенадцатого года…
Он рассказал о пожаре, о казаках, о Березине и о понтонерах, о снеге, об отмороженных ногах, о конине; он не забыл ничего. Обычно учитель хвалил его за выразительность речи. Сегодня его голос звучал бесцветно; у него был измученный вид, и его безразличный взгляд был обращен к окну, за которым виднелась высокая акация.
— Солдаты смешались с офицерами, никто больше не повиновался. Тем не менее были такие генералы, как маршал Виктор и маршал Ней…
Рыжик не договорил. Кровь прилила к его щекам. Гордо выпрямившись, он смотрел на учителя.
— Был маршал Ней. Вместо того чтобы спасаться бегством, он взял в руки ружье и был самым смелым. За это Наполеон назвал его храбрейшим из храбрых. Маршал Ней сражался во время Революции. Он родился в Саррлуи, и у него были рыжие волосы…
Рыжик повернулся лицом к классу и повторил громким голосом:
— У него были рыжие волосы.
Школьники подталкивали друг друга локтями и усмехались втихомолку, сам учитель с трудом подавлял улыбку.
Тут Рыжик гордым движением откинул назад свою рыжую гриву, словно бросая вызов целой армии казаков, и, повернувшись к верзиле Жару, крикнул:
— У него были рыжие волосы, и он писал выше всех во всей армии.
Бродяги
К ночи погода испортилась, и скамейки на бульваре Шапель опустели — бродяги отправились искать более надежное убежище. Скрюченные тени потерянно слонялись под сводами виадука надземной железной дороги, где гулял холодный ветер. Майар поднялся со скамейки, которую он занимал один, немного постоял на пронизывающем ветру, соображая, куда пойти, и наконец укрылся за бетонной опорой виадука. Там уже был такой же, как он, бродяга, который даже не удостоил его взглядом. Прижимаясь спиной к холодному камню, в тусклом свете фонаря они стояли рядом, съежившись, заложив руки в карманы и придерживая подбородком поднятый воротник пиджака. Обоих пробирала дрожь.
— Ну и погодка! — сказал Майар. — Льет как из ведра.
Сосед не ответил, даже не посмотрел на него. Это был маленький человек с болезненным лицом, заросшим черной щетиной. Одет он был более чем легко.
— Никогда не видел, чтоб в апреле такое делалось, — продолжал Майар. — А ты? Ветер-то, ветер! Так и гудит!
Не получив ответа, он замолчал и как будто смирился с молчанием соседа. Порывы ветра с дождем, громко завывая, врывались под своды виадука и время от времени окатывали бродяг холодным душем. Майар снова заговорил:
— Да, в такую погоду надо иметь крышу над головой. Крышу, говорю, над головой надо иметь. Ты что, оглох? Почему ты мне не отвечаешь? Думаешь, я тебе не пара?
Маленький даже не пошевелился. Майар вышел из себя:
— Ты у меня заговоришь, сука! Много о себе понимаешь! Ну, давай, говори! Скажи что-нибудь! Посмотри на меня. Посмотри на меня, кому говорю!
Сосед слегка повел одним плечом, как будто экономя силы, и пробормотал:
— Трепло.
Потом поджал губы, весь съежился и снова ушел в молчание. Майар уже не угрожал, а просил:
— Слушай, ну поговори со мной, пожалуйста. Ну, скажи просто: «Я тебя слушаю». Я уже две недели ни с кем не говорил, я так не могу. Поговори со мной, ну что тебе стоит! Скажи все равно что. Вот, у меня еще И деньги есть. Восемь пятьдесят.
Сосед поглядел на него со злобой.
— Я и говорю — трепло. Было б у тебя восемь пятьдесят — так бы ты тут и ошивался!
— А где мне, по-твоему, быть?
— Если б у тебя и вправду было восемь пятьдесят, ты бы здесь не торчал. Мало, что ли, забегаловок? А уж койку-то получить на ночь — тут и пятерки хватит. Так что не заливай. Не люблю, которые зря болтают.
Майар сунул руку в карман, позвенел монетами, а затем достал их из кармана и разложил на ладони: восемь монеток по одному франку и один полтинник.
— А это, по-твоему, что? Не деньги?
Маленький пересчитал взглядом монеты и раздраженно сказал:
— Заимел деньгу — ну и радуйся. А мне-то что с того? Чего ты ко мне привязался? И без тебя тошно.
Майар спрятал деньги в карман и похлопал соседа по плечу.
— Видишь, я не трепался. Хочешь — завтра пойдем выпьем кофе. Только поговори со мной. Спроси, как меня зовут, откуда я родом. Меня уже две недели никто по имени не звал. Меня зовут Майар. Легко запомнить, да? Майар, Майар…
— Майар, — повторил маленький. — Ты, значит, Майар… Слушай, Майар, а ты одет что надо!
Он пощупал толстый пиджак серого драпа, вельветовые брюки.
— Как новые! А меня зовут Доминик Раво. Доминик. Только мне это, по правде говоря, без надобности. Редко когда вспомнишь, что тебя зовут Доминик, — ну, вот как сегодня. Или еще бывает, когда заметут легавые. Но теперь-то они знают меня как облупленного и даже в участке не держат. А ты откуда? Я тебя вроде не встречал.
Не без труда Доминик входил в роль и уже сам, без понуканий, задавал вопросы.
— Со мной такая получилась история, — рассказывал Майар, — прямо не поверишь! Я две недели как из больницы. А раньше баржи разгружал, то там, то здесь. Меня многие знали, да только где они? Я ведь как жил — один день здесь, другой — там. В общем, понимаешь. Но меня многие знали и говорили «Майар, Майар» — ну вот как ты мне говоришь «Майар». Хорошая была жизнь, ничего не скажешь!
Майар остановился и задумался, как будто потерял нить своего рассказа.
— Дальше-то что? — спросил без особого интереса Доминик. — Что с тобой стряслось?
— Один раз — я тогда песок разгружал — они меня подняли и отвели в больницу. А когда выписался, смотрю — ну, прямо старик стал: ноги ватные, руки ватные, все ватное. Говорю тебе — как старик. Сначала думаю, нет, шалишь, не может такого быть. Тут как раз солнце, погода хорошая. Не жарко, а так — солнце. Пошел на пристань — туда, за Аустерлицким мостом. Смотрю, там ребята песок нагружают. Работа что надо. Ну, дали мне лопату. Раз кинул — и все: руки забастовали, и все остальное, потому как тут ведь не только в руках дело. Я, как увидел, ну, прямо обмер весь со страху. И ушел. Шел не знаю куда, вот сюда притащился. У меня еще сотня была в кармане, а теперь сам видел, сколько осталось. Восемь пятьдесят. Как хочешь, так и живи.
Майар даже зажмурил глаза от отчаяния и схватил соседа за плечо.
— Две недели болтаюсь по улицам. Народу — тьма.
— Это точно, — подхватил Доминик. — Чего-чего, а народу хватает.
— Поначалу посмотришь, сколько людей вокруг, и вроде бы спокойнее как-то на душе: думаешь… Да нет, ерунда все это. Ну, ходят и ходят, от этого сыт не будешь. А ведь меня многие знали.
— Ну, тебе грех жаловаться, — сказал Доминик. — С деньгами, и одет как порядочный. Посмотришь — прямо не бродяга, а рабочий. На твоем месте я бы что-нибудь придумал.
— Что тут придумаешь? Чтобы работать, силы нужны.
Доминик выругался — порыв ветра забрался ему под куртку и раздул ее, как парус.
— Что придумать-то? — повторил, волнуясь, Майар.
— Ну, да, — проворчал Доминик. — Тут ведь надо соображение иметь. А на тебя посмотреть — сразу видно: только и умеешь, что ишачить. Тут уж ничего не придумаешь.
— Я и не говорю, что умный. Но ведь многие же меня знали. И все-то у меня было. Вот раз, помню, сидели мы, закусывали — человек пять или шесть; был там один — здоровый такой мужик. Так он при всех сказал: «Майар, — это я, значит, Майар, — Майар, он работяга что надо!» Ты говоришь, у меня соображения нет. А я и не спорю: нет, так нет. Я тебе только говорю, что он сказал. Ослаб я, понимаешь, вот в чем все дело. Совсем стал никудышный — старик стариком.
Доминик не слушал его. Он закрыл глаза, пытаясь вздремнуть. Майар встряхнул соседа за плечо и деликатно напомнил ему, о чем они договорились:
— А утром-то кофейку попьем!
— Господи, сколько шуму из-за чашки кофе! Ты что, думаешь, я всю ночь буду с тобой трепаться? Может, тебя еще за ручку подержать?
Пристыженный, Майар ничего не ответил и, немного подумав, пошел было прочь. Однако Доминик живо схватил его за локоть и удержал на месте.
— Стой, где стоишь! Еще что выдумал! А кофе?
В голосе его звучали гнев и беспокойство. У старика от этого потеплело на сердце. С горделивой радостью он нащупал в кармане свое богатство — восемь пятьдесят.
— А что, я имею право, — сказал он. — Куда захочу, туда и пойду. Это мое дело.
Доминик заговорил примирительным тоном и даже попытался улыбнуться:
— Послушай, я ведь о тебе забочусь. Ты нездешний и не знаешь, что к чему. Подожди немного, и мы пойдем к метро — там лечь можно и дождь не мочит. Только сейчас туда рано: постовой нас попрет. Я его знаю — толстый такой, с усами… Брось, не ходи — пожалеешь!
Проливной дождь заливал опустевший бульвар. На тротуаре жались к стенкам промокшие проститутки. Довольный, что ему не дали уйти, старик снова приткнулся к своему товарищу.
Некоторое время они стояли молча. Потом Доминик посмотрел по сторонам, окинул взглядом фасады домов, тротуар и по некоторым признакам — таким, как гаснущие окна в гостинице напротив и все более настойчивые призывы проституток к редким прохожим, — заключил, что пора направляться к метро. До станции Барбес надо было пройти метров двести, под виадуком. Майар шел немного впереди, не переставая ныть, что устал. Доминик отвечал, что ему на это наплевать.
— И вообще заткнись. Если бы все здешние бродяги стали жаловаться, что устали или что у них брюхо болит, тут бы такое поднялось! Хоть уши затыкай.
Старик замолчал и, бросив взгляд на товарища, заметил, что тот хромает.
— Эй, что у тебя с ногой? — спросил он.
— Иди в ж… — ответил Доминик. Ему эта тема явно не нравилась.
— Некрасиво так говорить, невежливо. Я только спросил, что у тебя с ногой.
— А я тебе отвечаю: если б ты имел немного соображения, то заткнул бы глотку. Пойми, дурная голова! чем меньше ты треплешь языком, тем легче терпеть. Сразу видно, что у тебя есть деньги.
Доминик еле шел. Больная нога не слушалась его; на каждом шагу он подтягивал ее с видимым усилием, его худая грудь ходила ходуном. То ли из жалости, то ли из-за того, что ему было стыдно за свои восемь пятьдесят, Майар взял его под руку и помог идти.
Подойдя к станции метро, они увидели, что темный угол под навесом, более или менее защищенный от дождя и ветра, уже битком набит бездомными, которые встретили их без всякой радости. Из полутьмы донеслись раздраженные голоса, посыпались ругательства:
— Тут и без вас хватает, валяйте отсюдова! Еще бы попозже пришли!
— Приходят черт те когда и торчат на свету! Легавый заметит — всех выгонит.
Майар оробел и остановился. Но Доминик взял его за руку и, не отвечая на ругань, полез вперед, спотыкаясь о лежащие тела, наступая на руки и на ноги. Крики усилились:
— Куда прете-то? Говорят вам, нет больше места! Совсем ошалели.
— Сволочь, ты что, не видишь, куда ногу ставишь? Разуй глаза!
А из самой глубины, из угла, где было самое лучшее, самое теплое место, раздался молодой голос, заглушивший все остальные голоса:
— Эх, и схлопочут же они у меня сейчас по харе, спорим?
Тотчас воцарилось молчание, а один бродяга дернул Майара снизу за брюки и прошептал:
— Ложись, что ли, я подвинусь.
И добавил, когда старик улегся рядом с ним на асфальт:
— Пошумели, поругались — и будет. А то сразу — «по харе»… Ну и народ!
Доминик тоже кое-как втиснулся между двумя бедолагами, уткнувшись головой в живот третьему. Он был вполне счастлив — до следующего утра. Здесь было тепло, уютно, и так по-домашнему пахло пригревшимся человеческим телом. Ощущая, как мерно колышется грудь соседа, слушая храп всей нищей братии, он подумал, что жизнь все-таки неплохая штука. Вспомнив об обещанном назавтра кофе, он даже вздохнул от наслаждения, но тут же испугался, как бы этот чудак не потерял свои восемь пятьдесят, или как бы у него их не украли, пока он спит. Осторожно, чтобы не разбудить соседей, он встал на колени и в темноте, на ощупь, стал искать Майара. Его рука наткнулась на пиджак из толстого сукна, и он подумал, что это пиджак Май-ара, который ему так понравился. Доминик нащупал отвороты, добрался до ворота, коснулся шершавой кожи лица, задел пальцем жесткий ус. Он легонько потряс лежавшего за плечо и сказал ему на ухо:
— Эй, береги свои восемь пятьдесят, а то тут есть такие — на ходу подметки рвут. Проверь, все ли деньги на месте.
Человек, которого Доминик разбудил — это был вовсе не Майар, — что-то проворчал, потянулся и со сна машинально повторил:
— Проверь, все ли деньги на месте.
Охваченный внезапной надеждой, он вскочил, стал лихорадочно рыться в карманах, ничего не нашел и, разочарованный, попытался было снова уснуть; но тут же ему представилась целая куча золотых монет, и всякий сон пропал. Он разбудил одного соседа, потом другого и шепнул им:
— Ребята, деньги! Один сказал, их тут полно — и бумажки, и золото.
Бродяги в первый момент оцепенели от радости, а потом принялись распространять новость направо и налево. Над темной грудой скрючившихся тел поднялся глухой гомон, в котором повторялись два слова: «деньги» и «золото». Благая весть переходила из уст в уста, перекатывалась от стены к стене закутка. Люди повторяли все снова и снова, что нищете конец, что каждому теперь хватит денег до конца жизни. Это было как видение земли обетованной, возникшее среди ночи в заспанных головах бродяг. Запоздалый прохожий, возвращавшийся из дома веселья, услышал в темноте под сводами виадука хор таких умиленных голосов, такой безмятежный, счастливый смех, что, охваченный ужасом, пустился бежать.
Майар воспринял перемену в судьбе со слезами радости.
— Все, больше не придется горе мыкать, таскаться, как бродячий пес, по улицам, среди людей, которые тебя и знать не хотят. Теперь и мы богачи. Никогда я больше не буду один, не буду трястись от страха. Все у меня будет — и силы, и молодость! Хорошо быть богачом!
Вся нищая братия заливалась счастливым смехом. Их радость была так велика, их измученная плоть была так возбуждена ею, что они потеряли всякую способность соображать. Из темноты закутка смотрели они ослепленными глазами на свет фонаря, заливавший бульвар, и казалось им, что вот оно, золото их богатства.
— Денег-то, денег! — бормотал Майар. — Навалом!
И он раскрывал объятия этому сокровищу, расстегнув ворот рубахи, подставлял ему грудь.
— Денег-то, денег!
Вокруг него бродяги заходились от восторга. Вдруг он вспомнил о своем товарище и позвал:
— Доминик, ты здесь? Это я, Майар. Ты где?
— Здесь я, — отозвался Доминик. — Ну, как, доволен, что пошел со мной? Повезло тебе…
— Что да, то да, повезло, да еще как! Дай руку!
Они взялись за руки. Ладонь старика была горячая, как у больного, и дрожала.
— Доминик, теперь у тебя и нога пройдет. Мы теперь богачи. Она уже прошла, нога…
— Точно, — подтвердил Доминик спокойным голосом. — Ведь мы теперь богачи.
Майар изо всех сил сжал его руку и опять забормотал, как помешанный:
— Денег-то, денег!
И все бродяги повторяли за ним: «Денег-то, денег, денег-то, денег…»
Доминик потихоньку отпустил горячую руку Майера и сказал:
— Не суетись ты так, старина. Лег бы ты лучше и лежал бы себе спокойно. Завтра будет день.
Но старик не слушал его — он упивался бредом, охватившим все это обезумевшее стадо.
— Майар, дружище, — повторил Доминик. — Завтра будет день.
Но гул сердитых голосов заглушил его последние слова. В свете фонаря бродяги увидели силуэт человека, который тащился к их убежищу. Это был такой же бедолага, как они; он еле волочил ноги и громко шаркал подошвами об асфальт. Когда он подошел ближе, стало видно, что одет он как нищий. На нем было изношенное пальто, которое развевалось на ветру, как бабья кофта, и, глядя, как он едва не падает под напором ветра, можно было заключить, что в животе у него давно уже пусто и единственное, что его еще держит на ногах, это надежда хотя бы немного согреться.
— Нету больше места! — крикнул один. — Пусть убирается. Никого не пустим!
— Точно, — подхватил другой. — Пришел, понимаешь, на готовенькое. Этак каждый захочет…
— Нас и так полно. Мы тоже вот так горе мыкали — пусть сам выкручивается, как знает.
Тем временем человек медленно продвигался вперед и за воем ветра не слышал злобных криков, раздававшихся из темноты. Подойдя вплотную, он, наконец, разобрал, что они кричат, но как будто не придал этому особого значения. Завсегдатай квартала, он привык к тому, что пришедшие сюда первыми держатся за свои места и неохотно пускают других. Но когда он собрался было протиснуться внутрь закутка, в криках бродяг зазвучала неподдельная угроза:
— Катись отсюда, воровская морда! Здесь тебе не место!
И хор бродяг дружно завопил:
— Ворюга! Обормот! Здесь только для богатых, понимаешь, для богатых! Иди, откуда пришел!
— Голодранец! Доходяга! Чтоб духу твоего здесь не было!
Майар встал во весь рост и кричал, трясясь от злости:
— Да не пускайте вы его! Гоните его в шею! А не то плакали наши денежки — все заграбастает, проклятый жлоб!
— Вали отсюда, бандитская рожа! У самого ни гроша за душой, а туда же, лезет!
С молчаливой настойчивостью вновь пришедший пытался пробраться вперед. Но когда его ударили каблуком по лодыжке, он остановился и запротестовал:
— Да вы что, кто же так делает? Я уже час, наверно, иду, устал как собака. Пустите меня. Если подвинуться, места всем хватит, еще теплее будет.
— Ничего, нам с нашими денежками и так тепло. Проваливай.
Доминик захотел было вступиться за беднягу. Не вставая с места, он сказал усталым голосом:
— Господи, да пустите вы его. Поорали — и хватит. Куда он пойдет, в такую-то погоду? Ну, будет одним богачом больше — ничего, не обеднеем.
К счастью, там, где он лежал, было так темно, что другие не разобрали, кто говорит, — иначе бы ему несдобровать. Злобный вой покрыл этот призыв к примирению.
— Черта с два! Ничего он не получит! Явился на готовенькое…
— Когда ты идешь мимо магазина, тебе же не предлагают залезть в кассу?
Тот парень, который час назад грозился расквасить морду Майару и Доминику, зарычал из своего угла:
— Чеши отсюдова, гад, да по-быстрому! А то — в брюхо каблуком!
Хор одобрительно загудел. Майар орал громче всех:
— Правильно! В брюхо каблуком!
Перед такой свирепостью пришелец отступил. Но, прежде чем уйти, он робко осведомился:
— Вы, значит, такие богатые?
— Спрашиваешь! Он еще спрашивает! Да если б ты знал, сколько тут всего… И бумажки, и золото!
— Господи, — вздохнул бедняга, голодный и замерзший. — Господи… У вас столько всего: и бумажки, и золото…
Он умоляюще простер к ним руки, но такой безжалостный смех раздался ему в ответ, что он ушел, еще ниже сгорбившись и еще тяжелее волоча ноги.
И пока его жестокосердные братья засыпали счастливым сном, озаренным блеском золота, отверженный бродяга бродил вокруг их убежища. Боязливо, с почтительного расстояния созерцал он этот темный угол, глубокий и таинственный, как заколдованная пещера из восточной сказки. И, пораженный этим зрелищем, забывал он голод и холод, забывал и то, что завтра будет день. Дежурный постовой заметил, что он уже четверть часа стоит на одном месте, и велел ему идти своей дорогой. Отверженный двинулся в сторону бульвара Мажента, и сердце его сжималось все горше, по мере того как он отдалялся от сокровища.
«Почему все им одним? — думал он. — Не может быть, чтоб это только для них. Сами они воры — хотят зажать наши деньги».
Ему показалось, что он понял: небесную благодать, ниспосланную всем беднякам, хотят отвратить от ее изначального предназначения. И тогда он решил восстановить попранную справедливость. Повсюду, куда только в силах были нести его натруженные ноги, во все концы Парижа, во все углы, где бездомные спят тяжелым сном, не дарующим отдохновения, понес он тревожную весть.
— Это на нас на всех дано, — объяснял он. — Они не имеют права. В общем, которые хотят разбогатеть, пусть приходят туда, как только начнет светать.
И вот все парижские бродяги — и те, что спят под мостами, и завсегдатаи вокзалов, которые скрываются в темных углах от бдительных взоров железнодорожных служащих, и те, что ночуют в крытых галереях общественных зданий, и те, что слоняются ночь напролет среди тележек центрального рынка, и те, что в неверном свете фонарей Монмартра поджидают милостыню от проституток и подвыпивших гуляк; жители кладбищ, подземных переходов, тупиков и подвалов, — все покинули свои скамейки, ящики, решетки метро и двинулись к перекрестку счастливых. По четырем сходящимся бульварам — Барбес, Рошешуар, Мажента и Шапель — тянулись они длинными вереницами, скапливались на тротуарах вокруг станции метро и в благоговейном молчании ждали чуда.
Уютно устроившись в своем закутке, счастливые обладатели несметных богатств и не подозревали об этом сборище. Первые поезда метро прогремели по виадуку над их головами и возвестили им начало нового дня. В рассветной полудреме они не решались открыть глаза, теснее прижимались друг к другу и каждый старался удержать остаток ночи, уткнувшись лицом в жилетку соседа.
Майар лежал на куче золота, которую он целиком прикрывал полами расстегнутого пиджака. С каждым выдохом из его груди, прижатой к асфальту, вырывался тихий стон. Время от времени сквозь стиснутые зубы он бормотал обрывки фраз — жалобы и угрозы.
— Ворюга… Гоните его… все заграбастает…
Кто-то из лежавших рядом случайно навалился ему на плечо. Старик вздрогнул, вскинулся и, вытянув перед собой руки, чтобы схватить ускользающее богатство или вцепиться в горло похитителя, обвел все вокруг замутненным взглядом. Тучи почти рассеялись: над больницей Ларибуазьер открылся большой кусок голубого неба. В конце бульвара Шапель всходило солнце; его неяркий свет лег на асфальт справа и слева от виадука. Вокруг темной кучи неподвижно лежавших бродяг снова скрежетала и лязгала жизнь.
Старик остро ощутил, что ему чего-то не хватает — чего-то такого, что ему больше никогда не встретится на пути. Он закричал:
— Опять все сначала! Опять нищий! Опять бездомный! Не хочу!
Его товарищи по ночлегу зашевелились, подняли головы, пытаясь понять, почему он кричит. Вне себя от разочарования старик встал и, не глядя, куда он ставит ноги, шагая чуть ли не по животам, отправился было прочь, бессвязно бормоча и чертыхаясь. Доминик забеспокоился, тоже вскочил и позвал:
— Эй, Майар! Куда ты с деньгами-то?
От этих слов в головах бродяг пробудилась память о великолепном и жестоком видении прошедшей ночи. Деньги, которые им тогда пригрезились наяву, с мыслью о которых они засыпали, снова возникли перед их внутренним взором; каждому снова захотелось упиться зрелищем золота, прижать его к пустому животу.
— Наши деньги! Он уходит с нашими деньгами!
Вся компания бросилась в погоню за Майаром.
— Деньги! Наши деньги! Держи его!
И тут полчище бродяг, скопившееся на тротуарах, все сразу сорвалось с места и кинулось под своды виадука. Тысячеголосый рев заглушил шум и гудки автомобилей и даже грохот поездов надземки:
— Деньги! Даешь деньги!
Толпа одержимых, требовавших свои деньги, захлестнула Майара. Но в мозгах бродяг все настолько перепуталось, что на старика никто не обратил внимания. Его уже забыли.
— Деньги! Отдай деньги!
Майар орал громче других. Он был уверен, что все так и есть, что деньги и в самом деле были и их украли. От бешенства у него глаза чуть не вылезли из орбит. В сумятице и давке раздавались крики:
— Держи его! Держи!
— Вперед, ребята! Живее!
Задние толкали передних, а те, захваченные общим безумием, тоже кричали: «Вперед!» В результате вся масса бродяг бросилась в погоню за призрачным сокровищем вдоль бесконечно длинного бульвара Шапель. Целая армия голодранцев мчалась под сводами виадука, но теперь они бежали молча, чтобы сберечь дыхание. Слышно было только, как тысячи промокших подошв шлепают по асфальту.
В этой неразберихе Доминик успел схватить Майара за ворот пиджака и теперь изо всех сил прижимал его к опоре виадука. Старик рвался как бешеный.
— Пусти! Да пусти же, кому говорят! Ты что, сдурел? Захватят они наши денежки!
— Плюнь, — спокойно отвечал Доминик. — Они их захватят, когда рак на горе свистнет. Пошли лучше кофе выпьем — так будет вернее.
Выдохшись, старик перестал рваться. Глазами, полными зависти, смотрел он, как толпа бродяг с непостижимой быстротой удаляется в сторону Ла Вилет. Калеки, которые не могли выдержать такой гонки, ковыляли в хвосте, отчаянно размахивая костылями.
— Во дают! — пробормотал Доминик. — Теперь они фиг остановятся, так и будут бежать.
Он помолчал и добавил меланхолически-сочувственно:
— Разве что только загремят все скопом в канал. Оно бы и неплохо было — для них же самих…
Майар стоял неподвижно, с застывшим взглядом. Доминик ощутил, как дрожит его рука, которую он держал в своей, и слегка хлопнул его по плечу.
— Брось, не горюй. Ведь это же придурки! Им что ни скажи, они и уши развесят. Идем лучше кофе пить.
Майар повернулся к нему и вдруг заплакал.
— Я понимаю, — сквозь слезы проговорил он, — я все понимаю. Но лучше бы ты отпустил меня с ними.
— Ты что, рехнулся? Не стыдно тебе в твоем-то возрасте? Ну, кончай, папаша, что на тебя нашло? Сразу видно, ты в нашем деле еще совсем не тянешь. Думаешь — что? Захотел жрать — и сразу тебе пожалуйста? Нет, так у нас не бывает…
— Вот именно…
— Ну, ладно, ладно, не тушуйся. Ведь у тебя еще восемь пятьдесят в кармане. Ты их, кстати, не потерял?
Майар пощупал один карман, другой; на лице его отразилось беспокойство. У Доминика сжалось сердце.
— Неужели потерял? Вот лопух!
— Да нет, не должно быть, — пробормотал старик. — Вроде сюда клал… Нет, не сюда…
— Посмотри хорошенько!
Старик порылся еще и удовлетворенно хрюкнул, его лицо покраснело от удовольствия.
— Я их в жилетку сунул, когда спать ложился.
— Ну и напугал же ты меня! — вздохнул Доминик.
Вскоре оба сидели за столиком; перед каждым дымилась большая чашка кофе.
— Кофе пить, — объяснял Доминик, — это тоже уметь надо. Если слишком долго пьешь — остынет. Если слишком быстро — не прочувствуешь. Надо не так и не этак. В общем, делай как я.
Карлик
На тридцать пятом году жизни карлик из цирка Барнабума начал расти. Ученые оказались в затруднительном положении: у них было раз навсегда установлено, что после двадцати пяти лет рост человека прекращается. Поэтому они постарались замять это дело.
Цирк Барнабума завершал гастрольную поездку, конечным пунктом которой был Париж. В Лионе он дал утренник и два вечерних представления, где карлик выступал в своем обычном номере, не возбудив никаких подозрений. Он выходил на арену в щегольском костюме, держась за руку человека-змеи и делая вид, что не может сразу охватить взглядом своего непомерно длинного спутника. Со всех рядов амфитеатра раздавался хохот, потому что один был уж очень высокий, а другой уж очень маленький. Человек-змея выступал огромными шагами: каждый из них равнялся шести-семи шажкам карлика; дойдя до середины круга, он говорил замогильным голосом: «Я немного устал». Когда смех толпы стихал, карлик отвечал голосом маленькой девочки: «Тем лучше, господин Фифрелен, я очень рад, что вы устали». Зрители покатывались со смеху и толкали друг друга в бок, приговаривая: «Они уморительные… Особенно карлик… он такой маленький… а голосок-то какой писклявый». Иногда карлик поглядывал на густую людскую массу, последние ряды которой сливались в полумраке. Смех и взоры зрителей его не смущали, они не огорчали его и не радовали. Перед выходом на арену он никогда не испытывал тревоги, сжимавшей горло другим артистам. Он не нуждался в предельном напряжении сердца и ума, которое требовалось клоуну Патаклаку, чтобы завоевать зрителей. Подобно тому, как Тоби был просто слоном, он был просто карликом, ему незачем было любить публику. По окончании номера он убегал с арены, а человек-змея, ведший его за руку, так забавно приподнимал его на воздух, что со всех скамеек гремели аплодисменты. Тогда господин Луаяль укутывал его плащом и вел к господину Барнабуму, который дарил ему одну или две конфетки, смотря по тому, насколько был доволен его работой.
— Вы превосходный карлик, — говорил господин Барнабум, — но вам надо следить за руками, когда кланяетесь.
— Хорошо, мсье, — говорил карлик.
Потом он шел к наезднице, мадемуазель Жермине, которая ожидала своего выхода у палатки. Розовое трико облегало ее ноги, а грудь была стянута черным бархатным корсажем; она сидела выпрямившись на табурете, стараясь не смять балетную пачку и воротничок из розового газа. Посадив карлика на колени, она целовала его в лоб и гладила по головке, ласково разговаривая с ним. Вокруг нее всегда толпились мужчины, говорившие ей какие-то загадочные слова. Карлик давно уже привык к этим шаблонным речам и мог бы повторить их с соответствующей улыбкой и взглядом, но смысл их оставался для него дразнящей тайной. Однажды вечером, когда он сидел на коленях у мадемуазель Жермины, с ними был только Патаклак, и глаза его сверкали странным блеском на покрытом мукою лице. Заметив, что он собирается заговорить, карлик вздумал, шутки ради, опередить его и громким шепотом сообщил наезднице, что он потерял покой из-за прелестной женщины, с чудесными белокурыми волосами, с талией, стянутой розовой пачкой, в которой она похожа на утреннего мотылька. Она расхохоталась, а клоун вышел, хлопнув дверью, хотя, по правде сказать, никакой двери там не было.
Когда мадемуазель Жермина вскакивала на лошадь, карлик бежал к проходу и становился у барьера. Дети показывали на него пальцами, смеялись и кричали: «Вон карлик». Он подозрительно поглядывал на них, а когда был уверен, что родители его не видят, с удовольствием строил им страшные рожи. По манежу мчалась наездница, и от ее вольтижей в глазах мелькало множество розовых пачек. Ослепленный блеском люстр и порхающими крыльями мадемуазель Жермины, утомленный тяжелым гулом, окружавшим арену, словно живое дыхание цирка, он чувствовал, что у него слипаются глаза, и уходил в один из фургонов, где старая Мари раздевала его и укладывала спать.
На пути из Лиона в Макон карлик проснулся около восьми утра; его лихорадило, и он жаловался на сильную головную боль. Мари приготовила ему микстуру и спросила, не зябнут ли у него ноги; для проверки она сунула руки под одеяло и остолбенела: ноги карлика доходили до конца кровати, тогда как обычно оставался промежуток сантиметров в тридцать. Мари так перепугалась, что распахнула окно и крикнула, задыхаясь от встречного ветра:
— Господи! Карлик растет! Стойте! Стойте!
Но шум моторов заглушал ее голос; к тому же во всех фургонах еще спали. Потребовалось бы событие из ряда вон выходящее, чтобы их остановить, и Мари, поразмыслив, побоялась навлечь на себя гнев господина Барнабума. Она только беспомощно наблюдала за ростом карлика, кричавшего от боли и беспокойства. Иногда он обращался к Мари пока еще детским, но уже ломающимся мальчишеским голосом.
— Мари, — говорил он, — мне так больно, как будто я раскалываюсь на куски, как будто все лошади господина Барнабума тянут меня в разные стороны и разрывают на части. Что со мной творится, Мари?
— Вы просто растете, карлик. Только не надо так волноваться. Врачи уж придумают, как вас вылечить, и вы снова будете выступать с человеком-змеей, а старая Мари будет ухаживать за вами по-прежнему.
— Если бы вы были мужчиной, чего бы вы лучше хотели: быть карликом или таким же большим и усатым, как господин Барнабум?
— Усы очень красят мужчину, — отвечала Мари, — но, с другой стороны, так удобно быть карликом.
Около девяти часов карлику пришлось свернуться калачиком в своей маленькой кроватке; и все-таки ему было тесно. Напрасно Мари поила его целебными отварами, он рос почти на глазах, а когда подъезжали к Макону, был уже стройным подростком. Срочно был вызван господин Барнабум; в первый момент на его лице отразилась жалость, и он сочувственно пробормотал:
— Бедняга! Ну, кончена его карьера. А он мог далеко пойти…
Он измерил карлика и, убедившись, что тот вырос на шестьдесят сантиметров, не мог скрыть досаду.
— Ни на что он теперь не годен, — сказал он. — Ну, куда приткнешь такого парня, у которого нет никакой специальности, кроме роста в сто шестьдесят пять сантиметров? Я вас спрашиваю, Мари. Случай, бесспорно, любопытный, но я не вижу возможности сделать из этого номер для выступления. Вот если бы удалось продемонстрировать его «до и после…». Если бы у него выросла вторая голова, слоновый хобот или вообще что-нибудь оригинальное, я бы ничуть не задумывался. А эта неожиданная метаморфоза ставит меня в тупик. Мне это даже очень неприятно. Ну, кем мне вас сегодня заменить, карлик? Но я все еще обращаюсь к вам как к карлику, а правильнее было бы называть вас по имени — Валантен Дюрантон.
— Меня зовут Валантен Дюрантон? — спросил бывший карлик.
— Я не вполне в этом уверен. Дюрантон или Дюрандар, а то и просто Дюран или даже Дюваль. У меня нет возможности это проверить. Во всяком случае, за имя Валантен я вам ручаюсь.
Господин Барнабум дал Мари кое-какие указания, чтобы событие не получило огласки. Он опасался, как бы эта новость не взбудоражила артистов его труппы: уроды, вроде бородатой женщины-пушки и однорукого вязальщика, могли затосковать от сознания своего убожества или стали бы питать несбыточные надежды, что могло вредно отразиться на их работе. Поэтому решено было говорить, что карлик серьезно заболел, что ему нельзя вставать с постели и никто не должен к нему входить. Перед тем как уйти из фургона господин Барнабум еще раз измерил больного, который во время разговора успел вырасти еще на четыре сантиметра.
— Ну, времени он не теряет, черт возьми. Если он будет продолжать в том же духе, то скоро станет довольно приличным великаном, но рассчитывать на это не приходится. А пока ясно одно: что этому парню никак не уместиться в своей кровати и что ему было бы удобнее сидеть. У него нет одежды по росту, а правила приличия ему все-таки забывать не следует; поэтому достаньте-ка ему из моего гардероба тот серый костюм в брусничную полоску, который с прошлого года перестал сходиться у меня на животе.
В восемь часов вечера Валантен понял, что болезненный процесс закончен. Рост его равнялся одному метру семидесяти пяти сантиметрам, и он был наделен всем, что обычно составляет гордость красавца мужчины. Старая Мари не могла на него налюбоваться; молитвенно сложив руки, она восторгалась его тонкими усиками и красивой бородкой, так изящно обрамлявшей прекрасное юное лицо, а также широкими плечами и выпуклой грудью, которые эффектно облегала куртка господина Барнабума.
— Пройдитесь-ка, карлик… я хочу сказать, мсье Валантен. Сделайте три шага, чтобы мне на вас поглядеть. Что за фигура! Какое изящество! Какая упругая походка! Ей-богу, вы сложены лучше господина Жанидо, нашего красавца акробата, и вряд ли у самого господина Барнабума была в двадцать пять лет такая гордая и грациозная осанка.
Валантену нравились эти комплименты, но он слушал их краем уха: и без того было чему удивляться! Например, предметы, казавшиеся ему прежде такими тяжелыми — толстая книга с картинками, лампа-молния, ведро с водой, — теперь, можно сказать, ничего не весили, и он ощущал в своем теле и в своих членах нерастраченные силы, которые тщетно пытался применить в этом фургоне, где все вещи были небольших размеров. То же произошло со всеми понятиями, со всеми представлениями, еще вчера заполнявшими его карликовый ум и воображение; теперь они его уже не удовлетворяли, а когда он говорил, у него было такое чувство, будто ему чего-то не хватает. Ум его напряженно работал, ежеминутно наталкивая на новые ошеломляющие открытия; помогали этому и беседы со старой Мари. А порой пробуждающиеся инстинкты заводили его на ложный путь, хотя он смутно догадывался о своем заблуждении. Когда старая Мари подошла, чтобы поправить ему галстук, он взял ее за руку и выпалил фразы, которые всплыли в его памяти, потому что ему не раз приходилось их слышать при других обстоятельствах.
— Как вы можете запретить мне считать вас очаровательной? Ваши глаза нежны и бездонны, как тихие летние вечера, ничего нет прелестнее улыбки вашего лукавого ротика, а все ваши движения напоминают взлет птицы. Счастлив, тысячу раз счастлив тот, кто сумеет найти сокровенный путь к вашему сердцу, но да падет на него проклятие, если им буду не я.
При первых словах старая Мари немного удивилась, потом она легко освоилась с мыслью, что еще может стать объектом подобных признаний. Она улыбнулась «лукавому ротику», чуть не вспорхнула при «взлете птицы» и вздохнула, прижав руку к сердцу:
— Ах, мсье Валантен, ума у вас прибавилось еще больше, чем роста, и я думаю, что ни одной чувствительной женщине не устоять перед таким обаянием. Я не хочу быть жестокой, мсье Валантен. Да и темперамент мне не позволит.
Но галантный кавалер, сам не зная отчего, громко расхохотался, и Мари сразу поняла, что позволила себя одурачить красивыми словами.
— Я старая дура, — сказала она, улыбаясь. — Но какой же вы прыткий, мсье Валантен. Вот вы уже насмехаетесь над бедной женщиной!
В начале спектакля в фургон мимоходом заглянул господин Барнабум, как всегда, куда-то спешивший. Он не узнал Валантена и решил, что старая Мари вызвала врача.
— Ну, доктор, как вы находите нашего больного?
— Я не доктор, — отвечал Валантен, — я больной. Я карлик.
— Разве вы не узнаете свой серый костюм в брусничную полоску? — вмешалась Мари.
Господин Барнабум вытаращил глаза, но не в его характере было слишком долго удивляться.
— Видный парень! — сказал он. — Немудрено, что мой костюм так хорошо на нем сидит.
— А если б вы знали, господин Барнабум, какой он стал умный. Просто невероятно.
— Мари преувеличивает, — сказал Валантен, краснея.
— Гм! Занятная с вами приключилась история, мой друг, и мне еще неясно, что из всего этого получится. А пока что нельзя же вам оставаться в этом душном фургоне. Идемте со мной подышать свежим воздухом. Я выдам вас за своего родственника.
Если бы его не сопровождал господин Барнабум, Валантен вряд ли смог бы удержаться от каких-нибудь эксцентричных выходок: например, стал бы бегать вокруг цирка, чтобы испытать силу своих новых ног, или кричать и петь во весь голос.
— Славная штука жизнь, — говорил он. — Вчера вечером я этого еще не знал. И каким большим кажется мир, когда на него смотришь сверху!..
— Это верно, — отвечал господин Барнабум, — только места в нем не так уж много, как может показаться с первого взгляда, и вы, вероятно, скоро в этом убедитесь на собственном опыте.
По дороге они наткнулись на человека-змею, выходившего из своего фургона. Он остановился и, будучи от природы склонным к меланхолии, недружелюбно посмотрел на шедшего рядом с хозяином здорового парня с сияющей физиономией.
— Как себя чувствует карлик? — спросил он.
— Неважно, — отвечал господин Барнабум. — Приходил врач и отправил его в больницу.
— Можно сказать, его песенка спета, — добавил Валантен с жизнерадостным нетерпением.
Человек-змея смахнул слезу и, уходя, сказал:
— Лучшего партнера я не знал. Он был такой маленький, что в нем не было места для злобы. А какой он был кроткий, мсье, и доверчивый. Не могу вам сказать, до чего я бывал счастлив, когда он вкладывал свою ручонку в мою руку перед выходом на манеж.
Валантен был тронут. Ему хотелось сказать человеку-змее, что карлик — это он и что почти ничего не изменилось, но в то же время он боялся умалить себя, соглашаясь вернуться в свои прежние рамки. Человек-змея бросил на него враждебный взгляд и, шмыгая носом, ушел. Господин Барнабум сказал Валантену:
— У вас были друзья.
— Будут новые.
— Возможно… но это был верный друг, которому от вас нечего было ждать.
— И нечего опасаться, господин Барнабум.
— Вы правы, мсье Валантен, и старая Мари тоже права, когда утверждает, что вы поумнели.
Они вместе вошли в цирк; пришлось несколько раз объяснять, что карлика отвезли в больницу и что в труппу он больше не вернется. При этом каждый утирал слезу и выражал свое сожаление. Господин Луаяль, клоун Патаклак, Жанидо и его три брата-акробата, канатная танцовщица мадемуазель Примвер, японцы эквилибристы, укротитель Юлиус и все артисты большого цирка Барнабума вздыхали и говорили, что они теряют своего лучшего друга. Даже слон, и тот помахивал хоботом не так, как обычно, и видно было, что он огорчен. Несмотря на то, что господин Барнабум представил Валантена как своего кузена, никто его не замечал, как будто его вовсе и не было: он оставался в стороне, молчаливый и, казалось, непричастный к той глубокой печали, которую он же и вызвал. Удивленный и обиженный таким невниманием, он досадовал на карлика, все еще занимавшего так много места.
А на арене человек-змея выполнял замысловатые упражнения: закручивался вокруг мачты, пролезал сквозь игольное ушко и завязывал ноги двойным узлом. Валантен не без зависти прислушивался к восторженному шепоту, пробегавшему по рядам амфитеатра. Было время, когда и ему толпа дарила свою благосклонность; впрочем, он надеялся, что так будет и впредь. Могла ли публика не оценить ту молодость тела и души, то гармоничное совершенство, которые он ощущал в себе?
Устав от спектакля, Валантен отправился бродить по городу: ему не терпелось познать мир. Он был счастлив, что избавился от карлика, и, гордясь своей силой и свободой, шагал по мостовой в самом приподнятом настроении. Но восторг его был непродолжителен. Прохожие обращали на него не больше внимания, чем на любого встречного. Не сознавая, что после происшедшей в нем перемены он стал таким, как все, он вспоминал, что прежде, когда человек-змея или старая Мари водили его по улицам города, где выступал цирк, все взоры устремлялись на него.
«Я вырос, — подумал он, вздыхая, — а какой от этого толк? Стоит ли быть красивым мужчиной, если этого не замечают? Можно подумать, что мир создан для одних карликов».
Не прошло и четверти часа, как улицы города уже наскучили ему своим однообразием. Никогда еще не чувствовал он себя таким одиноким. Прохожих было мало, мрачные переулки были скудно освещены; он представил себе ослепительные огни цирка Барнабума и пожалел, что забрел так далеко. Томимый одиночеством, он вошел в кафе и заказал у стойки кружку пива, как это делал человек-змея. Хозяин, который зевал, поглядывая на часы, рассеянно спросил его:
— А в цирке вы были?
— Нет, мне некогда. А вы?
— Конечно, нет. Нельзя же оставлять заведение.
— В общем, — сказал Валантен, — жизнь у вас не слишком-то веселая?
— У меня? — возмутился хозяин. — Да я самый счастливый человек на свете! Не хочу хвалиться…
Он объяснил, в чем заключаются его занятия. Валантен постеснялся сказать, что он об этом думает, но про себя решил, что счастье — прескучная вещь, если ты не принадлежишь к труппе знаменитых артистов. Не зная общепринятых правил, он ушел, не заплатив, и вернулся в цирк Барнабума.
Блуждая возле конюшен, Валантен увидел мадемуазель Жермину, сидевшую на табурете, пока конюх седлал ее лошадь. Он остановился, чтобы незаметно рассмотреть ее, и с восхищением обнаружил в ней новые прелести. Если прежде он любовался ее свежим воротничком и гармонией черных и розовых тонов в ее костюме, то теперь его больше привлекали тонкая талия, пластичная форма коленей и ног, гибкая шея и еще какое-то таинственное нечто, непостижимое для того, кто не посвящен в тайны пола. Он с легкой дрожью вспоминал, как еще накануне сидел на коленях у наездницы и прижимался головой к мягкой выпуклости черного бархатного корсажа. Однако память слегка изменяла ему, и ему казалось, что на корсаже лежала его красивая новая голова, украшенная бородой и усами, а не голова карлика. Но он подумал, что теперь не смог бы уместиться на коленях у мадемуазель Жермины: слишком он стал велик и тяжел.
— Меня зовут Валантен, — сказал он наезднице.
— Я вас, кажется, видела издали, мсье. Мне говорили, что вы родственник господина Барнабума. Вы застали меня в большом огорчении: я только что узнала, что мой друг карлик в больнице.
— Это неважно… Я должен вам сказать, что вы очень красивы. Белокурые волосы… по-моему, это очень мило, и черные глаза, и нос, и рот… мне хотелось бы вас поцеловать.
Мадемуазель Жермина нахмурила брови, и Валантен смутился.
— Я не хотел вас обидеть, — сказал он, — я подожду вас целовать, пока вы сами не предложите. Но вы очень красивая. Лицо, шея, плечи — все безупречно. И грудь тоже. Я уверен, что никто не обращает внимания на груди, а вот я нахожу, что они этого очень даже заслуживают. Ваша грудь…
Он простодушно протянул обе руки, не подозревая, что собирается сделать ужасную вещь, запрещенную правилами приличия. Мадемуазель Жермина рассердилась и сказала ему, что так не обращаются с благовоспитанной особой и что она артистка хоть и бедная, но гордая. Он не знал, что придумать в свое оправдание. На всякий случай он пустил в ход пышный набор слов, который сто раз слышал в устах Патаклака или братьев Жанидо.
— Любовь совсем лишит меня рассудка, — промолвил он со вздохом. — Увы, прелестная наездница, зачем мои глаза поддались очарованию ваших золотистых волос и бархатного взгляда, вашей талии, стройной и величавой, как у феи?
Она нашла, что он говорит хорошо, и стала слушать внимательнее. Валантен продолжал:
— Как вас убедить, что я хотел бы положить к ногам вашей души богатство, достойное вашей красоты?
Наездница благосклонно улыбнулась, но в эту минуту вошел господин Барнабум.
— Не слушайте его, — сказал он наезднице. — У этого парня ни гроша за душой. Его болтовня — сплошное вранье, еще хуже, чем у Патаклака; тот хоть по крайней мере талантливый клоун.
— Я тоже талантливый, — возразил Валантен, — и зрители никогда не скупились мне на аплодисменты.
— А что же вы делаете? — осведомилась наездница.
Господин Барнабум поспешил замять разговор и увел Валантена.
— Да, о вашем таланте поговорить стоит, — сказал он, когда они остались одни. — Можете порадоваться, что вы его основательно загубили! Пойдите, покажитесь-ка на манеже; посмотрим, будут ли зрители вам аплодировать… А, вы теперь красавец мужчина? Есть чем гордиться, черт побери! Подумать только, что в вас было девяносто пять сантиметров росту и что вы были украшением труппы! Просто досада берет, когда видишь, во что вы превратились… Да, вам как раз пристало волочиться за девицами! Ведь вы даже не знаете, чем вы будете зарабатывать на жизнь. Вы об этом задумывались хоть на пять минут?
— Зарабатывать на жизнь? — переспросил Валантен.
Видя его наивность и полную неосведомленность в житейских делах, господин Барнабум взялся его просветить. Он разъяснил ему, что такое деньги, как трудно честному человеку их добывать и что надо понимать под радостями любви. Валантен прекрасно все усваивал. Он только немного беспокоился насчет любви.
— Как вы думаете, согласится мадемуазель Жермина выйти за меня замуж?
— Конечно, нет! Она слишком благоразумна, чтобы сделать такую глупость. Вот если бы вы были великим артистом, ну, тогда другое дело…
Из любви к мадемуазель Жермине, а еще и потому, что он понял: в жизни всем волей-неволей приходится что-нибудь делать, за исключением разве карликов и слонов, Валантен решил стать великим артистом. Принимая во внимание его прошлые заслуги, господин Баренабум взял на себя расходы по его обучению. Прежде всего надо было выбрать ему специальность. Профессии воздушного гимнаста или акробата были для него закрыты: они требовали не только особой одаренности, но и такой гибкости и эластичности тела, которые уже не приобретают в зрелом возрасте. Валантен поступил сперва в обучение к Патаклаку, но клоун, поработав с ним несколько часов, дружески предупредил его, что в этой области ему рассчитывать не на что.
— Вам даже ребенка никогда не рассмешить. Я вижу, что вы слишком рассудочны во всех своих мыслях и поведении, чтобы удивить публику какой-нибудь неожиданностью. Вы всегда поступаете так, как велит разум, а он показывает вам вещи такими, какими им полагается быть. Это не значит, что клоун должен быть лишен здравого смысла, отнюдь нет, но мы любим проявлять его там, где его меньше всего ожидают, — например, гримасой или пошевелив пальцами ноги. Все это легко входит в привычку, когда к этому есть склонность, но такому человеку, как вы, не стоит зря терять время: клоун из вас не получится.
Валантен нехотя уступил доводам Патаклака и стал учиться жонглировать у японцев. Прибыв в Жуаньи, он уже сносно жонглировал двумя деревянными шарами, но понял, что дальше этого никогда не пойдет; к тому же эта игра была ему не по душе. Она казалась ему жульничеством по отношению к непреложным законам, которые он уважал. Он перепробовал еще несколько профессий, однако результаты оставались неутешительными. Всюду он проявлял известную ловкость, но не выше средней. Когда он захотел ездить верхом, у него это получилось не хуже, чем у какого-нибудь капитана жандармерии, и господин Барнабум признал, что у него хорошая посадка. Но этого было недостаточно: чтобы стать артистом, нужны были иные данные.
Все эти неудачи настолько обескуражили Валантена, что он больше не решался смотреть представления; и города, через которые проезжал цирк Барнабума, казались ему такими же унылыми, как тот, по которому он впервые отважился пройтись без провожатых. Вечера он предпочитал проводить со старой Мари, которой еще удавалось немного его утешить.
— Не беспокойтесь ни о чем, — говорила она, — все наладится. Вы станете знаменитым артистом, как господин Жанидо или господин Патаклак. Или же снова превратитесь в карлика, что было бы неплохо, хотя надо сказать, что так вы выглядите лучше. Будете карликом и опять вернетесь в свою карликовую кроватку, а старая Мари будет каждый вечер заправлять вам одеяло.
— А мадемуазель Жермина?
— Она будет сажать вас на колени, как прежде.
— А еще?
— Она будет целовать вас в лобик.
— А еще? Ах, Мари… Мари… если бы вы знали! Нет, не хочу быть карликом.
Примерно через месяц после того, как Валантен вырос, цирк Барнабума прибыл в Париж и разбил палатки у Венсенских ворот. В первый же вечер многолюдная толпа заполнила амфитеатр, и господин Барнабум с озабоченным видом следил за ходом программы. Валантен стоял среди униформистов и актеров, ожидавших выхода. Он потерял всякую надежду на артистическую карьеру; его последняя попытка овладеть тайнами дрессировки под руководством укротителя господина Юлиуса провалилась, как и все остальные. Он был чересчур уравновешенным человеком, и поэтому для него было рискованно входить в клетку с хищниками. У него отсутствовали инстинктивные реакции, предупреждающие возможную опасность, которых не могут заменить ни смелость, ни хладнокровие. Господин Юлиус упрекал его, что он ведет себя слишком рассудительно с глазу на глаз со львами. Валантен смотрел на мадемуазель Жермину, скакавшую на манеже. Стоя во весь рост и протягивая руку к зрителям, наездница улыбками отвечала на аплодисменты, и Валантен думал о том, что ни одна из этих улыбок не предназначается ему. Он чувствовал усталость и стыдился своего одиночества. Перед ним прошли на манеж почти все члены труппы: Патаклак, братья Жанидо, канатная танцовщица мадемуазель Примвер, Фифрелен и японцы. Каждый из этих выходов напоминал ему об очередном провале.
— Конечно, — вздохнул он, — я уже никогда не выйду на арену. Для меня больше нет дела в цирке Баренабума.
Он бросил взгляд в зрительный зал и не очень далеко заметил свободное место, оставшееся незанятым из-за столба, заслонявшего вид на арену. Он прошел туда и сел, и почти тотчас же забыл про свою тоску. Вокруг него говорили о наезднице, хвалили ее ловкость и изящество, и он обменивался мнениями с соседями. Забыв, что он Валантен, он сливался с толпой и аплодировал, сам того не замечая.
— Как она нам улыбается! — шептал он вместе со зрителями.
По окончании спектакля он не стал сопротивляться людскому потоку, увлекавшему его к выходу. Он уже не думал об артистической карьере и не чувствовал потребности вызывать восхищение. Напротив, он был счастлив, что принадлежит к этому огромному стаду и уже не несет полной ответственности за самого себя. Господин Барнабум, видевший, как он уселся в зрительном зале, долго провожал его взглядом, пока он не превратился в точку, подобную другим точкам в толпе; тогда он обратился к господину Луаялю, стоявшему возле него:
— Кстати, мсье Луаяль, я забыл вам сказать… Карлик умер.
Трость
Супруги Сорбье решили воспользоваться погожим воскресным днем и совершить небольшую прогулку. Мадам Сорбье крикнула в окно своих сыновей, Виктора и Фелисьена: они играли на улице и швыряли друг другу в лицо комья грязи и всякие очистки. Они любили буйные игры, которые приводят в отчаяние матерей.
— Наденьте костюмы, — сказала она, — мы идем гулять. Сегодня такой солнечный воскресный денек.
Вся семья нарядилась по-праздничному. Виктор и Фелисьен с нескрываемым отвращением влезли в матросские костюмчики. Они мечтали о длинных брюках, которые им предстояло надеть только в день конфирмации, вместе с настоящими серебряными часами.
Отец нацепил крахмальный воротничок и бабочку. Прежде чем надеть пиджак, он озабоченно посмотрел на левый рукав и сказал жене:
— Матильда, послушай, что если мне снять креповую повязку? В Париже ведь не принято носить траур.
— Делай как знаешь, — сухо отрезала Матильда. — Не прошло еще двух месяцев, как умер дядя Эмиль; правда, он был моим дядей… а ты быстро забываешь людей.
— Матильда, ты же знаешь, твой дядя Эмиль говорил: «Дорогие дети, когда я умру…»
— Ну, конечно, ты не обязан уважать моих покойников, но вспомни, я носила траур по всей твоей родне. За восемь лет, что мы женаты, я почти не вылезала из черного платья.
Сорбье с недовольным видом покачал головой и не нашелся, что ответить. Отказавшись от своего намерения, он натянул пиджак. Однако он не испытывал той добродетельной радости, которая обычно сопутствует самопожертвованию. Стоя перед зеркальным шкафом и уныло разглядывая свое отражение, он сказал со вздохом:
— Видишь ли, очень уж она бросается в глаза… Будь пиджак потемнее, тогда еще куда ни шло…
Сорбье отнюдь не был франтом. В будни он преспокойно ходил на службу в поношенном, даже заплатанном костюме, но он вполне резонно считал, что в воскресенье надо быть одетым элегантно. В самом деле, если знаешь, что дома у тебя есть выходной костюм, как-то легче переносить грубое обращение начальства. Это вопрос человеческого достоинства. А никто не станет отрицать, что креповая повязка нарушает изящество костюма. С другой стороны, траур есть траур, возражать не приходится, особенно человеку семейному.
Тем временем Виктор и Фелисьен играли в прятки под обеденным столом, хотя им не раз объясняли, что это игра не для комнат. Случилось так, что компотница упала на паркет и разбилась. На шум прибежала мать, наградила пощечиной первого, кто попался ей под руку, а другого заперла в уборной. Теперь, когда они были в разных местах, можно было одеваться спокойно, не опасаясь катастрофы. Возвращаясь в свою комнату, она увидела, что ее муж сидит в кресле, поглаживая жесткую щетину усов, и смотрит в потолок с блаженной улыбкой.
— Что ты уставился в потолок, чему ты улыбаешься? Опять что-нибудь придумал?
— Мне захотелось… Представь себе, Матильда, у меня явилась мысль, вот здесь, сию минуту. Мне захотелось…
Он бормотал, словно во сне. Жена нетерпеливо ждала ответа, безошибочным чутьем угадывая новую глупость.
— Мне захотелось, — продолжал он, — взять трость дяди Эмиля. Я об этой трости совсем забыл. Ты не думаешь, что вместо того чтобы держать ее в ящике зеркального шкафа, лучше бы…
Матильда поджала губы, а муж слегка покраснел. Пожалуй, он и вправду слишком рано позарился на эту трость, ведь могила дядя Эмиля еще совсем свежа: жена не преминула ему об этом напомнить тоном, полным сдержанной ярости, и со слезами возмущения на глазах:
— Двух месяцев не прошло. Человек работал всю жизнь. Он никогда и не пользовался этой тростью.
— Тем более.
— Что тем более? Почему ты сказал тем более? Что ты имел в виду? Отвечай.
— Я говорю: тем более. — И на лице его появилось непроницаемое выражение, как будто он вкладывал в свой ответ некий таинственный смысл.
Матильда потребовала объяснений. Он стал насвистывать. Застегивая резинки, она размышляла, как бы ему отплатить. В половине третьего все собрались на лестничной площадке. Казалось, это будет обычная воскресная прогулка, как и все другие: два часа томительной скуки с молчаливой остановкой в маленьком кафе, за бутылкой пива. Отец сказал, как всегда: «Вперед, в поход, вояки». Он уже собирался запереть дверь, как вдруг одумался и заявил невинным тоном, не вызвавшим у Матильды никаких подозрений:
— Я забыл часы. Спускайтесь, я вас мигом догоню. Одна нога здесь, другая там.
Он кинулся к зеркальному шкафу, открыл ящик и вытащил трость дяди Эмиля. Полированная палка заканчивалась пожелтевшим набалдашником слоновой кости, сидевшим на золотом ободке и изображавшим морду бульдога. Сорбье и не подозревал, что трость в правой руке до такой степени повышает чувство мужского достоинства. Подойдя к семейству, ожидавшему его возле дома, он стойко выдержал гневные нападки супруги. С твердостью свободного человека и главы семьи, решившего отстаивать привилегии, на которые ему дают право возложенные на него серьезные мужские обязанности, он сказал:
— Ну да, я взял трость твоего дяди. Не вижу в этом ничего плохого. Мне тридцать семь лет, в этом возрасте человек, на котором лежит некоторая ответственность, имеет право носить трость. Если тебе так уж хочется, чтобы трость старика лежала в шкафу, я куплю себе новую, и смею тебя уверить, что это не будет какая-нибудь дешевка.
Матильда напряженно молчала, опасаясь новой причуды. Вот так сперва покупают трость, потом, войдя во вкус, швыряют деньги направо и налево, заводят любовниц… Впервые за несколько лет она посмотрела на мужа с восхищением и страхом. Хотя она и продолжала на него сердиться за неуважение к покойному, она не могла не заметить, с какой фатоватой непринужденностью он размахивал тростью. У нее вырвался почти нежный вздох, который Сорбье истолковал как выражение неприязни.
— Если у тебя болят ноги, — сказал он, — возвращайся домой. Я пойду дальше с детьми; они от этого не пострадают.
— Дело не в моих ногах… но почему ты говоришь, что дети…
— Ты думаешь, я не сумею погулять со своими детьми? Не хочешь ли ты сказать, что я плохой отец?
Он произнес это с горделивой и горькой усмешкой. Виктор на несколько шагов опередил родителей, а Фелисьена мать крепко держала за руку. Сорбье это заметил и, чувствуя, что ему необходимо утвердить свой авторитет каким-нибудь смелым поступком, сухо заявил:
— Не понимаю, зачем запрещать мальчишкам резвиться. Фелисьен, отпусти-ка мамину руку.
— Ты же знаешь, — возразила Матильда, — когда они вместе, с ними сладу нет. Они обязательно порвут костюмы, если не попадут под колеса. Когда несчастье случится, будет поздно.
Сорбье не ответил и ласково похлопал тростью по икрам Фелисьена.
— Беги к брату, — сказал он. — Это куда веселее, чем путаться под ногами у матери.
Фелисьен выпустил руку матери и с размаху дал Виктору пинка в зад. Тот не остался в долгу; чей-то берет покатился на середину мостовой. Матильда следила за результатами отцовского своеволия с деланным безразличием, не лишенным иронии. Сорбье рассмеялся и добродушно сказал:
— Забавные ребята. Не стоит им мешать. Пусть себе развлекаются, как знают.
Однако он понял, что без родительского надзора все же не обойтись.
— Не отходите далеко, чтобы я мог достать вас тростью, и играйте спокойно. Мы сегодня вышли пораньше, так что вы у меня хорошенько погуляете, а заодно узнаете всякие полезные вещи.
Семейство прошло около километра по бульварам и улицам. Отец указывал тростью на достопримечательности и давал многословные объяснения; его красноречие и хорошее настроение действовали супруге на нервы.
— Здесь полно исторических памятников. Вон там магазины Лувра… тут министерство финансов. А вот памятник Гамбетте… Запомните: это он спас нашу честь в семидесятом году.
Немного подальше Виктор заметил обнаженную женщину, стоящую на пьедестале, и показал на нее пальцем.
— А эта, папа? Она что? Тоже спасала честь?
Отец досадливо поморщился и ответил сердито:
— Это женщина… Что ты остановился как вкопанный?
И он ткнул Виктора кончиком трости. Он был шокирован, что его сын в таком юном возрасте интересуется голой женщиной. Но он тут же забыл об этом и, подтолкнув локтем жену, сказал тоном, в котором чуть проскальзывал игривый упрек:
— Эта женщина чертовски хорошо сложена. Видна рука настоящего художника. Взгляни-ка!
Матильда думала о своих далеко не безупречных формах, которые она с трудом втискивала в корсет, и на лице ее появилось страдальческое и укоризненное выражение. Сорбье подлил масла в огонь, сладострастно причмокнув языком.
— Чертовски хорошо сложена! Неужели ты станешь спорить? Лучшей фигуры и представить себе нельзя.
Матильда отвечала невнятным бормотанием, выражавшим не столько несогласие, сколько целомудренный протест. Сорбье возмутился, как будто его обвиняли во лжи. В неодобрительных замечаниях жены ему чудилось скрытое желание подорвать тот неоспоримый авторитет, который придавала ему трость дяди Эмиля. Схватив Матильду за руку, он стремительно подтащил ее к подножию статуи.
— Посмотри на линию бедра, посмотри на живот. Ну, как? Чуть выпуклый, вот таким и должен быть живот. А грудь? Что ты скажешь про грудь? Ты видела что-нибудь подобное?
У Матильды в глазах стояли слезы. Виктор и Фелисьен с большим интересом следили за отцовскими разглагольствованиями, а при упоминании округлостей, по которым он водил кончиком трости, братья толкали друг друга в бок, с трудом удерживаясь от смеха. Несколько раз Матильда тщетно пыталась отвлечь внимание мужа и даже выражала беспокойство, что дети так детально изучают эту академическую наготу. Сорбье, увлеченный игрой, не щадил ее, не пропускал ничего; обойдя статую сзади, он упоенно зарычал:
— И с этой стороны тоже! Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сесть, ничуть не больше!
Его трость очертила два полушария, словно выделяя объект его восхищения. Виктор и Фелисьен, красные как раки, давно уже делали неимоверные усилия, чтобы подавить душивший их смех. Но тут они не выдержали и разразились каким-то булькающим хохотом, который вырывался у них из носа и от которого судорожно вздрагивали их плечи. Испугавшись этого приступа веселости, который мог открыть глаза родителям на их порочные наклонности, они поспешили убежать. Только тогда отец решился покинуть статую. Матильда выслушала его до конца, даже не подумав повернуться к нему спиной. Она автоматически шла за ним, подавленная видом обнаженного тела, подробности которого ее удручали. Она ловила себя на том, что краснеет, стесняясь своего пышного бюста, мешавшего ей видеть кончики ботинок. Поддавшись приступу самоунижения, она решила, что она смешна, недостойна мужа, которого недооценивала. Сорбье представился ей в новом, сказочном свете; он сразу стал обольстительным, как демон, окруженный ореолом порока. Она почувствовала, как в ее душе растет преданная нежность, стремление к покорности и полному подчинению капризной воле своего супруга. Однако она постаралась ничем не выдать этот душевный переворот. Она гордо выступала с мрачным лицом, не нарушая благоразумного молчания и предоставив мужу отчитывать детей. Щеки ее покраснели от натуги, ибо она старалась не дышать и втягивала свой обширный живот, не замечая, что от этого еще сильнее выпячивается грудь. Впрочем, Сорбье не обращал на нее ни малейшего внимания. Разгоряченный страстными похвалами, которые он только что расточал каменной наготе, он повторял некоторые фразы, на его взгляд особенно удачные, и с удовольствием вспоминал отдельные детали статуи. Несколько раз Матильда слышала, как он произносил отрывистым голосом: «Бедро, плечо, живот, лодыжки». Ей на минуту показалось, что он сочиняет какой-то особенный рецепт мясного бульона, но после небольшого молчания он добавил, нервно расхохотавшись: «А груди! Черт возьми, что за груди!» Ясно было, что волнение Сорбье перестало быть чисто эстетическим. В глазах его появился особый блеск, в голосе зазвучали возбужденные нотки: эти признаки не могли не насторожить супругу. Не в силах дольше притворяться равнодушной, она сказала ему с горечью, хотя тихо и без всякой злобы:
— Не знаю, может быть, ты раньше притворялся, но ты никогда не позволял себе говорить со мной о таких гадостях. С тех пор как ты взял в руку тросточку дяди Эмиля, ты уж очень зазнался. Будь бедный дядя еще с нами, он бы тебе объяснил, в чем обязанности мужа и отца. Он сказал бы тебе, что нечестно и неразумно говорить жене про груди какой-то твари, пусть даже каменной. Ты должен бы знать, хотя бы на примере Корвизонов, что распутство мужа разрушает семью. И потом скажи, к чему это? Да, к чему мечтать о грудях чужой женщины? Вспомни, милый, наши вечера, хотя бы вчерашний вечер: тогда для тебя была только одна грудь на свете… вспомни, не забыл же ты, это невозможно.
Матильда тут же поняла свою ошибку. Охваченная чувством ревнивой нежности, она неосторожно привлекла внимание мужа к своему бюсту. Не довольствуясь тем, что он вкусил прелести разврата, Сорбье упивался своей жестокостью и равнодушием. Он смерил Матильду сострадательно-ироническим взглядом и кончиком трости очертил в воздухе нечто вроде опухоли оскорбительных размеров. Он покачал головой, как бы говоря: «Да нет, дорогая моя, где уж тебе… Посмотри на себя, сравни…»
Это было так ясно без слов, что щеки Матильды побагровели от обиды. Она решила отплатить той же монетой.
— В конце концов, мне наплевать. Говорю я это больше ради детей и ради тебя самого, потому что ты, может быть, не отдаешь себе отчета, как ты смешон; ты не первой свежести, и красавцем тебя не назовешь. Мне это еще вчера утром говорила консьержка, когда я возвращалась из аптеки с бандажом для твоих вен.
— Ну, конечно! Эта гнусная старуха дважды пыталась меня поцеловать на лестнице. Но я ей сказал: уж если мне вздумается изменять жене, в Париже, слава богу, нет недостатка в красивых девках. При некотором опыте, — Сорбье многозначительно усмехнулся, — за выбором дело не станет.
В эту минуту мимо них проходила красивая женщина, и Сорбье встретился с ней глазами. Неожиданно для самого себя он с галантной улыбкой приподнял шляпу. Изумленная молодая женщина наклонила голову и даже чуть-чуть улыбнулась. У Матильды помутилось в голове. Ее рука вцепилась в плечо Сорбье.
— Эта женщина… Кто эта женщина? Я никогда ее не видела у нас, и вообще нигде не видела. Я хочу знать, где ты с ней познакомился.
Сорбье ответил не сразу; похоже было, что он силится придумать отговорку. Матильда настаивала, не помня себя от злости.
— Не знаю, — промямлил он смущенно. — Я был с ней знаком… когда-то. Точно не помню.
Воспользовавшись выражением панического ужаса на лице Матильды, он отошел от нее, чтобы прогнать Фелисьена с клумбы. Семейство покинуло Тюильрийский сад и направилось к бульварам по улице Руаяль.
Когда они проходили мимо кондитерской, Фелисьен стал жаловаться на голод, а Виктор заявил, что он еще голоднее брата.
— Мама, я хочу есть. Я самый голодный.
У нее лопнуло терпение, и на детей посыпались пощечины. Они еще громче захныкали и заскулили. У самой Матильды глаза были красные и опухшие. Прохожие с жалостливым любопытством смотрели на скорбную мать, которая тащила за собой двух заплаканных детей. Сорбье не желал ничего замечать. Он шел упругим шагом, с порозовевшими щеками, оборачиваясь лишь для того, чтобы проводить быстрым внимательным взглядом промелькнувший женский силуэт. У террасы одного кафе, каких много на парижских бульварах, он остановился, поджидая семейство.
— Зайдем, выпьем чего-нибудь, — сказал он, — у меня в горле пересохло. И потом, людей посмотрим, женщин.
Матильда заглянула на террасу: шикарные плетеные кресла, все одинаковые, зеркала, строгая форма официантов и важная осанка метрдотеля внушали ей беспокойство. Обычно послеобеденные воскресные прогулки завершались в каком-нибудь захудалом кафе, пропахшем опилками и кислым вином, в маленькой уютной забегаловке, как ласково говорил Сорбье, где хозяин собственноручно подавал бутылку пива. Матильду пугали цены этого шикарного кафе; она подумала, что муж ее вступил на скользкий и опасный путь. А Сорбье уже подталкивал ее, изо всех сил стараясь казаться развязным. Она сопротивлялась.
— Послушай, — сказала она, — это большое кафе. Мы в такие никогда не ходим. Ты ведь знаешь.
— Кафе как кафе. Можно подумать, что ты никогда ничего не видела. Я это кафе знаю как свои пять пальцев.
Матильда прошептала со смиренной и робкой улыбкой:
— Будь мы одни, без детей, тогда понятно… Такую прихоть можно бы себе позволить. Давай лучше в другой раз.
Сорбье нервничал: ему казалось, что посетители кафе потешаются над колебаниями его жены.
— Если ты не хочешь зайти, возвращайся с детьми домой. А я хочу пить. Делай как знаешь.
Не дожидаясь решения Матильды, он протиснулся между двумя рядами столов, и семейство последовало за ним. В последнем ряду двое встали из-за столика, и Сорбье тут же им завладел. Он заказал аперитив для себя и пива для детей. Матильда от всего отказалась, ссылаясь на головную боль. Погрузившись в плетеные кресла, супруги хранили неловкое молчание. Самому Сорбье было явно не по себе: он старался угадать, какое впечатление производит его семейство на эту праздную толпу. Несколько раз ему казалось, что официант строго поглядывает на него. Он сказал Матильде:
— Закажи же что-нибудь. На что это похоже! В кафе ходят не затем, чтобы ничего не пить, это нелепо.
Она наконец уступила и спросила кружку пива. Сорбье почувствовал огромное облегчение и снова повеселел; вспомнив, что у него есть трость, он стал рассматривать набалдашник с любовным вниманием и сказал дружелюбным тоном:
— Что ни говори, а тросточка дополняет мужской костюм. Не понимаю, как это я без нее обходился.
— Ты прав, — согласилась Матильда в порыве благодарности и любви. — Я никогда не думала, что тросточка так тебе идет. Как хорошо, что ты догадался ее взять.
В эту минуту на террасе появилась женщина. Ее наряд, накрашенное лицо и оценивающие взгляды, которые она бросала на мужчин, недвусмысленно указывали на ее профессию. Она остановилась в нерешимости перед рядами кресел и, заметив свободный столик в нескольких шагах от семейства Сорбье, направилась к нему. С той самой минуты, как она вошла, Сорбье с интересом следил за ней. Когда она села, ему без труда удалось поймать ее взгляд. Они обменялись улыбками и даже стали перемигиваться. Незнакомка охотно отвечала на заигрывания. Видя, что Сорбье совершенно беззастенчиво на нее заглядывается, она, очевидно, решила, что Матильда ему не жена. Наклонившись над аперитивом, чтобы лучше ее видеть, Сорбье не переставал расточать ей улыбки и умильные взгляды. Матильда не могла не заметить его маневры, горло ее сжималось от гнева и стыда, но она молчала, не решаясь устроить неуместный семейный скандал на глазах у всей публики. Но когда Виктор и Фелисьен обернулись к этой пролазе, чтобы проследить направление отцовских улыбок, она не удержалась от злобного возмущения:
— Просто возмутительно. Так себя вести при детях! Да еще с какой-то потаскухой, у которой, наверное, ни гроша за душой.
Терраса была заполнена посетителями, и официанты не успевали их обслуживать. Девица безуспешно пыталась привлечь внимание метрдотеля, чтобы сделать заказ. Сорбье демонстративно покачивал головой, желая показать, как он возмущен бесцеремонностью отношения персонала кафе к такой хорошенькой женщине. Наконец он не выдержал и произнес, намеренно повышая голос, пока Матильда тщетно толкала его коленом, чтобы заставить замолчать:
— Невозможно добиться, чтобы тебя обслужили. Честное слово, это кафе превращается в какой-то кабак. Как вспомнишь, каким оно было прежде!
Прелестница наградила его долгой признательной улыбкой, от которой он совсем растаял. Чтобы заранее оправдать в глазах жены свое будущее вмешательство, Сорбье добавил, сам испугавшись своего фатовства, которое привело Матильду в ужас:
— Вот уже четверть часа не могу дождаться официанта, чтобы заказать коктейль.
Слово «коктейль», связанное в воображении Матильды с целой вереницей непристойностей, голых женщин, дорогих вин и прочих мерзостей, совсем доконало ее. Ей отчетливо представилась картина, как ее муж проматывает семейные сбережения на такси, цилиндры и изысканные обеды, тогда как она несет в ломбард последнюю брошку, чтобы накормить голодных детей.
— Официант, вас зовут! Просто невероятно, что никого нельзя дозваться.
Голос Сорбье потонул в общем гуле. Молодая женщина покачала головой с благодарностью и досадой. Поддавшись чувству галантного нетерпения, Сорбье схватил свою трость за середину, намереваясь постучать концом по столу. Он размахнулся, подняв ее над плечом быстрым и широким движением…
За его спиной стенное зеркало разлетелось вдребезги, разбитое бульдогом дяди Эмиля. Сорбье, побагровев, вскочил с кресла. Вокруг него поднялся гвалт: люди смеялись, возмущались, обменивались мнениями. Мужчина за соседним столиком сердито жаловался, что осколки стекла попали ему в аперитив. Посетители забавлялись отчаянием виновного, который держал свою трость, как ружье, обеими руками, словно отдавая честь.
Матильда, которая только что сидела, съежившись от отчаяния, почувствовала, что жизнь не так уж плоха. Испуг Сорбье, его оторопелый вид вливали в нее новые силы; ее поникший бюст величаво расправился. Она слегка привстала и с жестоким смешком прошипела на ухо мужу, не обращая внимания на свидетелей драмы, которых рассмешило ее вмешательство:
— Пятьсот франков! Вот во что нам обходятся твои сумасбродства! Ради подлой твари, которая зарилась только на твои деньги!
Управляющий прибежал на место происшествия. Вызвали полицейского. Сорбье назвал свое имя, профессию, предъявил документы. Он стоял постаревший, осунувшийся и беспомощно лепетал:
— Господин полицейский, я не нарочно… это трость дяди Эмиля… я хотел позвать официанта.
Матильда злорадно следила за переговорами, осыпая мужа саркастическими замечаниями. Сорбье попросил робким голосом, в котором сквозила покорность судьбе:
— Погоди, Матильда, потом!
Полицейский сжалился над его смятением и сократил формальности. Со своей стороны управляющий проявил некоторое сочувствие, уверяя, что ущерб не так уж велик и что ему будет нетрудно договориться со страховым обществом. Терзаемый беспокойством, Сорбье снова сел на свое место рядом с Матильдой. Она спросила:
— Ты не хочешь выпить коктейль, чтобы прийти в себя? Тебе не мешает подкрепиться.
Он выглядел таким измученным, таким жалким, что она почувствовала, что теперь в ее власти подвергнуть его самым жестоким пыткам. Она настаивала:
— Уж раз ты начал сорить деньгами, не стесняйся, закажи себе коктейль! Ты и мне дашь попробовать.
Сорбье страдальчески вздохнул; он пытался встретиться глазами с молодой женщиной, которая втянула его в эту роковую авантюру, ища у нее утешения и нежного сочувствия. Но особа, понимая, что это происшествие разрушило чары, повернулась спиной и улыбалась зябкому старичку, который пожирал ее глазами.
— Полюбуйся на свою потаскуху, — сказала Матильда. — Она нашла себе другого, с двумя палками.
Виктор и Фелисьен стали шаг за шагом восстанавливать весь эпизод, проявляя при этом жестокость, вряд ли вполне бессознательную. Мать с удовольствием следила за их игрой и иногда напоминала им какую-нибудь пикантную подробность. Сорбье уныло подозвал официанта и уплатил по счету. Когда он смог наконец встать из-за стола, Матильда, лениво развалившись в кресле, остановила его и сказала нестерпимо кротким голосом:
— Милый, ты забыл свою трость.
Он вернулся, схватил трость неловким движением и последовал за женой, которая проталкивала детей между двумя рядами посетителей. Трость ему мешала; обходя столик, он задел пустой стакан; официант ловко подхватил его на лету. Матильда ехидно усмехнулась через плечо.
— Ты сегодня в ударе. Ты больше ничего не собираешься ломать?
Сорбье подумал, что он с удовольствием сломал бы палку о спину супруги, но то была мимолетная мысль, и он не решился высказать ее вслух. Покидая террасу, он успел с горечью заметить, что потаскуха встала и пересела к старику. Матильда, от которой ничего не ускользало, язвительно отметила комизм ситуации, но жажда мести, бурлившая в ее душе, заставила ее отбросить иронический тон. Она впилась взглядом в глаза мужа и сварливым голосом, столь привычным для слуха Сорбье, приступила к допросу.
— Ты мне скажешь наконец, почему ты позволил себе взять эту трость? Трость, которая тебе даже не принадлежит.
Сорбье сделал неопределенный жест: он сам не знает… Матильде захотелось ударить его по щеке.
— Трость не берут просто так, без причины. Я требую, чтобы ты мне объяснил, зачем ты взял трость дяди Эмиля.
Она стояла, ухватившись за борт его пиджака. Сорбье понял, что она не отстанет, пока не добьется ответа. Он стал честно копаться в самых тайных закоулках своей души и, ничего там не найдя, отдался поэтическому вдохновению в надежде утихомирить гнев супруги.
— Ну, что я могу сказать? Солнце… вот именно, солнце… понимаешь, когда я увидел, какая прекрасная погода, на меня нашло какое-то весеннее настроение… Трудно сказать, откуда берутся весенние настроения.
Матильда деланно расхохоталась, а он жалобно повторял:
— Ну да, весеннее настроение… Если бы ты могла понять…
Она подтолкнула его, чтобы заставить идти дальше, как будто он стал простым автоматом, и процедила сквозь зубы:
— Дай срок, голубчик, я тебе покажу весеннее настроение. Не воображай, что я забыла твое давешнее поведение.
Пока шел этот допрос, Виктор и Фелисьен не преминули воспользоваться предоставленной им свободой. Родителям пришлось ускорить шаг, чтобы догнать их в толпе гуляющих. Матильда сказала одному из мальчиков:
— Иди сюда, дай руку отцу и смотри, чтобы он держал тебя крепко.
Сорбье послушно взял сына за руку и пошел быстрее. Матильда окликнула его голосом фельдфебеля:
— Возьми его за левую руку, эта у него болит… Ты что, не понимаешь? Или тебе мешает трость? Ничего, понесешь ее в левой руке, вот и все. Смешнее ты от этого не станешь, не бойся.
Сорбье поменял местами сына и тросточку. Она все больше стесняла его, и он зажал ее под мышкой; Матильда наслаждалась его пришибленным видом. Он собирался свернуть вправо, но она приказала мирным тоном, который вызвал в нем тревогу:
— Нет, не туда. Идем прямо. Я решила пойти другим путем.
— Не поздно ли будет?.. Ты знаешь, что уже около пяти?
— Совсем недавно ты не торопился. Мне еще хочется погулять. Мы пойдем обратно по улице Руаяль и через Тюильри. В такое время года это самая приятная прогулка.
С того момента, как они вышли из кафе, она вынашивала план мести: провести своего сломленного, униженного мужа по тем самым улицам, где он победоносно шагал еще так недавно.
Сорбье шел, волоча ноги, понурив голову и ссутулившись. Он уже не думал смотреть на женщин. Это был смирный человек, стремившийся к своим домашним туфлям и газете. Матильда шла за ним по пятам. Она изощрялась в обидных сравнениях между его прежней гордой уверенностью и теперешней скромной походкой.
— Ты видел красивую девушку, которая только что прошла мимо? Да обернись же… Давеча у тебя глаза быстрее бегали…
В Тюильрийском парке Виктору и Фелисьену вернули свободу, но Сорбье не воспользовался этим, чтобы переложить палку в правую руку. Он старался о ней забыть. Матильда точно запомнила все места, где ее супруг афишировал свою независимость и легкомысленное настроение. Она припоминала его речи, пересыпая их свирепыми комментариями. Когда они подошли к голой женщине, грудь Матильды горделиво всколыхнулась, и она сказала, смерив статую взглядом:
— Ну, вот она, твоя гладильная доска! Ты так восхищался ею… Теперь молчишь?
Сорбье смотрел на статую тоскливым взглядом, в котором Матильде почудился оттенок сожаления. Она взяла трость дяди Эмиля и стала водить ее концом по каменным контурам, не скупясь на враждебные замечания.
— На что это похоже? Она совсем тощая… плечи как у бутылки, живот словно год не ела. Надо надеть две пары очков, чтобы догадаться, где у нее желудок…
Сорбье смотрел на статую мутными глазами, словно погруженный в безрадостный сон. Матильда нахмурила брови, положила трость к подножию статуи и сказала резко, высоко скрестив руки на груди:
— Ну?
Сорбье поглядел на жену взглядом затравленного зверя. Он секунду колебался, потом из горла его вырвался подленький смешок, и он пробормотал:
— Конечно, она слишком похожа на девушку… Красивая женщина должна быть полной.
При этом лестном признании, которое она у него вырвала, щеки Матильды вспыхнули от прилива гордости. Она взяла мужа под руку медленным и размеренным жестом, как бы окончательно водворяясь в своих законных владениях, и повела семью по направлению к дому. Виктор и Фелисьен завладели тростью, лежавшей на постаменте. Они держали ее за оба конца и бежали впереди. Отец смотрел на них с облегчением, радуясь, что его избавили от груза, который казался ему теперь невыносимым. Догадавшись о его чувствах, мадам Сорбье крикнула сыновьям:
— Отдайте трость отцу. Это вам не игрушка!
Потом она обратилась к мужу:
— Уж раз ты ее вынул из шкафа, теперь ты будешь брать ее с собой каждое воскресенье.
Улица Святого Сульпиция
Господин Нормат торговал картинками на религиозные темы. Широкая четырехметровая витрина его лавки выходила на улицу Святого Сульпиция, а фотографические мастерские — на задний двор. Как-то утром, проверив свои бухгалтерские книги, Нормат снял телефонную трубку и позвонил в первую мастерскую.
— Попросите мсье Обинара срочно спуститься ко мне.
В ожидании главного фотографа господин Нормат выписывал на черновом листке какие-то цифры.
— Я вызвал вас, мсье Обинар, чтобы показать последние данные о продаже. По сериям Христа и Иоанна Крестителя дело у нас обстоит из рук вон плохо. Я бы даже сказал — плачевно. За последние полгода нам удалось сбыть всего-навсего сорок семь тысяч штук Иисуса Христа против шестидесяти восьми тысяч штук, проданных за то же время в прошлом году, а сбыт Иоаннов Крестителей снизился на восемь тысяч пятьсот экземпляров. И заметьте, такое резкое падение началось как раз после тех усовершенствований фотографических аппаратов, какие мы ввели по вашему настоянию, а ведь на это мы ухлопали кучу денег.
Обинар досадливо отмахнулся, как бы давая понять, что у него куда более важные заботы, чем у патрона.
— Это общий кризис, — угрюмо буркнул он, — все дело в кризисе.
Господин Нормат побагровел и, вскочив с кресла, с угрожающим видом двинулся на Обинара.
— Нет, мсье. Разве может быть кризис в торговле священными предметами? Это наглая ложь. Как вы смеете так говорить о наших товарах, когда все порядочные люди ставят свечки в церквах, молятся об оживлении деловой жизни, стараются умилостивить господа нашего, вешают у себя дома его изображения?
Обинар извинился, и хозяин, снова усевшись в кресло, продолжал:
— Вы сами, мсье Обинар, признаете всю нелепость своих объяснений, когда я вам докажу, что фирма не потерпела ни малейшего убытка в продаже других товаров. Подойдите сюда, взгляните на цифры… Ну-ка? Богородицу в три цвета раскупают нарасхват — пятнадцать тысяч штук… Младенец Христос тоже идет ходко. Глядите! Вот святой Иосиф, вот «Бегство в Египет», святая Тереза… Я ничего не сочиняю, цифры говорят сами за себя. Вот вам апостол Петр, а вот апостол Павел. Можете проверить наудачу любого святого, даже из менее известных. Смотрите, я читаю: святого Антония в прошлом году продано две тысячи семьсот пятнадцать штук, в нынешнем году — две тысячи восемьсот девять. Видите?
Нагнувшись над столбцами цифр, Обинар нерешительно возразил:
— Говорят, наблюдается некоторое охлаждение к Христу…
— Это вздорные слухи! На днях я случайно видел Гомбета с улицы Бонапарта. Он уверяет, что спрос на Спасителя никогда еще не был так велик.
Обинар выпрямился и начал расхаживать перед письменным столом.
— Пусть так, — сказал он со вздохом, — но ведь Гомбет поставляет репродукции с картин Лувра, ему не приходится работать с живой натурой… Ох, я знаю наперед, что вы скажете: мы добились высокого качества фотографий, мы установили умеренные цены, и нет причины, почему наши Иисусы распродаются хуже богородицы или святой Терезы при одинаково тщательной обработке. Я знаю, но…
Господин Нормат слушал главного фотографа с тревожным любопытством.
— Так что же? Неудачная композиция?
— Я не новичок в своем ремесле, — обиделся Обинар. — Вы сами видите, как здорово у меня получились муки святого Симфориана; вряд ли кто другой способен добиться такого эффекта.
— В чем же дело?
— Так вот…
Обинар не мог скрыть своего раздражения. Наконец его прорвало:
— Дело в том, что в Париже не сыщешь больше ни одного Христа. Говорю вам, кончено — нету их больше. Кто нынче носит бороды? Депутаты, чиновники из министерства, да еще мазилы-художники с нахальными рожами. Ну-ка, найдите в толпе красивого парня! Ладно, положим, вы его нашли и он согласился на вас работать. Сперва вам придется потерять две недели, пока у него отрастет бородка, а с бородой он становится похож не то на подгулявшего капуцина, не то на аптекаря в трауре. Вы не представляете, сколько тут бывает неудач… Только за прошлый месяц я завербовал полдюжины натурщиков, и все без толку. Право же, тем, кто работает с апостолами и святыми мученицами, не так туго приходится. Старики все на одно лицо, да и покупатель не больно-то приглядывается к апостолам. А уж потаскушек, умеющих разыграть девственниц, в Париже сколько угодно…
Господин Нормат состроил недовольную гримасу. Он терпеть не мог, когда его подчиненные распускали язык.
Обинар заметил осуждающий взгляд хозяина и продолжал более сдержанным тоном:
— Христос должен быть молодым, благообразным и бородатым. Есть у нас такие, по-вашему? Не так-то просто их найти. А самое редкое и самое главное — это благородные черты лица и кроткие глаза. Причем не слишком жалостного вида — публика не любит, когда прибедняются, вы это знаете не хуже меня. Видите, как все это сложно? С каких уж пор я ищу такую модель, просто в отчаянье пришел. Не сыскать их больше в Париже! Вспомните мою последнюю работу — «Гефсиманский сад». Все было сделано образцово, первоклассно, придраться не к чему, зато натурщик глядел тупо, как баран, — никакого страдания в глазах, будто аперитив потягивал. К тому же пришлось наклеить ему фальшивую бородку, — у этого юнца и борода еще не росла. В результате этот мой Христос похож на актера Французской Комедии, тут и ретушью делу не поможешь. Когда нет живой натуры…
— Это верно.
— И заметьте, все, что я говорил об Иисусах, относится и к Иоаннам Крестителям, если не считать бородки.
Господин Нормат встал из-за стола и, заложив руки за спину, с озабоченным видом начал шагать по магазину из угла в угол. Обинар окинул стекла витрин унылым, рассеянным взглядом, мечтая об идеально прекрасном лице, которое неотступно преследовало его даже во сне. И вдруг он остолбенел от неожиданности: между портретом папы римского и гравюрой святой Терезы стоял живой Христос, и от его дыхания запотело стекло. На нем была мягкая шляпа и крахмальный воротничок, но Обинар, ни на минуту не усомнившись, что это он самый, ринулся к двери и выскочил на тротуар. Перед ним стоял озябший, бедно одетый человек с кротким покорным взглядом и печальным лицом, обрамленным изящной бородкой. Обинар замер перед дверью, пожирая его глазами. Заметив это пристальное внимание, прохожий съежился, пугливо отшатнулся и свернул в сторону. Обинар коршуном налетел на него, схватил за руку и силой повернул к себе, но незнакомец устремил на него такой робкий, такой страдальческий взор, что главный фотограф был потрясен.
— Простите, — пробормотал он, — может быть, я сделал вам больно?
— Нет, что вы! — смиренно возразил прохожий. И печально добавил: — Мне и не то еще пришлось выстрадать!
— Это верно, — прошептал Обинар, еще не оправившись от волнения.
Они молча смотрели друг на друга. Прохожий не удивлялся и ни о чем не спрашивал, как бы заранее покорившись судьбе, от века ему предназначенной. У Обинара горло сжималось от жалости и какого-то непонятного чувства раскаяния. Он робко сказал:
— Нынче такое холодное утро. Вы, верно, озябли. Не зайдете ли к нам погреться?
— Спасибо, с удовольствием.
Когда они вошли в лавку, господин Нормат подозрительно оглядел незнакомца из своего угла и ворчливо спросил:
— Это еще кто такой?
Обинар ничего не ответил. Хотя он прекрасно слышал вопрос, он вдруг почувствовал какую-то странную неприязнь к патрону. Он суетливо хлопотал вокруг гостя, осыпая его любезностями, что крайне раздражало господина Нормата.
— Вы, должно быть, устали… Да, да, ужасно устали. Садитесь, пожалуйста, вот сюда.
Услужливо подведя пришельца к письменному столу, он усадил его в хозяйское кресло. Господин Нормат даже привскочил и, поспешив к своему столу, сердито повторил вопрос:
— Так кто же это такой?
— Да вы что, не видите разве? Это же вылитый Христос! — с возмущением ответил Обинар, едва обернувшись.
Господин Нормат оторопел. Потом, скосив глаза на незнакомца, занявшего его собственное кресло, он согласился:
— Да, пожалуй, по типу лица он нам подходит. Но это еще не причина…
Обинар, довольный и счастливый, неподвижно замер перед креслом. Разъяренный господин Нормат грубо спросил:
— А он будет работать, этот малый?
Обинар совсем было упустил из виду свои служебные обязанности. Окрик хозяина вернул его к действительности. С усилием взяв себя в руки, он принялся рассматривать натурщика более придирчиво. «Лицо исхудалое, осунувшееся, — говорил он себе, — но это неплохо, даже лучше. Я уверен, что из него выйдет превосходный «Ecce Homo»[1]. На первых порах будем подвешивать его на кресте для «Распятого Христа», потом снимем «Гефсиманский сад», а позже, когда он немножко откормится, сработаем с ним «Доброго пастыря» и «Пустите детей приходить ко мне». В одну минуту Обинар подсчитал, какое множество первоклассных евангельских сценок у него получится благодаря этому нежданно обретенному Христу. Гостя как будто смущали пристальные, испытующие взгляды двух незнакомых людей. Его страдальческий вид все еще волновал Обинара, и тому было неловко задавать вопросы.
— Кем вы работали раньше, — вмешался господин Нормат, — а первым делом — как вас зовут?
— Машелье, мсье, — ответил незнакомец смиренным тоном, будто не расслышав первого вопроса.
Господин Нормат несколько раз повторил фамилию, проверяя, хорошо ли она звучит, и пробурчал, обращаясь к Обинару:
— Глядите за ним в оба. От таких проходимцев можно всего ожидать. Еще неизвестно, откуда он взялся.
Вспыхнув от гнева, Машелье вскочил с кресла.
— Я вышел из тюрьмы, — заявил он. — И ничего мне от вас не надо, отвяжитесь от меня!
Он решительно направился к двери. Фотограф догнал его и, потянув за руку, снова усадил в хозяйское кресло. Машелье покорно повиновался, сам удивляясь своей дерзкой выходке. Господин Нормат, вспомнив о торговых книгах, пожалел, что нагрубил ему.
— Двадцать франков в день, — предложил он. — Подходит это вам?
Машелье как будто не понял.
— Хотите двадцать пять? Ладно, дадим двадцать пять.
Машелье молчал, забившись в кресло. Обинар, нагнувшись, ласково сказал:
— Патрон предлагает двадцать пять франков в день. Обычно у нас платят не больше двадцати. Ну как, согласны? Двадцать пять франков… Идемте со мной в мастерскую. Работа нетрудная…
Они вышли из магазина и, пройдя через двор, стали подниматься по темной лестнице.
— Меня приговорили к шести месяцам тюрьмы, — объяснял Машелье, — не так уж много за то, что я натворил. В тюрьме мне удалось накопить небольшую сумму, но теперь, сами понимаете…
— Вам заплатят сегодня же. Если желаете, за два дня вперед.
Дойдя до лестничной площадки, Машелье остановился передохнуть.
— Я голоден, — прошептал он.
Он был бледен и тяжело дышал. Обинар заколебался; он едва не уступил чувству жалости, но тут же сообразил, какие возможности сулит ему образ измученного, униженного, молящего Христа. «Когда он поест досыта, будет совсем не то, — решил главный фотограф. — Надо этим воспользоваться, пока не поздно, и сейчас же распять его на кресте».
— Потерпите немного, вас отпустят завтракать в полдень. Сейчас уже десять часов.
Первый сеанс, как показалось несчастному, тянулся бесконечно долго. Висеть на кресте в разных позах было тяжело, а порою, при его болезненной слабости, даже мучительно. Один вид окружавших его орудий пытки вызывал в нем отвращение. Зато Обинар был вне себя от восторга. Он отпустил натурщика только во втором часу и, заплатив пятьдесят франков, предоставил отдых до завтра.
Машелье бросился искать кафе, где бы кормили подешевле. С жадностью проглотив двойную порцию телячьего рагу, он приосанился и почувствовал уверенность в себе. Закусывая сыром, он вспоминал о светлых днях прошлого. За несколько месяцев до ареста он служил тапером в кабачке на Монмартре; у него там завелись друзья, хозяева ценили его и уважали. Когда он выходил кланяться, девушки строили ему глазки.
На его беду, в кабачке выступал скрипач с блестящими, кудрявыми черными волосами. Этой шевелюрой пленилась одна девица, к которой Машелье был неравнодушен. Скрипачам легко покорить женское сердце: они гарцуют по эстраде, извиваются, встряхивают головой, нежно щекочут смычком свой инструмент, а когда пускают высокую трель, томно закрыв глаза и вытянув шею, вы невольно смотрите им на ноги, — уж не вознесся ли скрипач на небо? Обольстив девицу черными кудрями, скрипач переспал с ней, и однажды, когда он похвалялся своей победой, Машелье едва не убил соперника, всадив ему ножницы в горло.
Сидя за завтраком, Машелье размышлял о том, что в конце концов скрипач остался жив, раз он снова играет в оркестре. Почему бы и ему, Машелье, не наняться на прежнюю работу? Хоть он и просидел полгода в тюрьме — с кем не бывает! — у него все-таки большой талант. Ему показалось недостойным артиста изменить своему призванию и сниматься нагишом в фотографическом кабинете. Разомлев после сытного обеда, он не сомневался, что без труда найдет где-нибудь место тапера, и твердо решил завтра же вернуть фотографу двадцать пять франков, выданные авансом. Прямо из кафе он отправился в гостиницу на улицу Сены, снял номер и, растянувшись на мягкой постели, отложил на завтра поиски работы, достойной его дарования. Он заснул крепким сном и проснулся около полуночи; вскоре опять заснул, но всю ночь его преследовали кошмары. Ему чудилось, будто он распинает на кресте скрипача в терновом венце и будто суд присяжных приговаривает его к тюремному заключению еще на полгода. Он вскочил с постели, весь дрожа, лязгая зубами. Лучи утреннего солнца не рассеяли его горьких дум; к угрызениям совести примешивались воспоминания о муках, перенесенных им на кресте. Однако его решение не изменилось. Поднимаясь по лестнице в мастерскую, он зажал в кулаке двадцать пять франков, чтобы сразу возвратить их Обинару.
Главный фотограф принял его ласково, даже почтительно и тут же потащил к столу, где сохли пробные отпечатки.
— Поглядите… Какова работа? Что скажете? Ну, можно вас поздравить, вы позировали замечательно… Я не преувеличиваю, просто замечательно!
Машелье долго разглядывал отпечатки. Он был растроган, и когда Обинар предложил подготовиться к сеансу, он разделся без колебаний, сам удивляясь своей покорности.
В течение трех дней его в разных позах подвешивали на кресте, а когда у фотографа накопился достаточный запас «Распятий», они начали снимать серию «Путь на Голгофу». Натурщик старался изо всех сил и приводил Обинара в восторг своим усердием и понятливостью. Вскоре и господин Нормат оценил по достоинству новую модель, так как ему прислали крупный заказ на «Распятие».
Бывший пианист каждый вечер приносил из мастерской пачку фотографий Иисуса Христа и развешивал их по стенам своей комнаты. В гостинице он прослыл на редкость набожным христианином. По вечерам, возвращаясь к себе в номер и окидывая взором эту панораму, Машелье всякий раз испытывал потрясение. Сидя на кровати, он подолгу любовался изображением Спасителя, выискивая сходство с самим собою. Его глубоко трогало это скорбное лицо, жестокие страдания, мученическая смерть. По временам, при воспоминании о суде присяжных и о тюрьме, ему казалось, что сам он претерпел гонения, что сам он жертва несправедливости, и с умилением прощал своим палачам.
На работе в мастерской он никогда не раздражался, был кротким, уступчивым, старался услужить всем и каждому. Сотрудники любили его за доброту и привыкли к его томному, меланхоличному виду. Все сходились на том, что он прямо-таки создан для этой работы. Машелье настолько сжился со своей ролью, что никого уже не смущали его странные изречения. Один Обинар, питавший слабость к новому натурщику, пугался этих чудачеств и тихонько увещевал его:
— Не принимайте все на веру, ведь этого же не было на самом деле.
Однажды утром из соседней мастерской зашел апостол Петр, посланный с каким-то поручением. На голове его красовался огромный нимб из картона. Когда он уходил, Машелье, проводив его до самой двери, воскликнул: «Иди, Петр!» — таким проникновенным тоном, что старик опешил.
На улицах Машелье все время огорчался, что прохожие не обращают на него внимания; его мучило не уязвленное самолюбие, а сострадание к людям. Проходя мимо церквей, он озадачивал нищих непонятными речами, суля им в будущем величайшие блага.
— Подайте милостыню, Христа ради, — пристал к нему какой-то оборванец возле церкви Сен-Жермен де Пре.
Машелье показал ему на богача, который садился в свой роскошный автомобиль.
— Ты богаче его… в сотни раз, в тысячи раз богаче!
Нищий обозвал его дерьмом, и Машелье, понурив голову, удалился, не питая к нему злобы, но опечаленный до глубины души. Как-то вечером у себя в номере он стал вспоминать своих покойных родителей и задался вопросом, попали ли они в рай. Он обернулся было к своему изображению, чтобы помолиться о двух страждущих грешных душах, но тут же передумал и покачал головой с самодовольной улыбкой, как бы говоря: «Не надо. Я сам все улажу…»
Между тем главный фотограф, засняв своего любимца во всевозможных позах, извлек из этого персонажа все, что мог придумать, и понял, что вскоре придется его рассчитать. К тому же Машелье слегка разжирел, и даже для «Христа во славе своей» у него были слишком пухлые щеки. Однажды утром, когда тот позировал для поясного портрета с нимбом над головой и с большим картонным сердцем, привешенным на груди, в мастерскую зашел господин Нормат.
Проверив последние негативы, он указал на них Обинару.
— Они далеко не так удачны, как первые…
— Это верно.
— Я считаю, что серию Иисусов пора прикрыть. У нас достаточно богатая коллекция, мы заткнули за пояс всех конкурентов, и я, право, не представляю, что тут еще можно придумать.
— Я уж сам об этом думал, — вздохнул фотограф. — Видите, за последние три дня у меня ничего путного не вышло.
— Теперь вам следует заняться Иоанном Крестителем… На него сейчас большой спрос, а дело тут обстоит плачевно, я уже вам говорил. Надо подготовить к будущему месяцу побольше образцов для наших разъездных агентов.
— К будущему месяцу? Слишком короткий срок, мсье Нормат… Нужна редкостная удача, такая же находка, как этот мой Христос…
И Обинар бросил благодарный взгляд на своего натурщика, который нетерпеливо поглаживал картонное сердце, дожидаясь ухода господина Нормата. Машелье одинаково благожелательно относился ко всем, за исключением патрона. Он питал к нему неприязнь, смешанную с отвращением, и мечтал прогнать из храма искусства этого красномордого, пузатого торгаша. Обинар, глядя на свою модель, мучительно соображал, где бы раздобыть Иоанна Крестителя; вдруг его осенила блестящая мысль, и он кликнул помощника.
— Живо принеси мне бритву, кисточку и мыло для бритья.
И пальцем указал удивленному хозяину на Машелье.
— Такой, как теперь, он как раз подходит… Мы причешем его под Иоанна Крестителя. Вот увидите…
Оба вместе подошли поближе, и Обинар сказал Христу:
— Ну, вам здорово повезло… Сейчас вам сбреют бородку, и вы поработаете у нас еще недельку в роли Иоанна Крестителя.
Машелье, смерив патрона презрительным взглядом, с упреком посмотрел на Обинара.
— Я готов претерпеть любые муки, — ответил он, — но не позволю сбрить бороду.
Напрасно Обинар убеждал его, что для Христа он уже не годится, что единственный способ оставить его на работе — это причесать под Иоанна Крестителя. Машелье, смутно сознавая, что вся его святость заключена в бородке, уперся на своем:
— Я не позволю тронуть ни единого волоса в моей бороде.
— Опомнитесь, — уговаривал его Обинар, — будьте благоразумны. У вас же нет ни гроша, никаких надежд на заработок…
— Я ни за что не расстанусь с бородой.
— Вот упрямая скотина! — вмешался господин Нормат. — Пошлите его к черту. Дайте ему расчет и пусть сейчас же убирается вон. Экий болван!
Уплатив еще за два дня в гостинице, Машелье снова начал голодать. Сперва он несколько возгордился, но потом, все больше страдая от голода, стал сомневаться в своей божественной сущности. Наконец он вспомнил, что работал тапером, и повернул в сторону Монмартра. Его невольно тянуло побродить возле кабачка, где он впервые стал жертвой несправедливости. Машелье надеялся, что в своем столь бедственном положении он вызовет сострадание у тех, кто знал его прежде.
Он отправился пешком и, спускаясь к набережной по улице Бонапарта, во многих витринах узнавал свои изображения. Машелье видел, как он несет ягненка на плечах, как взбирается на Голгофу, изнемогая под тяжестью креста… Это умилило его и подбодрило.
— Как я страдаю! — простонал он, задержавшись перед своей фотографией в облике распятого Христа.
Перейдя через Сену, он снова увидел свои портреты на улице Риволи и дальше, возле Оперы. Машелье почти не ощущал голода, он шел не торопясь, всматриваясь в витрины, с волнением ожидая новых встреч с самим собою. Ему довелось еще раз полюбоваться своим ликом около церкви Троицы на улице Клиши. Добравшись до кабачка, где когда-то выступал пианистом, он поспешно прошел мимо, даже не заглянув в окно. Все было ему чуждо в этой части Монмартра, его тянуло подняться выше. От голода и усталости его била лихорадка, и он не раз останавливался передохнуть на крутом подъеме. Когда он наконец поднялся на вершину холма Мучеников, стало смеркаться. Лавочники около базилики уже начали убирать на ночь разложенные товары. На одном из лотков Машелье успел рассмотреть несколько фотографий, для которых он позировал у Обинара. Тут были «Добрый пастырь», «Пустите детей приходить ко мне», «Иисус в Гефсиманском саду», вся серия «Крестного пути», а в рамке черного дерева — увеличенный снимок «Распятого Христа». Маешелье был потрясен. Подойдя к каменной балюстраде и глядя с высоты на бурлящий внизу огромный город, он уверовал, что вездесущ. Последние лучи заходящего солнца обрамляли город узкой светлой лентой, внизу, в туманной мгле, зажигались далекие огоньки. Стараясь рассмотреть издалека пройденные им извилистые улицы, отмеченные, точно вехами, его изображениями, Машелье упивался сознанием, что слава его распространяется по всему городу. Ему чудилось, будто дух его витает в вечернем сумраке и смутный гул Парижа вздымается ввысь, словно хор славящей его толпы.
Было уже около восьми часов вечера, когда Машелье спустился с холма. Он позабыл о голоде и усталости, в ушах у него звенело, ему слышались ликующие песнопения. Встретив на безлюдной улочке полицейского, он робко направился к нему, простирая руки.
— Это я, — промолвил он с благостной улыбкой.
Полицейский пожал плечами и повернул в сторону, сердито ворча:
— Отвяжись, болван… Ступай проспись, нечего приставать к людям с дурацкими выдумками…
Озадаченный такой грубостью, Машелье застыл на месте и прошептал, покачав головой:
— Не ведает, что творит…
Его вдруг охватило беспокойство, он растерялся, хотел было вернуться на вершину Монмартра, но, не чуя под собою ног от усталости, поплелся по темной улочке, выходящей на освещенную площадь.
На бульваре Клиши Машелье смешался с толпой гуляющих. Никто его не замечал, а те, кто встречал его страдальческий взгляд, ускоряли шаг, боясь, что он станет просить милостыню. Измученный толкотней и давкой, дрожа от озноба, он присел отдохнуть на скамью. Его терзало одно сомнение, одна навязчивая мысль: «Отчего люди не узнают меня?»
Две уличные девки, слоняясь по бульвару, шутки ради пристали к нему.
— Эй, Ландрю[2], пойдем с нами! — окликнула его старшая, дернув его за бородку.
Обе девицы прыснули со смеху, а та, что помоложе, возразила:
— Да нет, это Иисус Христос, разве не видишь?
— Да, это я! — подтвердил Машелье.
Ободренный их словами, он поднялся со скамьи, чтобы благословить девиц, возложив на них руки. Но те убежали, заливаясь хохотом.
— Он еще накличет нам беду, этот Христосик, удирай скорее!
Машелье понял, как трудно убедить людей в том, что он сошел к ним с небес. Он решил сначала объявить благую весть нищим и убогим и, свернув с бульвара, пошел искать их по городу. Но он нигде не встречал бедняков, ни один нищий не попался ему на пути. Машелье громко выражал свое недоумение, останавливал прохожих, допытываясь, не видал ли кто из них нищих и убогих. Прохожие не понимали его. Они даже не знали, есть ли в городе нищие.
Было около полуночи, когда Машелье добрался до моста Святых Отцов. Он не ощущал ни голода, ни усталости — ничего, кроме тревожного нетерпения. Он помнил, что до встречи с Обинаром нередко ночевал под этим мостом, и надеялся найти там бедняков. Однако, сойдя на берег, убедился, что их прежнее логово опустело. Машелье почувствовал себя таким одиноким, всеми покинутым, что чуть не разрыдался. Но вот на другом берегу к воде стали спускаться какие-то люди, ища пристанища под сводом моста. Машелье взмахнул рукой и громко крикнул:
— Это я!
Бродяги остановились, не понимая, откуда доносится голос, гулко раздававшийся под каменной аркой.
— Это я! Не бойтесь! Я иду…
Он поспешно спустился по узкой лесенке прямо к воде.
— Я иду к вам!
На миг бродягам почудилось, будто Машелье идет к ним по водам, а когда на поверхности реки не осталось ничего, кроме ряби, они не могли понять, то ли они видели это наяву, то ли это предвещало им ночные сновидения, чтобы они могли позабыть о своей горькой доле.
Три случая из уголовной хроники
Темной ночью на перекрестке встретились два убийцы. Они пробирались в темноте с такой осторожностью, что столкнулись лицом к лицу, даже не услышав чужих шагов. Оба в испуге отшатнулись, и каждый принял это за угрозу. Тот, что был повыше, с плечами борца и головой горошиной сжал увесистую дубину, которую еще минуту назад небрежно вертел в руках. Второй, маленький и сухощавый, раскрыл карманный нож. Оба замерли, готовые к обороне, подобравшись и вытянув шеи, вслушиваясь в сдавленное дыхание противника. Они были словно две неясные тени с лихорадочно горящими глазами. Наконец человек с палкой жалобно застонал сквозь стиснутые страхом зубы. Второй облегченно вздохнул.
— Мое имя Финар, — сказал он. — Это случилось сегодня вечером, без четверти девять.
Человек с головой горошиной тоже вздохнул и опустил дубину.
— Меня зовут Гонфлье. Со мной это тоже случилось ровно без четверти девять.
С минуту они молчали, не зная, чем обернется их встреча.
— Так, так, — прошептал Финар, — что же ты собираешься делать?
Гонфлье широко развел руками, выражая таким образом свою растерянность и усталость.
— Не знаю. Иду куда глаза глядят. И отшагал уже немало. А свернуть с дороги страшно.
— Мне тоже. Но не худо бы податься в лес.
— Может, пройдем немного вместе? — робко предложил Гонфлье.
Они сделали несколько шагов, всматриваясь в темноту, рассеченную смутно белеющим перепутьем. Выбрав одну из дорог, они пошли гуськом по росшей у обочины траве, приглушавшей шаги. Гонфлье, широко шагая, шел впереди, его крошечная голова растворилась в ночной тьме. Минут пять они шли молча, но вдруг Финар тронул Гонфлье за плечо и сказал вполголоса:
— Интересно…
Гонфлье подпрыгнул, завопив с перепугу, и обернулся, высоко занеся дубинку… Финар спросил сдавленным голосом:
— Что… Что такое? Кто там?
— А, это ты! — пробормотал Гонфлье. — Что за черт, я совсем про тебя забыл. Мне показалось… господи, мне показалось…
Он отер рукавом струившийся по лицу пот.
— Кстати, что ты хотел сказать? Ты сказал: «Интересно…»
— Не помню… Да нет, просто захотелось поболтать. Ты-то все молчишь. И что толку, что нас теперь двое, мне еще страшней, чем раньше. Может, поболтаем немного. Я тебе сказал — меня зовут Финар.
— Да, Финар, тебя зовут Финар… Я знал многих по имени Финар. Есть даже один, который торгует вином, и дела у него идут неплохо. Помнится, я как-то купил у него бочонок белого. Финар его зовут. Точь-в-точь как тебя. Есть и еще Финары.
— Это ясно, Финаров на свете много. А вот Гонфлье ни одного не знаю. Гонфлье. Да разве все имена упомнишь… Верно? А хочешь, я пойду первым?
— Хочу, — поспешно согласился Гонфлье. — Ночь темная…
— Хорошо еще ночь за нас, — сказал Финар, шагавший теперь впереди. — Но ведь она кончится…
Он осекся, а его собеседник ничего не ответил на эти слова, от которых над насторожившимся полем уже как будто забрезжила кровавая уголовная заря. Но скоро тишина показалась им невыносимой. Финар остановился и сказал почти шепотом:
— Хочешь узнать, как все случилось?
— Как случилось… Нет, погоди. Давай, я начну и расскажу все, как было.
— Сначала я. Слушай, и ты сразу поймешь…
— Нет, я первый. Это недолго…
Финар рассердился и заметил, что он первым предложил признаться во всем друг другу.
— Ладно, — согласился Гонфлье, — только побыстрей.
Финар взял его под руку и после недолгого колебания, смущенный тем, что ему предстояло сказать, начал:
— На самом деле я совсем не плохой человек и никто никогда меня плохим не считал. Когда я был парнишкой…
— Короче, — оборвал его Гонфлье, — не хватало еще, чтобы ты начал со своего первого причастия!
— Чтобы установить истину, надо начать с начала… В общем, пять лет назад…
— Ближе к делу, черт возьми, ближе к делу! Так ты никогда не кончишь…
— Хорошо, два года назад… Не скандаль! Порешим на двух годах. Так вот: два года назад я встретил женщину. Блондинку, понимаешь — блондинку. Только в такую ночь, как сегодня, можно себе представить, что это была за блондинка. А красивая… Кожа золотистая. Не знаю, с чем и сравнить, и вообще…
Размечтавшись, он смолк, и Гонфлье мгновенно воспользовался этим.
— А вот моя жена была не совсем блондинкой. Если приглядеться хорошенько, она была скорее брюнетка…
— Не встревай, так я никогда не расскажу. Ну вот, теперь ты знаешь, какая она была. Красавица…
— Все понятно. Ни с того ни с сего ты стал ревновать, так всегда бывает. А вот моя жена…
— Я тебе говорю не о твоей жене, я тебе говорю о блондинке. Я влюбился в нее как безумный с первого взгляда. Но я был женат и у меня была шестилетняя дочка. Ну и что? Ты скажешь, не надо было? Согласен, не надо, но когда человек влюблен, все летит вверх тормашками.
— Это точно. Со мной-то ведь это и случилось, когда я был женат. Представляешь…
— Заткнись, ты же видишь, я еще не кончил. Блондинка была вдовой, и мне это вышло боком, и ты скоро поймешь почему. Сначала все шло как надо. Я навещал ее два раз в неделю, вечером, и возвращался к жене около двенадцати, как будто засиделся за картами в кафе. Это было удобно, но блондинке взбрело в голову, что я должен приходить к ней каждый вечер. Я-то этого не хотел, во-первых, из-за жены, и потом — каждый вечер для человека, верного своему супружескому долгу, это тяжеловато.
— Тут она подняла крик и ты ее случайно прикончил. А я…
— Да нет же, не приканчивал я ее. Я сделал так, как она хотела. Но жена все поняла, да и совесть меня грызла, честное слово. Я никогда не возвращался позже полуночи. Зачем мучить людей, если этого можно избежать? Повторяю, у меня всегда было доброе сердце. Но блондинке все было мало, и она решила, что я должен проводить с ней все ночи до самого утра. Согласен, со мной ей было неплохо, но все-таки… и потом — причинять человеку такие беспокойства!
Я упирался целую неделю, но в конце концов, что поделаешь, она меня уговорила. Для человека, который любил свою жену так, как я, это было нелегко. А потому, поверь мне, блондинке тоже приходилось несладко. Бывали случаи, что мы ругались, да так…
— Чего уж там, — сказал Гонфлье, теряя терпение, — ссорились, ссорились, ты ее и прикончил!
— Погоди, дай объясню. На прошлой неделе она мне сказала: «Так продолжаться не может» — ее знакомым вся эта история казалась странной, и в каком-то смысле она была права. Мне пришлось выбирать: либо порвать с блондинкой, либо оставить дом и жену и переселиться к ней. Я послал ее к черту, она настаивала, я не на шутку разозлился, назвал ее шлюхой и…
— Тут-то ты ее и прикончил, — удовлетворенно заключил Гонфлье. — А я…
— Погоди, слова не даешь сказать. Позавчера вечером она захлопнула дверь у меня перед носом, и, чтобы ее ублажить, пришлось пообещать, что со следующей недели я перебираюсь к ней. Я всегда был человек порядочный и не мог же я взять свои слова обратно, но, поверь, я не пришел в восторг от того, что случилось…
— И наконец-то ты ее…
— Но прежде всего мне следовало предупредить жену, и это мне было труднее всего. Конечно, я мог уйти потихоньку, но это было бы слишком невежливо. В тот вечер она сидела с малышкой за столом прямо напротив меня. Я качался на стуле и как мог оттягивал начало разговора. «Мари, — говорю я ей, — Мари», но дальше дело не двигалось. Она глядела на меня так, что мне было за нее больно. Мое сердце дрогнуло. Я встал, взял большой кухонный нож и вонзил ей в грудь. Я уже не знал, где я и что делаю. Я все нажимал на нож, и все гладил ее по голове. Она смотрела на меня ласково, понимаешь. И вот глаза закатились. Умерла, и все тут.
Финар глубоко вздохнул и устало продолжал:
— Только когда я услышал, как плачет малышка, мне стало страшно. Я взял со стола кусок хлеба и вышел, заперев дверь…
— Сколько все-таки горя на свете, — сказал Гонфлье.
— А ты как думал? Такая добрая женщина! И надо же было, чтобы с ней такое случилось! Но я не виноват. Не виноват…
— Чему быть, того не миновать. А вот я до вчерашнего вечера вовсе не подозревал…
— Нет, ты вот мне ответь, прежде чем говорить о себе! Ты про мое потолкуй! Разве я желал плохого своей жене? Разве я виноват? Ты же видишь, что я вовсе не злодей!
— Я и не говорил, что ты плохой человек, — согласился Гонфлье. — Просто ты точь-в-точь как я. Вот я тебе расскажу…
Финар смирился не сразу. Он жаловался, что его торопили, и хотел рассказать все сначала. Но Гонфлье рассердился.
— Во всей округе, — начал он, — не найдешь человека мягче меня. За всю свою жизнь я мухи не обидел. Я мог разреветься из-за сущей чепухи, и на похоронах меня всегда ставили сразу за самой близкой родней. И все потому, что я был такой мягкий.
— Ну уж, — возразил Финар. — А может, ты был просто хорошо одет.
— И это тоже. Но я не сочиняю, я действительно был человек мягкий. Спроси у любого, кто знал Гонфлье.
— А я? — воскликнул Финар. — Может, ты скажешь, что я не был мягким?
— Но не таким, как я. Ты уж не обижайся, но это просто невозможно.
— Ты-то откуда знаешь? Погоди, я тебе сейчас хорошенько объясню, как все было. Уверен, ты многого не понял…
— Не морочь мне голову со своей женой, — сказал Гонфлье. — Лучше слушай.
Припоминая случаи десятилетней давности, он принялся подробно рассказывать о семейных интересах, лугах и плохом уходе за скотом. Трагедия произошла вечером, без четверти девять.
— Вхожу я в хлев и тут же замечаю, что коровам не задан корм. Представляешь? Я вошел в раж. Иду на кухню. Жена там, и детишки к ней жмутся. Конечно, я был злой как черт из-за скотины и прямо так жене и сказал: «Чем вертеться на кухне, ходила бы луч ше за коровами». Любая бы на ее месте стала оправдываться, плести что-нибудь. А эта? Представляешь? Расхохоталась и ни слова. Мне, конечно, тут бы ей и размозжить голову, но я никогда не мог ударить женщину. Это не в моей натуре. Я ей и говорю: «Может, ты мне все-таки ответишь?» А она еще пуще хохочет. Не помню уже, что я тогда сказал, но только схватил топор и порубил всех троих, жену и детишек.
— Да, надо признать, ты поспешил, — сказал Фи-нар. — Это, конечно, не упрек, но ты поспешил.
— Ничего ты не понимаешь, — простонал человек с головой горошиной. — Откуда тебе знать…
— Можно убить жену, тут уж никуда не денешься. Но детей… Никогда!
— Вот видишь, ловлю на слове: это только показывает, что я не злодей, а просто-напросто потерял голову. Разумный человек никогда бы не сделал ничего такого. Да поставь ты себя на мое место! Нет, тебе просто лень пошевелить мозгами!
— На твоем месте, — сказал Финар, — я вел бы себя приличнее. Так-то.
— А сам прикончил жену и не можешь даже оправдаться тем, что был не в себе. Скажешь, нет?
— Что верно, то верно, но я и пальцем не тронул малышку.
— Нет, не тронул, только вот запер ее одну вместе с трупом матери. Я бы себе такого никогда не простил… Никогда!
— Однако ты прощаешь себе убийство собственных детей, которые ничего плохого тебе не сделали… Что? Прощаешь?.. Скажи, не стесняйся.
Гонфлье бил себя в грудь и клялся, что совесть его замучила.
— Это неважно, — продолжал Финар. — Все равно ясно, что ты не так горюешь, как я. Говоря по правде, не стоит и сравнивать.
Они долго оспаривали мученический венец. Они рассказывали о свих страданиях так проникновенно, что в конце концов разразились рыданиями. Они утешали друг друга, похлопывая друг друга по спине. Впереди над дорогой встала луна, осветив плоскую равнину, перечеркнутую полосой леса. Финар успокоился первым, не преминув, однако, заметить, что, хоть он и превозмог боль, душа его по-прежнему страдает.
— Слезы всегда в помощь. Но во всем нужна мера, — добавил он.
— Это верно, — согласился Гонфлье, — надо держать себя в руках.
Склонившись над Финаром, он внимательно разглядывал при лунном свете своего собеседника. У Финара был низкий лоб, бульдожья челюсть, красивые черные усы и большой нос.
— Ты совсем как я, — сказал Гонфлье. — С таким лицом людей не убивают.
Между черными усами и бульдожьей челюстью промелькнула застенчивая меланхолическая улыбка.
— Мы оба не заслужили того, что с нами случилось. Мы были тихими парнями, а ведь, как назло, именно лучшим достаются самые плохие жены… Ты не замечал?
— Тысячу раз! У меня был дядя. Ты не представляешь, какой был добряк! Но жена все равно ела его поедом, ничего не оставалось, как похоронить ее заживо… Слава богу, про это знали только в округе, вот так…
Дядюшкина причуда развеселила Гонфлье и Фина-ра, и оба захихикали.
— А все-таки здорово, что мы повстречались в такую тяжелую минуту, — сказал Финар.
Они дружески переглянулись, радуясь, что им больше не придется страдать в одиночестве. Их связывало не только сходство их историй, но и взаимопонимание. Оно заглушало угрызения совести. Они свыкались с мыслью о своих преступлениях, сложив всю ответственность на судьбу. Они чувствовали себя отвергнутыми, оторванными от привычной жизни и мало-помалу обживались в новом необычном мире. Теперь они спокойно слушали взаимные исповеди, стараясь обнаружить в них доказательства своего добросердечия.
— За все хорошее, что я сделал в жизни, — говорил Гонфлье, — мне многое можно было бы простить.
— Мне тоже, — вторил ему Финар. — Как только подумаю обо всех добрых делах, что я сделал и что мне никогда не зачтутся… Но такова жизнь: благодарности не жди… Ты это знаешь не хуже меня…
— И стоит на один только вечер устать от своей доброты, как все остальное уже не идет в счет.
Они пролили еще немало слез, оплакивая собственную доброту и людскую неблагодарность, время от времени взывая к неведомой справедливости, которая была не божьей и не людской, к справедливости, скроенной по мерке того нового мира, который они сами себе придумали. Тишина кругом стояла такая, что им легко было поверить, будто они одни на всем свете, и они почти в это верили. Отпустив друг другу грехи и установив непреднамеренность своих действий, приятели окончательно ободрились. Они уже не бежали от опасности, а, напротив, торжественно шествовали к земле обетованной, в рай, который находился неизвестно где, но был весь озарен светом их доброты.
Они шли быстро, как будто боялись опоздать.
Метров через двести-триста дорога уходила в лес, и они с надеждой и уверенностью смотрели на мрачные очертания верхушек деревьев, вырисовывавшиеся на светлом ночном небе. У самого леса Финар предложил передохнуть: он вытащил из кармана кусок хлеба и, разломав на две части, взял себе меньшую.
— Что сделано, то сделано, — вздохнул он, усаживаясь рядом с Гонфлье на краю канавы, — и больше об этом ни слова. Все случилось помимо нашей воли, и нам остается только сожалеть.
— Ну, уж нас не упрекнешь в том, что мы не сожалеем…
— Что-то мы раскисли. Главное — быть благоразумнее! Разговорами сыт не будешь.
— Главное, теперь ясно, что мы совсем не злодеи. Знавал я людей, которые не могли бы так сказать, хотя, по их словам, они никогда не сделали ничего плохого. И не одного такого я знал, всех и не перечтешь…
И, представив себе этих негодяев, Гонфлье гневно впился зубами в свою краюшку.
Финар ласково сказал:
— По-моему, уж лучше оказаться в моей шкуре!
— И по мне тоже! Подумать страшно, что я мог жить с такими людьми!.. Слушай, я ведь вовсе ни о чем и не жалею!
— Это так, никуда тут не денешься, — вздохнул Финар. — По счастью, не все люди такие. На тысячу всегда найдутся один-два, которые чего-нибудь да стоят.
«— Хотел бы я на них посмотреть! — сварливо запротестовал Гонфлье.
— Достаточно вспомнить тех несчастных, которые, как мы, ищут убежища ночью в лесу или в каком-нибудь уголке поукромнее только из-за того, что в один прекрасный день, когда они вдруг рассердились на жену, друга, тещу или когда просто не хватало денег, под руку им попался нож, а может, и топор. И такие есть, да, такие есть…
Гонфлье, тронутый описанием подобных злоключений, впал в задумчивость.
— И ты думаешь, их много?
— Ну еще бы… Ты только посмотри уголовную хронику в газетах: каждый день новые случаи.
— Значит, — сказал Гонфлье, — то, что мы сделали, тоже случай из уголовной хроники?
— Именно.
Приятели обменялись задушевными улыбками и на минуту приумолкли, погрузившись в размышления.
— Мы встретились — вот тебе и доказательство, что таких в самом деле много, — ответил Финар. — Можешь не сомневаться, есть еще, а если всех собрать вместе — представляешь, какая будет толпа. Не один город понадобится, чтобы всех разместить.
— Город… — прошептал Гонфлье, — город, где будут только свои…
— Я привел бы туда блондинку, — мечтал Финар.
— А у меня полон дом был бы ружей, ножей, топоров…
Они снова тронулись в путь, но и двух минут не прошло, как до них донесся звук шагов, и метрах в пятидесяти от них из лесу вышел человек. Пока они различали только неясный силуэт, терявшийся среди теней, падавших от деревьев на освещенную луною равнину. Финар и Гонфлье стали посреди дороги как вкопанные, по спинам забегали мурашки, от одного вида этого призрака из мира, о котором они уже было сочли себя вправе забыть. Они и не думали бежать или хотя бы договориться о чем-нибудь; им даже не было страшно. От удивления они онемели.
Человек приближался быстро. Теперь, когда он вышел из тени, их разделяло не более тридцати метров.
Разглядеть его лицо против света было трудно, но походка и яростная жестикуляция выдавали крайнее волнение.
Гонфлье и Финар, затаив дыхание, с любопытством глядели на этого посланца далекого мира. Незнакомец был без шляпы и говорил вслух, размахивая руками. Слов они не разбирали, слышали только хриплый голос, то жалобный, то угрожающий. Неожиданно Фи-нар сжал руку Гонфлье и возбужденно шепнул:
— Он из наших. Такой же несчастный, как мы. Приглядись, послушай…
— И правда, — пробормотал Гонфлье, — не очень-то он спокоен.
— Точно, точно, это видно с первого взгляда!
Приятели растроганно засмеялись. Они не помнили себя от радости. Их город начинал заселяться, их мир становился реальностью, и в порыве вдохновения они уже представляли себе синклит убийц и прочих отщепенцев, собравшийся на залитой лунным светом равнине. Они зашагали навстречу незнакомцу, и Финар положил ему руку на плечо, но, заметив булавку в галстуке, а также блеснувшую золотом тройную цепочку часов, приветливо и почтительно произнес:
— Итак, я вижу и вы тоже…
— Вы тоже? — эхом отозвался Гонфлье.
Мужчина поднял глаза и равнодушно взглянул на двух незнакомцев, стоящих перед ним.
— Мой бедный друг, — продолжал Финар, — конечно, во всем опять виноваты женщины?
— Да, женщины… — сочувственно прошептал Гонфлье. — Все они!
При этих словах человек встрепенулся и сказал устало:
— Женщины, о да! Женщины…
Однако, когда Гонфлье фамильярно взял его за руку, он отстранился.
— Пустите меня, — сказал он.
Но с обеих сторон на него излился такой поток нежности, что он не мог устоять. Финар тоже взял его за руку и вздохнул.
— И мы, мы оба прошли через это… И тоже сегодня вечером.
— Что такое горе, мы и сами знаем, не сомневайтесь…
— Из-за женщин, — сказал Финар, — чего только не бывает. Вон Гонфлье расскажет вам об этом не хуже меня. Хорошим парням не везет, примером тому мы трое. Достаточно посмотреть на ваш профиль, и станет ясно, что вы не заслужили того, что с вами случилось. Бьюсь об заклад, как раз наоборот.
Мужчина повис на руках у наших приятелей. Он беззвучно плакал.
— Давайте, давайте, вам станет легче, вот увидите. Мы-то уж отплакались, — сказал Гонфлье.
— Самое лучшее — это довериться друзьям, — посоветовал Финар.
Мужчина покачал головой и заморгал мокрыми от слез глазами.
— Меня зовут Ланжло, — сказал он. — У меня шестьсот тысяч франков ренты.
Гонфлье восхищенно выругался. Финар опечаленно пожал плечами и прошептал:
— Как хотите, но попасть в этакую переделку, когда ты так богат, просто обидно.
— Я говорю это, чтобы вы лучше меня поняли. Год назад я повстречался с женщиной и оказался настолько неосторожен, что стал за ней ухаживать. У нее были красивые глаза и нежный голосок. И вот сейчас, в лесу, я понял, что из-за него-то я и погиб. Я не мог больше слышать этот голос, такой нежный и певучий.
— Чувствам не прикажешь, — заметил Финар. — Обычный случай.
— Я говорил ей, что люблю, а она смеялась в ответ: «В самом деле?» Боже мой…
Ланжло собрался было зарыдать, но Гонфлье помог ему прийти в себя.
— Смелее, смелее. Будьте тверже! Подумаешь, женский голос!
— В том-то и дело, что женский голос, эх вы! Я был холост, и понятно, почему я так боялся заговаривать о свадьбе. Когда у тебя шестьсот тысяч франков ренты, то невольно призадумаешься, стоит ли их разбазаривать. Да, я был совершенно прав, что не хотел спешить. Но кто знал… Наконец я согласился, поддавшись на уговоры нашего общего друга, у которого была этакая рыжая шкиперская борода…
И, сжав кулаки, Ланжло завопил дурным голосом, явно непривычным к такого рода фиоритурам.
— Грязный тип! Я эту твою бороденку по волоску повыдергаю! Мерзавец! Ну попадись мне только в темном переулке… Я тебя заставлю просить прощения… Ты у меня попляшешь! Я тебе оторву голову вместе с твоей рыжей бороденкой!
— Нет, нет, — по-отечески утешая, возразил Гонфлье, — вы этого не сделаете.
— Как не сделаю? И глазом не моргну, слышишь! Оторву ему…
— Это будет просто неблагоразумно, — сказал Финар. — Надо уметь довольствоваться малым. Не думайте вы больше об этой проклятой рыжей бороденке…
— Не думайте… — злорадно усмехнулся Ланжло. — Сначала послушайте, что было дальше. Итак, это ничтожество меня убедило. По его словам, она была само совершенство. Я слушал развесив уши, да к тому же она и вправду была привлекательна. Само собой разумеется, у нее не было ни су за душой; в этом смысле надежды возлагались на ее дядю по материнской линии — она не без умысла называла его «мой старый дядюшка», но ему от силы было сорок пять, и вдобавок он был здоров как бык. Но мне бы и в голову не пришло хоть раз упрекнуть ее в чем-то, если бы она вела себя достойно, как полагается супруге. Сейчас я взбешен, хотя я совсем не злой человек…
— Мы тоже! — воскликнули Гонфлье и Финар. — Разве может кто-нибудь быть добрее нашего брата!
Ланжло горько усмехнулся и, позабыв про свой рассказ, погрузился в мрачную задумчивость.
— Это не все, — сказал Финар. — Вам осталось самое главное.
— Верно — самое главное и самое печальное. Итак, в конце прошлого года я женился. Прекрасное зрелище, и народу в церкви собралась целая толпа. Он был свидетелем… Мерзавец! А потом все время терся у нас. Он был другом дома — короче говоря, спал с моей женой!
— Положа руку на сердце, — сказал Финар, — я ждал этого с самого начала.
— А я, — сказал Гонфлье, — как только вы заговорили о том, что оторвете ему голову, тоже кое-что заподозрил.
— Забавно. А вот я, который видел их каждый день, я и подумать об этом не мог. Да что там, я был совершенно счастлив с женой. Я любил ее еще больше, чем до свадьбы, и день ото дня все сильнее. У нее был такой нежный голос… нет, есть вещи, о которых словами не скажешь, их и представить-то себе нелегко: ведь замужество придает голосу хорошенькой женщины нотки, которые по соображениям скромности не подобают благовоспитанной девице. Я был уверен, что в мире нет никого счастливее меня. И подумать только, у нее — любовник… Но я так бы ни о чем и не догадался, если бы не случай. Я иногда уезжал по делам дня на два, на три. В этот вечер я вернулся на день раньше, чем предполагал. Погода была хорошая, и от вокзала я пошел пешком…
— Прошу прощения, — прервал его Финар, — но в котором часу вы подошли к дому?
— Если память мне не изменяет, было ровно без четверти девять.
— Точь-в-точь как у нас! — воскликнул Финар. — Без четверти девять. Я так и думал!
— Вот это лихо! — ликовал Гонфлье. — Точнехонько без четверти.
Восхищенные совпадением, приятели смеялись и щипали друг друга за спиной Ланжло. Последний, неприятно пораженный столь неуместным весельем, сухо произнес:
— Когда вы заговорили о признаниях, я и не подозревал, что вы просто хотели поразвлечься. И я сожалею…
— Только не обижайтесь, — сказал Финар. — Мы с Гонфлье смеемся потому, что та же история произошла с нами в тот же самый час. Но, честное слово, никто из нас в душе не смеется над вами. Вы говорили, что от вокзала пошли пешком…
— Да, я хотел сделать жене сюрприз и проскользнул в дом, никем не замеченный. Поднимаясь на второй этаж, я услышал в ее спальне мужской голос; открываю дверь и вижу его, совершенно голого, в одной только рыжей бороденке. Поймите меня. Совершенно голый при моей жене! Невероятно, не правда ли?
— Такие вещи берут за живое, — сказал Финар. — Это почти неизбежно.
— Я, ее муж, и то ни разу не позволил себе такой вольности. Представьте себе, мне это и в голову не приходило, вот что самое возмутительное… Жена сидела на ковре, как она была одета, это вы уж можете вообразить. Она как будто немного смутилась, но не слишком. «Видишь ли, — говорит она, — я решила пригласить нашего друга…»
— Да, вот они, женщины, — заметил Гонфлье.
— И когда я услышал ее голос, этот знакомый голосок… Боже мой, когда я его услышал…
Он умолк, подавленный живостью своих воспоминаний, и Финар, сгорая от нетерпения, спросил:
— Ну, и?..
— И?.. — вмешался Гонфлье.
Ланжло вытер пот со лба и едва выговорил:
— Я не мог этого снести… Я убежал…
Финар и Гонфлье застыли посреди дороги. Ланжло по инерции остановился тоже, размышляя над своим несчастьем. Но вдруг молчание спутников показалось ему подозрительным. Он поднял голову и увидел две пары пристально глядящих на него глаз. Человек с головой горошиной наклонился к нему и прорычал:
— Какого же черта ты пристал к нам?
— Прошу прощенья, — пробормотал Ланжло, — наверное, уже поздно. По-моему, следовало бы подумать…
Он неловко вытащил часы и собрался идти дальше, но четыре руки пригвоздили его к месту. Он задрожал.
— Но вы оба только что говорили со мной так ласково…
Гонфлье вырвал у него часы и брякнул их о землю. Финар злобно ухмыльнулся и ответил:
— Взгляни на меня. Разве при такой роже можно быть ласковым? А при таком рыле, как у него? А? Значит, ты убежал… так, так, ну что же, убежал, значит…
Разочарованные убийцы, кипя от ярости, упивались страхом предателя.
— Отпустите меня, — сказал Ланжло.
— Ты хотел бы вернуться туда? — сказал Гонфлье. — А? Ты хотел бы вернуться к ним?
— Он боится, что его женушка станет волноваться, — съязвил Финар. — Насчет этого по крайней мере наш брат спокоен.
— Я подумал, что встретил друзей. Я говорил с вами как с друзьями.
— Для тебя здесь нет друзей, — сказал Финар. — Я, например, только что убил свою жену.
— Это неправда, — простонал Ланжло. — Я в это не верю.
Приятели разразились веселым смехом, и Финар продолжал:
— Я расскажу тебе все, как было. У меня нет от тебя секретов. Ну-ка присядь.
— Пустите меня, вы не имеете права меня держать!
— Поможем ему сесть, а то он стесняется… вот так. Значит, я говорил, что недавно убил жену. Я мечтал об этом уже много лет, и наконец на прошлой неделе я решил, что настало время свести счеты. Сегодня утром я наточил большой нож и даже упросил жену покрутить точило. И вот, когда она убирала со стола, я говорю: «Дай-ка мне нож, который я наточил утром». Она достает орудие убийства из шкафа, передает его мне и спрашивает: «Зачем тебе нож?» В ответ я улыбнулся так хитро, что мне даже захотелось взглянуть на себя в зеркало. «Ты не догадываешься, зачем мне нож?» И тут она поняла. Я пускал ей кровь целых десять минут.
— Мне нужно идти… Я дам вам денег… Вы совсем не злые люди…
— Верно, — сказал Гонфлье, — не злые, а только справедливые. Я не то чтобы имел зуб на жену или детей, но мне просто хотелось убивать. У всех свои недостатки, и против природы не попрешь. Возвращаюсь сегодня и вижу — вся моя семья в сборе за столом, а на табуретке лежит топор. Момент показался мне таким удобным, таким подходящим, что я тут же засучил рукава. Даже жене, которая оказалась поживучей детей, хватило одного удара. А когда все трое были готовы…
Ланжло скулил еле слышно, как в агонии. Неожиданно он рванулся и выскочил на дорогу. На его стороне была внезапность, да и до леса оставалось не более трехсот метров; зато у Гонфлье были длинные ноги, а Финар отличался проворством. Ланжло летел сломя голову, крепко сжав зубы и не оглядываясь. Какое-то время исход бега оставался неясен, но на последних ста метрах дыхание подвело друзей, без устали проклинавших беглеца и суливших ему самые жестокие пытки вроде выковыривания сердца при помощи зубочистки. Когда Ланжло скрылся в лесу и убийцы присели у края дороги перевести дух, Финар сказал Гонфлье:
— Это ты виноват. Так разболтался, что не заметил, как он вырвался…
— А ты? Сам хорош, усыпил нас своими бреднями. Прикончил бабу и воображает.
— Я все сделал правильно, я не такая скотина, как ты.
Притаившись у края просеки, Ланжло следил за ссорой убийц. Он видел, как взметнулась дубинка, блеснуло лезвие ножа, и, когда оба улеглись рядом на дороге, направился домой с легким сердцем, почти бегом, поклявшись никогда больше не ходить ночью в лес. Недавнее приключение открыло ему, что роли обманутого мужа еще вполне можно позавидовать, и с тех пор он не уставал благодарить судьбу, наградившую его женой с голосом сирены и верным другом с огненно-рыжей бородой.
Доспехи
Почувствовав приближение смерти, коннетабль сказал своему королю:
— Государь, мне не встать уже с этой постели. На душе у меня тяжело, меня терзают угрызения совести: прошлой осенью, вернувшись из похода, я совратил королеву с пути супружеской верности.
— Ну и ну! — воскликнул король. — Вот уж этого я никак не ожидал.
— Ваше величество меня не простит…
— Послушайте, Гантус, вы должны согласиться, что дело это весьма щекотливое. Но, с другой стороны, поскольку вы при смерти…
— Ваше величество слишком добры. Вот как было дело. Выйдя из зала королевских телохранителей, я заблудился и метался по дворцовым покоям в поисках выхода. Я был в воинских доспехах, еще носивших следы мощных ударов, которые мне пришлось выдержать во славу вашего оружия. И вдруг я наткнулся на королеву: она сидела у камина и вышивала по тонкому белому полотну.
— Не иначе как рубашку ко дню моего рождения: монограмма с гирляндой из маргариток.
— Ах, государь, я уже краснею от стыда… да, это была та самая гирлянда. Для меня лагерная жизнь привычнее, чем дворцовая, так что сперва я не узнал нашу милостивую монархиню в этой прекрасной молодой женщине с такой великолепной фигурой, с таким нежным лицом…
— Гантус, прошу вас, воздержитесь от подобных комплиментов: это не что иное, как оскорбление величества.
— Я спросил ее, как мне выйти из дворца. Она очень любезно ответила мне, и тогда я заговорил с ней развязным тоном, а затем (пусть ваше величество обрушит на меня самые ужасные проклятия!) начал слегка с ней заигрывать. Надо вам сказать, что железные рукавицы я снял. Но разве я мог предполагать…
— Когда не знаешь, — согласился король, — ошибиться легко.
— Удивленная этими вольностями, к которым не приучил ее придворный этикет, королева защищалась только оружием целомудрия. А я, как бравый вояка, каким был всегда, не обращая внимания на ее смятение, дерзко и настойчиво добивался цели. Ну, словом, вы знаете, как это бывает.
— Конечно. Рукам воли не давай, как говорится. Но ведь вы как будто сказали, что на вас были боевые доспехи.
— Увы, государь…
— Ага!
— Я сказал «увы», но не истолковывайте превратно мое сожаление, ваше величество, ибо именно эти доспехи побудили меня совершить вероломство. Вы сейчас поймете, почему. Я в конце концов узнал королеву по медальону, висевшему на ее августейшей груди: он раскрылся, и я увидел ваш портрет. Ах, зачем не бежал я в ту же минуту? Но я был воспламенен этими первыми ласками, лицо мое пылало под полуспущенным железным забралом, и сам не знаю, что внушило мне столь коварное намерение. Была поздняя осень, дневной свет слабо проникал в комнату, а красное пламя камина бросало на все предметы резкие и мерцающие отблески, искажая их формы.
Король нетерпеливо поморщился, а Гантус счел долгом извиниться за свое красноречие.
— Я сказал это не ради поэтического пустословия, а чтобы вам стало понятно, почему удался мой обман. А вообще поэзия всегда меня раздражала, и когда я застаю какого-нибудь лейтенантика за стихоплетством, я сажаю его на две недели в карцер, так уж у меня заведено. Я не потерплю…
— Ближе к делу, Гантус. Ведь вы можете скончаться с минуты на минуту.
— Сейчас, сейчас. Растревоженная королева билась в моих руках, окованных железом, и тогда я слегка разжал свои объятия и сказал, подражая вашему голосу: «Неужели, сударыня, вы не узнаете нежного супруга под солдатской броней?»
— Гантус! — вскричал король. — Вы омерзительны! Вы развратник! Вы гнусный предатель!
— А что я говорил вашему величеству? Вот вы сами видите!
— А потом?
— Лицо королевы сразу просияло, хотя она оглядывала меня с некоторым удивлением. Ведь у вашего величества и у меня фигуры разные. Я выше ростом, шире в плечах.
— Ненамного, Гантус, ненамного.
— Конечно, ошибиться было легко, и доказательство тому…
Коннетабль опустил глаза, ему было неловко. Наступило минутное молчание.
— Дальше? — произнес наконец король.
— Дальше? Мне оставалось только задернуть занавеси, задвинуть засовы и стянуть с себя доспехи, которые начинали порядком меня стеснять. Замечу, кстати, что в темноте это было не так-то просто…
— А Адель?
— Королева Адель… Ну, что я могу вам сказать? Было совсем темно, а в такие минуты теряешь голову. Но в одном могу вас уверить: королева не заподозрила подлога. Я ощупью снова натянул шлем, набедренники и все прочее и пустился наутек. Представьте себе, выходя, я заметил, что надел наколенники шиворот-навыворот, так что мне пришлось шагать, не сгибая ног. Забавно, правда?
Король большими шагами ходил по комнате и ворчал, что его почти обесчестили. Но поскольку у него был большой запас оптимизма и он видел отчаяние самого прославленного своего полководца, он приблизился к постели больного и обратился к нему с добрым словом.
— Вы сами понимаете, Гантус, что хвалить вас я не стану. Вы вели себя очень дурно, и я отдал бы самые знаменитые ваши победы за то, чтобы не случилось этой злосчастной истории. Но раз вы говорите, что умрете, так уж ладно. Я вас прощаю.
— Государь, вы великий король.
— Не спорю. А все же… Ну, да ничего не поделаешь. В конце концов, самое главное, чтобы королева была невиновна. А вы думайте только о достойной кончине. Прощайте же, Гантус, и да отпустятся вам грехи на том свете. А я вам зла не желаю.
— Ваше величество, вы меня очень обрадовали, и прощение ваше пришло как раз вовремя: у меня уже начинается агония.
— В самом деле, вид у вас неважный, и я не хочу больше вам мешать. К тому же во дворце меня ожидает завтрак.
Король милостиво кивнул своему главнокомандующему и сел в карету, которая ждала его у подъезда. Исповедь умирающего немного опечалила его, потому что он нежно любил королеву и окружал ее неустанным вниманием, невзирая на ее неизменную холодность к нему. И только подчинившись общественному мнению, он завел любовницу, но сделал это с величайшей неохотой и отвращением. Подъезжая ко дворцу, король размышлял о том, что ему все же повезло в несчастье, поскольку королева не подозревает о своем преступлении, а единственный виновник бьется в предсмертных судорогах. Однако вся эта история вселила в его сердце смутную тревогу и предчувствие какой-то опасности, и он задумался, подобает ли ему испытывать ревность.
Выйдя из кареты, король созвал своих самых ученых докторов философии и обещал двадцать экю тому, кто даст ему лучшее определение ревности. Сперва ученые заговорили все сразу и подняли оглушительный гвалт, из которого вырывались слова: процесс, чувство, обмен, кислота, желчь и меланхолия. Лишь после того как король пригрозил им своей большой саблей, они согласились говорить по очереди, но и это ни к чему не привело. Они путались в нескончаемых речах, и у короля явилось сильное желание отобрать у них дипломы. Между тем один философ, лет тридцати, которому по причине его молодости предстояло говорить последним, ненадолго отлучился, чтобы заглянуть в словарь. Это был смышленый малый, которого ожидало блестящее будущее. Когда наступила его очередь, он сказал приятным, звучным голосом:
— В самых общих чертах ревность есть огорчение, вызванное тем, что другой обладает предметом, которым мы желали бы владеть сами.
— Вот это да, — заметил король. — Я понял с первого раза.
А про себя он подумал: «Выходит, что мне следовало бы ревновать к Гантусу, но раз он умер, то это необязательно. Покойники не владеют ничем, это всем известно».
— Отлично, молодой человек, я сразу же присуждаю двадцать экю вам.
Молодой философ церемонно поклонился и продолжал:
— Для того чтобы точнее ответить на вопрос, заданный вашим величеством, я добавлю, что в любви ревность означает страстную тревогу человека, который опасается, что ему предпочитают другого.
Остальные философы пожелтели от зависти, ибо король был, по-видимому, очень доволен. Он мысленно взвешивал это определение. «Должен ли я опасаться, что королева предпочитает мне другого? Да нет, раз она никогда не видела Гантуса и вряд ли знает его имя». Затем он обратился к молодому философу:
— Превосходно, дружок. С помощью ваших определений мне стало ясно, что я ничуть не ревнив. Ввиду этого объявляю вас великим ученым и назначаю членом Академии и кавалером ордена святого Антония, покровителя всех исследователей, как вам должно быть известно.
После этого он приказал позвать своих музыкантов и, подкрепившись миской свиных шкварок и легким винцом, велел доложить о себе королеве. Она сидела у камина; лицо ее было бледно, а в глазах отражалась глубокая печаль. Король взял ее за руку и, как обычно, обратился к ней с нежными и изысканными речами; они были полны трогательных и поэтических образов, которыми ежедневно снабжали его великие поэты королевства. Но королева, казалось, не слышала его.
— Адель, — шептал король, — я веселый соловушко, помечтаем о прохладе весенних перелесков. Моя любовь — это быстрый ручей, который теряется в озере ваших огромных загадочных глаз. Я хотел бы стать ласточкой…
Королева покачала головой, даже не удостоив его взглядом. Видно было, что мысль о превращении супруга в ласточку нисколько не прельщает ее. Он попытался прибегнуть к другим поэтическим украшениям, еще более изящным. Потом он стал двумя пальцами щекотать ей руку, делая вид, что по ней взбирается мышка и шутливо приговаривая:
— Кили, кили, кили, ки… Кили, кили, ки…
В ответ королева только пожала плечами.
— Сударыня, — сказал король (он немного рассердился), — мне непонятно, почему вы не в духе. Я говорю вам самые приятные вещи, я изощряюсь в самых нежных играх, я попеременно то сентиментален, то фамильярен, то шаловлив, а вас это трогает не больше, чем если бы я говорил вам о государственном бюджете. Самая пылкая страсть не устоит перед столь упорной холодностью, и я должен вам сказать, что мое терпение близится к концу. Пускай бы это был мимолетный каприз! Но это продолжается с тех пор, как мы повенчаны, и вы готовитесь к любовным утехам, как будто поднимаетесь на эшафот.
Тут королева словно очнулась, и ее печальные глаза загорелись мрачным огнем.
— Государь и супруг мой, — промолвила она, — вам угодно было забыть, но у меня, к несчастью, не такая короткая память.
— Что такое? Черт меня побери, ничего не понимаю.
— Пусть, не будем больше говорить об этом. Но тогда перестаньте жаловаться, если властному, мужественному обхождению вы предпочитаете этот праздный лепет, жеманные манеры, реверансы менуэта — все то, что, несомненно, нравится любовницам ваших рифмоплетов и шутов! Кили, кили, кили… разве так подобает обращаться с королевой, с супругой, с возлюбленной? Кили, кили, кили…
Король в смятении воздел руки к небу, а королева, не спуская с него горящих глаз, продолжала вне себя от гнева:
— Неужели вы вправду забыли тот осенний вечер, когда вы вошли без доклада в мои покои, в шлеме и полном вооружении? Была поздняя осень, и заходящее солнце освещало комнату…
— А красное пламя камина, — вздохнул король, — бросало на все предметы резкие и мерцающие отблески, искажая их формы.
— Вот почему я не сразу узнала вас под доспехами. Вы казались выше, плотнее.
— Да, в военном облачении человек всегда выглядит немного лучше.
— И все же, когда вы скинули железные рукавицы и сжали меня властными руками, я вся затрепетала! Наконец вы назвали себя…
Она закрыла глаза. Король мысленно выругался.
— Впопыхах вы не сняли ни наплечников, ни лат, и у меня целую неделю оставались на теле синяки и ссадины. Упоительные ссадины… Ваши поцелуи отзывали огнем и железом.
— Да ну! К чему зря преувеличивать? — сказал король.
— С губ моих срывались слова любви, а вы со страстным рычанием повторяли мое имя — Адель!
— Нет, это слишком!
— Попробуйте теперь отпереться, вероломный! Я потеряла всякую надежду, что это блаженство когда-нибудь повторится. Пока вы сравниваете себя с ласточкой, с ручейком, я только покорно выполняю долг, навсегда утративший опьяняющее величие, которое открылось мне в тот осенний вечер. Ласточка? Ха-ха! Нет, сударь, болтливая сорока! Кили, кили, кили…
Утирая слезы ярости, королева вышла, хлопнув дверью. Король был потрясен; он думал о тщете философии и ее определений, ибо теперь он испытывал муки ревности. Ночь он провел плохо; его преследовали кошмары: ему казалось, что пустые доспехи ласкают его супругу со сладострастными вздохами и ужасающим железным лязгом. На другой день его окончательно сразила дурная весть: Гантус не умер. Врачи догадались, что его болезнь — не что иное, как приступы ревматизма, и вылечили его, всю ночь растирая его высушенной кошачьей шкуркой. В полдень коннетабль с аппетитом позавтракал, потом сел на коня и поехал проводить смотр артиллерии. Король вызвал его во дворец и сказал ему строго:
— Вы меня здорово подвели, Гантус.
— Простите меня, ваше величество, врачи вылечили меня, не спросив моего согласия.
— Это очень неприятно. Происшествие, в котором вы мне признались вчера, не имело бы почти никакого значения, будь вы уже на кладбище, а теперь… Вы понимаете, что для нас, монархов, стать рогоносцем — дело государственной важности. В ваших руках опасная тайна. Кто знает, как вы ею воспользуетесь?
— О государь, я человек чести…
— Дудки! — сказал король. — Вы даже не сумели сдержать язык передо мной, перед мужем. Так о чем тут говорить?
Коннетабль бил себя кулаком в грудь с видом глубокого отчаяния.
— Не сокрушайтесь, Гантус. Я говорю это лишь для того, чтобы предостеречь вас от опрометчивого шага. А в общем вы по-прежнему внушаете мне полное доверие, и я думаю поручить вам очень почетную должность на моих западных границах. Я уверен, что там вам представится удобный случай пасть смертью храбрых.
— Смертью храбрых? Да ведь войны пока нет…
— Скоро будет; я намерен объявить войну моему кузену императору. Если призвать двадцать второй год, мы наберем вполне достаточное войско. Вы будете помощником главнокомандующего. Сейчас у нас изготовляются копья нового типа, и я уверен, что с их помощью можно будет делать чудеса.
Гантус почесал затылок, не решаясь протестовать против своего назначения помощником главнокомандующего, и в его горле заранее клокотали ругательства при мысли о том сукином сыне, который будет руководить военными действиями.
— Дорогой коннетабль, — молвил король, — вы разочарованы, но ничего не поделаешь: отныне я сам беру на себя верховное командование моими войсками. Однако, чтобы предоставить вам некоторую свободу в проведении военных операций, я решил руководить ими, не выезжая из столицы. Как только противнику официально будет предъявлен ультиматум, я буду появляться во дворце не иначе как в форме генералиссимуса. Хотел бы я, Гантус, чтобы вы поглядели на мои новые доспехи, которые я заказал сегодня утром. Они будут из астурбийской стали, султан на шлеме голубой с золотом, а латы и наплечники украшены полевыми цветочками и крохотными фигурками пажей.
Ключ под циновкой
Однажды великосветский взломщик сбежал со страниц детективного романа и после ряда изумительных приключений оказался в маленьком провинциальном городишке.
Выйдя из вокзала и перейдя привокзальную площадь, он вступил на вокзальный проспект, наполненный гулом людских голосов.
— Не забудь положить ключ под циновку, — доносилось со всех сторон.
Это говорили матери семейства, отправляясь со своими дочерьми на бал в су префектуру.
— Не беспокойся, — отвечали им мужья, которым не терпелось поскорее улизнуть, — ключ будет под циновкой, звонить не надо. Но если вы случайно вернетесь раньше меня…
— Как раньше тебя! Надеюсь, ты не собираешься затянуть партию в бильярд до четырех часов утра?
Матери семейств были совершенно правы. Где это видано, чтобы обыкновенная партия в бильярд длилась за полночь? Между тем джентльмен-взломщик разгуливал по улицам города среди бархатных и креп-жоржетовых платьев, которые устремлялись на площадь супрефектуры. Накануне вечером он покинул Рим с чемоданом скромных размеров, содержавшим не более, не менее как коронные драгоценности и туфлю папы римского. На случайной остановке он соскочил с поезда с неположенной стороны, чтобы сбить с толку полицейских всех стран Европы, которые следовали за ним по пятам. Воспользовавшись передышкой, он погрузился в размышления о тщете мирского величия.
«Мне нечему больше учиться по части профессиональной сноровки, думал он. Передо мной беззащитны самые замысловатые сейфы, и мне всегда удается подкупить доверенных лиц. После двухлетней стажировки в американских тюрьмах, где я прошел курс обучения у крупнейших мастеров, я приобрел известность и по краже со взломом, и по карманному воровству, и по грабежу с перечницей. Никто, как я, не сумеет так ловко залезть на высокую стену, проникнуть в пустую квартиру, постучав несколько раз для верности, и вежливо ретироваться с извинениями, если кто-нибудь окажется дома. Благодаря упорному труду мне удалось осуществить все то, чего можно было ожидать от моих выдающихся способностей. Теперь я обкрадываю коронованных особ, у меня есть агенты во всех частях света, мои биржевые операции возводят и свергают правительства, но на душе у меня совсем не так радостно, как бывало в пятнадцать лет, когда я готовился к экзамену на бакалавра и набивал руку на портфелях и часах своих учителей. Ах, если бы воскресить блаженные дни моего шаловливого отрочества! Какое это жалкое существование — скитаться по столицам и игорным домам всего мира! Никогда еще у меня не было столь сильного желания вновь увидеть те места, где я появился на свет.
Джентльмен-взломщик проходил мимо ряда молчаливых особнячков. Вдруг он остановился и озабоченно прошептал:
— А кстати, как называется место моего рождения? Оно наверняка где-нибудь во Франции, но черт его знает, где именно. С тех пор, как я веду бродячую жизнь, у меня было столько социальных положений и столько мнимых почтенных родителей, что мне в этом никак не разобраться. И я понятия не имею, какое мое настоящее имя.
Он потер лоб и быстро перечислил около пятидесяти имен.
— Жюль Моро… Робер Ландри… нет… Иоланда Гарнье… Да нет, то была история с переодеванием… Альфред Петипон… в самом деле, Альфред Петипон? Или скорее Рауль Деже… да нет, это было дело об изумрудах… Жак Лероль… нет… Герцог де Жеруль де ля Бактриан? Честно говоря, не думаю.
Наконец он устало махнул рукой и сказал с досадой:
— Как неприятно, придется наводить справки в сыскной полиции.
Он был так поглощен загадкой своего происхождения, что нечаянно зашел за ограду одного домика и стал машинально вставлять отмычку в замок входной двери. Опомнившись, он пожал плечами и пробормотал, укладывая набор отмычек в карман:
— Вот дурак, я и забыл, что ключ под циновкой.
В самом деле, ключ был под циновкой. Он вошел в переднюю и открыл чемодан, чтобы облачиться в рабочий костюм: вечерний плащ, цилиндр и черную бархатную полумаску. Переодевшись, джентльмен-взломщик обследовал первый этаж, но не обнаружил ничего достойного внимания. Все же он сунул в карман стальные часы, повинуясь привычке, оставшейся у него с детства. На втором этаже он поддался минутному умилению, когда вошел в девичью комнату, где по обе стороны окна стояли две узкие кровати.
— Милые девочки, — промолвил он со вздохом, рассматривая две фотографии, висевшие на стене. — Дай-то бог, чтобы на балу в супрефектуре они вскружили голову двум молодцам с видами на будущее, порядочным, работящим и набожным, которые пригласят их на танцы с честными намерениями.
Повинуясь бескорыстному любопытству, он открыл шкаф и осмотрел его содержимое. Он не смог удержаться от слез, развернув при свете потайного фонаря бумазейные панталоны с вышитыми фестончиками и невероятно приличные рубашки из грубого полотна. Охваченный почтительным волнением, он снял цилиндр и бархатную полумаску.
— О панталоны, окаймленные невинностью! — воскликнул он глухим голосом. — Белоснежные нижние юбки и вы, целомудренные рубашки благопристойной юности! Ваша скромность чарует сердце, израненное мирской суетой! Когда я ощупываю эти добротные тайны, в мою душу проникает благонравное томление. Смущенный ароматом семейных добродетелей, я чувствую, что уже готов отречься от заблуждений своей беспутной молодости и завершить жизненный путь в должности канцелярского служащего.
В предвкушении столь назидательного конца он продолжал обследовать шкаф. За стопкой носовых платков он обнаружил две фаянсовые копилки с надписями: «Приданое Мариетты» и «Приданое Мадлен». Он высыпал их содержимое в карманы и тут же сам на себя рассердился.
— Мне надо обязательно избавиться от этой привычки.
Он положил деньги обратно в копилки; его сердце сразу преисполнилось блаженной радостью, из чего он заключил, что честность несет в себе собственную награду.
«Решено, — подумал он, — кончилась моя жизнь великосветского взломщика».
Все эти волнения утомили его; было всего десять вечера, и он решил поспать до прихода хозяев. Он улегся на одну из девичьих кроватей и мгновенно заснул крепким сном. Около трех часов утра ему снилось, что он — заместитель начальника крупного учреждения и награжден академическими пальмами, как вдруг его разбудил чей-то злобный голос. Он подошел к окну и увидел человека, сидевшего на корточках у входной двери и сердито бормотавшего про себя:
— Я твердо помню, что положил перед уходом ключ под циновку. Он должен быть здесь, но…
Он продолжал свои поиски и наконец испуганно произнес вслух:
— Наверное, жена уже дома, другого ничего не придумаешь. Надо было предвидеть, что она вернется рано. Ну, и влип же я.
Он дернул звонок, сперва робко, потом изо всех сил. Взломщик сжалился над его бедой: рассудив, что хозяин пройдет прямо в свою комнату на первом этаже и не станет подниматься на второй, он бросил ключ в окно и снова улегся в постель.
«Можно еще часика два поспать, — подумал он, — я успею стать начальником отделения. Я знаю, что такое мать семейства с двумя дочками на выданье. Она не уйдет из супрефектуры, пока не погасят последние огни».
Не успел он вернуться к прерванному сновидению, как в комнату вошел хозяин дома и включил свет. Джентльмен-взломщик сел на кровати, держа наготове бутылку с хлороформом, но вошедший бросился к нему с распростертыми объятиями.
— Сын мой! Вот ты и вернулся домой после восемнадцатилетнего отсутствия!
Светский взломщик чуть не прослезился от радости, но сдержался. Он рассчитал, что после восемнадцатилетнего отсутствия ему должно быть лет тридцать пять; услышать это из чужих уст было не слишком приятно. С другой стороны, его поразило это необычайное совпадение.
— Мне не хотелось бы вас огорчать, — сказал он, — но вы твердо уверены, что узнаете во мне своего сына?
— Узнаю ли я тебя? Ну, разумеется. А голос крови на что?
— Да, правда, — согласился взломщик, — голос крови. Но ошибиться легко, а это было бы уж очень жестокое разочарование и для вас, и для меня…
— Да нет, никакой ошибки быть не может, ты в самом деле мой первенец, ты мой сын Родольф.
— Родольф… не буду спорить. Это имя мне что-то напоминает. А все же…
— У тебя ведь есть родинка цвета кофе с молоком около правого локтя?
Тут уж Родольф не мог не признать своего отца. Они долго сжимали друг друга в объятиях, обмениваясь взволнованными речами.
— Дорогой сынок, — говорил отец, — какое счастье вновь увидеть тебя после восемнадцатилетней разлуки! Тебя так долго не было…
— Ах, отец! Я ведь знал, что ключ лежит под циновкой.
— Да, кстати о циновке: не вздумай проболтаться матери, что я пришел в три часа утра… Ей покажется странным, что партия в бильярд может так затянуться. Понимаешь, она повела твоих сестер на бал в супрефектуру, а я этим воспользовался, чтобы сыграть в манилью со старыми товарищами.
— По-моему, вы сказали — в бильярд.
— Ну да, я имел в виду бильярд. Или, точнее, мы начали с манильи, а закончили бильярдом. Во всяком случае, скажи матери, что я вернулся до полуночи; тебе это ничего не стоит, а ей доставит удовольствие.
Родольф обещал, но очень неохотно; он стал таким честным, что ему претила даже самая невинная ложь во спасение.
— Вы упомянули моих сестер. Я вижу на стене портреты двух хорошеньких девушек; это, верно, они и есть? Они очень изменились за мое отсутствие, и я, по правде сказать, едва их узнал.
— Неудивительно. Ведь старшая родилась через год после твоего ухода. Мы были так потрясены твоим внезапным исчезновением, что твоя мать не давала мне покоя, пока небо не подарило ей ребенка. Но она мечтала о сыне и была очень разочарована. Ей захотелось еще раз попытать счастья, но судьба явно была против нас: она родила вторую дочь, которую назвали Мариеттой. Хотя я был очень огорчен, что останусь без сына, но у меня хватило благоразумия не послушать твою мать: она была готова произвести на свет хоть двенадцать дочерей подряд, лишь бы заполучить мальчика. Нам, слава богу, хватает забот, чтобы вырастить двух этих девчонок; на них уходит уйма денег.
— Ах, отец, — вздохнул Родольф, — никакими трудами нам не окупить святые семейные радости.
— Святые семейные радости, — передразнил отец с горькой усмешкой. — Сразу видно, что ты-то с ними незнаком. Если бы тебе пришлось кормить четверых на девятьсот франков в месяц, ты бы не то запел.
Он добавил, бросив завистливый и восхищенный взгляд на цилиндр и плащ своего сына:
— Семейные радости… Легко о них говорить, когда ты не женат и можешь себе купить такой вот цилиндр… Но все равно, мне приятно, что ты хорошо зарабатываешь. Это меня утешает. А кстати, ты мне еще не сказал, какая у тебя профессия.
Родольф ответил твердо и без малейшего колебания:
— Должен вам признаться, отец, что со вчерашнего вечера я остался без работы, и я сгораю от стыда, ибо мне известно, что праздность — мать всех пороков.
— Это мудрая пословица, сынок, ее не следует забывать. Но ведь если ты потерял место только вчера вечером, было бы несправедливо обвинять тебя в праздности. И потом я думаю, что у тебя должны быть кое-какие сбережения.
— Это верно. У меня имеется от четырехсот до пятисот миллионов франков как наличными, так и в ценных бумагах; к этому надо добавить примерно такую же сумму, вложенную в разные торговые и промышленные предприятия.
Отец упал на стул, задыхаясь от волнения, и снял крахмальный воротничок.
— Ах, дитя мое, — бормотал он, — и подумать только, что я собирался устроить тебя в наше Управление путей сообщения. Родители совершают иногда крупные промахи. Но каким чудом тебе удалось сколотить такое колоссальное состояние?
— Никакого чуда нет. Я был великосветским взломщиком, а поскольку я добился некоторой сноровки, дела шли без осечки.
— Великосветский взломщик, — растерянно прошептал толстяк, — мой сын — взломщик… Правда, светский взломщик… светский, да еще миллиардер…
— Успокойтесь, — сказал Родольф. — Вчера вечером я принял решение отказаться от этой профессии, заняться честным трудом и посвятить жизнь мирным радостям семейного очага.
Отец поднял глаза и руки к небу, всем своим видом показывая, что он прощает блудному сыну его юношеские грехи.
— Уж раз ты стал честным человеком, — заявил он, — я ничего не хочу знать о прошлом. Мне ясно одно — что ты миллиардер и хороший сын.
— Конечно, — согласился Родольф, — сын я хороший, и надеюсь вам это доказать; но только не миллиардер. Вы же понимаете, что я не могу оставить себе богатство, доставшееся мне столь дурным путем. Все мои добродетельные намерения останутся пустым звуком, если я не верну кому следует все то, что приобрел бесчисленными грабежами. И когда будет возвращено все до последнего су, мне останется оплакивать свои злодеяния и искупать их раскаянием в течение всей моей жизни.
С этими словами Родольф вытащил из жилетного кармана стальные часы, которые он похитил на первом этаже, и протянул их отцу с самым покаянным видом. Но тот ласковым жестом оттолкнул их и стал уверять сына, что он может располагать всем, что есть в доме.
— Не забывай, все, что я имею, принадлежит и тебе. У отца с сыном иначе и быть не может.
— Вот видите, — воскликнул Родольф, — как я был прав, когда хвалил чистые радости семейной жизни. Ваша щедрость приводит меня в восторг; я не замедлю воспользоваться ею без всяких церемоний и позаимствую у вас двадцать пять луидоров. (Родольфу трудно было за несколько часов отвыкнуть от выражений, свойственных светскому взломщику.) Это не значит, что у меня нет денег. Вот в этом кармане у меня лежит пачка в семьсот или восемьсот тысяч франков, но совесть не позволит мне изъять из них хотя бы самую ничтожную долю.
Отец впал в бешеную ярость и стал упрекать его за недостойное поведение. Он говорил, что это просто безумие — отказываться от состояния в восемьсот миллионов, когда нужно обеспечить приданым двух сестер, да еще есть пожилые родители, которые в свое время из кожи лезли, чтобы сын мог сдать экзамен на бакалавра.
— Батюшка, — взмолился Родольф, — я хочу стать честным человеком, я теперь стремлюсь только к добродетели.
— На черта мне нужна твоя добродетель! Ни один порядочный человек не станет кидать деньги в окно, а если тебя так уже разбирает добродетель, изволь-ка прежде всего повиноваться отцу. Для начала ты отдашь мне ту пачку тысячефранковых билетов, которую ты прячешь в потайном кармане.
Как Родольф ни старался ему объяснить, что эта пачка добыта во время кражи со взломом, совершенной в апартаментах чистокровной принцессы, чьих горничных он подкупил, — отец и слышать ничего не хотел и заявил, что он плохой сын.
— Эти деньги принадлежат мне. Их даже не хватит, чтобы вознаградить меня за все волнения, которые мне пришлось пережить за твое восемнадцатилетнее отсутствие. Отдай мне их!
— Батюшка, эти деньги обожгут вам руки. К тому же вам хорошо известно, что добро, приобретенное дурным путем, не приносит счастья.
— Добро, приобретенное дурным путем? Погоди, я научу тебя уважать родителей. Считаю до трех, и если ты не перестанешь упрямиться, я тебя прокляну.
Родольфу не раз случалось быть героем многосерийного газетного детектива или большого романа о любви и ненависти; он не мог не знать, что благородному сердцу никогда не оправиться от родительского проклятия. Содрогаясь от ужаса, он протянул деньги отцу, который долго их считал и пересчитывал, прежде чем убрать в карман пиджака.
— Ровно восемьсот семьдесят пять тысяч франков — немного больше, чем ты предполагал. Ты все-таки хороший сын, и я не теряю надежды вылечить тебя от этой дури, которую ты вбил себе в голову со вчерашнего вечера.
— Боже мой, — вздыхал Родольф, — я и не подозревал, как трудно стать добродетельным. И ночи не прошло с тех пор, как я решил быть честным человеком, и вот я уже поддался искушению. И все же… где может быть лучше, чем в лоне родной семьи?..
Пока он предавался этим горестным мыслям, рассеянно слушая отцовские наставления, у входной двери раздался звонок и сердитый голос ворвался в дом через замочную скважину:
— Что это значит? Почему ключ не под циновкой?
Супруг высунулся в окно и сбросил ключ в сад, да так неловко, что ни жена, ни дочери не сумели его отыскать. Послышались шумные негодующие возгласы. Охваченная справедливым гневом супруга возмущалась, как может отец семейства до такой степени утратить чувство собственного достоинства, что возвращается домой мертвецки пьяный и не способен даже сам отворить дверь. Минут десять продолжались бесплодные поиски, а потом мать и обе девушки забеспокоились, не провалился ли ключ в погреб. Отец, который все время призывал их к терпению из окна второго этажа, теперь уже не скрывал своей тревоги. Родольф оценил положение.
— Не беспокойтесь, батюшка, — сказал он, — я пойду открою дверь.
В голосе его слышалась грусть, ибо он успел отречься от Сатаны и сует и деяний его. Он спустился на первый этаж, вытащил из кармана набор отмычек и открыл замок, словно простую задвижку.
— Какое счастье, — шепнул отец, — что у тебя такие ловкие руки.
На лице Родольфа промелькнула бледная мученическая улыбка.
Не успел он спрятать отмычки в карман, как мать бросилась ему на шею и рыдая обняла его.
— Вот ко мне вернулся мой любимый сыночек после восемнадцатилетней разлуки.
— Вот наш дорогой братец, за которого мы так часто молились, — повторяли Мадлен и Мариетта.
До раннего утра длились сердечные излияния; все плакали от умиления. Потом открыли банку со сливовым вареньем и стали делать тартинки, запивая их кофе с молоком. Очарованный прелестью и скромностью своих сестер, убаюканный нежными материнскими речами, Родольф чувствовал, что это едва ли не самый счастливый день в его жизни. Он похвалил мать за элегантное платье из органди и изящный перманент. Тут вмешался отец:
— Уж поверьте, что мальчик в этом разбирается. Ведь он человек светский.
Родольф покраснел до ушей и, чтобы скрыть смущение, спросил, как прошел бал в супрефектуре. Он узнал, что праздник удался на славу и что ничего подобного город не видел со дня открытия памятника.
— А я, — сказала Мадлен, — протанцевала всю ночь с младшим Дюпонаром; на нем был коричневый костюм в серую полоску, и, хотя он никогда не брал уроков, это один из лучших танцоров в городе. Когда он приглашал меня на тур вальса, я чувствовала себя такой легкой, что просто невозможно выразить.
Ее щеки зарделись прелестным румянцем, и она добавила:
— Мы болтали о том, о сем, а после заключительного танца он мне сказал, что придет поговорить с папой.
— Этот Дюпонар младший очень приличный молодой человек, — подтвердила мать, — он два раза водил меня в буфет. Я справлялась о нем у одной соседки, которая хорошо знает его родителей. Оказывается, он юноша трудолюбивый, никогда не ходит в кафе и проводит воскресные дни дома. На вид в нем нет ничего особенного, но он зарабатывает в канцелярии восемьсот франков в месяц. Если он захочет жениться на Мадлен, можно будет смело сказать, что ей повезло.
Отец Мадлен жестом выразил неодобрение, но Мариетте так не терпелось рассказать о своем кавалере, что ему не удалось вставить ни слова.
— А я, — сказала она, — всю ночь танцевала с обозным бригадиром Валантеном, у которого такие красивые черные глаза; он несколько раз уверял меня, что ему никогда не приходилось танцевать с такой красивой девушкой. Вы и представить себе не можете, как он это говорил. Видно было, что это вполне искренно. Прощаясь со мной, он еще раз повторил то же самое и обещал прийти поговорить с папой.
Мариетта, как полагается, целомудренно покраснела и взглянула на мать, которая кивнула головой и сказала:
— Этот бригадир Валантен великолепно выглядит в мундире обозника, и он два раза водил меня в буфет. Я о нем справлялась. Говорят, он на хорошем счету. Если у него серьезные намерения, для Мариетты это будет непредвиденной удачей.
В этой атмосфере брачных надежд Родольф улыбался своим ликующим сестрам и с удовольствием думал, что настанет день, когда и он выберет себе супругу с добротными бумазейными панталонами, хорошую хозяйку, умеющую шить и играть на рояле. Он уже собирался сказать несколько прочувствованных слов, как вдруг отец злобно схватил банку со сливовым вареньем и демонстративно стукнул ею об стол.
— Не желаю иметь в семье голодранцев, — заорал он. — Благодаря щедрости моего сына Родольфа, в настоящее время миллиардера, я имею возможность дать для начала моим дочерям по двести тысяч франков приданого. Уж, конечно, не для того, чтобы Мадлен вышла за какого-то Дюпонара с окладом восемьсот франков в месяц. Чтобы я больше не слышал ни о Валантене, ни о Дюпонаре! Обозный бригадир? Почему не солдат первого класса? Говорю вам раз навсегда, мои дочери никогда не выйдут замуж за человека, не имеющего автомобиля и цилиндра.
Видя, как побледнели Мадлен и Мариетта, Родольф успокоительно подмигнул им и стал резонно доказывать отцу, что не в деньгах счастье.
— Учтите, батюшка, что Дюпонар младший не посещает кафе.
— Вот именно, очень мне нужен такой зять, которым твоя мать попрекала бы меня с утра до вечера.
— Учтите, что бригадир Валантен с честью носит мундир обозных частей.
— Кому и хвалить военных, как не тебе, дезертиру и ослушнику?
— Да здравствует армия! — крикнул Родольф таким звучным голосом, что сердца девушек затрепетали. — Вчера я нашел свою дорогу в Дамаск. Я отказываюсь от богатства, чтобы служить семье и отечеству.
— Ну, можно ли спокойно слушать подобные вещи? — возмутился отец. — В мое время старики мололи всякий вздор, а теперь дети. Во всяком случае, попробуй только занять у меня хотя бы одно су. После того как я выдам замуж Мадлен и Мариетту, у меня останется четыреста семьдесят пять тысяч франков; я переведу их на пожизненную ренту, а мужей твоим сестрам подберу так, что ты можешь хоть сейчас отказаться не только от богатства, но и от всякой надежды занять у них даже самую ничтожную сумму.
Не дожидаясь ответа Родольфа, он заявил, что идет спать, и прошел в соседнюю комнату, сильно хлопнув дверью. Мадлен, Мариетта и их мать только и ждали этой минуты: они положили локти на стол и зарыдали, уткнувшись в носовые платки. Родольф сидел в унылом оцепенении и взирал на это безысходное горе, не смея пошевелиться. Ему не давала покоя тревожная мысль, что добродетель приносит очень мало пользы. Он вспоминал те времена, когда был знаменитым поборником справедливости и у него были в распоряжении анонимные письма и всевозможные сейфовые комбинации. Тогда ему достаточно было написать: «Господин граф!
Я категорически против помолвки вашей дочери Соланж с юным Алексисом. Подпись: Железная Рука». А теперь, когда он стал честным человеком, благонамеренным человеком, этаким смирным добрячком, он оказался безоружным перед лицом заблуждения и злобы. Его новоявленная добродетель предоставляла ему одни лишь нравоучительные афоризмы и слова утешения.
— Все равно, — подумал он, — я останусь порядочным человеком. Пусть отец выдает дочерей за пьяниц и свиноторговцев, он не помешает мне быть добродетельным.
— Ах, Родольф, Родольф, — простонала мать, отводя руки от лица, покрасневшего от слез. — Какое несчастье, что ты был так щедр с отцом. Деньги вскружили ему голову. Еще вчера вечером он был бы счастлив, что у него одним зятем будет бригадир, а другим — канцелярский служащий. А теперь он не успокоится, пока не сделает дочерей несчастными. Да это еще куда ни шло…
— Что ты, мама! — запротестовала Мадлен. — Можно ли так говорить… Ты ведь сама сказала, когда мы возвращались с бала, что во всем городе не сыскать серьезного молодого человека, который танцевал бы лучше младшего Дюпонара.
— Что ты, мама! — подхватила Мариетта. — Ты же знаешь, что в моей жизни никогда не будет другого бригадира.
Родольф и тот не удержался от восклицания, которое могло сойти за почтительный упрек. Тогда мать вырвала клок волос и простонала, бросив его на стол:
— Несчастные, неужели вы не понимаете, что отец воспользуется деньгами, чтобы бегать за всякими тварями! Моя жизнь разбита навсегда!
Ею овладел приступ ужасного и вполне оправданного отчаяния; обе девушки снова зарыдали. Родольф сидел с сухими глазами, погруженный в мрачные размышления. Желая матери спокойной ночи, он долго обнимал ее и обещал все уладить. После этого он поднялся на второй этаж за своим багажом и спустился обратно в предназначенную ему комнату.
В доме царило молчание. Родольф надел цилиндр, черную бархатную маску, длинный черный плащ и вошел в спальню родителей. Луч потайного фонаря осветил «Окружную газету», которую отец уронил на коврик у кровати, потом — на сейф в углу комнаты. Комбинация была из пяти букв. Родольф вспомнил, что отец ложился спать в отвратительном настроении, и поэтому легко разгадал ее.
— Бедненький папа, — умиленно пробормотал он, — не очень-то он ломал себе голову…
Все восемьсот семьдесят пять тысяч франков лежали толстой кучкой на одной из полок. Родольф сунул пакет в карман, затворил сейф и вышел в переднюю. Он потерял минут десять на поиски ключа от входной двери, ибо ему претило пользоваться отмычкой. В конце концов он его нашел. Как и следовало ожидать, ключ был под циновкой. Он осторожно закрыл за собой дверь, вышел за ограду садика и зашагал по улицам городка. Он шел уже минут пять, как вдруг остановился, пораженный неожиданной мыслью.
— А ведь я все еще не знаю, как меня зовут. Я забыл спросить нашу фамилию у отца. Надо же быть таким дураком…
Великосветский взломщик досадливо поморщился, потом, покачав головой, отправился навстречу новым приключениям, которые привели его в превосходный детективный роман и в несколько длинных романов о любви и ненависти.
Однажды, когда он фигурировал в очередном отрывке из какого-то романа в «подвале» «Окружной газеты» под именем «Мстителя во мраке», джентльмен-взломщик поднял глаза к верхней части страницы и с удовольствием прочел сообщение, что его сестры Мариетта и Мадлен вышли замуж — одна за младшего Дюпонара, другая за бригадира Валантена. Но ввиду того, что несколько букв выпали из-за типографской погрешности, ему пришлось смириться и продолжать свои похождения, по-прежнему оставаясь в неведении относительно своей настоящей фамилии.
Последний
Жил-был велогонщик по имени Мартен, который всегда приходил последним, и люди смеялись, когда видели его далеко в хвосте колонны гонщиков. Его майка была нежно-нежно голубого цвета с маленьким барвинком, вышитым слева на груди. Пригнувшись к рулю и стиснув в зубах носовой платок, он нажимал на педали с такой же отвагой, как первый. На самых тяжелых подъемах он так неистово растрачивал свои силы, что глаза у него загорались страстью. И, видя его сверкающий взгляд и вздувшиеся от напряжения мускулы, все говорили:
— Смотрите-ка, вот Мартен. Он, кажется, в хорошей форме. Что ж, тем лучше. На этот раз он придет в Тур (или в Бордо, или в Орлеан, или в Дюнкерк), на этот раз он придет в лидирующей группе.
Но и на этот раз все было как обычно, и Мартен опять приходил последним. Он всегда надеялся на лучшее, хотя бывал чуточку огорчен, — потому что у него были жена и дети, а место последнего не приносит много денег. Он бывал огорчен, и однако никто не слышал, чтобы Мартен когда-нибудь жаловался на несправедливость судьбы. Когда он приходил в Тур (или в Марсель, или в Шербур), в толпе смеялись и шутили:
— Эй! Мартен! Ты у нас первый с конца!
А он на них за это даже ни капельки не сердился, и если бросал взгляд в толпу, то всегда с добродушной улыбкой, как будто хотел сказать: «Да, это я — Мартен. Это я — последний. В следующий раз мои дела пойдут лучше». После заезда другие гонщики спрашивали его:
— Ну, как? Ты доволен? Все было в порядке?
— О, да! — отвечал Мартен. — В общем, я доволен.
Он не замечал, что люди потешаются над ним; и когда они смеялись, он тоже смеялся. И даже смотрел на них без зависти, когда, оживленно принимая поздравления в праздничном шуме, они уходили вместе с друзьями. А он оставался один — ведь его никогда никто не ждал. Его жена и дети жили в деревне по дороге из Парижа в Орлеан. И он изредка видел их мельком, когда там проходила трасса гонки. Те, у кого есть мечта, не могут жить, как все люди, — это можно понять. Мартен очень любил свою жену, и детей тоже, но он был велогонщик и гонял без передышки от финиша к финишу. Он посылал домой немного денег, когда они у него были, и часто вспоминал свою семью — конечно, не во время гонки, тут ему было не до этого, — а вечерами между заездами, когда массировал себе ноги, уставшие за долгую дорогу.
Перед сном Мартен обращался с молитвой к богу и, не боясь ему наскучить, рассказывал о дистанции, которую прошел за день. Он верил, что бог интересуется велосипедными гонками, и был совершенно прав. Если бы бог не разбирался как следует во всех профессиях, он не мог бы понять, как трудно сохранить в себе чистую, нетронутую душу.
— Господи, — говорил Мартен, — теперь надежда на сегодняшнюю гонку. Я не знаю почему, но только каждый раз получается одно и то же. Ведь у меня хороший велосипед, ничего не скажешь. На днях я спросил себя: а вдруг что-нибудь с педалями? И я разобрал по частям весь велосипед, спокойно, не торопясь — вот как я тебе рассказываю. И я увидел, что и педали, и все остальное в порядке. А тому, кто попробует сказать, что это плохой велосипед, я отвечу, что он хороший, хорошей марки. Но тогда что же?.. Разумеется, дело еще в человеке: мускулы, воля, ум. Но, человек, господи, это уж твоя забота. Вот что я говорю себе и потому не жалуюсь. Я прекрасно знаю, что в гонках нужен последний и не стыдно быть последним. Я не жалуюсь, нет. Просто к слову пришлось.
После этого он закрывал глаза, спал без снов до утра, а проснувшись, говорил со счастливой улыбкой.
— Сегодня я приду первым.
Он смеялся от радости, мечтая о букете, который преподнесет ему маленькая девочка, потому что он придет первым, и еще о деньгах, которые он пошлет своей жене. Ему казалось, что он уже читает в газете: Мартен выходит на дистанцию Полиньи — Страсбург; после ожесточенной борьбы он победитель в спринте. Подумав, он огорчался за второго и за следующих, особенно за последнего — не зная, кто им будет, он его уже любил.
Вечером, под смех и шутки зрителей, Мартен приходил в Страсбург, как обычно, последним. Он немного удивлялся, но назавтра начинал следующий заезд с той же уверенностью в победе. И каждое утро с каждым новым стартом возрождалось это великое чудо надежды.
Накануне гонки Париж — Марсель в кругах велосипедистов столицы прошел слух, будто Мартен готовит публике потрясающий сюрприз, и пятьдесят три журналиста тотчас явились его интервьюировать.
— Что я думаю о театре? — переспросил Мартен. — Однажды, когда я был проездом в Каркасоне, мне случилось попасть в городской театр на представление «Фауста», и мне было жаль Маргариту. По-моему, если бы Фауст знал, что такое хороший велосипед, ему не пришлось бы думать, на что употребить свою молодость; он не стал бы морочить голову этой девушке, и она непременно вышла бы замуж. Вот мое мнение. Теперь вы спрашиваете, кто же придет первым в Марсель, отвечу вам прямо и откровенно: гонку выиграю я.
Не успели журналисты уйти, как он получил от некой Лилианы надушенное письмо, в котором та приглашала его на чашку чая. Это была женщина сомнительной репутации — каких немало, — безнравственная и беспутная. После велодрома, где Мартен сделал несколько контрольных кругов на своей машине, он без лишних колебаний отправился к ней. В руке у него был маленький чемодан, в котором лежал его спортивный костюм.
Он рассказал ей о гонках, о том, какая тактика лучше, каких забот требует его велосипед, и о себе самом. Распутница задавала ему коварные вопросы:
— Мсье Мартен, как это делают массаж?
И говоря это, протягивала ему ногу, чтобы он показал ей, как это делается. Мартен спокойно брал эту искусительную ногу, нисколько не смущаясь, словно это была нога гонщика, и невозмутимо объяснял:
— Вы массируете вот так, снизу вверх. Конечно, женщинам это труднее, ведь у них жир на мускулах.
— А если бы произошел несчастный случай, как бы вы меня понесли?
Она задавала ему еще много разных вопросов, но невозможно повторить все, что говорила эта особа. Мартену и в голову не приходило, что у нее могут быть дурные намерения, и он простодушно отвечал. Ей интересно было посмотреть, что у него в чемодане, и он с готовностью показал ей свою майку, трусы и башмаки.
— Ах, мсье Мартен! — воскликнула она. — Как бы я хотела увидеть вас в костюме гонщика. Я никогда ни одного так близко не видела.
— Если это доставит вам удовольствие, пожалуйста. С вашего разрешения я пройду в соседнюю комнату.
Вернувшись, он застал ее в костюме еще более легком, чем его собственный, и от описания которого лучше воздержаться. Но Мартен даже глаз не опустил. Он серьезно посмотрел на бесстыдницу и, покачав головой, сказал:
— Я вижу, ваша мечта — тоже участвовать в велосипедных гонках. Но я буду с вами откровенен. Велогонки, по-моему, занятие не для женщины. И не в ногах дело, это меня как раз не беспокоит. Ваши, пожалуй, могли бы стать не хуже моих. Но у женщин есть грудь, а когда катишь двести-триста километров, это нелегкий груз, мадам. Да и о детях надо подумать, ведь еще и это тоже.
Растроганная этими словами, наивными и благоразумными, Лилиана поняла наконец, сколь привлекательна добродетель. Она почувствовала отвращение к своим грехам — а их у нее было много — и, проливая сладостные слезы, сказала Мартену:
— Я жила как безумная. Но теперь с этим покончено.
— Не так уж все страшно, — сказал Мартен. — Теперь, когда вы уже видели меня в майке, я с вашего разрешения пойду в соседнюю комнату, переоденусь. Вы в это время тоже переоденетесь и не будете больше думать о гонках.
Так они и сделали, и Мартен вышел на улицу, напутствуемый благословением этой бедняжки, которой он вернул честь и радость жить в ладу с собственной совестью. Вечерние газеты печатали его портрет. Он не почувствовал оттого ни удовольствия, ни гордости; чтобы надеяться, весь шум этот был ему не нужен. На следующее утро, выезжая из Парижа, он занял место последнего и сохранил его до конца гонки. Прибыв в Арль, он узнал, что его соперники уже в Марселе, но это его не остановило. Продолжая изо всех сил нажимать на педали, он не уменьшил скорости и в глубине души не терял надежды прийти первым, хотя для остальных гонка была уже закончена. Газеты в ярости оттого, что дали себя провести, называли его фанфароном и советовали принять участие в «критериуме ослов»[3] (игра слов, непонятная тем, кто не читает спортивных газет). Это не помешало Мартену надеяться, а Лилиане — открыть на улице Верности закусочную под вывеской «Праведная педаль», где яйца продавались на су дешевле, чем всюду.
С годами и опытом рос спортивный азарт Мартена, и гонок, в которых он участвовал, было почти столько же, сколько святых в календаре. Он не знал покоя. Едва закончив одну гонку, он тотчас записывался на новый старт. На висках у него появилась седина, спина стала горбиться — он был ветераном среди велогонщиков, но этого не замечал и, казалось, даже не знал, сколько ему лет. Как прежде, он приходил последним, но с опозданием гораздо более значительным. В своих молитвах он повторял:
— Господи, я не понимаю, не знаю, почему так выходит…
Однажды летом, во время гонки Париж — Орлеан, взбираясь на холм, который был ему хорошо знаком, он заметил, что у него спустила шина. Пока он менял камеру на обочине дороги, подошли две женщины, и одна, с грудным ребенком на руках, спросила его:
— Не знаете ли вы такого Мартена? Он велогонщик.
Мартен привычно ответил:
— Это я — Мартен. Это я — последний. В следующий раз мои дела пойдут лучше.
— Я твоя жена, Мартен.
Не переставая натягивать шину, он поднял голову и ласково сказал:
— Я очень рад… Вот и дети растут, — добавил он, глядя на младенца, которого принял за одного из своих сыновей.
Жена его смутилась и, показывая на молодую женщину рядом с собой, сказала:
— Мартен, это твоя дочь, она теперь такая же взрослая, как и ты. Она замужем, и твои мальчики тоже женаты…
— Я очень рад… Вот не думал, что они уже такие старые. Как время идет… А это что, мой внук у тебя на руках?
Молодая женщина отвела глаза, а ее мать ответила:
— Нет, Мартен, это не ее сын. Это мой… Ты все не возвращался, и я…
Мартен снова занялся своей шиной и молча стал накачивать ее. Когда он разогнулся, он увидел, что по лицу жены текут слезы, и пробормотал:
— Ты же знаешь, что такое гонщик, сам себе не принадлежишь… Я часто думаю о тебе, но, конечно, это не то, что быть рядом…
Ребенок начал плакать, и, казалось, ничто не могло его успокоить. Мартен очень встревожился. Велосипедным насосом он стал дуть ему в нос, приговаривая тоненьким голоском:
— У-тю-тю…
Малыш засмеялся. Мартен поцеловал его и распрощался со своей семьей.
— Я потерял пять минут, но не жалею об этом, тем более что мне легко их наверстать. Уж на этот раз гонка будет моя.
Он снова взобрался на велосипед, и обе женщины долго следили, как он поднимается в гору. Стоя на педалях, он переносил вес своего тела то на левую, то на правую ногу.
— Как ему трудно, — шептала его жена. — Когда-то, всего пятнадцать лет назад, он брал все подъемы только силой ног, никогда не поднимаясь с седла.
Мартен приближался к вершине холма, он ехал все медленнее и медленнее, и казалось, вот-вот остановится. Наконец он одолел подъем, его машина появилась на линии горизонта, какую-то секунду он ехал по инерции, и его голубая майка растаяла в летнем небе.
Мартен лучше, чем кто-либо другой, знал все дороги Франции, и — что кажется почти невероятным — каждый из множества километровых столбов имел для него свое собственное лицо. В гору он давно уже взбирался пешком; толкая перед собой велосипед, он с трудом переводил дух, но не переставал верить в свою звезду.
— На спуске наверстаю, — бормотал он.
И, приезжая к месту назначения вечером, а порой на следующий день, он снова удивлялся, что не занял первого места.
— Господи, я не понимаю, что случилось…
Его изможденное лицо цвета осенней дороги бороздили глубокие морщины, голова была совсем седая, но выцветшие глаза сверкали, как в молодости. На его худой, сгорбленной спине болталась голубая майка, только она не была уже голубой, а, казалось, состояла из мглы и пыли. Ему никогда не хватало денег, чтобы ехать поездом, но он об этом не жалел. Когда он приходил в Байонну, где гонки были уже три дня как забыты, он тут же снова садился за руль, чтобы принять участие в новой гонке в Рубе. Не останавливаясь ни днем ни ночью, он колесил по всей Франции — на подъемах пешком, нажимая на педали на ровной дороге и засыпая, когда велосипед ехал по инерции, на спусках.
— Я тренируюсь, — говорил он.
Но в Рубе он узнавал, что гонщики уехали неделю назад. Он качал головой и, снова садясь на велосипед, бормотал:
— Жаль, на этот раз я бы, конечно, выиграл. Ну в конце концов мне все равно остается гонка Гренобль — Марсель. Мне просто необходимо немного проехаться по Альпам.
И в Гренобль он приходил слишком поздно, и в Нант, и в Париж, в Перпиньян, в Брест, в Шербур — всегда он приходил слишком поздно.
— Жаль, — говорил он тонким дрожащим голосом, — в самом деле, жаль. Но я наверстаю.
Невозмутимо ехал он из Прованса в Бретань, или из Артуа в Русийон, или из Юра в Вандею и, прищурившись, говорил время от времени километровым столбам:
— Я тренируюсь.
Мартен так постарел, что уже почти ничего не видел. Но его друзья, километровые столбы — и даже самые маленькие, которые отсчитывают каждые сто метров, — подсказывали ему, когда надо повернуть направо, когда налево. И велосипед его, он тоже очень состарился. Он был неизвестной марки, такой древней, что специалисты о ней никогда не слыхали. Краска с него облупилась, и даже ржавчина не видна была под слоем грязи и пыли. В колесах почти не было спиц, но Мартен так мало весил, что пяти-шести оставшихся было достаточно, чтобы его выдержать.
— Господи, — говорил он, — ведь у меня хорошая машина. Уж тут мне не на что жаловаться.
От колес его машины остались одни ободья; когда он ехал, раздавался страшный лязг железа и уличные мальчишки бросали в него камни и кричали:
— Псих! Ненормальный! На свалку!
— Я наверстаю, — отвечал Мартен, который плохо слышал.
Уже много лет он старался принять участие хоть в какой-нибудь гонке, но всегда приходил слишком поздно. Однажды он выехал из Нарбонна в Париж, где через неделю должны были дать старт велогонке «Тур де Франс»[4]. Он приехал на следующий год и рад был узнать, что гонщики стартовали только накануне.
— Я догоню их вечером и выиграю второй этап, — сказал он.
Когда он садился на велосипед у ворот Майо, на мостовой его сбил грузовик. Сжимая в руках руль вдребезги разбитого велосипеда, Мартен поднялся и, прежде чем умереть, сказал:
— Я еще наверстаю.
Мартен, сочинитель романов
Жил на свете писатель по имени Мартен. Сочиняя романы, он никак не мог совладать с вечным желанием отправлять на тот свет своих героев — даже второстепенных, не говоря уже о главных. Бедняги эти, жизнерадостные и пышущие здоровьем в первой главе, погибали на последних двадцати-тридцати страницах, нередко даже в расцвете сил, точно подкошенные страшной эпидемией. Столь обильное жертвоприношение не могло не нанести в конце концов ущерба имени автора. Стали поговаривать, что, несмотря на блистательный талант Мартена, читателей его прекрасных романов утомляют эти бесконечные преждевременные кончины. И спрос на его книги начал падать. Даже критика, добрыми словами откликнувшаяся на первые шаги Мартена, пресытилась мрачными картинами и стала намекать, а то и открыто писать, что этот автор «стоит в стороне от жизни».
А между тем Мартен был человеком очень добрым. Он всей душой любил героев своих романов и с превеликой радостью одарил бы их долголетием, но просто ничего не мог поделать с собою. Как только он доходил до заключительных глав, персонажи как бы лопались у него в руках. На какие только ухищрения он не пускался, чтобы оградить их от посягательств злой судьбины, но всякий раз она вырывала их из жизни. Однажды ему удалось вплоть до самой последней страницы уберечь от смерти — правда, ценою жизни остальных персонажей — главную героиню и он уже торжествовал победу, но вот за каких-нибудь пятнадцать строчек до конца романа закупорка сосудов унесла бедную девушку в мир иной. В другой раз он задумал роман из жизни детского сада. Такое место действия он выбрал для того, чтобы герои были не старше пяти лет, резонно полагая, что невинность нежного возраста отведет от них десницу рока и будет соблюдено правдоподобие. К несчастью, Мартен так увлекся, что после полугора тысяч страниц разбухшего романа младенцы превратились в едва стоящих на ногах старцев и вскоре скончались у него на руках, — отказать себе в этом он уже был не в состоянии.
Однажды Мартен появился в кабинете своего издателя и со скромной улыбкой на устах попросил выдать ему аванс. Ответная улыбка издателя ничего хорошего не предвещала. И в самом деле, он спросил, переводя разговор в другое русло:
— Вы ведь, кажется, готовите для нас новый роман?
— Да, да, — ответил Мартен. — Написано уже больше трети.
— И вы довольны?
— О да! — с жаром произнес Мартен. — Очень-очень доволен. Не буду хвастать, но мне, кажется, еще никогда так не сопутствовал успех в выборе персонажей и ситуаций. Да вот позвольте-ка, я в двух словах расскажу вам, о чем там идет речь.
И Мартен изложил сюжет своего романа. Это была история некоего начальника канцелярии. Звали его Альфред Субирон; ему шел сорок шестой год; у него были голубые глаза и черные усики. Этот превосходнейший человек мирно и счастливо жил да поживал с женою и сыном, пока его теща, внезапно омоложенная благодаря пластической операции, не внушила ему необузданную постыдную страсть, навеки лишившую его покоя.
— Ах, как хорошо, — бормотал издатель, — очень хорошо!.. Но только вот что… Хотя теща этого господина Субирона и скрывается за внешностью молодой женщины, но лет-то ей должно быть немало. Скажем, семьдесят один год…
— Вот именно! — воскликнул Мартен. — В этом-то и состоит один из самых драматических аспектов данной ситуации!
— Это понятно, но когда человеку семьдесят один год, то жизнь его частенько, если только провидение не проявляет к нему особой благосклонности, висит на волоске…
— У этой женщины отменное здоровье, у нее могучий организм, — заверил собеседника Мартен. — Как вспомнишь, с какой стойкостью она перенесла…
Не договорив, Мартен вдруг задумался, и, когда он наконец продолжил разговор, на лице его было написано смятение.
— Да, несомненно, — сказал он, — в таком возрасте жизнь подвластна любой случайности, не говоря уже о том, что обуревающая душу страсть может ускорить износ тела, как-никак утомившегося за долгие годы. Выходит, правда ваша.
— Нет, нет! — запротестовал издатель. — Тысячу раз нет! Наоборот, я говорил все это для того, чтобы уберечь вас от соблазна. Вы ни в коем случае не должны лишаться женщины, которая просто необходима для развития действия. Это было бы безумием!
— Вы правы, — согласился Мартен, — эта женщина мне нужна… Но я мог бы отправить ее на тот свет в самом конце, скажем, в момент, когда ее зять предпримет решительное наступление… Волнение, благодарность, угрызения совести приведут к тому, что она испустит дух в исступлении любовного объятия. Появятся все признаки помраченного сознания или разрыва аневризмы.
Но такая развязка, возразил издатель, была бы слишком банальна, тем более что всем хорошо известно, какая мания владеет автором. Наконец после долгих споров издателю удалось добиться, что теща просто впадет в коматозное состояние и таким образом оставит читателю какой-то луч надежды.
— А как чувствуют себя другие персонажи? — сурово спросил издатель, раздраженный упорным сопротивлением своего автора. — Могу ли я быть уверен, что они все в полном здравии?.. Прежде всего меня интересует Альфред Субирон…
Под строгим взглядом издателя Мартен залился краской и потупил взор.
— Сейчас все объясню, — сказал он. — Альфред Субирон — человек очень здоровый. Никогда в жизни он не хворал, и вот на днях — надобно же, чтоб так глупо вышло! — простояв долго на автобусной остановке, он схватил воспаление легких. Должен, однако, сказать, что эта болезнь пришлась весьма кстати. Жены Субирона не было в городе, поэтому ухаживать за больным пришлось теще; из-за этой-то ежеминутной близости он и откроет в себе влечение к теще и, может быть, даже отважится на признание.
— Что ж, пусть будет так, раз сюжет этого требует… Главное, чтобы Альфред быстро поправился. Как его здоровье сейчас?
— Хвастать нечем, — пробормотал Мартен, опять краснея. — Сегодня утром, когда я как раз работал над романом, температура подскочила до сорока одного и двух десятых. Я волнуюсь…
— Бог мой! — воскликнул издатель. — Но он, надеюсь, не умрет?
— Ничего нельзя знать заранее, — ответил Мартен. — Не исключено, что могут возникнуть осложнения… Второе легкое может тоже оказаться затронутым. Именно этого я и опасаюсь.
С трудом сдерживая возмущение, издатель произнес голосом, в котором еще теплились дружеские нотки:
— Да перестаньте, это же несерьезно! Ведь если этот ваш Субирон помрет, он опрокинет весь роман. Подумайте-ка сами…
— Я рассмотрел все последствия этой смерти, — без промедления ответил Мартен, — и должен сознаться, что она мне не только не помешает, но даже наоборот… Если он умрет, теща получит возможность полностью отдаться назначению красивой женщины, как она его понимает. Таким образом, возникнет весьма занятная ситуация: мужчины не могут оторвать свои взоры от обольстительного существа, которое выслушивает их пылкие признания с мудрых высот восьмого десятка лет. А по отношению к человеку, с которым эту женщину связывают узы родства, ее поведение — вы отдаете себе в этом отчет? — никак не могло бы отличаться таким же горделиво-жалостливым безразличием. Благодаря смерти Субирона я прикоснусь к вечной, но обновленной, преобразованной — одним словом, осовремененной — теме бесстрастной красоты. В этом чудовищном противоборстве явления и сути я уже замечаю некую таинственную, пока еще едва различимую угрозу, что-то вроде первых робких ростков умирания…
С побагровевшим лицом, сжавшись в своем кресле, издатель неотрывно смотрел налившимися кровью глазами на сочинителя. Мартен, заметивший волнение издателя, но объяснивший это тем, что тот до глубины души тронут величавой красотой сюжета, вдохновенно продолжал:
— Я вижу, как бедные воздыхатели тщетно ищут путь к бесчувственному сердцу, как они чахнут; как гибнут от отчаяния, и вы тоже видите их, как я. Она сама, уставшая от такой противоестественной ситуации, в конце концов проклинает обманную красоту своего тела и своего лица. Однажды вечером, вернувшись домой с бала, во время которого некий академик и один молодой атташе посольства покончили с собой у ее ног, она выливает на себя склянку серной кислоты и умирает в страшных муках. О, можно смело сказать: вот развязка, продиктованная глубинной правдой искусства…
Развить эту мысль Мартен уже не успел. Склонившись над разделявшим их столом, издатель с такой силой ударил по нему обоими кулаками, что карандаши и ручки, проекты договоров и прочие бумаги взлетели в воздух. О таком романе, прорычал взбешенный собеседник Мартена, он и слушать больше не желает.
— Ни единым су… вы слышите?.. ни единым су не стану я рисковать ради этой отвратительной бойни! И не вздумайте рассчитывать на аванс, это уж само собой разумеется! Поищите себе дурака, который захочет финансировать вашу похоронную контору! А ежели вам нужны деньги, извольте-ка принести мне рукопись, где герои до самой последней страницы сохраняют незамутненный взор и свежий цвет лица. И чтобы там не было ни одного покойника, ни одной агонии, ни даже робких поползновений на самоубийство. А пока что моя касса для вас закрыта.
Мартен, до глубины души возмущенный тираническими требованиями своего издателя, больше недели не прикасался к рукописи. Он даже подумывал о том, чтобы распрощаться навеки с литературой и стать официантом или уличным продавцом газет. Это произвело бы впечатление разорвавшейся бомбы, и весь мир узнал бы о жестокосердии эксплуататоров, угнетающих искусство и общественную мысль. Но гнев Мартена понемногу остыл, а денежные затруднения заставили его отправиться на поиски спасительных доводов в пользу исцеления начальника канцелярии. Воспаления второго легкого удалось счастливо избежать, и температура начала постепенно падать. Процесс выздоровления несколько затягивался, но атмосфера смутных страстей, в которой он протекал, послужила хорошей основой для трех превосходно написанных глав. И все-таки в глубине души наш автор жалел о том, что отступился от первоначального замысла, и, по правде говоря, испытывал угрызения совести. Он разрушил — так ему казалось — самую суть драмы, созданной его воображением. Ему претило выздоровление Альфреда Субирона, а ослепительная молодость тещи представлялась теперь, когда над нею уже больше не витал призрак смерти, какой-то непристойностью. Мартену все время приходилось выдерживать борьбу с сокровенным желанием наслать то на героя, то на героиню какую-нибудь хворь, ну, скажем, хотя бы легкую форму ревматизма, дабы они, избалованные отличным здоровьем, вдруг призадумались над хрупкостью человеческого существования.
Но, отлично сознавая, к какой пропасти мог привести его этот скромный реванш, он живо представлял себе чековую книжку, распускающуюся, как цветок, в руке издателя, и этот образ придавал ему силы для успешной борьбы с искушением. И все-таки угрызения совести оказались для Мартена благотворны: они заставили его с крайней взыскательностью отнестись к развитию действия. Пусть издатель вторгается в сферу случайного, но уж во всем, что касается психологической правды, он, Мартен, ему ни за что не уступит.
Однажды, когда Мартен сидел за письменным столом — день уже клонился к вечеру — и как раз приступал к работе над главой, где должны были развернуться бурные события, раздался звонок, и он крикнул:
— Войдите!
Порог комнаты переступила женщина крупного телосложения. Ее платье, хотя и сшитое из дорогой материи, изяществом не отличалось. В руках она держала зонтик внушительных размеров. Лицо у нее было одутловатое, а кожа на шее и в вырезе платья — дряблая и красноватая, как это часто бывает в период увядания у женщин сангвинического склада.
Мартен, который был подхвачен бурным течением одной длинной фразы, сделал, не поднимая глаз и не отрывая пера от бумаги, левой рукою жест, означавший, что он просит простить его. Присев в нескольких шагах от Мартена, посетительница безмолвно созерцала в свете настольной лампы его профиль. И, покуда она отдавалась этому занятию, выражение ее лица, благодушного лица добропорядочной женщины, постепенно искажалось, и в нем отражались то гнев, то ужас. Иногда ее взгляд останавливался на бегавшем по бумаге пере писателя, и в сумерках глаза ее загорались огнем любопытства.
— Прошу прощения, — сказал Мартен, вставая, — я позволил себе дописать до конца фразу, которую нужно было сочинить на одном дыхании. Нам, писателям, всегда кажется, что нашим пером водит вдохновение, — это одна из смешных особенностей нашей профессии.
Он ждал от нее учтивого ответа на свои извинения. И в самом деле, губы ее зашевелились, но лишь для того, чтобы издать какие-то нечленораздельные звуки.
По-видимому, она была очень взволнована. Мартен принес извинение за то, что заставил ее сидеть в полутьме, и пошел включить верхний свет. Теперь, когда комната была хорошо освещена, ему вдруг почудилось, что с этой женщиной он давно и хорошо знаком. Но, вглядевшись в ее лицо, он убедился, что никогда ранее ее не видел. И все же ему казалось, что какой-то отзвук в памяти у него вызывают и полнотелость его уже немолодой гостьи, и этот зонтик у нее в руках. Когда глаза их встретились, она сказала с оттенком меланхолической иронии в голосе:
— Вы, конечно, меня не узнаете?
Неуверенный тон, которым Мартен опроверг это предположение, как бы говорил о его желании, чтобы собеседница пошла ему навстречу и помогла восполнить пробел в памяти. Склонившись над зонтиком и протянув руку в перчатке, гостья стерла кончиком пальца едва заметную пыль, которую она только что обнаружила, и подняв глаза на хозяина дома, произнесла:
— Я госпожа Субирон.
Увидев перед собою супругу начальника канцелярии, Мартен нисколько не удивился. Довольно-таки обычное явление: персонажи романа часто посещают автора — правда, столь явственно они предстают перед ним редко. Так или иначе, но эта встреча подтверждала, что ему удалось с неподражаемым мастерством вдохнуть душу в свой персонаж, и он предался размышлениям: «Ах, если бы увидели это воочию критики, — ведь они упрекают меня в том, что я стою в стороне от жизни! Как бы их мучила совесть!..»
— О, я так и думала, что вы меня не узнаете, — продолжала госпожа Субирон, сопровождая свои слова глубоким вздохом. — Ведь добропорядочная сорокасемилетняя женщина, замужняя, хорошая хозяйка, которая никогда не была втянута ни в какие скандальные истории и никогда не нарушала своего долга, это всего лишь третьестепенный персонаж, очень мало интересующий романистов. Они предпочитают иметь дело с распутными тварями.
Горький привкус последних слов взволновал Мартена, который приподнялся в знак протеста. Испугавшись, что она восстановила его против себя, госпожа Субирон поспешила добавить:
— Вас я нисколько не упрекаю. Я хорошо представляю себе, что значит быть художником… Господин Мартен, вы, верно, догадываетесь, что привело меня к вам. Когда два месяца тому назад я с нашим мальчиком уехала на Юг, операция у моей матери была уже позади, но бинты еще не были сняты, и поэтому никак нельзя было ожидать такого результата. А теперь я вернулась, позавчера, и увидела эту молодую женщину… Бог мой, какая перемена!..
— Она просто восхитительна, это так! — не сдержался Мартен.
— Восхитительна, восхитительна! Да разве на семьдесят втором году женщина может быть восхитительна? Да она просто смешна, моя матушка. А что сказать обо мне? Ведь я выгляжу лет на двадцать старше ее. Но вам и дела до этого не было. Ведь должно же было вас остановить неприличие такой постыдной страсти! О господи, бедный, бедный господин Субирон! Всегда такой спокойный, такой вежливый и еще такой ласковый… Как он мог помышлять об этих вещах?.. Но что же все-таки происходило, пока меня не было? Ведь кто же больше вас в курсе дела?..
— Увы! — вздохнул Мартен. — В этом есть что-то роковое. Вам ничего не писали, чтобы не волновать вас, но вы ведь знаете, что господин Субирон был болен, причем очень серьезно и были все основания тревожиться за его жизнь. Ваша матушка преданно, не щадя себя, ухаживала за ним, и почти безотлучное присутствие ее у изголовья больного не могло не взрастить опасной близости. Разве в сорок пять лет мужчина останется равнодушен к молодости и красоте, сияющим, как ему кажется, лишь для него одного? К таким вещам следует относиться снисходительно… К тому же нужно воздать господину Субирону должное: он изо всех сил боролся с собой. Лишь в прошлый понедельник он впервые выказал свою любовь. После ужина они, как всегда в последние пятнадцать лет, сели играть в домино, и господин Субирон поддался ей, хотя ставка была целых двадцать пять су.
Глаза госпожи Субирон расширились, руки задрожали.
— Альфред! — прошептала она, и голос ее пресекся. — Он поддался… О! Все кончено…
— Нет, нет, успокойтесь, — сказал Мартен. — Еще ничего не случилось. Кроме того, у вашей матушки весьма неясное душевное состояние. Она все еще старается разобраться в себе. Способна ли она сама на любовь, которая в определенном смысле будет соответствовать любви вашего мужа? Не берусь пока что утверждать…
— Во всяком случае, — глубоко вздохнула она, — одно ясно: Альфред любит ее. Возвратившись домой, я увидела, какими глазами он смотрит на мою мать. Знаете, есть ведь такие признаки, которые жен никогда не обманут.
— Не скрою, что он очень влюблен, — признал Мартен. — Да, она действительно полна волнующей красоты, эта необузданная сила вожделения, это могущество любви, которая ранее не находила точки приложения.
Госпожа Субирон вся залилась краской, кожа в скромном вырезе платья пламенела. Гнев душил ее, и она не могла облечь его в слова. Увлекшись своим рассказом и забыв о том, кто сидит перед ним, Мартен говорил так, как если бы его слушал кто-либо из собратьев по перу.
— Признаться ли вам? — произнес он с улыбкой, выдававшей легкое волнение. — Хотя я дал себе слово оставаться строго беспристрастным, эта бурно растущая, всепоглощающая, грозящая снести все барьеры и преграды страсть разбудила в моей душе нечто вроде сопереживания и смутное желание стать сообщником. Случается порою, что я просто хмелею от этой терпкой атмосферы, и тогда мне стоит большого труда совладать с желанием приблизить минуту соединения любящих. Вот в чем таится опасность для художника, скажете вы. Да, это так, но не забудем и о другом: тот не художник, кто остается бесчувственным, как пень…
Госпожа Субирон поднялась с кресла и, сжимая в руках зонтик, направилась к Мартену. Увидев грозное выражение ее лица, он невольно попятился к столу.
— Как пень, как пень! — крикнула супруга начальника канцелярии. — Не желаете быть пнем, так и не будьте им, ради бога! Но господина Субирона оставьте в покое. Вы не смеете ввергать его в пучину разврата, не смеете! Если вы готовы, как вы изволили выразиться, приблизить минуту соединения, так пусть это будет законное соединение супругов, всю жизнь живущих в полном согласии! Здесь есть о чем писать, и это будет честный роман, а не грязная писанина! У меня тоже бывают различные душевные состояния со всеми вытекающими последствиями… Но господину Субирону не приходилось на это жаловаться. Так в чем же смысл этих ваших россказней?
С этими словами она протянула руку к листам рукописи, лежавшим в беспорядке на столе, и, преодолевая сопротивление автора, комкала их и сбрасывала на пол концом зонтика, которым она в то же время сбоку, как шпагой, теснила противника. Наконец, разбитая после бурной вспышки гнева и терзаясь мыслью, что Мартен будет ей мстить, она опустилась в кресло и разрыдалась.
Взволнованный этой горестной картиной, Мартен пытался защититься от угрызений совести. Но хоть он и говорил себе, что в конце концов тяжкое испытание, выпавшее на долю госпожи Субирон, не катастрофа, поскольку муж — а это было самое главное — остался в лоне семьи, кошки скребли у него на сердце и он не мог отделаться от мысли, что, если бы осложнения после пневмонии унесли в свой срок начальника канцелярии в мир иной, его вдова жила бы безмятежной жизнью, получая пенсию от государства и упиваясь воспоминаниями о своем образцовом супруге. А теперь было слишком поздно отправлять его на тот свет.
Осушив слезы, госпожа Субирон устремила на него взгляд, исполненный мольбы.
— О великий мастер! — воскликнула она, горя желанием польстить Мартену. — Вы видите наше горе… Будьте великодушны, сжальтесь над нами… Подумайте, в какую бездну позора ввергнет подобная страсть уважаемое всеми семейство. Мой муж — кавалер ордена Почетного легиона, его всегда ценили начальники… Подумайте и о моей бедной матушке, которая всю жизнь отличалась безупречным поведением. В нашем доме дорожили и дорожат религиозными чувствами. Я напоминаю вам об этом, хоть вы более, чем кто-либо, обо всем осведомлены, но я знаю, что, как все писатели, вы не жалуете церковь.
Мартен слушал ее, опустив голову. Ему было явно не по себе.
— Господин Мартен, при вашем редкостном таланте вы можете написать хорошую книгу и без всех этих гадостей.
— Весьма возможно, — сказал Мартен, — но моя ответственность за все, что происходит в этой истории, вовсе не столь велика, как вам кажется. Всякий порядочный романист подобен господу богу: власть его ограничена. Его персонажи пользуются свободой, и, когда они несчастны, ему остается только сострадать им и сожалеть, что их молитвы не приносят избавления. Творцу только дано право даровать им жизнь или обрекать их на смерть, а в сфере случайного, где силы рока порой предоставляют ему некоторую свободу действий, он может хоть немного облегчать их участь. Нам еще менее, чем богу, дозволено менять свои замыслы. Все предрешено уже на старте. Не пытайтесь гнаться за стрелой, после того как она вылетела из лука.
— Но не станете же вы меня уверять, что перо ваше движется само по себе.
— Нет. И все-таки я не могу заставить его писать все, что хочу… И ваш муж, например, в докладной записке на имя министра тоже не может писать все, что ему заблагорассудится… У меня вряд ли намного больше свободы выбора, уверяю вас…
Госпожа Субирон не желала верить в то, что его власть имеет какие-то пределы. Ему ничего не стоит, сказала она, взять в руки перо и начать писать под ее диктовку. Но, так как писатель в ответ только уныло пожал плечами, она закончила свою речь вопросом:
— Итак, вы ничего не хотите сделать для меня?
— Хочу, — ответил Мартен. — Я горю желанием сделать для вас все, что в моих силах.
— Правда?
— Правда… Но что я должен предоставить вам, по вашему мнению? Может быть, путешествие за границу в сопровождении сына? Расстояние притупит боль от измены супруга в случае, если…
— Уехать, чтобы полностью развязать ему руки, не так ли? Иными словами, стать его сообщницей?
Какое-то мгновение Мартен внимательно разглядывал госпожу Субирон, как бы взвешивая возможности, которые судьба давала ему в руки, чтобы облегчить участь несчастной супруги.
— Быть может, любовника? — предложил он не очень убежденно. — Хотите любовника?
Госпожа Субирон поднялась с кресла и, смерив Мартена взглядом, вздернула в знак прощания подбородок.
«Бедняжка! — размышлял он, когда она ушла. — Есть только одно средство избавить ее от мучений — отправить на тот свет. Издатель будет недоволен, но надо быть человечным, это главное. Пусть она поживет еще три недели. Как раз успеет захватить последний акт адюльтерной драмы. Полагаю, что она меня еще снабдит весьма занятными переживаниями».
Семья Субирон сидела за ужином. Склонившись к теще, начальник канцелярии сказал ей прерывающимся голосом:
— Скушайте еще ломтик телятины, это вам пойдет на пользу…
Натянуто улыбнувшись, она отказалась и слегка покраснела. Было отвратительно смотреть, как он обволакивал похотливым взглядом чистое лицо женщины, ее обнаженные руки восхитительной формы, тугой, вздымающийся от волнения бюст, и в то же время в этом было что-то трогательное.
— Альфред, — колко сказала госпожа Субирон, — не пичкай маму. В ее возрасте лучше не наедаться. Особенно перед сном.
Услышав эти слова, сын супругов Субирон, девятилетний мальчик, стал настойчиво осведомляться о возрасте бабушки, но отец рассердился:
— Сколько раз тебе говорили, чтобы ты молчал, когда тебя не спрашивают!.. Где еще найдешь таких недоумков! — воскликнул он, пожимая плечами.
В столовой, обставленной мебелью красного дерева, воцарилось молчание. Под столом господин Субирон искал рукою ногу тещи, а та не решалась отодвинуться от него. Глаза его блуждали, шея под воротничком вздулась.
— Армандина, Армандина… — шептал он, окончательно теряя голову.
До сих пор он еще никогда, во всяком случае в кругу своей семьи, не называл ее по имени. Этого госпожа Субирон вынести не могла. Бурным порывом вырвался наружу зревший в ее душе мятеж, но не столько против мужа и матери, сколько против роковой опасности, нависшей над семьей, против ненавистного могущества Мартена. Она вдруг решила противиться этой опасности и хоть раз дать бой тому, кто был виноват во всем. Кто же он, в конце концов, этот человек, командующий ими по прихоти своего пера? Сопливый мальчишка, халтурщик, чье всемогущество зиждется лишь на слабоволии его персонажей, на их слепом послушании. Так должно же быть на свете — госпожа Субирон это чувствовала — какое-то средство, которое поможет уйти от мрачной судьбы. Нет, не отречься от своего творца и не предать его проклятию, это все равно ни к чему не приведет, но, может быть, как-то выйти из-под его контроля, уйти из круга его деятельности? Ты можешь, например, сочинить себе такую ситуацию, при которой перо романиста откажется следовать за своим созданием, можешь найти убежище за пределами всякой реальности, за пределами траектории, намеченной твоим творцом на старте, — короче говоря, спрятаться от него в мире абсурда и неправдоподобия.
Госпожа Субирон изо всех сил напрягла свою фантазию. К величайшему изумлению всех присутствующих, она разразилась хохотом и, сняв с ноги туфлю, положила ее на тарелку. После чего, взяв с блюда ломтик телятины, она сунула его себе за корсаж.
— Ах, как я была голодна! — сказала она, сладострастно поглаживая живот.
Ее мать и господин Субирон с тревогой поглядывали друг на друга. Взяв еще один ломтик телятины, госпожа Субирон стала напевать припев «Карманьолы». Вдруг она замолкла — ей пришла в голову мысль, что вся эта комедия не выходит за границы правдоподобия и что она, наверно, тоже продиктована Мартеном. Вместо того чтобы расстроить его планы, она, оказывается, дала ему материал еще для одной страницы романа.
Вокруг все засуетились, спрашивали, что случилось.
— Ничего, ничего, — вяло отвечала она, — не волнуйтесь… Я попыталась кое-что предпринять, но это еще не то… У меня не получилось.
Тем не менее на начальника канцелярии произвела впечатление эта странная выходка, он перестал неприлично вести себя и, сделав усилие, завязал разговор с супругой. До самого конца трапезы длилась беседа, которую даже можно было назвать оживленной. Говорили о кузине из Клермон-Феррана, о росте налогов и о том, что бараний язык хорошо готовить со шпиком и шампиньонами. Госпожа Субирон, по-видимому, живо интересовалась обсуждаемыми вопросами и высказывала те на редкость благоразумные и подтвержденные опытом истины, которые она некогда принесла в этот дом вместе со своим приданым. И только время от времени — чаще всего после того, как она что-нибудь говорила, — госпожа Субирон становилась рассеянна и нервозна. В эти минуты ей казалось, что какое бы слово она ни произнесла, оно было заранее проверено и одобрено Мартеном. Чем больше она об этом думала, тем невыносимее становилась для нее эта зависимость.
Всю ночь она не смыкала глаз, размышляя над тем, как найти ключ к разрешению задачи, которую она поставила перед собой за ужином, и сбросить с себя надетые Мартеном цепи. Горя нетерпением, она даже чуть ли не забыла о драме, которая могла вот-вот сокрушить ее семью. Господин Субирон, мирно почивавший рядом, раздражал ее, и его размеренный храп в конце концов вывел ее из себя. Она злилась на него за то, что, безропотно отдав себя в руки писателя, он не позволял себе даже слабых намеков на протест.
Ей захотелось взглянуть на спящего, и она зажгла лампу. И тут ей пришло в голову, что она могла бы сыграть штуку с Мартеном, убив мужа, пока он не проснулся. Это, вероятно, означало бы разрушить весь замысел и полностью уничтожить роман. Она пошла за револьвером, вынула его из стола, но не выполнила своего намерения, — сердце дрогнуло, не помогла даже мысль о том, что Мартен не согласился бы на убийство Субирона. Она положила револьвер на место. К тому же в какой-то миг она уверенно сказала себе, что, если бы это убийство было совершено, оно тоже не противоречило бы замыслу автора. Нет, выход был не в этом.
До самого утра она напрягала все силы ума, стремясь познать очертания этого лабиринта и найти нить Ариадны, но в какую бы сторону она ни пошла, она натыкалась на стены. В конце концов она решила, что все эти размышления, вместо того чтобы помогать ее поискам, запирают ее в еще более тесных стенах. Правда, иногда в минуту крайнего утомления, когда ее внимание рассеивалось, ей казалось, что она нащупывает путь к избавлению. Когда в голове было пусто и госпожа Субирон была не в состоянии сосредоточиться, она вдруг оказывалась у той черты, за пределами которой начиналась область, Мартену не подвластная. Убежище было рядом. Вот она, свобода! Но тотчас же какая-то, почти неосознанная, мысль как бы восстанавливала контакт с действительностью, писатель снова брал бедную женщину в свои руки и запирал ворота темницы.
Отныне она заставляла себя всеми силами желать свободы, не разрешая себе размышлять о ней. Вместо того чтобы выходить из себя и придумывать доводы против тирании Мартена, она только тихо шептала: «Я хочу вырваться из этого… вырваться…»
На следующей неделе страсть начальника канцелярии усилилась еще более. Каждый вечер он возвращался со службы домой с огромным букетом роз, стоившим кучу денег.
— Я тебе принес цветы, — говорил он жене. А потом, обращаясь к теще, добавлял, не так уж сильно понизив голос: — Это тебе, Армандина… Тебе…
Госпожа Субирон с удивительной стойкостью сносила оскорбления, и даже лицо ее за это время почти не осунулось. Иногда, правда, еще случалось, что она приходила в ярость, но эти приступы посещали ее все реже и реже. Злоупотребляя безразличием жены, Субирон с еще большей настойчивостью ухаживал за ее матерью. Как-то раз вечером, когда, стоя в дверях и сжимая ее в объятиях, он осыпал поцелуями ее затылок, госпожа Субирон застала их. Ласково улыбнувшись обоим, она пробормотала:
— Девочки-сиротки ходят с протянутой рукой… География вполне созрела… Нужно пользоваться шпилькой для волос…
Великий кинокритик Матье Матье зашел к своему лучшему другу Мартену, когда тот сидел за работой, Матье Матье привел с собою крошку Жижи, за которой он по дороге зашел в бар «Пуховик». Мужчины завели долгий разговор о будущем железных дорог. Матье Матье полагал, что они исчезнут в ближайшее время и что их заменит автомобильный транспорт с огромной пропускной способностью. Мартен в это не верил. По его мнению, железные дороги еще переживают пору детства. Электрификация поездов, уверял он, таит в себе неисчерпаемые возможности, об этом можно говорить без конца. Жижи сидела в кресле и в разговор не вмешивалась. Наконец она заявила, обращаясь прежде всего к Матье Матье:
— Надоели вы мне, кретины несчастные, с вашими железными дорогами!
— А ты не можешь заткнуть свой фонтан хотя бы на время? — разозлился Матье Матье. — Ты что, у себя дома, что ли, поганка?.. Подумать только: целый год я таскаюсь с этой коровой! И все из-за хорошо скроенной ноги, на которую упал мой глаз, когда я был под мухой!
— Нет, это я тебя попрошу заткнуть фонтан, — парировала Жижи. — Мне-то уж во всяком случае ни к чему, чтобы ты в разговоре с посторонним копался в нашем грязном белье… А потом он возьмет да вклеит меня в свой роман…
— А не выпить ли нам водки? — предложил Мартен умиротворяюще. — У меня как раз есть…
— Из-за ноги! — рычал Матье Матье, не слушая его. — Я погиб из-за ноги! И мой талант погиб, и все на свете. Жить не хочется. Хоть бы война разразилась! А с нею вместе и чума, да покрепче… О, господи, сколько вони нанюхаешься, пока на свете живешь!..
И, словно поворачиваясь спиной к бытию, он отошел к окну, выходившему в темный двор. Когда припадок меланхолии кончился, он вернулся на середину комнаты и спросил, указывая на листы бумаги, которыми был завален стол его лучшего друга:
— Подвигается эта твоя штука?
— Д-да-а… Подвигается… — И Мартен взглянул с некоторой грустью на исписанные мелким почерком страницы.
— А вид у тебя недовольный, — заметил Матье Матье.
— Нет, я не могу сказать, что недоволен. Роман — такой, каким он и должен быть, жаловаться не на что…
Я тебе сюжет пересказывал?.. Не плюй на пол, мне это неприятно, я тебе уже говорил… Так ты не забыл сюжета?
— Верно, верно, — сказала Жижи, — плевать на пол — это омерзительно! Если уж корчишь из себя воспитанного, то…
— А знаете, это не так важно, — возразил Мартен. — Когда нужно плюнуть, не думаешь, куда плевать. Мне на днях рассказывали об одной адмиральше или графине — я не помню, как ее имя, — которая плевала на пол, даже сидя за обеденным столом…
— И все-таки это омерзительно.
— Да заткнешься ли ты? — закричал Матье Матье.
— Ну, хватит, хватит, — сказал Мартен. — Успокойся!.. Ну, так не забыл сюжета?
— Нет, нет… Начальник канцелярии… Отремонтированная теща… Помню, помню… Для кино она не очень годится, твоя штукенция. На экране я этого не вижу… Но в конце концов… Так где у тебя там зацепилось?
— Да ничего, все в порядке, будь спокоен. Но мне только что был преподнесен сюрприз, и довольно-таки неприятный. Я ведь тебе рассказывал о жене Субирона — правда, не очень подробно. А между тем это образ прямо-таки классический. Сорок семь лет. Телеса — что надо. Добродетельна. Бережлива. Чистоплотна. Банки с вареньем. «Эко де Пари». Раз в месяц прием для супруг мужниных коллег…
— Ой, помолчи, — взмолился Матье Матье, — у меня слюнки текут. Как подумаю, что и я имел бы счастье наткнуться на такую бабу, как твоя Субиронша…
— Это был такой безликий персонаж, и я так мало от него ожидал, что решил держать его насколько возможно в тени. Я даже дошел до того, что мне стало жаль, что я ее создал. Но тут я увидел, как она страдает, и это было для меня первым сюрпризом. Даже трудно себе представить, какие скрытые резервы содержат в себе такие коровьи натуры… Какая-то девственная чистота скорби… Но я тебе покажу страницы, где это описано. Нечто потрясающее, можешь не сомневаться. А чтобы она не заполонила всей книжицы, ну и немножко также из сострадания, я решил отправить ее на тот свет в тот момент, когда она узнает об измене Субирона. Оставалось каких-нибудь две недели, самое большее — три…
— Ты просто маньяк какой-то. Не можешь не ухлопывать своих людишек. А по какому праву, собственно говоря?
— То есть как так, по какому праву? Да по праву романиста! Я не могу заставлять своих персонажей смеяться, когда им хочется плакать. И обязывать их действовать по закону чувств, которых они не испытывают, я тоже не могу, но никто никогда мне не запретит умерщвлять их. Смерть — это такая возможность, которую каждый носит в себе всегда и везде. Тут я бью наверняка, какой бы момент ни выбрал.
— Вообще-то я не против… Разок-другой не помешает, даже неплохо — чтобы было о чем подумать… Но злоупотреблять нельзя…
— Вернемся к жене Субирона — ведь история действительно занятная. Горе у нее сразу же превратилось в страх перед судьбой, в одержимость идеей рока… Кто бы мог подумать, верно? И все же это так… Однажды вечером она взбунтовалась…
— Взбунтовалась? Но против кого? Против судьбы?..
— Против судьбы, говоришь? Эта дамочка не так глупа! Она прекрасно знает, что никакого рока нет, что это только так говорится… Нет, она взбунтовалась против самого бога. А бог, он есть! Бог — это я. Да, да, я, Мартен! И вот что она сказала себе самой: «Я вся целиком сотворена богом, и у меня нет никаких возможностей смягчить его. Он отказывается вмешиваться в мою жизнь и добивается только одного: чтобы во всех делах я вела себя так, как этого требует особый механизм, который он называет глубинной правдой моего образа. Ну так я развинчусь». И вчера вечером госпоже Субирон удалось-таки развинтиться: она сошла с ума… Через несколько дней, я думаю, муж запрет ее кое-куда. Так или иначе, но из моих рук она вырвалась.
— Но у тебя в запасе всегда остается одно средство: ты можешь ее ухлопать… Кстати, это входило в твои планы…
— Вот как раз и нет, теперь уже не могу! Это меня и бесит… Честное слово, не могу. Откуда мне знать, может ли смерть настигать безумцев, как нормальных людей, в любое время суток? Кто мне это скажет? Может быть, в какие-то часы и минуты они неуязвимы? А может быть, они вообще всегда неуязвимы и умирают, только когда сознание просветляется? Я слышал, как один врач рассказывал, что безумие возвращало здоровье некоторым больным, а другим пациентам придавало такие жизненные силы, которыми никогда ранее они не обладали. Во всяком случае, я не пойду на риск и не стану кого-то отправлять на тот свет, нарушая правдоподобие. Ничего не поделаешь, приходится смириться. Госпожа Субирон вышла из моего романа или, если тебе это больше нравится, осталась в нем только в память о прошлом. Досадно, досадно!.. Подумай только, мне теперь некого отправлять на тот свет! Мой издатель, я в этом не сомневаюсь, простил бы мне смерть какого-нибудь третьестепенного персонажа, но он не пожертвует ни Субироном, ни его тещей, а раз мне нужны деньги… Еще вчера вечером я просил, чтобы он позволил мне решить судьбу начальника канцелярии. Так и не уговорил его.
Матье Матье задумчиво разглядывал Жижи, которая заснула в кресле с вечерней газетой в руках. Скользнув по ее фигуре, взгляд его остановился на открытой до колена ноге в бежевом чулке. Это была очень красивая нога, он не мог отвести от нее глаз. Наконец, встрепенувшись, Матье Матье словно сбросил с себя порывистым движением оковы и, наклонившись к Мартену, произнес вполголоса:
— Скажи-ка, старина, а малютку Жижи ты не мог бы ввести в свой роман? Из нее бы получился прекрасный третьестепенный персонаж… И даже еще менее важный… Ее бы ты мог спокойно… Ничто бы тебе не помешало…
— В мой роман не входят как в собственный дом, — возразил Мартен.
— Я понимаю… Но ради друга… Ради меня…
— Это очень серьезная операция, то, о чем ты меня просишь. Не знаю, отдаешь ли ты себе в этом отчет. Прежде всего дело это крайне деликатное. Силой ее в роман не затащишь. Нужно уговаривать, нужно хитрить. Это не так просто. И потом… Нет, ведь это… А?.. Бедняжка Жижи… Я не хочу, чтобы с ней приключилась беда.
— Мартен, удружи, не отказывайся… Не отказывайся спасти меня… Подумай о том, какое мерзопакостное существование я влачу…
— Но, старик, ведь это тебе ничего не даст… Я тебя хорошо знаю. Эта нога… Она въелась в тебя. И в глазах твоих все время торчит, ты в нее влюблен. Я могу точно сказать, что будет дальше. Не успеет Жижи оказаться в моем романе, как ты сразу побежишь за нею туда же… А что я буду делать с тобой, с персонажем четвертой или пятой степени?.. Так как же?..
— Меня-то ты, надеюсь, не отправишь на тот свет? — спросил Матье Матье.
— Ничего не могу сказать, — ответил Мартен, пожимая плечом. — Все зависит от обстоятельств…
Вскочив со стула и с ужасом взглянув на своего лучшего друга, Матье Матье подошел к Жижи и стал ее трясти:
— Проснись, Жижи! Вставай, мерзкая потаскуха! Пойдем отсюда! Меня прокляли, выбросили на помойку! Нет у меня больше друзей, ничего не осталось, кроме этой проклятой ноги, которая светит на небе моей гниющей жизни. Я сирота из сказки, я гяур, я амхарская жемчужина в жестяной оправе. Писатели — это потрошители трупов!.. Вперед, радость моя, валяй вперед! Он хотел меня убить!.. Жижи, мне страшно… Что он там накручивает, этот заплечных дел мастер?.. Отдай ему, видишь ли, свой глаз, отдай все на свете… Мне страшно, Жижи. Вези меня отсюда, моя кобылка…
Госпожа Субирон находилась в доме для умалишенных, а ее сын жил на полном пансионе в иезуитском коллеже. Первое время начальник канцелярии спрашивал себя, не может ли он теперь, воспользовавшись случившимся несчастьем, сломить наконец сопротивление тещи. И лицемерно отвечал самому себе так: если бы его супруга была в здравом уме; он никогда не унизил бы ее созерцанием своих беспутных похождений, но при нынешнем ее состоянии его не должно останавливать такое соображение, как боязнь нанести оскорбление жене. И, уж разумеется, он не преминул пустить в ход этот аргумент в разговоре с тещей.
— Нет, нет, это невозможно, — решительно возражала Армандина. — Вы забываете, что я ее мать!
— Напротив! — парировал Субирон. — Разве ваша роль теперь не состоит в том, чтобы заменить ее у очага?
— Нет, я не имею права. Не мучьте меня, Альфред. Это было бы ужасно, это было бы…
— Я все хорошо понимаю, — говорил он, по-прежнему лицемеря. — Это суровое испытание, но господь нам поможет.
При этих словах Армандина вздыхала и спрашивала себя, не решил ли Мартен в самом деле толкнуть ее на такой путь. Она не хотела поверить в это. У нее, у бедняжки, родившейся в 1865 году, были устарелые представления о литераторах, она и не подозревала, как неумолимы те научные методы, которым писатели нашего времени подчиняют свое дарование. Она наивно полагала, что, развив в романах интриги, порою чреватые опасностями, авторы должны в заключение, ради назидательной концовки уладить все наилучшим образом. Эта вера придавала ей силы и помогала так настойчиво сопротивляться своему зятю. Субирон вскоре понял, что словами ему ничего не добиться. И он сменил тактику. Возвращаясь со службы домой, он кидался на Армандину рывком, как дикарь, пользуясь внезапностью нападения, но ей, изящной и подвижной, всегда удавалось, ускользнув от него, скрыться в другом конце квартиры. Всем стоит прочитать в романе Мартена страницы, где описаны эти скачки с препятствиями: вопли, опрокинутая мебель, осколки кошачьего блюдца, китайские вазы, дребезжащие за спиной преследователя.
— Армандина, я хочу тебя! — ревел взбесившийся самец, изрыгая отвратительнейшие проклятия.
— Альфред, друг мой, вы терзаете меня! — стонала она, преодолевая очередное препятствие.
Счастливыми для Армандины были только те часы, которые Субирон проводил на службе, но, вздохнув сначала с облегчением, она затем вновь предавалась своим печальным размышлениям. Одиночество тяготило ее. Однажды она получила приглашение на банкет клуба «Пух-перо», где председательствовал знаменитый писатель, а могущественный издатель выполнял обязанности его заместителя. Она была очень признательна Мартену за то, что он послал ее туда, и прежде всего помчалась к своей портнихе.
Банкет клуба «Пух-перо» превратился в важное событие в литературной жизни и получил значительный резонанс. За бокалом шампанского здесь, например, говорили о том, каково должно быть будущее общественной мысли и что представляют собой идеальные носители человеческого духа. Гул восторга прокатился по залу, когда его порог переступила Армандина. Мужчины говорили, что они никогда еще не видели женщины, которая была бы так сексапильна, как эта гостья. Заместитель председателя, который оказался не кем иным, как издателем Мартена, не мог оторвать от нее глаз. Среди присутствующих было несколько героинь романов, с гордостью представленных их авторами, но ни одна из них и думать не могла о соперничестве с Армандиной.
Издатель подошел к ней, поздоровался и осыпал Мартена комплиментами, как никогда искренними. После короткой беседы Мартен оставил обоих наедине, извинившись и сказав, что он должен срочно с кем-то встретиться. Издатель провел Армандину к буфетной стойке, где они выпили несколько бокалов шампанского. Из-за собеседницы он начисто забыл об обязанностях заместителя председателя и к концу дня был по уши влюблен.
А вечером у Мартена зазвонил телефон:
— Алло! Это вы, дражайший Мартен? С вами говорит ваш издатель. Не могу не поздравить вас еще раз с успехом. Ваше творение просто поразительно! Такое возвышенное, правдивое, привлекательное и в то же время такое близкое к действительности и такое… Ах, поверьте, этот образ не поблекнет никогда.
— Вы полагаете? Ну что ж, тем лучше. Я очень доволен.
— Да, скажите-ка… Я ведь думаю о выпуске книги в свет… Мне бы нужно было… Для рекламы, вы понимаете?.. Мне бы нужно было изучить эту женщину… Нам с нею никак нельзя было бы повидаться?
— Боже мой! Ну разумеется. Днем я ее сейчас не занимаю… Она, конечно же, не откажется повидаться с вами…
— О, вы так любезны!.. Алло! Я говорю: вы так любезны!
— Вы больше ни о чем не хотите меня спросить? — сказал Мартен каким-то сдавленным голосом.
Наступило молчание, а через некоторое время голос издателя прозвучал не без сомнений:
— Нет, благодарю вас, больше ничего. До свидания, дорогой друг!
Мартен с разочарованным видом повесил трубку, затем оделся и спустился в бар «Пуховик». Там, обороняя свои последние пятьсот франков, Матье Матье препирался с Жижи, которая хотела купить костюмчик спортивного покроя. Он возражал, аргументируя тем, что цивилизации грозит опасность и что она обречена на гибель в ближайшем будущем, если элита не покажет примера всему человечеству, возвратившись к величайшей, даже аскетической простоте нравов.
— Вот я, например, — говорил он, — самый великий кинокритик Парижа, а может быть, и всей Европы, но взгляни на мой галстук и скажи, видела ли ты еще на ком-нибудь такую же грязную тряпку. Я ношу его уже целых два года, но не потому, что у меня не было денег, чтобы купить новый. Прошло только три недели, как я оттяпал у «Фильм ассосье» три тысячи франков за похвальный отзыв об их дурацкой ленте, и я мог бы купить себе целый набор галстуков. Но я понял, что, когда живешь в простоте, остаешься чистым и сильным для духовного…
— Это все болтовня! — рассердилась Жижи. — И потом, я не знаю, что может быть еще проще, чем костюм спортивного покроя…
И, когда пришел Мартен, она уже в десятый раз описывала этот ансамбль из чистой шерсти, к которому были направлены все ее помыслы. Пока они пожимали друг другу руки, Жижи крутилась на холостом ходу, и, как только она собралась возобновить атаку, Матье Матье сказал Мартену, наступив ему под столом на ногу:
— Да, кстати, а как у тебя с квартирной платой? Выпутался? Как?
— Моя квартирная плата?.. А, да… квартирная плата… Ох, не напоминай мне об этом! Лечу в пропасть…
И не знаю, что делать, просто башка кругом идет… Все ясно: не достану денег до утра, опишут имущество. А не мог бы ты…
— Никак! Да ведь все равно мои пятьсот франков погоды не сделают.
— Как, что ты! Остальные двести как-нибудь наскребу. Одолжи мне. Я верну… Обещаю… Подумай о моей мебели, о торгах…
С горящими щеками Жижи не спускала глаз с Матье Матье, который, казалось, колебался. Наконец он вынул из кармана пятисотфранковую бумажку и, вздыхая, протянул ее Мартену:
— Не могу оставить друга в беде. Это выше моих сил.
Не попрощавшись и даже не напудрившись, со слезами на глазах, Жижи покинула их столик. Как только она вышла из бара, Мартен вернул своему лучшему другу пятьсот франков. Они заговорили о своих делах. Матье Матье поведал Мартену, что он только что вступил в первую фазу такого периода развития, который, по всей вероятности, будет весьма продолжительным.
— Да, старина, — сказал он, — мы даже не представляем себе, сколь многим талант обязан различным аксессуарам нашего творчества, всем этим мелочам, без которых не обойдешься. Возьмем, к примеру, меня. Вплоть до прошлой недели я всегда писал свои статьи авторучкой. Привычка и в какой-то мере суеверие… А на прошлой неделе Жижи мне ее сломала как раз в тот момент, когда я собрался сесть за статью. Одиннадцать вечера, в такое время новой авторучки, разумеется, не купишь, а статья срочная. Делать нечего, взял у администратора гостиницы простую ручку с простым пером. Там было перо, которое называют галльским. Не знаю, представляешь ли ты себе, как они выглядят, эти галльские перья…
— Ну, еще бы, конечно…
— Стругаю свою статью так, как это делаю обычно, и — подумай, до чего интересно! — не замечаю при этом за собою ничего. И только когда она уже напечатана и я ее перечитываю, у меня от удивления глаза на лоб лезут. Вся моя манера письма изменилась до неузнаваемости. Сверлящий стиль, проникающий в самую сердцевину любого препятствия и взрывающий его…
Читатель ни о чем не подозревает, и вдруг — раз! — один щелчок, и… готово. Вот что со мною сейчас происходит. О, авторучки — в душе я это всегда подозревал — недостаточно остры!.. По крайней мере для критики, ибо для поэзии — согласимся с этим — я не могу назвать более подходящего орудия, чем именно авторучка! И если я когда-нибудь напишу поэму, которую задумал…
— Ты будешь писать поэму? Ну ты никогда мне об этом не говорил! — воскликнул Мартен с упреком.
— Я об этом пока только подумываю… Поэзия кажется мне настолько хворой из-за своей огромной головы с несчастненькими бегающими глазками пастеризованного Мефистофеля, что частенько я рыдаю по ночам в постели. Я мечтаю написать эпопею, которая вернет поэзии конскую грудь и крепкий зад. Исходной точкой для меня, для моей поэмы является смутное сознание растений, или, если ты предпочитаешь этот термин, органическое мышление. Так как деревья в лесу рубят, чтобы они были затем трансформированы в шкафы и прочую мебель всякого рода, они в конце концов начинают осознавать свое назначение. И они сами к нему приспосабливаются. То есть, вместо того чтобы просто расти вверх, они уже на корню принимают форму буфета времен Генриха Второго, комода в стиле Людовика Шестнадцатого или стола эпохи Директории. И теперь уже людям больше не нужно их валить, они считают, что гораздо проще жить в лесу… Происходит примирение с природой…
Охваченный восторгом, Мартен многозначительно кивал головой.
— А впрочем, такой сухой пересказ мало что объясняет. Вот послушай-ка, чтобы тебе все стало яснее, я прочитаю тебе два-три стиха:
Прорвавши золотом зловещий круг широкий, Вельможей дочь в ночных мечтах ждет малабара И зрит, как пенятся тропические соки В дремучей спальне дебрей Макассара.— Хорошо! — сказал Мартен. — И даже здорово хорошо!
Матье Матье, порозовевший от волнения, смотрел на друга благодарными глазами. Затем, взяв его за руку, спросил:
— А ты как, что с твоим романом? Нашел, кого отправить на тот свет?
Мартен покачал головой. Нет, он никого не нашел. Душа Матье Матье была исполнена сострадания. Поэзия сделала его чрезвычайно добрым, и ему очень захотелось помочь своему лучшему другу. Некая мысль пришла ему в голову, и голосом, слегка дрожащим от чистого огня самопожертвования, он предложил:
— Хочешь, я войду в твой роман?
— Нет, нет! — возразил Мартен. — Подумай-ка сам! Во-первых, ты еще не успел сочинить поэму… И потом, вообще я на это ни за что не пойду! А что будет с моей совестью?
Наступило молчание… Матье Матье был чрезвычайно растроган собственным благородством. А Мартен тем временем погрузился в размышления.
— Конечно, — сказал он через некоторое время, — мне не трудно было бы пристроить тебя. Я очень хорошо вижу тебя, например, в главе, над которой сейчас работаю…
— Ну, раз не хочешь, — прервал его Матье Матье, — не будем больше об этом говорить. Много тебе еще осталось трудиться?
— Неделю, максимум десять дней… Тем временем, надеюсь, кое-что произойдет. Один человек должен меня посетить.
Визит, на который рассчитывал Мартен, заставлял себя ждать, и писатель с каждым днем нервничал все больше. Его роман очень продвинулся, и уже не было никакой возможности сдерживать начальника канцелярии, кроме как в те часы, когда он впадал в полное отчаяние и, словно дитя, рыдая ползал у ног Армандины. А у несчастной едва хватало сил сопротивляться.
Наконец, однажды вечером, предупредив Мартена по телефону о своем визите, к нему явился издатель. Мартен заметил, что вид у него был нездоровый и что одежда висела на нем как на вешалке.
— Садитесь, пожалуйста… Вот уж не ожидал, что вы ко мне заглянете… А я, представьте себе, как раз собирался завтра утром зайти к вам по делу… Мне, видите ли, нужно было бы получить аванс.
— Придете — поговорим… Не знаю, что там творится на вашем счете, но думаю, что в моих силах будет кое-что для вас сделать.
— Я даже уверен в этом. Вчера вечером я встретился с одним издателем — его имя я предпочитаю не называть, — и он говорил со мной об Армандине, он видел ее на банкете клуба «Пух-перо». Он сказал, что после такого успеха вы, конечно, отвалили мне порядочный куш… Я не хотел выводить его из заблуждения, но мне, признаться, было немного стыдно за свой не слишком новый костюм…
— А вы можете мне и не называть его имени… Я и так его знаю, этого издателя… Он вам что-нибудь предложил?
— Да… Но, знаете, ничего определенного…
— Так вот что я вам скажу: остерегайтесь его! Эта фирма на краю банкротства. И он, как и многие другие издатели, тоже желает нажиться на жертвах, которые я приношу, создавая имя авторам… На обещания он скор, да проку от этого немного… И учтите: если вам нужны деньги уже сейчас, я вполне готов…
Издатель достал чековую книжку, но, когда Мартен заговорил об авансе в тридцать тысяч франков, даже взвыл в знак протеста. Тем не менее в последовавшей затем дискуссии он не оказал упорного сопротивления. Ему явно хотелось сделать Мартену приятное. Дело кончилось тем, что писатель положил в карман чек на пятнадцать тысяч франков. Это была сумма, на пять тысяч превышавшая ту, которую он надеялся получить.
— Я пришел, чтобы поговорить о вашем романе, — сказал издатель, после того как расчеты были закончены. — Я очень интересуюсь вашими персонажами, и особенно Армандиной. Это очаровательная женщина, и к ней я питаю живейшую симпатию. Вы были так любезны, предоставив ей свободу днем, чтобы я мог ее изучать, и я вам за это весьма признателен. Но, к несчастью, Армандина не оправдывает моих надежд: она не поддается этому изучению. Вы понимаете? Она держит меня на расстоянии, и мне так и не удается ее постичь.
— Не сердитесь на нее, — сказал Мартен. — У нее такие заботы…
— Вот как раз об этих заботах я и хотел поговорить. Если я правильно понял полупризнания Армандины, она чувствует себя связанной страстью, которой сама она не разделяет. Сдаваться своему зятю она не хочет, но не хочет и предавать его, выбрав другого.
— Она совестлива, и это делает ей честь, — заметил Мартен.
— Несомненно… хотя, как подумаешь, этот Субирон со своими притязаниями просто гнусен… и его следовало бы покарать…
Издатель замолк, видимо ожидая, что Мартен сам поведет его теперь по пути, очертания которого еще не были видны. Мартен не понял своего гостя, и тот заговорил вновь, на сей раз уже игривым тоном:
— Друг мой, вы помните тот день, когда вы впервые заговорили со мной о вашем романе? По поводу развязки у нас с вами произошла перепалка… Я, если мне не изменяет память, проявил в некотором роде непримиримость…
Ласково похлопав Мартена по плечу, издатель продолжил со смешком:
— О, я знаю, вы на меня тогда не рассердились… К тому же ведь этот запрет не следует принимать всерьез… Вы, само собой разумеется, вольны поступать как вам заблагорассудится, и если, скажем, у вас появится желание кого-то отправить на тот свет… Я вот, например, подумывал об Альфреде Субироне. Персонаж этот, в сущности, только мешает. И потом — зачем скрывать? — его исчезновение доставит мне столько же удовольствия, сколько и вам.
Мартен кивал головою в такт словам наседавшего на него издателя, а затем произнес меланхолическим тоном:
— Какая жалость! Почему вы пришли так поздно? Вчера вечером я закончил роман. Я был не в состоянии дольше затягивать сопротивление Армандины. Страсть начальника канцелярии наконец передалась и ей: она сдалась… Кстати, все это получилось прекрасно, очень волнующе… Она раздевается с необычайной простотой, и он… Впрочем, вы прочтете сами, не буду портить вам удовольствие.
Издатель остолбенел, лицо его сразу же осунулось и побледнело.
— А нельзя ли, — спросил он запинаясь, — дописать еще одну главу?
— Никак нельзя, — ответил Мартен.
Он подошел к столу, достал, выдвинув один из ящиков, рукопись и поднес ее к глазам издателя:
— Пожалуйста! Вот последняя глава. Видите, тут после слова «наслаждение» я написал: «Конец».
С фактами пришлось считаться. Проглотив эту пилюлю, издатель долгое время хранил молчание. Потом, после того как Мартен положил рукопись на место, сказал сухо, но без больших надежд на успех, скорее всего просто для очистки совести:
— Верните чек!
— Потребуйте от меня чего-нибудь выполнимого, и я охотно для вас это сделаю, — сказал Мартен. — А в общем, не надо падать духом, черт возьми! У вас все впереди… Я прощаюсь со своими героями, но их жизнь продолжается. У начальника канцелярии уже было один раз воспаление легких, рецидив не исключается… Армандине может надоесть… Тогда наступит ваш черед проявить настойчивость…
— Нет, нет, для меня эта история кончилась, — вздохнул издатель. — А вы уже нашли заглавие для романа?
— Нет еще.
— Если хотите сделать мне приятное, назовите его «Армандина».
— Обещаю.
Роман «Армандина» имел шумный успех. То обстоятельство, что во всей книге Мартена не нашлось ни одного покойника, взбудоражило критику и читательскую элиту. Не прошло и полугода, как в одной только Франции были распроданы круглым счетом семьсот пятьдесят тысяч экземпляров. У Мартена появилось несколько новеньких костюмов и пара туфель тюленьей кожи. А своему лучшему другу Матье Матье он подарил великолепную авторучку, которая позволила ему приняться наконец за великую эпопею, чтобы тем самым спасти поэзию.
Статуя
Жил в Париже изобретатель по имени Мартен, а все считали, что он давно умер. На одной из маленьких парижских площадей ему был поставлен памятник. Он был изображен во весь рост, в бронзовом пальто, сделанном так искусно, что полы его как будто трепетали на ветру, совсем как в жизни. На пьедестале была выгравирована надпись в четыре строки: «Мартен, 1874–1924. Изобретатель пандемониума мирабиле».
По правде говоря, никто уже толком не знал, в чем заключалось изобретение пандемониума мирабиле, и сам Мартен начисто об этом забыл. Быть может, то была электрическая грелка, которая при желании превращалась в утюг или в вафельницу; или же наперсток, которым можно было полировать ногти во время шитья; или одно из тех механических новшеств, появление которых в корне перевернуло производство бритв и зажигалок. Мартен на своем веку изобрел столько разных вещей, что всевозможные моторы, батареи, катушки, пружины, рычаги и шестерни совсем перепутались в его голове и он перестал в них разбираться. Ему случалось заново изобретать механизмы, которые он уже подарил промышленности пятнадцать-двадцать лет тому назад.
Через несколько лет после своей предполагаемой смерти Мартен поселился поблизости от своего памятника. Он снимал чердачок, оборудованный под мастерскую, где жил совсем один со своими инструментами, окруженный замысловатым металлическим скарбом, загромождавшим все, вплоть до кровати. Детские игрушки, автомобили, поезда, вальсирующие куклы, скачущие звери соседствовали с механическими метлами, приборами для извлечения квадратного корня, автоматическими весами, огнетушителями, приборами для завивки волос и тысячью других изобретений, большая часть которых мирно покоилась, укрытая слоем пыли. Даже стены были густо увешаны диковинными предметами, среди которых выделялись паровые часы, заслужившие почетный диплом на Всемирной выставке 1900 года. Никакие посетители не нарушали его уединения, а консьержка закаялась подниматься к нему с тех пор, как механическая летучая мышь однажды встретила ее у входа и задела своим омерзительным крылом. Он работал целыми днями, не опасаясь, что ему могут помешать, и не переставал придумывать, чертить, пилить, фрезеровать, пригонять. Даже сон его был отягчен изобретениями; порой они так настойчиво заявляли о себе, что ему приходилось вставать С постели и работать при свете лампы.
Под вечер он спускался и шел в какой-нибудь ближний ресторанчик: он разрешал себе более или менее плотно поесть только один раз в день. Но перед тем он всегда совершал обход вокруг своей статуи. Эта ежедневная прогулка служила ему единственным развлечением, и, когда позволяла погода, он был не прочь ее продлить. Ему доставляло удовольствие присесть на одну из скамеек, окружавших площадь, и созерцать свое изображение, которое, благодаря пьедесталу, возвышалось над пешеходами и автомобилями. К нему подсаживались влюбленные, мать, уставшая нести ребенка, или бродяга, мечтающий о пристанище и жратве, но никто не смотрел туда, куда был устремлен его взгляд. Бронзовый человек, поддерживая свою изобретательную голову двумя пальцами левой руки, другой рукой, казалось, смахивал пылинки с пальто и следил за этой операцией глубокомысленным взором статуй.
Мартен не кичился своей славой, но это веское свидетельство признания его таланта глубоко радовало его; а вечерняя прогулка по маленькой площади давала ему повод тщательно изучать свою собственную персону: ведь его повседневные работы редко предоставляли ему такую возможность. Но пока он искал самого себя в этом бронзовом отражении, его немного пугала та значительность, которую он приобретал в собственных глазах. Поза мыслителя, в которой был запечатлен его образ, вызывала в нем чувство неловкости, как только он переносил ее на себя. К тому же он испытывал перед статуей нечто близкое к раскаянию, оттого что он все время вел двойную игру, жульничая со смертью; и он мысленно подыскивал себе оправдания. В действительности он гордился своим памятником, но отнюдь не собой.
С годами эта гордость становилась требовательнее. Мартена огорчало равнодушие прохожих к памятнику. Люди, переходившие площадь, никогда не удостаивали его взглядом. Никто не останавливался, чтобы разобрать на камне имя изобретателя. Не говорили о нем и те люди, которые собирались кучками на тротуаре поболтать перед обедом. Он не испытывал от этого ни горечи, ни обиды, а только смутную тревогу, приглушавшую его радость. Около шести часов на площади наступало оживление, и тогда-то статуя казалась особенно одинокой. Толпа проходила мимо, грубая, эгоистичная, не проявляя ни малейших человеческих чувств к высокой бронзовой фигуре; казалось, она вот-вот столкнет ее впопыхах. Мартен с замирающим сердцем искал на их лицах признака симпатии или хотя бы внимания, но тщетно, и когда кто-нибудь по рассеянности поднимал глаза к задумчивой голове статуи, в них отражалось лишь обидное неведение.
Иногда, в часы, когда народу было мало, он пытался заговорить со случайным соседом, сидящим на скамейке рядом с ним. Он наклонялся, робко улыбаясь, и, указывая пальцем на статую, говорил вполголоса: «Это Мартен». Сосед отвечал равнодушной улыбкой или же ворчал, пожимая плечами: «А мне-то какое дело?»
Зачастую он присоединялся к прохожим и спрашивал у них, изображая из себя любознательного приезжего: «Простите, не можете ли вы мне сказать, что это за памятник?» Но ни разу не встретил он человека, который был бы в состоянии дать ему какие-либо разъяснения. Даже торговцы на площади были не более осведомлены.
Уязвленный до глубины души таким невежеством и неблагодарностью, Мартен работал уже не столь усердно, как прежде. Он становился рассеянным.
При мысли об одинокой статуе инструменты валились у него из рук, и он застывал в оцепенении на своем чердачке, без конца растравляя свою печаль. А иногда, охваченный нетерпеливой жалостью, он бросал все и бежал на площадь к своему двойнику, чтобы порадовать его хотя бы своим дружелюбным присутствием, как маленькой подачкой. Мало-помалу его жизнь теряла ту размеренность, к которой его вынуждала изобретательская страсть. Теперь он выходил из дома в любое время дня, не обманывая себя даже видимостью предлога. У него появились дурные привычки: он стал курить и читать газеты. Замыслы вяло созревали в его голове, и пальцы утрачивали ловкость. Он творил, почти не испытывая при этом никакой радости, лишь для того, чтобы заработать на жизнь. В прежние времена его не смущали заботы о материальных нуждах, и, отдав дань житейским потребностям, он мог свободно мастерить предметы, не приносящие реальной пользы, такие как точилка для карандашей, работающая на осветительном газе: это было чистое искусство. А теперь он больше занимался таким трудом, который мог денежно себя оправдать, — но без особого успеха. Искорка вспыхивала все реже, и он уже не схватывал ее на лету.
В теплое время года он целые дни проводил на площади в унылом созерцании, исполненном горечи. Он больше не расспрашивал прохожих. Он окончательно уверился в людском невежестве и глупости. Случалось, что, сидя на скамейке, он произносил целые монологи, как будто сам был бронзовым человеком, говорившим с высоты своего постамента. «Проходите, — бормотал он, бросая на пешеходов злобные взгляды, — проходите, недотепы вы этакие. Я вас презираю. Я плюю на ваше ничтожество. Я выливаю на ваши головы мою бронзовую мочу. Жалкие, запыхавшиеся людишки, настанет день, когда все вы погибнете, и тяжесть вашей тупости вдавит вас в землю. А я буду стоять на своем камне, я увижу, как проносят ваши останки, а передо мной будет расстилаться бесконечная жизнь. Я поднялся на пьедестал своим трудом, своим умом, своим талантом. Я стал незыблемым утесом. Я не нуждаюсь в вашем восхищении. Оно ничего не прибавило бы к моему бессмертию, не помешало бы мне смеяться над вашими гнусными мясистыми рожами».
Подобные речи не могли вернуть ему душевный покой. В своих яростных нападках на прохожих он не всегда давал себе труд перевоплощаться в статую, и тогда его презрение выражалось более личным и непосредственным образом. Например, ему случалось сказать вслух: «Плевать я на вас хотел». Некоторые открыто выражали свое удивление. Однажды ему пришлось раскаяться хотя бы на несколько мгновений, что он облек свою досаду в такую ораторскую форму. На скамейку рядом с ним уселась женщина лет пятидесяти, неважно одетая и державшая в руке букетик фиалок. Не обращая внимания на ее присутствие, он изливал свое озлобление на редких пешеходов, пересекавших площадь. Убедившись, что, кроме нее, никто не мог его слышать, дама оскорбилась. Она встала, смерила грубияна взглядом и сказала: «Сударь, вы хам». Мартен смутился. Грубые слова, вырвавшиеся у него, имели обобщенный, почти философский смысл и отнюдь не были направлены на отдельную личность. Но как было ей растолковать, что такое восклицание просто отражало определенный взгляд на вещи? К тому же дама не дала ему возможности объясниться и отошла, снова испепелив его взглядом. Смущение Мартена сменилось раскаянием и недоумением, когда она направилась прямо к памятнику и остановилась у подножия в благоговейной позе. Волнение приковало его к скамье, ему казалось, что он вот-вот лишится чувств. Наконец он вышел из оцепенения и, когда ноги снова стали его слушаться, галопом перебежал через площадь. Приподнявшись на цыпочках, дама разбрасывала фиалки по цоколю вокруг бронзовых ботинок. Мартен пробормотал за ее спиной какие-то робкие и задыхающиеся слова. Она быстро обернулась, испуганно вскрикнула при виде хама и сжала ручку зонтика. Он смиренно извинился, объяснил, что он старый друг Мартена и что гневные слова, которые она случайно подслушала, были адресованы неблагодарным людям, невежам. Лицо ее тотчас же прояснилось, и на глазах выступили слезы.
— Говорите мне о нем, — попросила она. — Мне так нужно, чтобы мне о нем говорили.
— Это был великий человек, — сказал Мартен.
— Да, ведь правда, великий человек? И великое сердце. Кому это и знать, как не мне? Если бы вы знали, сударь, если бы вы знали…
Она нервным жестом схватила его за руку и глубоко заглянула ему в глаза. Он смотрел на нее с искренней симпатией, пытаясь найти в ней хоть что-нибудь привлекательное, но, несмотря на все старания, не мог не видеть, какая она некрасивая, угловатая, чопорная до мозга костей.
— Раз вы были его другом, — продолжала она, — он, наверное, часто говорил вам обо мне?
Мартен сделал неопределенный жест. Она выпустила его руку и сообщила, гордо выпрямившись:
— Я мадемуазель Пентон. Жюли Пентон.
Она улыбнулась, замерев в доверчивом ожидании.
— В самом деле, — пробормотал Мартен, роясь в своей памяти. — Мне кажется, что…
— Ведь правда, он говорил вам обо мне? Ну, конечно. Мадемуазель Пентон. Подумать только… Это было до войны. Мы были как дети. Ему было тридцать четыре года, мне тридцать два. Я отказывалась от самых выгодных партий в городе, даже от молодого Мудрю. И тогда пришел он.
Мадемуазель Пентон в экстазе закрыла глаза. В Мартене зашевелилось разочарование. Он предпочел бы более бескорыстное восхищение, продиктованное не столь сомнительными мотивами.
— Два года подряд он проводил пасхальные каникулы в доме напротив нашего. Мы познакомились у наших общих друзей. Он бывал у нас. Когда я сидела за роялем, он переворачивал ноты и шептал мне на ухо: «Какая вы музыкальная», и я чувствовала на шее его обжигающее дыхание. Если б вы знали… когда я одна, когда я вспоминаю, меня снова обжигает… обжигает. А однажды… спускаясь с крыльца, я оступилась и схватилась за него, чтобы удержаться. Я прижалась к нему. Ах, как я к нему прижалась!
При этом воспоминании она вздрогнула, ноздри ее затрепетали. Неожиданно она ринулась к пьедесталу и, прижавшись всем телом к камню, подняла руки, чтобы обнять ногу статуи.
— Ну, хватит! — сердито крикнул Мартен. — Это нелепо. Вы сломаете себе ногти.
Ему удалось оттащить ее и отвести к скамейке, где она истерически разрыдалась. Ее поведение раздражало его, и он не мешал ей выплакаться, недружелюбно поглядывая на ее худое прыщавое лицо и длинный красный нос, уткнувшийся в носовой платок. Мало того, что он чувствовал себя обманутым, но ему было досадно, что пора любовных увлечений воскресает для него в неприглядном облике старой девы. Лишь остаток любопытства мешал ему тут же сбежать. В его памяти начал вырисовываться неясный образ, в котором улавливалось пока еще смутное сходство с мадемуазель Пентон. Когда ее слезы иссякли, он спросил:
— Ну, а чем же это кончилось?
— Он любил меня, но взял в жены другую. Вернувшись в Париж, он вступил в брак с очень богатой вдовой…
Мартен хотел ее перебить, но она продолжала возбужденным тоном, и руки и ноздри ее лихорадочно подергивались.
— С миллионершей. Он женился на ее деньгах. У него был особняк, пятнадцать слуг, автомобили, замок в Турени, виллы на берегу моря. Он купил себе монокль. Сорил деньгами направо и налево.
Мартен прервал ее, пожав плечами:
— Вам это, видно, приснилось. Он никогда не был женат и всегда жил почти в бедности. Уж я-то, слава богу, близко его знал и могу говорить с полной уверенностью.
— Во всяком случае, — отрезала мадемуазель Пентон, — я получила эти сведения от лиц, достойных доверия, которых я знала очень давно.
Мартен не настаивал. Его воспоминания не прояснялись. Он отчетливо видел маленький городок, где ему случалось проводить пасхальные каникулы, дом и даже комнату, в которой он жил, но никакой мадемуазель Пентон он не помнил. Должно быть, она была так неприметна, что он не обращал на нее внимания. Наконец он потерял терпение и раздраженно спросил:
— Так вы говорите, что Мартен вас любил?
— Да, это так.
— Возможно. Но вы мне не сказали… А я не помню… Ну, словом, вы с ним спали?
Мадемуазель Пентон вскочила и крикнула, побагровев:
— Свинья! Я это подозревала. Вы просто гнусный сатир! О, свинья!
Она устремилась на площадь, зажав зонтик под мышкой, а Мартен глядел вслед удалявшейся унылой фигуре с легким сожалением.
Через неделю после этого случая Мартен окончательно отказался от попыток сконструировать нажимную кнопку замедленного действия, над которой он трудился уже несколько месяцев. Он рассчитывал на успех этого изобретения для поправки своих дел, которые принимали плачевный оборот; но воспоминание о мадемуазель Пентон расслабляло его и делало неспособным к серьезному усилию. Он мало-помалу забывал ее нескладную внешность и невольно подменял ее образом юного, грациозного создания, которое, как ему казалось, он извлек со дна своей памяти; а на самом деле это было просто последнее и самое прекрасное его изобретение. Он целыми днями уточнял форму ее носа, цвет ее глаз, очертания груди, и, когда созданный им образ стал для него осязаемым, он начал сочинять для нее стихи, как было принято до войны. То была обширная поэма, из которой он написал лишь четыре последних стиха:
Механизмы диковинные пред тобою, Закалил их пружины я в лунных лучах, Их моторы заправил я чистой росою, Чтоб они отражались в девичьих очах.Над этим куплетом ему пришлось попотеть больше недели, зато он остался им очень доволен. Сидя на своей скамейке напротив статуи, он шептал его для Жюли. Ведь естественнее всего было воображать мадемуазель Пентон в рамке маленькой площади. Он усаживал ее рядом с собой, вдыхал аромат ее фиалок, наклонялся к ее уху, к ее затылку. Они вместе обходили вокруг памятника, останавливались у подножия, чтобы поболтать. У нее было обаяние молодости, детская улыбка, круглый отложной воротничок и лукавый взгляд.
Но порой во все эти фантазии вторгалось более четкое воспоминание. Он с болью видел перед собой гибкое тело мадемуазель Пентон, прильнувшее к каменному постаменту; она обнимала бронзовые брюки, и кровь заливала пламенем страсти ее чистое девичье лицо. Он сам краснел от злобы и стыда; яд ревности просачивался в его душу. Придя на площадь, он сразу бросал подозрительный взгляд в сторону статуи, словно боясь увидеть там Жюли, бродящую с тяжелым, лихорадочным румянцем на щеках. Случалось, что он говорил бронзовому человеку с недоброй усмешкой:
— Жюли влюблена не в изобретение. На изобретение ей наплевать. Мое обжигающее дыхание, вот что она любит… она так сказала… мое обжигающее дыхание… Меня самого! И только меня!
Этими словами Мартен не только вымещал свою обиду, но заодно отметал укоры совести, которые преследовали нерадивого изобретателя: ведь он работал все меньше и с нескрываемым отвращением. Не был ли призрак мадемуазель Пентон просто уловкой, чтобы забыть грозившую ему нищету? Он задолжал квартирную плату за месяц и не представлял себе, как расплатится за следующий. Консьержка уже торжествовала, ехидно посмеиваясь. Он чувствовал, что устал изобретать, что усталость эта окончательная, что он дошел до точки. Механизм износился, заржавел и отказывался работать. Памятник становился докучным свидетелем его падения.
Когда вопрос о хлебе насущном стал неотложной задачей, призрак мадемуазель Пентон почти утратил свое обаяние и значительность. Вскоре Мартену пришлось начать распродажу старых изобретений. Каждое утро он нес к старьевщику охапку металлического хлама, за который ему удавалось выторговать франков десять. В тот день, когда ему предложили сорок су за паровые часы, горечь обиды заставила его отбросить иллюзии и увидеть Жюли Пентон в ее истинном облике угрюмой старой девы. Он вспоминал ее угловатую фигуру, костлявое лицо с красным носом и крикливый голос.
— Уступаю ее тебе, — с ухмылкой заявил он своему памятнику.
И в самом деле, Мартен перестал оспаривать у статуи благосклонность Жюли. Она смешалась в его памяти с запыленными механизмами, которые он когда-то смастерил, а теперь пытался сбыть старьевщику. Пружины, закаленные в лунном свете, не выдержали испытания. Возлюбленная — старая ли, молодая — навсегда покинула маленькую площадь и сердце Мартена. Но ревновать к статуе он не перестал. То была ревность другого рода, она глубже въедалась в него. Сознание своей нищеты унижало его, и он завидовал бронзовому человеку, который сумел остановить время и застыть на взлете славы, тогда как сам он поддался засасывающей привычке жить. Мартен обвинял его в том, что он закрыл ему все пути к успеху и лишил драгоценных творческих сил.
Сидя однажды утром на скамейке, он увидел, как к памятнику подошли туристы; они наклонились, прочли надпись, потом отступили на несколько шагов, чтобы охватить взглядом целое. Кулаки его сжимались от ревности и от мысли, что он — жертва несправедливости. Ему захотелось подбежать к этим людям, крикнуть им, что они ошибаются, что настоящий изобретатель Мартен — это он. Но статуя так недосягаемо возвышалась над ним, он сознавал себя таким незначительным, что у него не хватило духу. Когда туристы удалились, он долго смотрел на нее ненавидящим взглядом. В тот же день один журналист, которому было поручено собрать сведения о парижских памятниках, остановился у статуи изобретателя и стал что-то записывать. Мартен чуть не лопнул от ярости. А вечером, между шестью и семью часами, ему почудилось, будто взоры всех прохожих устремляются к задумчивому бронзовому лицу и что он слышит восторженный шепот, поднимающийся над толпой.
День ото дня шепот становился все явственнее. Вскоре он превратился в громкий благоговейный гул, который доносился со всех улиц и площадей Парижа. Колокола ежеминутно принимались трезвонить под предлогом то ли «Angelus»[5], то ли похорон. А Мартен, стоя в центре этих бурных порывов преклонения, весь съеживался в своем ничтожестве и смотрел на свою статую скорее со страхом, чем с ненавистью. Ему часто случалось садиться на скамейку с пустым желудком. Его лицо и одежда были в запущенном состоянии, ботинки просили каши. Он выглядел почти профессиональным нищим. Однажды какая-то женщина бросила монету в его шляпу, которую он поставил рядом с собой. Между ним и статуей было теперь такое огромное расстояние, что он и думать не смел о нитях, которые их связывали. Мало-помалу он свыкся со своим падением, принимая его как должное.
Один только раз Мартен попытался взбунтоваться. Это было ночью, накануне срока уплаты за квартиру. Он вертелся в постели, думая о предупреждении хозяина, который грозился его выселить. По улице проходила пьяная компания, горланя песню. Слов он не мог разобрать, но это явно был хвалебный гимн в честь статуи. Он почувствовал в этом шумном веселье издевательство над своим отчаянием. Он оделся и вышел на площадь, дрожа от негодования. Все вокруг было пустынно и безмолвно. Бронзовый человек зацепился за лунный луч макушкой своего гениального черепа. Тяжелые покровы тени окутывали его пальто и позу мыслителя. Мартен стал громко поносить его, называя канальей, вором, предателем, гордецом, позером.
— Это я тебя сюда поставил! — кричал он. — Без меня ты был бы ничто!
Но по мере того, как он выкрикивал эти слова, к нему возвращалось сознание своей никчемности, и тон его постепенно понижался, утрачивая самоуверенность. Среди ночного безмолвия статуя выглядела еще выше. А когда облачко заволокло луну, она выросла еще на несколько футов и протянула к нему смертоносную тень. Он поспешно отскочил на тротуар и притаился в свете уличного фонаря. Сердце его билось от волнения; стиснув зубы и задыхаясь, он смотрел на высокий черный силуэт, который сливался с ночным мраком. Но, несмотря на страх, он не хотел сдаваться и, чтобы хоть как-нибудь восстановить равновесие, взобрался на скамью, на которой привык сидеть.
Эта подставка в какой-то мере вернула ему чувство самоуважения. Он удивился, что ему раньше не приходило в голову ею воспользоваться. Силу и величие бронзовому человеку придавал каменный пьедестал, возносивший его к небу. Стой он на земле, он не был бы таким устрашающим. Теперь Мартен раскаивался, что позволил себе опуститься до ругани. Грубость и пустые выкрики только унижали его перед лицом врага. Все сводилось главным образом к вопросу об уровне. Положение резко изменилось, с тех пор как он влез на скамейку. Надо было еще добиться невозмутимой и спокойной важности статуй. Мартен изо всех сил старался стоять неподвижно и, чтобы использовать все возможные средства, принял позу мыслителя, подперев щеку двумя пальцами. Это положение было очень утомительно, почти болезненно, к тому же дул холодный пронизывающий ветер. Но, когда прошло четверть часа, его вдруг охватила надежда, и он воспрянул духом. Он чувствовал, как твердеют его ноги и бедра. Затекшие ступени отяжелели и прочно прилипли к пьедесталу, щека и два пальца, на которые она опиралась, перестали что-либо чувствовать под хлещущим ветром. Несколько раз ему почудилось, будто полы его пальто под ветром издают металлический звук. Огромная радость распирала ему грудь, пока он наблюдал за ходом своего преображения. Он чуть не окликнул статую в приступе гордости, но вовремя прикусил язык, сообразив, что может все испортить. Он чувствовал себя тяжелым и великолепным. Одно только смущало его: он спустился в комнатных туфлях и недоумевал, сможет ли бронза облагородить слишком домашний характер этой обуви.
Когда целый час прошел в самой добросовестной неподвижности, его охватило внезапное беспокойство. Приступ ревматизма пронзил ему бедро, и он с трудом удержался от крика. Сомнение коснулось его. В самом деле, статуи вряд ли бывают подвержены ревматизму. Боль повторилась еще острее и сделалась такой невыносимой, что пришлось смириться и переменить положение ноги. Вопреки его ожиданиям, это движение не потребовало от него никакого усилия. Мышцы сокращались нормально, если не считать некоторую скованность, которую вряд ли можно было приписать чему-нибудь, кроме усталости. Мартен захотел стать в прежнюю позу, но не смог: вера была утрачена. Леденящий ветер дул все яростнее и пронизывал его до костей. Мартен пошатывался и дрожал от холода и усталости. Он спустился на землю, сел на свою скамейку и заплакал. Он был побежден.
За несколько месяцев Мартен распродал все свои железяки, инструменты и скудную обстановку. Оставшись без всяких средств и без жилья, он стал просить подаяния на улицах, и чаще всего на маленькой площади. Он делал это не для того, чтобы бередить воспоминания, а скорее по старой привычке, которую без труда приспособил к своему новому образу жизни. В часы пик он стоял у подножия своего памятника и невнятно бормотал, взывая к жалости прохожих. Иногда, особенно в первое время, до него доходил иронический смысл этой ситуации. Но мало-помалу он перестал об этом думать. К тому же память его затуманивалась, ум становился все медлительнее. Он научился искусству почти совсем не думать, интересоваться всякими пустяками, часами размышлять о пуговице на брюках, которая грозила оторваться. Мартен почти весь день проводил на площади. Когда там никого не было, он сидел на своей скамейке. Его присутствие раздражало некоторых торговцев, и они подавали жалобы в полицейский участок. Мартена не раз предупреждали, но по лености он тут же забывал об этом.
Однажды, это было около полудня, он стоял на своем посту с протянутой рукой в ожидании милостыни, прислонившись к каменному пьедесталу. На площади появился полицейский и направился прямо к нему. Мартен не сразу понял, что ему грозит.
— Тем хуже для тебя, — заорал полицейский. — Довольно тебя предупреждали. А ну, пошли в участок.
Слово «участок» напугало Мартена. Остаток гражданского достоинства нарисовал перед его мысленным взором ряд унизительных картин. Полуобернувшись и подняв голову к статуе, он воздел к ней руки умоляющим жестом. Полицейский пожал плечами и сказал нетерпеливо:
— Хватит комедию ломать, мне некогда. Пошли.
— Оставьте меня! Я изобретатель Мартен! Я тот человек, чья статуя! Статуя — это я! Смотрите… Читайте…
Наклонившись к надписи, он водил пальцем по буквам, складывая из них имя Мартен. Полицейский схватил его за руку и рывком оттащил от памятника, потому что Мартен успел уцепиться за выступ на пьедестале. В полицейском участке начальник для проформы учинил ему нечто вроде допроса. Приведший его полицейский доложил:
— Он не хотел идти. Представьте, он вообразил, что он изобретатель Мартен, тот самый, кому памятник поставлен.
— Ишь как зазнался, — пробурчал начальник, с отвращением оглядывая жалкую фигуру.
— Никогда я ничего подобного не говорил, — всполошился Мартен. — Господин полицейский не так понял. Я только сказал, что меня тоже зовут Мартен, как и статую.
— Ладно, — сказал начальник своему подчиненному. — Сунь его в третий номер. И пусть не рыпается! А не то я велю отрубить ему башку.
Мартена выпустили под вечер: ему строго-настрого запретили шататься целыми днями по площади, пригрозив, что иначе ему расквасят морду каблуками. Угроза была совершенно излишней. Он с легким сердцем покинул квартал. Его даже не коснулось искушение оглянуться, хотя бы мысленно. Он чувствовал, что навсегда сбросил отвратительный гнет, что обрел новую молодость, и он улыбался в свою стариковскую бороду. Он шел и шел, через полчаса остановился в каком-то переулке и невнятно зашамкал, протягивая руку:
— Сжальтесь над бедным стариком. У меня на шее больная дочь и трое внучат.
Бродяжничая и питаясь чем бог послал, Мартен был почти счастлив. Жизнь его вышла из прежнего состояния неустойчивого равновесия, и воспоминание о ней становилось все туманнее, вызывая в нем тошноту. Он влачил свои дни в зверином одиночестве, которое давало ему ощущение полнейшей безопасности. Чего ему страшиться? В худшем случае он подохнет, только и всего, особых усилий не потребуется. К тому же Мартен об этом и не задумывался. Мозг его уже неспособен был изобретать, и он жил настоящим, наподобие собаки. У него бывали товарищи на час, которых он моментально забывал, расставшись с ними. Однажды вечером он сидел с двумя дружками в маленьком кафе, таком захудалом, что их присутствие не могло обеспокоить хозяина. Рюмка водки стоила пятнадцать су; каждый выпил по две. Их слабые головы разгорячились, и они пустились в рассказы о своем прошлом. Негласная этика игры предписывала принимать на веру самые чудовищные вымыслы. Когда Мартен заговорил в свою очередь, его голос звучал так правдиво, что его собутыльники даже смутились. Он начал так:
— Я уже не помню, был ли я счастлив. В тридцать четыре года я женился на очень богатой вдове. На миллионерше. У меня был особняк, слуги, автомобили, замок в Турени, виллы на берегу моря. Я носил монокль. Сорил деньгами направо и налево.
Несколько дней спустя случай привел Мартена на маленькую площадь, где он так часто сиживал. Он перешел ее, не узнавая и не обратив внимания на статую. И только смутное беспокойство заставило его ускорить шаг.
Проходивший сквозь стены
Жил на Монмартре, на четвертом этаже дома номер 75а по улице Оршан, некий Дютийёль, примечательный человек, который обладал необыкновенным даром проходить сквозь стены, не испытывая при этом каких-либо неудобств. Носил он пенсне, маленькую черную бородку и служил чиновником третьего класса в министерстве записей актов. Зимой он ездил туда на автобусе, а весной и летом проделывал этот путь пешком, надев на голову котелок.
Дютийёлю совсем недавно исполнилось сорок два года, и тут ему вдруг открылось его могущество. Как-то вечером, когда он находился в прихожей своей небольшой холостяцкой квартиры, произошло короткое замыкание. Дютийёлю пришлось блуждать в потемках, но когда снова вспыхнул свет, он оказался на лестничной площадке. Поскольку входная дверь в квартиру была заперта изнутри, а ключ оставался в замке, происшедшее заставило его задуматься, и, невзирая на доводы рассудка, Дютийёль решил вернуться к себе тем же путем, каким вышел, то есть пройти сквозь стену. Столь странная способность, которая, казалось, нисколько не отвечала его собственным наклонностям, привела Дютийёля в замешательство, и в ближайшую субботу, когда он был более свободен, ибо работали они по английской системе — только до полудня, он отправился к врачу изложить свой случай. Доктор убедился, что пациент говорит правду, и после осмотра установил причину недуга, которая заключалась в геликоидальном отвердении странгулярной перегородки щитовидной железы. Он рекомендовал изнуряющие перегрузки и прописал лекарство, состоящее из порошка четырехвалентной пиретты, рисовой муки и гормона кентавра. Это средство надлежало принимать по две таблетки в год.
Приняв первую таблетку, Дютийёль положил остальные в ящик и думать о них забыл. Что же касается изнуряющих перегрузок, то служба в качестве чиновника следовала заведенному порядку, не допускавшему никаких чрезмерностей, а часы досуга, посвященные чтению газет и коллекционированию марок, не располагали к неразумной трате сил. Своей способности проходить сквозь стены он не потерял и к концу года, но, будучи человеком мало податливым на приключения и не склонным к полету воображения, он ее не использовал, разве что иной раз по рассеянности. Ему даже в голову не приходила мысль вернуться домой каким-либо иным способом, а не через дверь, да еще не покопавшись при этом в замке ключом. Возможно, он так и дожил бы мирно до старости, ведя привычный образ жизни, ни разу не впав в искушение испытать свой дар, если бы одно чрезвычайное событие внезапно не перевернуло все его существование. Господину Мурону, заместителю начальника канцелярии, где трудился Дютийёль, были поручены иные обязанности, а его место занял некий господин Лекюйе. Этот человек носил усы щеточкой и не был склонен к многословию. В первый же день новый заместитель косо посмотрел на Дютийёля, на его пенсне, цепочку и черную бородку. Он решил обходиться с ним как с каким-то старым барахлом, которое только мешает и портит настроение. Но самым тяжким было то, что новый заместитель намеревался осуществить в своей канцелярии преобразования весьма серьезные и способные лишить его подчиненного покоя. Вот уже двадцать лет как Дютийёль начинал деловые письма таким обращением: «Милостивый государь, в ответ на Ваше письмо от такого-то числа текущего месяца, а также ссылаясь на предшествующую нашу переписку, имею честь уведомить Вас…» Лекюйе намеревался заменить это обращение иным оборотом, в чисто американском духе: «По поводу Вашего письма от такого-то числа сообщаю…» К подобному эпистолярному стилю Дютийёль приучить себя не мог. Вопреки собственной воле, с каким-то машинальным упрямством, вызывающим растущую неприязнь заместителя начальника канцелярии, Дютийёль держался привычного тона переписки. Обстановка в министерстве становилась для него все более невыносимой. Когда он уходил утром на службу, чувство тревоги сопровождало его, а вечером, ложась спать, он частенько, прежде чем уснуть, размышлял целые четверть часа.
Раздосадованный отсталостью и своеволием подчиненного, наносившими ущерб начинаниям руководства, господин Лекюйе засадил Дютийёля в полутемный закуток, рядом со своим кабинетом. Вход туда вел через низкую узкую дверь, выходящую в коридор, на которой к тому же еще сохранялась надпись крупными буквами: «Кладовая». Дютийёль безропотно принял такое небывалое глумление над собой, но дома, читая в газете сообщение о каком-либо зверском преступлении, он ловил себя на мысли, что жертвой такого преступления мог бы стать господин Лекюйе.
Однажды заместитель начальника ворвался к Дютийёлю в его каморку и, потрясая письмом, закричал:
— Опять он принялся за свое! Подсовывает мне какое-то старье и позорит мою канцелярию!
Дютийёль хотел было возмутиться, но господин Лекюйе разразился громоподобным рычанием, назвал его задопятым крабом и, скомкав письмо, швырнул ему в лицо. Дютийёль был человек скромный, но гордый. Оставшись один, он почувствовал, что весь пылает, и тут же ощутил в себе вдохновляющую решимость. Он встал из-за стола и вошел в стену, отделявшую его каморку от кабинета его гонителя, однако проделал это с некоторой опаской, выставив по ту сторону стены только голову. Господин Лекюйе, сидевший за письменным столом, нервным движением руки вымарывал запятую в письме, представленном на утверждение одним из чиновников. В это время в кабинете раздалось покашливание. Господин Лекюйе, подняв взор от бумаг, перепугался невероятно, увидев голову Дютийёля, как бы прикрепленную к стене наподобие охотничьего трофея. И эта голова была живой. Через пенсне на цепочке она вперяла в Лекюйе взгляд, полный ненависти. Мало того, голова заговорила.
— Милостивый государь, — промолвила она, — вы проходимец, невежда, чурбан.
Разинув рот от ужаса, Лекюйе не отрывал глаз от этого зрелища. Наконец, сорвавшись с кресла, он устремился в коридор и побежал в каморку Дютийёля. Тот сидел на своем обычном месте с пером в руке, являя вид мирного труженика. Лекюйе довольно долго рассматривал его, наконец, пробормотав что-то, вернулся к себе в кабинет. Только он уселся за стол, как из стены снова показалась голова.
— Милостивый государь, вы проходимец, невежда, чурбан.
В этот день ужасная голова появлялась из стены двадцать три раза. И в последующие дни все продолжалось тем же манером. Дютийёль, войдя во вкус игры, уже не ограничивался оскорблениями. Он стал замогильным голосом изрекать скрытые угрозы, сопровождая их взрывами дьявольского хохота. Примерно получалось это так: «Ходит-бродит Дрожь-Берет (хохот), всем сычам конец придет» (хохот).
Слушая такое, несчастный заместитель начальника канцелярии все более бледнел и задыхался, волосы дыбом вставали у него на голове, и он чувствовал, как по спине растекался холодный пот. В первый же день он похудел на полкило, а затем, в продолжение всей недели, он буквально таял на глазах и к тому же усвоил привычку есть суп вилкой и отдавать честь полицейскому. В начале следующей недели прибывшая карета «скорой помощи» увезла его из дому в больницу.
Освободившись от тирании господина Лекюйе, Дютийёль смог вернуться к излюбленному обороту: «В ответ на Ваше письмо от такого-то числа текущего месяца, а также ссылаясь…»
И все-таки он не чувствовал себя удовлетворенным. Что-то продолжало тревожить его, какая-то новая властная страсть, и было это не что иное, как тяга к прохождению сквозь стены. Без сомнения, он мог свободно предаваться ей у себя дома, и там он этого не упускал, но человек таких блестящих способностей не может долгое время получать удовлетворение, применяя свое дарование столь заурядным способом. К тому же прохождение сквозь стены не могло являться, так сказать, целью в себе. Нет, это уход в мир приключений, где за первым последует продолжение, нарастание новых авантюр и, в конце концов, наступит завершение. Дютийёль это хорошо понимал. Он ощущал неудержимую потребность развернуться, в нем росло желание превзойти самого себя, его влекла смутная тоска, словно его призывал какой-то застенный голос. К несчастью, ему недоставало прямой цели, и он стал искать, чем бы вдохновиться, — он окунулся в газеты, где его особенно интересовали рубрики, посвященные политике и спорту. Эти сферы казались Дютийёлю вполне достойными для приложения сил. Но он отдавал себе отчет в том, что они не представляли никакого раздолья человеку, способному проходить сквозь стены, и он обратился к рубрике происшествий, на его взгляд, наиболее многообещающей.
Первое ограбление, на которое отважился Дютийёль, было совершено им в крупном банке на правом берегу Сены. Преодолев с дюжину стен и перекрытий, он проник в сейфы, наполнил карманы банковскими билетами и, прежде чем удалиться, красным мелком собственноручно засвидетельствовал, что кражу совершил он, «Упырь-Упырь». Эту подпись с чрезвычайно красивым росчерком на следующий день воспроизвели все газеты. К концу недели имя «Упырь-Упырь» приобрело небывалую известность. Все симпатии публики были безоговорочно на стороне взломщика, который так здорово издевался над полицией. Каждую ночь Дютийёль оповещал о своем новом подвиге, наносившем ущерб то банку, то ювелирному магазину, то просто какому-нибудь богачу. В Париже, как и в провинции, не было женщины, хоть в малой степени настроенной на мечтательный лад, которая не испытывала бы жгучего желания принадлежать и телом, и душой ужасному Упырю. После похищения знаменитого бриллианта Бюрдигалла и кражи в Обществе городского кредита, которые произошли одно за другим в течение недели, восторг толпы достиг исступления. Министр внутренних дел вынужден был подать в отставку, увлекая за собой и министра записей актов. Сам же Дютийёль, став одним из наиболее богатых людей в Париже, продолжал аккуратно приходить в канцелярию, ему даже прочили академический значок. По утрам, явившись в министерство, он слушал разговоры своих товарищей о невероятных событиях минувшей ночи, и эти рассказы доставляли ему величайшее удовольствие. «Этот Упырь-Упырь, — рассуждали они, — потрясающий тип, какой-то сверхчеловек, прямо-таки гений». Слушая подобные восхваления, Дютийёль смущался и краснел, и взор его сквозь стекло пенсне излучал благодарность и дружеские чувства. Как-то раз этот дух всеобщей симпатии до того растрогал его, что Дютийёль был уже не в состоянии хранить свою тайну дольше. Не без некоторой робости он внимательно оглядел сослуживцев, собравшихся за газетой, в которой сообщалось об ограблении Национального банка Франции, и скромно сказал:
— А ведь Упырь-Упырь — это я!
Признание Дютийёля было встречено взрывом такого невероятного хохота, что его просто невозможно было унять, а сам он в насмешку получил прозвище Упыря. В конце рабочего дня, когда служащие расходились по домам, некоторые из его товарищей открыто подшучивали над ним, и жизнь стала казаться Дютийёлю уже не такой прекрасной.
Через несколько дней Упырь-Упырь дал схватить себя ночному патрулю в ювелирном магазине на улице де ля Пэ. Он приложил свою подпись к сейфу и принялся распевать застольную песенку, разбивая витрины тяжелым золотым кубком. Ему ничего не стоило войти в стену и таким образом ускользнуть от патруля, но все говорило за то, что он хотел быть задержанным, вероятно, с единственной целью — пристыдить сослуживцев, чье недоверие угнетало его. Они и в самом деле были поражены до крайности, увидев в утренних газетах портрет Дютийёля на первых полосах. Они горько сожалели о том, что недооценивали своего гениального товарища, и решили в его честь отпустить небольшие бородки. А некоторые, снедаемые угрызениями совести и одновременно испытывая восхищение, даже пробовали прихватывать кошельки и часы у своих друзей и близких.
Без сомнения, можно рассуждать и так, что если кто-либо отдает себя в руки полиции, желая поразить своих сослуживцев, то такой поступок лишь свидетельствует о его крайнем легкомыслии, недостойном человека исключительных способностей. Однако кажущееся проявление свободной воли не очень много значит в таком деле. Отказываясь от личной свободы, Дютийёль верил, что он подчиняется горделивому намерению взять реванш, на самом же деле он просто скользил по склону своей судьбы. Карьера человека, который проходит сквозь стены, не будет совершенной, если он хоть единый раз не испытает тюремного заключения. Когда Дютийёль очутился в тюрьме Санте, ему пришло в голову, что он прямо-таки баловень судьбы. Такие толстые стены — да это же сущее наслаждение! На следующий день после его водворения в камеру тюремщики с изумлением обнаружили, что заключенный вбил гвоздь в стену и повесил на него золотые часы начальника тюрьмы. Он не мог или не желал объяснить, каким образом стал обладателем этой вещи. Часы вернули владельцу, но на следующее утро они оказались у изголовья Упыря вместе с первым томом «Трех мушкетеров» из библиотеки начальника. Вся тюремная охрана сбилась с ног. К тому же тюремщики жаловались, что время от времени они получают пинки в зад, и было совершенно необъяснимо, кто их ими награждал. Право, оставалось предположить, что у стен бывают не только уши, но и ноги. Неделю спустя начальник тюрьмы, войдя к себе в кабинет, увидел на столе такое послание:
Господин начальник! Возвращаясь к теме нашей беседы, состоявшейся 17 числа текущего месяца, и в связи с Вашей инструкцией от 15 мая прошлого года, имею честь сообщить Вам, что я только что закончил чтение второго тома «Трех мушкетеров» и намерен освободиться этой ночью в промежутке времени от 11 часов 25 минут до 11 часов 35 минут. Прошу Вас, Господин начальник, принять уверения в моем глубоком уважении.
Упырь-Упырь.Несмотря на особо строгий надзор, предметом коего Дютийёль стал в эту ночь, он ускользнул из камеры в 11 часов 30 минут. Новость эта, сделавшись известной уже утром, изумила и восхитила всех. Совершив новую кражу, Дютийёль, достигший зенита славы, казалось, совсем не старался скрываться и разгуливал по Монмартру, не соблюдая никаких мер предосторожности. Через три дня после своего освобождения он опять был задержан около полудня в кафе «Мечта» на улице Коленкур, когда он попивал белое винцо в кругу друзей.
Снова доставленный в Санте и запертый на тройной замок в темный карцер, Упырь-Упырь исчез оттуда уже вечером, отправившись ночевать на квартиру начальника тюрьмы, в комнату для гостей. Около девяти часов утра он позвонил горничной и попросил принести завтрак. Не оказывая сопротивления, он позволил подоспевшим тюремщикам взять себя прямо в постели. Разгневанный начальник тюрьмы поставил усиленную охрану у двери его карцера, а самого Дютийёля посадил на хлеб и воду.
Около полудня узник отправился завтракать в ресторан, находившийся поблизости от тюрьмы, и, допив кофе, позвонил начальнику.
— Алло, господин начальник, мне очень неловко, но дело в том, что, уходя завтракать, я забыл захватить ваш бумажник и вот теперь сижу в ресторане без денег. Не откажите в любезности, пошлите кого-нибудь расплатиться по счету.
Начальник тюрьмы примчался сам, разъяренный до бешенства. Он извергал ругательства и угрозы. Гордость Дютийёля была уязвлена до такой степени, что в первую же ночь он ушел из тюрьмы с намерением больше туда не возвращаться. Теперь он решил быть осторожным. Он сбрил черную бородку, пенсне же с цепочкой заменил очками в черепаховой оправе. Спортивная кепка, костюм в крупную клетку и брюки-гольф завершили перевоплощение. Он обосновался в маленькой квартире на улице Жюно, куда, еще задолго до первого ареста, перенес часть необходимых вещей и кое-что из того, чем более всего дорожил. Шум вокруг его имени начал ему надоедать, а, побывав в Санте, он уже пресытился прохождением сквозь стены. Самые массивные, самые величественные казались ему чем-то вроде ширмочек, и теперь он подумывал о том, не попробовать ли ему проникнуть в пирамиды. Лелея план путешествия в Египет, он вернулся к мирному существованию, и делил свой досуг между коллекцией марок, посещением кино и продолжительными прогулками по Монмартру. Его превращение было настолько безупречным, что теперь, когда он сбрил бородку и надел очки в черепаховой оправе, он мог идти рядом с лучшими своими друзьями, не боясь быть узнанным. Один лишь художник Жан-Поль, от которого не могло укрыться даже ничтожное изменение в физиономии любого постоянного обитателя квартала, догадался все-таки о подлинной личности незнакомца.
Как-то утром, столкнувшись с Дютийёлем на углу улицы Абревуар, он не удержался и заговорил с ним на своем ужасном арго:
— Ага, фартово фуфыришь. Видать, собрался лудить котелки санитарам (что на обычном языке должно было означать: «Я смотрю, ты приоделся. Хочешь сбить с толку инспекторов из Санте»).
— Ой, — пробормотал Дютийёль, — ты узнал меня.
Он очень встревожился и решил поторопиться с отъездом в Египет. Но в тот же день, вскоре после полудня, он вдруг загорелся любовью к чудесной незнакомой блондинке, которую дважды, с промежутком в четверть часа, встретил на улице Лепик. Он сразу забыл и свои марки, и Египет, и пирамиды. Блондинка тоже посмотрела на него очень внимательно. В наше время ничто так не говорит воображению молодых женщин, как гольфы и черепаховые очки. Сразу идут на ум киношники, и невольно размечтаешься о коктейлях и калифорнийских ночах. Но, к несчастью — Дютийёль узнал об этом у Жан-Поля, — блондинка была замужем за очень грубым и ревнивым человеком. Он постоянно следил за ней, а сам вел чрезвычайно рассеянный образ жизни. Он уходил из дому всякий раз в десять часов вечера, возвращался же далеко за полночь, часам к четырем, и на все время своего отсутствия запирал жену на два оборота ключа, да еще вешал замки на все ставни. И днем он надзирал за ней неукоснительно, даже сопровождал ее повсюду по Монмартру.
— Всегда на стрёме, а потому, что сам шатун, грубая скотина. Не хочет, чтоб другие паслись в его огороде.
Это предостережение Жан-Поля лишь раззадорило Дютийёля. Встретившись на другой день с молодой женщиной на улице Толозе, он осмелился пройти вслед за ней до молочной лавки, и, пока красавица ждала, когда подойдет ее очередь, Дютийёль сказал, что испытывает к ней благоговейную любовь и что знает все — и про сурового мужа, и про дверь на замке, и про запертые ставни. Но, несмотря ни на что, придет к ней в этот же вечер. Блондиночка покраснела, кувшин с молоком задрожал в ее руке. Нежно взглянув на Дютийёля затуманенным взором, она слабо вздохнула: «Увы, это невозможно».
В тот радостный день, около девяти часов вечера, Дютийёль стоял наготове в улице Норвен, неподалеку от массивной стены, ограждавшей двор. За стеной находился домик, но с улицы виднелись лишь флюгер да дымовая труба. И вот в стене открылась дверь, оттуда вышел мужчина. Тщательно заперев за собой дверь на ключ, он направился вниз к бульвару Жюно. Дютийёль подождал, пока тот совсем не исчез вдали, повернув на спуске, потом еще сосчитал до десяти. Затем походкой гимнаста устремился в стену и, преодолевая препятствия, проник в комнату прекрасной узницы. Она приняла его упоенно, и до позднего часа они предавались любви.
Утром у Дютийёля невероятно разболелась голова. Но он решил, что не следует придавать этому большое значение и пропускать из-за такого пустяка свидание, тем не менее, найдя случайно в глубине ящика рассыпанные таблетки, он принял их, одну утром, а другую — днем. К вечеру головная боль поутихла, а возбуждение позволило и вовсе забыть о ней. Молодая женщина ждала Дютийёля со всем нетерпением, какое только могли породить в ней воспоминания о минувшей встрече, и они снова предавались любви до трех часов ночи. Когда Дютийёль уходил, то, преодолевая перегородки и стены дома, он ощутил плечами и бедрами какое-то непривычное трение. В первый миг он подумал, что не стоит обращать внимания на это. К тому же, лишь погрузившись в стену ограды, он почувствовал вполне определенное сопротивление. Ему показалось, что он движется в среде еще текучей, но которая, однако, становилась все более тестообразной и — при каждом новом движении — все более густой. Когда ему удалось целиком войти в толщу стены, он заметил, что совсем не продвигается дальше. С ужасом вспомнил он о двух таблетках, которые принял сегодня. Таблетки — он-то подумал тогда, что это аспирин, — содержали на самом деле порошок четырехвалентной пиретты, прописанной доктором в прошлом году. Результат такого лечения, будучи усугублен последствиями изнуряющей перегрузки, заявил о себе самым неожиданным образом.
Дютийёль оказался замурованным внутри стены. Он и сейчас там, внедренный в камень. В те часы, когда умолкает гул Парижа, ночные гуляки, спускаясь по улице Норвен, слышат порой приглушенный голос, словно идущий из могилы, который они принимают за жалостную песенку ветра в переулках Монмартра. Но это Упырь-Упырь Дютийёль оплакивает конец своей славной карьеры и тоскует о недолгой любви.
Иной раз, зимней ночью, художник Жан-Поль, сняв с крюка гитару, отправляется в гулкую, опустелую улицу Норвен, чтобы песней утешить несчастного узника, и звуки, слетая с его зябнущих пальцев, проникают в глубь камня, словно капли лунного света.
Сабины
На Монмартре, на улице Абрезуар, жила молодая женщина по имени Сабина, наделенная даром расщепления. Стоило ей пожелать — и Сабин становилось несколько, и каждую она могла отправить куда хотела. Сабина была замужем и, так как столь редкостная способность насторожила бы мужа, она держала ее в тайне и пользовалась ею только в спальне, в часы, когда оставалась одна. Например, по утрам, одеваясь, она раздваивалась или растраивалась, чтобы удобнее было рассматривать свое лицо, тело и позы. Окончив осмотр, она спешила снова собрать себя, то есть слиться в единое существо. Иногда в послеполуденные часы зимой пли когда шел проливной дождь и Сабине не хотелось выходить из дому, она разделялась на десять, а то и на двадцать женщин, в таким образом могла вести шумную оживленную беседу, которая, в сущности, была лишь разговором с самой собой. Ее муж, Антуан Лемюрье, помощник начальника юридического отдела СБНКА, и не подозревал об этих ее проделках и твердо верил, что, как все люди, обладает единой и неделимой женой. И лишь однажды, вернувшись домой неожиданно, он сказался в обществе сразу трех жен, похожих как капли воды, и все три смотрели на него шестью глазами, одинаково голубыми и ясными. От этого зрелища он остолбенел, челюсть у него отвалилась. Но так как Сабина тотчас вновь собрала себя, он решил, что стал жертвой какого-то недуга; это подтвердил их домашний врач, который нашел у него недостаточность гипофиза и прописал несколько очень дорогих лекарств.
Однажды апрельским вечером после обеда Антуан Лемюрье в столовой проверял свои ведомости, а Сабина, сидя в кресле, читала киножурнал. Когда случайно он взглянул на жену, его поразила ее поза и выражение лица. Она уронила журнал на колени, голова ее склонилась к плечу, глаза расширились и мягко светились, губы улыбались, лицо сияло неизъяснимой радостью. Взволнованный, восхищенный, он подошел к ней на цыпочках, благоговейно наклонился и никак не мог понять, почему она нетерпеливо от него отстранилась. А случилось вот что.
За неделю до того на углу улицы Жюно Сабине повстречался молодой человек лет двадцати пяти с жгуче-черными глазами. Он дерзко преградил ей путь и сказал: «Сударыня!» А Сабина, гордо вскинув голову, негодующе глядя на него, ответила: «Но, сударь…» И вот неделю спустя на склоне этого апрельского вечера она одновременно находилась и у себя, и у этого черноглазого юноши, чье имя было Теорем, а призвание, как он полагал, — свободный художник. В тот самый момент, когда она отстранилась от мужа, предложив ему вернуться к ведомостям, Теорем в своей мастерской на улице Шевалье де ла Бар держал руки молодой женщины в своих и твердил ей: «Прелесть моя, мое вдохновение, душа моя!» и много других прекраснейших слов, которые легко слетают с губ влюбленного в первые дни увлечения. Сначала Сабина хотела собраться самое позднее к десяти вечера, не соглашаясь ни на какой решительный шаг. Но в полночь она все еще была у Теорема и от ее щепетильной строгости уже оставались одни угрызения совести. Назавтра она собрала себя уже только к двум часам ночи, а в следующие дни — под утро.
Каждый вечер Антуан Лемюрье любовался лицом своей жены, освещенным отблеском счастья столь полного, что оно уже казалось неземным. Однажды, откровенничая с одним из сослуживцев, он так растрогался, что у него вырвалось: «Если бы вы ее видели, когда мы коротаем вечера в столовой! Можно подумать, что она беседует с ангелами».
Целых четыре месяца Сабина продолжала беседовать с ангелами. Ни разу в жизни у нее не было такого восхитительного летнего отдыха, как в этом году. Она одновременно обреталась и в Оверни, на озере с Лемюрье, и на маленьком бретонском пляже с Теоремом. «Я еще никогда не видел тебя такой красивой, — говорил ей муж, — твои глаза волнуют, как озеро в половине восьмого утра». На что Сабина отвечала пленительной улыбкой, предназначенной, казалось, какому-то невидимому горному духу. А в то же время на песке маленького бретонского пляжа она загорала, лежа рядом с Теоремом, и на них почти ничего не было надето. Юноша с черными глазами молчал, словно поглощенный таким глубоким чувством, которое обычные слова не в силах выразить. На самом же деле ему просто надоело без конца повторять одно и то же. В то время как молодая женщина восхищалась этим молчанием и всей невысказанной страстью, таящейся в нем, Теорем, оцепеневший в животном блаженстве, спокойно ожидал часов трапезы, с удовольствием думая, что отдых не стоит ему ни гроша. Сабина продала несколько полученных ею в приданое драгоценностей и умоляла своего друга согласиться, чтобы она взяла на себя все расходы во время их жизни в Бретани. Несколько удивленный, что она прилагает столько усилий, уговаривая его принять то, что, с его точки зрения, само собой полагалось ему, Теорем легко и благосклонно предоставил ей это право. Он считал, что художник не должен жертвовать собой во имя глупых предрассудков, а уж он менее, чем кто-либо. «Я не могу, — говорил он, — дать волю своей чрезмерной щепетильности, если она помешает мне создать творение, достойное Эль Греко или Веласкеса». Он жил на скромную сумму, которую посылал ему лиможский дядюшка, и не рассчитывал на живопись как средство существования. Возвышенное и непреклонное представление об искусстве не позволяло ему творить, если его не толкало к тому вдохновение. «Даже если мне понадобится ждать еще десять лет, — говорил он, — я буду ждать». Так, в сущности говоря, он и поступал. Чаще всего он старательно обогащал свою восприимчивость во всевозможных кафе Монмартра или обострял критическое чутье, глядя на то, как пишут картины его друзья. А когда они интересовались его собственными картинами, он так многозначительно отвечал: «Я ищу себя», что все благоговейно умолкали. К тому же грубые башмаки и широкие бархатные штаны, составлявшие непременную часть его зимнего одеяния, создали ему между улицей Коленкур, площадью Тертр и улицей Аббатис репутацию первоклассного художника. Даже откровенные недоброжелатели соглашались, что его пока еще не проявленные возможности весьма велики.
Однажды утром перед самым концом летнего отдыха любовники одевались в номере гостиницы, обставленном бретонской мебелью. Меж тем в пятистах или шестистах километрах оттуда в Оверни супруги Лемюрье уже три часа как встали и катались в лодке по озеру; муж греб, восхищаясь красотами берегов. Сабина изредка и односложно ему отвечала. А в бретонском городке она в это время пела, глядя на море: «Я предана душой и телом рукам властительным и смелым…» Теорем взял с камина бумажник и, прежде чем положить его в задний карман шорт, извлек из него фотографию.
— Смотри, какой я нашел снимок. Это я сфотографировался зимой в Мулен де ла Галетт.
— О любовь моя, — сказала Сабина, и глаза ее увлажнились от гордости и восторга.
На фотографии Теорем был в зимнем одеянии, и, взглянув на его башмаки и широкие бархатные штаны, так щеголевато подхваченные у щиколоток, Сабина сразу поняла, какой великий у него талант. Она почувствовала сердечные угрызения и устыдилась своей оскорбительной скрытности: ведь до сих пор она не поделилась своей тайной с этим прелестным юношей, таким нежным любовником, к тому же наделенным подлинно артистической натурой!
— Ты прекрасен, — сказала она ему, — ты велик. Эти башмаки! Эти бархатные штаны! Эта шапочка из кроличьего меха! О любимый мой, ты художник, такой чистый, такой всепонимающий, мне выпало счастье тебя встретить, сердце мое, мой возлюбленный, мое сокровище, а я посмела таиться от тебя!
— Что ты такое городишь?
— Мой дорогой, сейчас я открою тебе одну вещь, которую я поклялась никому не рассказывать: я могу расщепляться.
Теорем рассмеялся, но Сабина сказала ему:
— Смотри.
И тут же раздевятерилась. Когда Теорем увидел вокруг себя девять совершенно одинаковых Сабин, ему на минуту показалось, что у него ум за разум зашел.
— Ты не сердишься? — спросила одна из них, робко и тревожно.
— Да нет, — ответил Теорем, — напротив!
Он блаженно улыбнулся, словно хотел поблагодарить ее, и Сабина, успокоенная, страстно поцеловала его девятью ртами.
В начале октября, примерно через месяц после возвращения в Париж, Лемюрье заметил, что его жена уже почти совсем не разговаривает с ангелами. Ему казалось, что она чем-то встревожена и огорчена.
— Ты что-то невеселая, — сказал он ей однажды вечером, — может быть, ты засиделась дома? Завтра, если хочешь, пойдем в кино.
В это же самое время Теорем расхаживал по своей мастерской и кричал:
— Разве я знаю, где ты можешь быть сейчас? Разве я могу быть уверен, что ты не в Жавеле или не на Монпарнасе в объятиях какого-нибудь проходимца или в Лионе тебя не тискает какой-нибудь шелковод? Или в Нарбонне ты не валяешься в постели винодела? Или в Персии на ложе шаха?
— Клянусь тебе, любимый…
— Клянешься, клянешься! А если бы ты была в объятиях двадцати других мужчин, небось тоже клялась бы! Можно сойти с ума! У меня голова кругом идет… Я за себя не ручаюсь… Это кончится трагедией!
Произнеся слово «трагедия», он уставился на ятаган, который купил в прошлом году на Блошином рынке. Чтобы помешать ему совершить кровопролитие, Сабина удвенадцатерилась, и все двенадцать стали между ним и ятаганом. Теорем успокоился. Сабина снова собралась.
— Я так несчастен, — стонал художник. — Жизнь и без того ужасна, а тут еще такое!
Он намекал на треволнения материальные и духовные. По его словам он попал в очень трудное положение. Квартирный хозяин, которому он задолжал за три месяца, грозит ему тюрьмой. Лиможский дядюшка вдруг самым бесстыдным образом прекратил денежную помощь. И при этом он переживает мучительный духовный кризис, правда, весьма плодотворный. Он чувствует, как кипят и зреют в нем творческие силы, но за отсутствием денег не может их проявить. Попробуйте создать шедевр, когда судебный исполнитель и голод уже на пороге. Сабина, изнемогая под гнетом грозных предчувствий, дрожала от страха. На прошлой неделе она продала последние драгоценности, чтобы отдать угольщику с улицы Норвен карточный долг Теорема, и сейчас была в отчаянии, что больше ничем не может пожертвовать ради его таланта, рвущегося ввысь. На самом деле положение Теорема было ничуть не хуже и не лучше, чем обычно. Лиможский дядюшка по-прежнему тянул из себя жилы, чтобы его племянничек стал великим художником. А квартирный хозяин имел наивность рассчитывать, что заработает на бедности будущего гения и, как истый простофиля, легко мирился с тем, что жилец кормит его завтраками. Теорем же не только упивался ролью проклятого поэта и героя богемы, но еще и смутно надеялся, что мрачная картина его невзгод подвигнет молодую женщину на самые отважные решения.
Этой ночью, страшась оставить Теорема наедине с его тревогами, Сабина задержалась у любовника и не собрала себя дома на улице Абревуар. На другое утро она проснулась рядом с Теоремом, сияя счастливой улыбкой.
— Мне снилось, — сказала она, — будто мы владельцы маленькой бакалейной лавочки на улице Сен-Рюстик с фасадом не более двух метров. У нас только один клиент, школьник, который покупает в нашей лавочке леденцы и рудуду. У меня — синий фартучек с большими карманами, а у тебя передник, как у всех лавочников. Вечером в комнате за лавкой ты записываешь в большую книгу доходы за день: рудуду — на шесть су. Когда я проснулась, ты как раз говорил мне: «Чтобы дела наши шли отлично, нам нужен еще клиент, знаешь, такой, с седой бородкой…» Я хотела тебе возразить, что еще с одним клиентом нам негде будет разместиться, но не успела и проснулась.
— Одним словом, — сказал Теорем (при этом горько засмеявшись гортанным смехом и издевательски осклабившись). — Одним словом, — сказал он (уязвленный, оскорбленный до такой степени, что от гнева кровь бросилась ему в голову, он покраснел до ушей, а черные глаза начали метать молнии). — Одним словом, — сказал Теорем, — ты бы хотела сделать из меня лавочника.
— Да нет, я просто рассказываю тебе сон.
— Вот это самое я и говорю. Ты спишь и видишь, как бы превратить меня в лавочника и обрядить в передник!
— О любимый, — нежно возразила Сабина, — если бы ты видел себя, тебе так шел этот передник!
От негодования Теорем даже вскочил с постели и закричал, что его предали. Мало того, что хозяин выбрасывает его на улицу, что лиможский дядя отказывает ему в праве на пропитание как раз в тот момент, когда у него внутри что-то готово раскрыться, — выношенное им грандиозное, но такое хрупкое творение! И вот надо же! Женщина, которую он любил больше всего на свете, надругалась над этим творением и хочет уничтожить его в самом зародыше. Она готова сделать из него, из Теорема, лавочника! Почему не академика? Он расхаживал в пижаме по мастерской и кричал хриплым голосом — так кричит сама боль. Несколько раз он делал вид, что сию секунду вырвет сердце из груди, чтобы раздать его квартирному хозяину, лиможскому дядюшке и той, кого он любил. Истерзанная Сабина, трепеща, постигала, до каких глубин могут дойти страдания художника, и мучилась сознанием своей постыдной вины.
Возвратившись домой в полдень, Лемюрье застал жену в ужасном смятении. Она даже забыла собраться. И когда он вошел в кухню, его взору одновременно предстали четыре фигуры — все они были заняты разными делами, но у всех глаза увлажнила печаль. Это его крайне расстроило.
— Ну, вот! — воскликнул он. — Мой больной гипофиз опять дает о себе знать. Придется снова взяться за лечение.
Но когда симптомы недуга исчезли, он не на шутку встревожился состоянием Сабины — той губительной тоской, в которую она с каждым днем погружалась все глубже.
— Бинетт (так этот добрый и нежный человек звал свою молодую обожаемую жену). Биннет, — сказал он, — я не могу видеть тебя такой грустной. От этого я скоро сам заболею. Стоит мне вспомнить на улице или на службе о твоих скорбных глазах, как сердце мое вдруг сжимается и слезы струятся на папки. Тогда на стеклах моих очков образуется влага, которую я вынужден вытирать, и на эту процедуру приходится тратить драгоценное время, не говоря уже о дурном впечатлении, которое вид этих слез может произвести как на моих начальников, так и на подчиненных. В общем и целом, скажу, что печаль, отражающаяся в твоих ясных глазах, придает им бесконечное очарование, не спорю, но как это мучительно! Я опасаюсь, как бы эта скорбь не повлияла на твое здоровье, и хочу, чтобы ты решительно и энергично повела борьбу с состоянием духа, которое я считаю губительным. Сегодня утром мсье Портер, наш уполномоченный, между прочим, прелестный человек, замечательно воспитанный, просто поразительно сведущий, так вот, мсье Портер был настолько утонченно внимателен, что предложил мне билет на скачки в Лоншан, так как его шурин, по-видимому парижанин до мозга костей, имеет большие связи в этом мире. А ты как раз очень нуждаешься в развлечениях…
В этот день впервые в своей жизни Сабина отправилась на скачки в Лоншан. По дороге она купила спортивную газету и сразу же прельстилась Теократом Шестым. Имя этой лошади, по созвучию напоминавшее ее возлюбленного Теорема, показалось ей счастливым предзнаменованием. На Сабине было синее манто из патара, отделанное шазубом, и тонкинская шляпа с коротенькой вуалеткой на манер козырька. Многие мужчины обратили на нее внимание. Первые заезды ее почти не тронули. Она думала о своем обожаемом художнике, терзаемом житейскими невзгодами; она живо представила себе его яростно сверкавшие черные глаза, когда он творил в своей мастерской, изнемогая от непосильной борьбы с грубой реальностью. Ей тотчас же захотелось раздвоиться, мгновенно перенестись на улицу Шевалье де ла Бар и положить свои прохладные руки на пылающий лоб художника, как это водится у любовников в трагические минуты. Одна лишь боязнь помешать его напряженным исканиям удержала ее от этого. И слава богу, потому что как раз в ту минуту Теорем, вместо того чтобы трудиться в мастерской, попивал стаканчик арамона в забегаловке на улице Коленкур, и раздумывал, не поздно ли пойти в кино.
Наконец лошади выстроились у старта на Большой приз министерства записей актов. Сабина не отрывала глаз от Теократа Шестого. Она поставила на него около ста пятидесяти франков, составлявшие в данный момент все ее сбережения, и надеялась выиграть сумму, которая бы утихомирила квартирного хозяина Теорема. Жокей Теократа Шестого был в сногсшибательной куртке, белой с зеленым, даже нежно-зеленым, легким, хрупким и свежим, словно салат, если бы он вырос в раю. А лошадь была вороная, и сразу же после старта она стала лидером, вырвавшись вперед на три корпуса. Знатоки считали, что такое начало еще ничего не говорит о результате скачек, но Сабина, уже не сомневавшаяся в полном триумфе, вскочила, охваченная восторгом, и закричала: «Теократ! Теократ!» Соседи, глядя на нее, улыбались и пошучивали. Справа от нее сидел старик в перчатках, с моноклем, очень изысканный. Он смотрел на нее искоса, с явной симпатией, умиленный такой непосредственностью. В опьянении победы Сабина вдруг стала кричать: «Теорем! Теорем!» Соседи так шумно забавлялись ее энтузиазмом, что перестали следить за скачками. Наконец она это заметила и, поняв нелепость своего поведения, покраснела от стыда. Увидев это, старый джентльмен в перчатках, с моноклем, очень изысканный, встал и, напрягая голос, закричал: «Теократ! Теократ!» Смешки тотчас же смолкли, и по перешептыванию соседей Сабина поняла, что этот благородный джентльмен был не кто иной, как лорд Бэрбери.
Между тем Теократ Шестой отстал и под конец потерпел полное поражение. Увидев, что надежды ее рушатся и Теорем приговорен к нужде, а значит, как художник к бесплодию, Сабина сначала тяжко вздохнула, не пролив ни слезинки, потом судорожно всхлипнула. Наконец ноздри ее вздрогнули и расширились, глаза увлажнились. Лорд Бэрбери глубоко ей посочувствовал. Обменявшись с ней несколькими словами, он спросил, не согласится ли она выйти за него замуж, ибо его годовой доход составляет двести тысяч фунтов стерлингов. В эту самую минуту Сабине привиделось, что Теорем умирает на больничной койке, проклиная имя господа бога и своего квартирного хозяина. Из любви к художнику, а быть может, и к живописи, она ответила старому джентльмену, что согласна стать его женой, сообщив ему все же, что у нее нет ничего, даже фамилии, одно только имя, притом из самых заурядных — Мари. Лорд Бэрбери нашел эту ее особенность чрезвычайно пикантной и заранее наслаждался впечатлением, которое она произведет на его сестру Эмили, девственницу преклонных лет, посвятившую жизнь хранению доблестных традиций высокородных семей, носительниц исторической славы страны. Не дожидаясь конца последнего заезда, он вместе со своей нареченной отправился в карете в аэропорт Бурже. В шесть часов они прибыли в Лондон, а в семь были уже повенчаны.
В то самое время как в Лондоне Сабина выходила замуж, на улице Абревуар она обедала со своим мужем Антуаном Лемюрье. Он нашел, что жена его выглядит уже куда лучше, и был с ней очень ласков. Тронутая таким вниманием, она почувствовала угрызения совести и спрашивала себя, не преступила ли законы божеские и человеческие, выйдя замуж за лорда Бэрбери. Щекотливый вопрос, который повлек за собой и другой: возможно ли одновременно быть женой Антуана Лемюрье и английского лорда? Даже если допустить, что каждая из них сохраняет свою физическую самостоятельность, все же очевидно, что брак, хоть он и осуществляется в формах плотских, есть прежде всего единение душ. Но, по правде говоря, эти угрызения были чрезмерны. Поскольку закон о браке не предусматривал способности к расщеплению, Сабина имела право поступать согласно своим желаниям и даже со всей искренностью полагать, что она чиста перед богом, раз не существует ни буллы, ни указа, ни постановления, ни декрета, который хотя бы отчасти касался этого вопроса. Но у нее была слишком взыскательная совесть, чтобы воспользоваться такими хитроумными доводами. Вот почему она считала себя обязанной смотреть на свой брак с лордом Бэрбери как на следствие и продолжение адюльтера, не оправданного ничем и достойного загробной кары. Чтобы искупить эту вину перед богом, обществом и своим супругом, ибо она оскорбила всех трех, — Сабина поклялась себе никогда больше не встречаться с Теоремом. К тому же ей стыдно было предстать перед ним после этого брака по расчету, заключенного, правда, ради его же славы и покоя, но, по ее убеждению, подсказанному достохвальной душевной чистотой, все-таки оскорбительного для их любви.
Надо признаться, что жизнь ее в Англии на первых порах помогла Сабине вынести и угрызения совести, и даже горе разлуки. Лорд Бэрбери оказался действительно важной персоной. Помимо того, что ее супруг был очень богат, он по прямой линии происходил от Иоанна Безземельного, который — это обстоятельство мало известно историкам — состоял в морганатическом браке с Эрмиссиндой де Тренкавель и имел от нее семнадцать детей. Все они умерли в младенчестве, за исключением четырнадцатого, Ричарда Хьюга — основателя дома Бэрбери. Среди прочих привилегий, вызывавших зависть всей английской знати, лорд Бэрбери пользовался особым правом раскрывать свой зонт в апартаментах короля. Той же чести была удостоена и его супруга. Брак его с Сабиной был событием значительным. Новая леди стала объектом любопытства, в общем, благосклонного, хотя ее золовка и пыталась распространять слухи, будто Сабина была когда-то плясуньей в Табарене. Сабина, которую в Англии звали Мери, была поглощена своими обязанностями великосветской дамы. Приемы, приглашения к чаю, вязание в пользу бедных, гольф, примерки не давали ей передохнуть. Но, несмотря на столь разнообразные занятия, она так и не забыла Теорема.
Художник ни в малейшей степени не догадывался о происхождении чеков, которые он регулярно стал получать из Англии, и без труда примирился с тем, что Сабина больше не показывалась в его мастерской. Избавленный от материальных забот ежемесячными поступлениями, которые порой доходили до двенадцати тысяч франков, он пришел к выводу, что переживает период особой болезненной сверхчувствительности, мало благоприятной для его творческих свершений, и остро нуждается в душевном просветлении. Поэтому он позволил себе целый год отдыха, готовый продлить его, если возникнет такая необходимость. Его все реже встречали на Монмартре. Он просветлялся в барах Монпарнаса и кабачках Елисейских полей, где поглощал икру и шампанское в обществе дорогостоящих девиц. Узнав, что Теорем ведет довольно беспорядочную жизнь, Сабина с непоколебимой убежденностью решила, что он ищет какую-то новую форму, близкую к Гойе, где игра света сочеталась бы с женскими личинами, сквозь которые проглядывает порочное естество.
Однажды после полудня, вернувшись после трехнедельного пребывания в замке Бэрбери, Сабина нашла в своем роскошном обиталище на Мелисон-сквер четыре картонки, в которых лежали вечернее платье из элеаса, послеобеденное платье из итальянского крепа, спортивное вязаное платье и строгий английский костюм из облегающего спарадра. Отослав горничную, она распятерилась, чтобы одновременно примерить платья и костюм, и не заметила, как в комнату вошел лорд Бэрбери.
— Дорогая! — воскликнул он, — оказывается, у вас четыре прелестных сестры, а вы-то их от меня утаили!
Леди Бэрбери так смутилась, что не успела собрать себя, и вынуждена была ответить:
— Они только что приехали. Альфонзина старше меня на год. С Бригиттой мы близнецы. Барб и Розали мои младшие — тоже близнецы. Говорят, они очень на меня похожи.
Все четыре сестры были прекрасно приняты в высшем свете, им всюду оказывали чрезвычайное внимание. Альфонзина вышла замуж за американского миллиардера — короля кожевенных изделий — и пересекла с ним Атлантический океан; Бригитта — за горизапурского магараджу, который увез ее в свою княжескую резиденцию; Барб — за знаменитого неаполитанского тенора, которого сопровождала во всех его самых дальних турне; Розали — за испанского этнографа, отправившегося вместе с ней в Новую Гвинею изучать достопримечательные обычаи папуасов.
Эти четыре бракосочетания, отпразднованные почти одновременно, вызвали немало толков и в Англии, и даже на континенте. Парижские газеты писали о них довольно подробно и поместили фотографии новобрачных. Однажды вечером в столовой на улице Абревуар Антуан Лемюрье сказал Сабине:
— Видела ты фотографии леди Бэрбери и ее четырех сестер? Удивительно, до чего они на тебя похожи, только у тебя глаза светлее, лицо тоньше, рот меньше, нос короче, подбородок мягче. Завтра я захвачу газету и твою фотографию — покажу их мсье Портеру, он будет поражен.
Антуан засмеялся, потому что предвкушал, как он удивит мсье Портера, уполномоченного СБНКА.
— Я заранее смеюсь, когда представляю себе лицо мсье Портера, — пояснил он. — Бедный мсье Портер! Кстати, он опять дал мне пропуск на скачки в среду. Что, по-твоему, надо делать?
— Не знаю, — ответила Сабина, — это очень сложный вопрос.
С озабоченным видом она размышляла, подобает ли Лемюрье послать цветы мадам Портер, жене его начальника? А в эту минуту и леди Бэрбери, игравшая в бридж с графом Лестером, и избранница горизапурского магараджи, раскинувшаяся в паланкине на спине слона, и миссис Смитсон в штате Пенсильвания, принимавшая гостей в своем замке стиля синтетического ренессанса, и Барб Казарини, слушавшая в ложе Венской оперы своего знаменитейшего тенора, и Розали Вальдес-и-Саманьего, лежавшая под москитной сеткой в папуасской хижине, — все они одновременно были поглощены вопросом — следует ли поднести цветы госпоже Портер.
Теорем, узнавший из газет о четырех брачных церемониях, сразу все понял, глядя на фотографии, иллюстрировавшие репортажи; он ни минуты не сомневался, что все эти молодые жены — лишь новые воплощения Сабины. За исключением этнографа, который, по его мнению, занимался делом недостаточно прибыльным, он нашел, что мужья выбраны вполне удачно. Именно в эту пору он почувствовал острую необходимость вернуться на Монмартр. Дождливый климат Монпарнаса и гулкая сухость Елисейских полей наскучили ему. К тому же ежемесячные поступления от леди Бэрбери придавали ему больше блеска в кафе на Монмартрском холме, чем в чужих заведениях. Впрочем, он ничего не изменил в своем образе жизни и быстро создал себе на Монмартре репутацию полуночника, завсегдатая злачных мест, скандалиста и пьяницы. Друзья забавлялись, рассказывая о его фортелях, несколько завидовали его неожиданному благосостоянию, которым они, однако, широко пользовались, и не без удовольствия повторяли, что он потерян для живописи. Они, правда, считали необходимым добавлять, что это весьма прискорбно, ибо у него, безусловно, темперамент настоящего художника.
Сабина, узнав о дурной славе Теорема, поняла, что он идет по пагубному пути. Ее вера в него и в его предназначение, поколебалась, но от этого она полюбила его еще нежнее и винила себя в том, что стала причиной его падения. Целую неделю она ломала руки во всех концах света. Однажды в полночь, возвращаясь с мужем из кино, на перекрестке Жюно-Жирардон она увидела Теорема, повисшего на руках у каких-то развеселых и растрепанных девиц. Мертвецки пьяный, он изрыгал из себя потоки мутного вина и грязной ругани по адресу двух своих спутниц, из которых одна поддерживала ему голову, интимно называя его «мой свин», в то время как другая в крайне непристойных выражениях, игриво расписывала его мужские способности. Узнав Сабину, он повернул к ней измаранное лицо, икая произнес имя Бэрбери и, сопроводив его коротким, но оскорбительным комментарием, растянулся у фонаря. После этой встречи она стала думать о нем лишь с ненавистью и отвращением и дала себе слово его забыть.
Через две недели леди Бэрбери, жившая вместе с супругом в своем поместье, увлеклась молодым священником из их округи, который был приглашен к завтраку в замок. Глаза у него были не черные, а бледноголубые, губы не чувственные, а тонкие, поджатые, вид добропорядочный и чистоплотный, ум холодный и ограниченный, отличающий породу людей, готовых презирать все, что им недоступно. После первого же завтрака леди Бэрбери без памяти в него влюбилась. Вечером она сказала мужу:
— Я вам не говорила, но у меня есть еще одна сестра. Ее зовут Юдифь.
На следующей неделе Юдифь появилась в замке и за завтраком познакомилась со священником, который держался вежливо, но отчужденно, как и подобает вести себя с католичкой — средоточием и посредницей греховных помыслов. После завтрака они вдвоем прошлись по парку и Юдифь, как бы невзначай, но очень кстати привела цитаты из Книги Иова, Книги Чисел и Второзакония. Пастырь понял, что почва тут благодатная. Через неделю он обратил Юдифь, а еще через две на ней женился. Их счастье было недолгим. Священник вел только просветительные беседы и даже в постели произносил проповеди, свидетельствующие о поразительной возвышенности ума. Юдифь так смертельно скучала с ним, что, воспользовавшись прогулкой, которую они совершали вдвоем по Шотландскому озеру, будто бы случайно утонула. На самом же деле она нырнула на дно, задерживая дыхание, и, стоило ей исчезнуть с глаз супруга, леди Бэрбери вновь собралась и приняла ее в свое лоно. Пастырь отчаянно горевал, но благодарил при этом господа за ниспосланное ему испытание. Он воздвиг в своем саду маленький памятник in memoriam[6].
Между тем Теорем волновался, так как ежемесячные поступления прекратились. Сначала он подумал, что деньги просто опаздывают, и заставил себя набраться терпения. Но после того как больше месяца прожил в кредит, он решился поведать Сабине о своих затруднениях; три утра подряд напрасно подстерегал он ее на улице Абревуар, а встретил случайно в шесть часов вечера.
— Сабина, — сказал он ей, — я ищу тебя вот уже три дня.
— Но, сударь, я вас не знаю, — ответила Сабина.
Она хотела пройти дальше. Теорем положил ей руку на плечо.
— Послушай, Сабина, за что ты на меня сердишься? Я сделал все, что ты хотела. Ты вдруг решила больше не приходить ко мне, и я молча страдал, даже не спрашивая, почему ты отказалась со мной встречаться.
— Сударь, я не понимаю, о чем вы говорите. Но ваше «ты» и ваши непонятные намеки оскорбительны. Оставьте меня в покое.
— Сабина, не могла же ты все забыть. Вспомни.
Не смея еще приступить к вопросу о деньгах, Теорем пытался возродить подобие интимности. Страстно взывал он к трогательным воспоминаниям и возвращался к истории их любви. Но Сабина смотрела на него удивленным, немного испуганным взглядом и упорствовала, не столько негодуя, сколько изумляясь. Художник настаивал.
— Но вспомни наконец, ведь еще этим летом мы вместе отдыхали в Бретани, вспомни нашу комнату у моря.
— Этим летом? Но я провела все лето с мужем в Оверни!
— Ну, знаешь, ты что же, отрицаешь факты?
— Как это — я отрицаю факты? Вы издеваетесь надо мной или просто сошли с ума. Пустите, а не то я позову на помощь!
Теорем, возмущенный такой вопиющей ложью, схватил ее за плечи и начал трясти, ругаясь и богохульствуя. В этот момент Сабина увидела своего мужа, который шел по противоположной стороне улицы, не замечая их, и позвала его. Он подошел к ней и, не понимая, что происходит, поклонился Теорему.
— Этого господина я вижу впервые в жизни, — сказала Сабина, — он остановил меня, и мало того, что обращается ко мне на ты, он еще ведет себя так, будто я была его любовницей, называет милой и делится воображаемыми воспоминаниями о нашей якобы былой любви.
— Что это значит, сударь? — высокомерно спросил Антуан Лемюрье. — Должен ли я сделать вывод, что вы собирались прибегнуть к недостойным и нечестным уловкам? Как бы то ни было, вы не убедите меня в том, что так поступают порядочные люди. Предупреждаю вас…
— Ну, ладно, — проворчал Теорем, — не хочу пользоваться обстоятельствами.
— Пользуйтесь, сударь, не стесняйтесь, — засмеялась Сабина. Повернувшись к Антуану, она сказала: — Среди прочих воспоминаний о нашей предполагаемой любви этот господин только что утверждал, будто прошлым летом провел со мной три недели на бретонском пляже. Что ты на это скажешь?
— Допустим, что я ничего не говорю, — разъяренно воскликнул Теорем.
— Вам больше ничего не остается, — заметил супруг. — Так знайте же, моя жена не расставалась со мной все лето и мы провели наш отдых…
— На озере в Оверни, — прервал его Теорем. — Это несомненно.
— Кто вам это сказал? — простодушно спросила Сабина.
— Мой мизинчик, когда на бретонском пляже…
Эти слова заставили молодую женщину задуматься. Художник не спускал с нее своих черных глаз. Она улыбнулась и спросила:
— Значит, если я верно вас поняла, вы утверждаете, что я одновременно находилась и на озере в Оверни с мужем, и на бретонском пляже с вами?
Теорем подмигнул ей в знак того, что именно так оно и было. И тут Антуан Лемюрье, который приготовился уже пнуть его ногой в живот, понял, с кем он имеет дело.
— Сударь, — все же сказал этот добродушный человек, — полагаю, что вы не один на свете. Вероятно, есть кто-то, кто о вас заботится: друг, жена, родители. Если вы живете поблизости, я могу проводить вас до дому.
— Разве вы не знаете, кто я? — удивился художник.
— Извините…
— Я Верцингеторикс. Обо мне не беспокойтесь. Я сяду в метро Ламарка и прибуду в Алезию[7] к обеду. Ну, до свиданья. И бегите домой, милуйтесь со своей супружницей.
Произнося эти слова и наглым взглядом смерив Сабину с ног до головы, Теорем удалился, свирепо хохоча на ходу. Несчастный не сомневался, что он безумен. И только удивлялся, как он раньше этого не замечал. Доказать его безумие было легче легкого. Если отдых в Бретани и способность Сабины к расщеплению существовали только в его воображении, то, конечно, это бред помешанного. Если же, напротив, предположить, что так оно и было на самом деле, Теорем оказывался в положении человека, который готов засвидетельствовать факт истинный, но абсурдный, а это опять-таки бывает только с умалишенными. Уверенность в том, что он тронулся рассудком, тяжело повлияла на художника. Он стал мрачен, замкнут, подозрителен, скрывался от друзей и отвергал все их попытки встретиться с ним. Он избегал также общества уличных женщин, перестал посещать кафе на Монмартре и заперся в мастерской, размышляя над своим безумием. Он не видел возможности когда-либо излечиться, разве если потеряет память. К счастью, одиночество вернуло его к живописи. Он стал работать с яростным увлечением, с горячностью, порой близкой к помешательству. Его прекрасный талант, который он раньше растрачивал в кабаках, барах и альковах, снова засветился, потом заблестел, потом засверкал. Полгода усилий — и страстных исканий — и он полностью воплотил себя в своих творениях, создавая только шедевры, почти всегда бессмертные. Назовем среди них «Женщину о девяти головах», которая уже наделала столько шума, и его столь строгое и вместе с тем столь смущающее «Вольтеровское кресло». Лиможский дядюшка был просто счастлив.
Между тем леди Бэрбери понесла от трудов священника. Поспешим оговориться, не было между ними ничего, что перечило бы высокой добродетели. Но Юдифь, погрузившись в лоно своей сестры, заронила в него плод своего союза с пастырем, пока еще только начинавший созревать. Леди Бэрбери не без некоторого нравственного смущения родила здорового мальчика, которого священник совершенно равнодушно окрестил. Ребенка назвали Энтони, и больше сказать о нем нам нечего. Примерно в то же время жена горизапурского владыки произвела на свет близнецов уже непосредственно от самого магараджи. По этому поводу происходили большие празднества, и народ, согласно местному обычаю, преподнес новорожденным столько золота, сколько они весили. В свою очередь Барб Казарини и Розали Вальдес-и-Саманьего стали матерями — у одной сын, у другой дочь. И там тоже шли ликования.
Миссис Смитсон, супруга миллиардера, не последовала примеру своих сестер и довольно серьезно заболела. Ее увезли в Калифорнию, и там, выздоравливая, она зачитывалась теми пагубными романами, где авторы в чрезмерно соблазнительном свете рисуют нам греховные парочки, погрязшие в пороках, где они даже не боятся описывать с злокозненной готовностью — и, увы, в каких лестных выражениях, с каким искусством приукрашивая ужасную правду и делая привлекательными самые возмутительные положения, превознося героев и окружая их ореолом, с дьявольской изощренностью заставляя нас забывать, а то и одобрять истинную суть этих богомерзких деяний, — так вот, они не боятся даже описывать нам утехи любви и изыски любострастия. Нет ничего вреднее подобных книг. Миссис Смитсон проявила слабость и попалась в эту ловушку. Сперва она вздыхала, затем принялась рассуждать. «У меня пять мужей, — думала она, — у меня бывало их и шесть одновременно. А любовник был только один, и он подарил мне за полгода больше наслаждений, чем все мои мужья вместе взятые за целый год. И все же он был недостоин моей любви. Угрызения совести заставили меня порвать с ним. (Тут миссис Смитсон вздохнула и быстро перелистала страницы лежавшего рядом романа.) Любовники в «Страсть меня пробуждает» не знают, что такое угрызения совести. Они счастливы, как быки (она хотела сказать как боги). Мои угрызения неразумны. Ибо в чем, собственно, грех адюльтера? Предоставлять другому то, что по праву принадлежит только одному. Но ничто не мешает мне иметь любовника и оставаться при том верной Смитсону».
Эти размышления не замедлили принести плоды. Беда была в том, что она не одна так поступала, ибо по законам расщепления яд одновременно проникал в сознание ее сестер. Выздоровев, миссис Смитсон в последние дни своего пребывания на калифорнийском пляже Дорадо посетила концерт. Играли «Лунную сонату» в джазовом исполнении. Чары Бетховена и его колдовской музыки так повлияли на ее воображение, что она влюбилась в ударника, который через два дня отплывал на Филиппины. Две недели спустя она, раздвоившись, срочно отправилась в Манилу, встретила музыканта и склонила его к любовной связи. В это же самое время леди Бэрбери увлеклась охотником на пантер, только взглянув на его снимок в журнале, и послала ему своего двойника на Яву. Супруга тенора, покидая Стокгольм, оставила там двойника, чтобы познакомиться с молодым хористом, на которого обратила внимание в Опере, а Розали Вальдес-и-Саманьего, мужем которой только что пообедало племя папуасов по случаю религиозного празднества, расчетверилась, дабы любить четырех красивых юношей, встреченных ею в четырех океанских портах.
Вскоре несчастная расщепленка была поражена лихорадкой сладострастия и завела любовников во всех концах земного шара. Число их возрастало в геометрической прогрессии со знаменателем 2,7. Это скопище мужчин, рассеянных по всему свету, включало самые разнообразные профессии: там были моряки, плантаторы, китайские пираты, офицеры, ковбои, шахматный чемпион, скандинавские атлеты, ловцы жемчуга, комиссар, лицеисты, погонщики быков, матадор, подручный мясника, четырнадцать киноактеров, реставратор фарфора, шестьдесят семь врачей, маркизы, четыре русских князя, два железнодорожника, преподаватель геометрии, шорник, одиннадцать адвокатов — да всех не перечислишь. Отметим, впрочем, члена Французской академии с седой бородой, совершающего лекционное турне по Балканам. Только на одном из Маркизовых островов, где мужское население очень приглянулось ненасытной сладострастнице, она расщепилась на тридцать девять женщин. В течение следующих трех месяцев на всем земном шаре было уже девятьсот пятьдесят экземпляров Сабин. Через полгода число их достигло уже примерно восемнадцати тысяч, а это немало. В результате лицо мира заметно изменилось. Восемнадцать тысяч любовников испытали на себе влияние одной женщины, и между ними, помимо их ведома, установилось некое единообразие в желаниях, чувствах, суждениях. К тому же, как бы моделированные ее советами и одним и тем же стремлением нравиться ей, они становились похожими по манере держаться, походке, покрою пиджака, цвету галстука и даже по выражению лица. Так, преподаватель геометрии очень напоминал китайского пирата, а академик, несмотря на свою бороду, смахивал на матадора. Выработался особый тип мужчины, соматические свойства которого не поддавались исследованию. Сабина любила напевать песенку, которая начинается так: «Гуляла я когда-то с французским солдатом». И ее стали повторять все бесчисленные сабинины любовники, их друзья и знакомые. Она стала популярной во всем мире. Пели ее и гангстеры Аль-Паконе, очищая главный банк Чикаго, и пираты By Най-на, грабя китайские суда на Синей реке, и «бессмертные», редактируя словарь Академии. В конце концов силуэт Сабины, ее профиль, форма глаз, выражение бедер вот-вот, казалось, установят новые каноны женской красоты. Неутомимые путешественники, особенно репортеры, удивлялись, встречая повсюду одну и ту же женщину, так поразительно похожую на самое себя. Газеты сделали из этого сенсацию. Научный мир предложил несколько объяснений этого феномена, что дало повод к яростным спорам, не разрешенным и поныне.
Полуфиналистическая теория нивелирования рас путем генных мутаций и бессознательного естественного отбора пользовалась наибольшим признанием у широкой публики. Лорд Бэрбери, который довольно пристально следил за этими дебатами, стал как-то странно посматривать на собственную жену.
А на улице Абревуар Сабина Лемюрье с кажущимся спокойствием вела жизнь заботливой жены и хорошей хозяйки, ходила на рынок, жарила бифштексы, пришивала пуговицы, чинила мужу белье, обменивалась визитами с женами его сослуживцев и аккуратно писала старому дядюшке из Клермон-Феррана. В отличие от своих четырех сестер, она, видимо, не поддалась пагубному влиянию романов миссис Смитсон: запретила себе расщепляться в погоне за любовниками. Быть может, эту ее осмотрительность сочтут притворной, неискренней и лицемерной, ибо Сабина и ее бесчисленные грешные сестры на самом деле были одним и тем же существом, но даже величайшие грешники не бывают окончательно покинуты богом, который вносит свет во мрак их злосчастных душ. И несомненно, что этот свет воплотился в одну восемнадцатитысячную часть нашей бесчисленной сладострастницы. По правде говоря, она прежде всего хотела отдать должное Антуану Лемюрье как законному супругу. Ее отношение к нему — лучшее свидетельство этой постоянной и благородной заботы. Дело в том, что Лемюрье, ставший жертвой неудачных спекуляций, наделал кучу долгов; как раз тогда он захворал и супруги впали в крайнюю нужду, близкую к нищете. Нередко им не хватало денег ни на лекарства, ни на хлеб, ни на квартиру. Сабина узнала тревожные дни, но держалась стойко: даже когда судебный исполнитель стучался в их дверь и когда Антуан требовал священника, думая, что умирает, она противостояла соблазну прибегнуть к миллионам леди Бэрбери или миссис Смитсон. Но, сидя у изголовья больного, прислушиваясь к его тяжелому дыханию, она следила за всеми забавами своих сестер (их было тогда сорок семь тысяч), участвовала во всех их делах и слушала неуемный похотливый гул, который сопровождала иногда невольным вздохом. Стиснув зубы, с разгоряченным лицом и слегка расширенными зрачками, она подчас напоминала телефонистку, с напряженным вниманием следящую за своим обширным пультом.
Причастная к этой свалке похоти, участвуя в этом клубке блудодействующих, распаленных, исходящих потом, сладострастных стонущих тел, наслаждаясь этим волей-неволей, понуждаемая собственным желанием и естественным своим подобием естеству всех остальных, — так вот, наслаждаясь, Сабина тем не менее оставалась неутоленной, и сердце ее жаждало любви. Потому что она снова полюбила Теорема, твердо решив, однако, что он об этом ничего не узнает. Быть может, ее сорок семь тысяч любовников были лишь производными этой безнадежной страсти. Есть основание так думать. Но возможно и другое: ее просто с неодолимой силой втянула в свою воронку судьба. (Это мысль Шарля Фурье, которую каждый может прочесть на цоколе его статуи, там, где сливаются бульвар и площадь Клиши: «Влечения соответствуют судьбам»). Об успехах Теорема Сабина узнала сначала от своей молочницы, потом из газет. На одной выставке она с потрясенной душой и увлажненным взором восхищалась «Женщиной о девяти головах», столь нежной и трагически нереальной, а ей столь о многом напоминавшей. Ее прежний любовник предстал перед ней очищенным, искупленным, вымытым и выглаженным, источающим свет и сияние. Только за него она осмеливалась молиться — чтобы у него была мягкая постель, вкусная еда, незамутненная душа в любое время года и чтобы картины его становились все более совершенными.
Глаза Теорема были столь же черны, но он уже не считал себя безумным, хотя, казалось бы, мог утвердиться в этой мысли с помощью тех же неоспоримых доводов; но он мудро решил, что неоспоримо аргументировать можно любое утверждение, в частности, утверждение о полной его вменяемости, и он не стал этим заниматься. Так или иначе жизнь его протекала почти без событий, полная трудов и чаще всего в одиночестве. Как и хотела того Сабина, его картины становились все совершеннее и искусствоведы говорили очень тонкие вещи об одухотворенности его полотен. Он никогда не заглядывал в кафе и даже в обществе друзей говорил скупо, а манеры и выражение его лица были печальны, как у всех людей, которых гложет большое горе. Надо сказать, что он серьезно пересмотрел былое свое отношение к Сабине. (Он краснел раз двадцать на дню, вспоминая свою низость, громко кляня себя, ругая то тупицей, то скотиной, то безобразной ядовитой жабой, то самодовольной свиньей. Ему хотелось покаяться перед Сабиной, вымолить у нее прощение, но он считал себя недостойным этого. Он совершил паломничество на бретонский пляж и привез оттуда два замечательных полотна (глядя на них, зарыдал бы даже лавочник), а также мучительное воспоминание о своей подлости. В его страсти к Сабине было столько самоуничижения, что он укорял теперь себя уже за то, что был когда-то любим ею.
Антуан Лемюрье, который чуть не умер, все-таки выжил; окончательно оправившись, он стал ходить на службу в свое учреждение и кое-как залечил денежные раны. Во время его невзгод соседи злорадствовали, полагая, что муж подохнет, мебель продадут с молотка, а жена окажется на улице. Они, впрочем, были прекрасные люди, золотые сердца, как все на свете, и ничего не имели против четы Лемюрье. Но, видя, как рядом с ними разыгрывается мрачная трагедия со всевозможными опасными поворотами, хитросплетениями, криками квартирного хозяина, приходами судебного исполнителя и сильным жаром, они жили в тревожном ожидании развязки, которая была бы достойна такой пьесы, и не могли простить Лемюрье, что он остался в живых. Это он все испортил. И, как бы в отместку ему, они стали жалеть жену и восхищаться ею. Сабина только и слышала: «Госпожа Лемюрье, как вы были мужественны, мы много о вас думали, я хотела зайти к вам, а Фредерик сказал нет, ей не до тебя. Но я была в курсе ваших дел и часто говорила — да что там, я еще вчера сказала господину Бреве: «Госпожа Лемюрье вела себя беспримерно, она достойна восхищения». Все эти прекрасные слова произносились главным образом в присутствии Лемюрье, или их ему передавала консьержка, или жильцы трехкомнатной квартиры на пятом этаже, или из квартиры напротив на третьем. Так что бедняга начал считать себя виноватым, что не умеет достаточно горячо выразить жене свою благодарность. Однажды вечером при свете лампы Сабина показалась ему усталой. У нее уже был пятидесятишеститысячный любовник — жандармский капитан, красавец мужчина, который, расстегивая портупею в гостинице Касабланки, говорил ей, что, после того как здорово подзаправишься и выкуришь хорошую сигару, любовь — шикарная штука. Антуан Лемюрье благоговейно посмотрел на жену, взял ее руку и горячо поцеловал.
— Дорогая, — сказал он, — ты святая. Ты самая кроткая из всех святых и самая прекрасная. Святая, настоящая святая!
Горькая ирония этой хвалы и этого обожающего взгляда пронзила сердце Сабины. Она отняла у него руку, заплакала и ушла к себе, сказав, что у нее нервы расходились. Когда она накручивала волосы на бигуди, седобородый академик умер от разрыва сердца в афинском ресторане, где он сидел за столиком с Сабиной, которая там звалась Кунигундой и считалась его племянницей. Кунигунда может показаться именем слишком изысканным, даже литературным, но подумайте сами: в святцах нет пятидесяти шести тысяч святых, а дать имя надо было всем. Уверенная, что гибель великого человека будет достойно отмечена, Кунигунда погрузилась в лоно Сабины, которая назавтра же отправила ее на поселение в пригород, во искупление многочисленных оскорблений, нанесенных чести Антуана Лемюрье.
Кунигунда, под именем Луизы Меньен, нашла себе кров в одной из беднейших хижин пригорода Сент-Уэн, что расположены в глубине этого гнусного поселка напротив огромных помоек, на рыхлой почве, насыщенной зловонными запахами гари и скученной нищеты. В ее лачуге, построенной из трухлявого дерева и просмоленной мешковины, было всего две комнаты, разделенные дощатой перегородкой. В одной из них жил немощный старик с катарактой на глазах, за которым ходил слабоумный мальчишка. Старик ругал его денно и нощно умирающим голосом. Луиза Меньен долго не могла привыкнуть к такому соседству, так же как к насекомым, крысам, вони, шумным дракам, грубости местных жителей и ко всем омерзительным условиям существования в этом последнем кругу земного ада. Леди Бэрбери и ее замужние сестры, равно как и все пятьдесят шесть тысяч сладострастниц (число которых продолжало расти), из-за этого на несколько дней потеряли аппетит. Лорд Бэрбери иногда удивлялся при виде того, как его жена внезапно бледнеет, как у нее начинают дрожать руки и голова, как искажается лицо. «От меня что-то скрывают», — думал он. А это просто Луиза Меньен в своей конуре боролась с пузатой крысой или отвоевывала тюфяк у клопов, но он-то не мог об этом знать. Быть может, читатели подумают, что искупительное сошествие в мир отверженных и тряпичников, в зловоние, кишащее насекомыми, где всюду раны, гнойники, голод, поножовщина, лохмотья, дрянное вино и пьяные вопли, заставили многоликую грешницу сделать решительный шаг по стезе добродетели. Увы, нет, и даже напротив. Луиза Меньен, ее пятьдесят шесть тысяч сестер (их стало уже шестьдесят тысяч) и четырехбрачная супруга пытались развлечься, чтобы забыть пригород Сент-Уэн. Вместо того чтобы утешаться своими страданиями, что было бы справедливо и разумно, Луиза старалась ничего не видеть и не слышать и расщеплялась на пяти континентах, участвуя в порочных играх. Так было легче. Когда у тебя шестьдесят тысяч пар глаз, можно без особого труда отвлечься от зрелища, которое нам преподносит одна из них. То же можно сказать и об ушах.
К счастью, провидение не дремало. Однажды под вечер воздух был удивительно мягок, испарения бараков, крытых фур и наваленных в кучи нечистот сливались в гнилостное зловоние, отдающее падалью. Над поселком стоял легкий туман, нежно обволакивая покосившиеся хибары и горы шлака. Женщины обзывали друг друга шлюхами, шкурами, воровками, а в дощатом кафе радио передавало интервью со знаменитым чемпионом-велосипедистом. Луиза Меньен наполняла лейку у колонки и вдруг увидела, что из крытой повозки вышел какой-то безобразный человек, похожий на гориллу, такой же широкоплечий, с длинными, висящими до колен руками; он направился к ней. На ногах у него были шлепанцы и разномастные гетры. Он подошел к Луизе, поводя плечами, и молча уставился на нее. Глазки его блестели на заросшем щетиной лице. Многие мужчины не раз приставали к ней у колонки, а некоторые даже бродили вокруг ее лачуги. Но и самые отпетые старались соблюдать какие-то условности. Этот даже не задумался. Его решение было настолько непререкаемо и просто, словно он собрался войти в автобус. Луиза не смела глаз поднять и с ужасом поглядывала на огромные висевшие вдоль тела руки, заросшие густой черной шерстью, местами слипшейся от грязи какими-то торчащими пучками. Наполнив лейку, она пошла домой. А гориллоподобный последовал за ней, все еще не произнося ни слова. Он шел рядом с ней маленькими шажками, ноги у него были короткие, кривые, несоразмерные с торсом. Время от времени он сплевывал табачную жвачку. «Зачем вы за мной идете?» — спросила Луиза. «Моя рана опять кровоточит», — ответил гориллоподобный и на ходу отлепил штаны от бедра в том месте, где они приклеились. Наконец подошли к лачуге. Дрожа от страха, Луиза опередила его, быстро проскользнула в дом и закрыла дверь у него под носом. Но она не успела повернуть ключ, и Горилла оттолкнул ее и вломился в комнатушку. Не обращая внимания на Луизу, он начал осторожно ощупывать свое бедро, стараясь сквозь ткань различить очертания гноящейся язвы. Эта процедура тянулась долго. В соседней комнате старик изрыгал ругательства умирающим голосом и жаловался, что мальчишка хочет его убить. Луиза вне себя от ужаса стояла посреди комнаты, не сводя глаз с Гориллы. Он выпрямился, увидел, что она смотрит на него, сделал рукой знак, словно приказывая ей потерпеть, и, повернув ключ в двери, выложил на стул табачную жвачку.
В Париже, Лондоне, Шанхае, Бамако, в Батон-Руже, Ванкувере, Нью-Йорке, Бреславле, Варшаве, Риме, Пондишери, Сиднее, Барселоне — словом, во всех концах земного шара Сабина, прерывисто дыша, следила за движениями Гориллы. Леди Бэрбери только что вступила в салон своих друзей, и хозяйка дома, которая шла ей навстречу, увидела, как она отшатнулась от нее, выпучив глаза от страха и сморщив нос, как начала потом отступать, пока не упала на колени к старому полковнику. В Напье (Новая Зеландия) Эрнестина, появившаяся на свет последней из шестидесяти пяти тысяч, глубоко вонзила ногти в руку молодого банковского служащего, который недоумевал, что бы это значило. Сабина могла бы растворить Луизу Меньен в одном из своих многочисленных тел, она об этом даже подумала, но потом решила, что не имеет права отказаться от предстоящего испытания.
Горилла несколько раз насильно овладевал Луизой Меньен. В перерывах он жевал табак, потом снова клал жвачку на стул.
За дощатой перегородкой старик продолжал свои жалобы и слабеющей рукой швырял башмаки, пытаясь убить своего молодого сожителя, который каждый раз начинал бессмысленно хохотать. Уже совсем стемнело. При каждом движении Гориллы от него исходил тяжелый запах грязи, гнилой пищи, козла и гноя — запах, гнездящийся в его звериной шерсти и одежде. Наконец, занявшись своей жвачкой уже всерьез, он положил на стол монету в двадцать су, как человек бывалый в таких делах, и бросил, уходя: «Я вернусь».
В эту ночь ни одна из шестидесяти пяти тысяч сестер не могла заснуть, и слезы их, казалось, никогда не иссякнут. Они теперь ясно поняли, что наслаждения любви, описанные в романах миссис Смитсон, не более чем обманчивые иллюзии и что ни один даже самый распрекрасный мужчина вне святых уз брака не может дать больше, чем имеет, — то есть, по сути (думали они), примерно то же, что давал Горилла. Несколько тысяч из них поссорились со своими любовниками, которые из себя вон выходили от этих слез и брезгливых гримас. Эти Сабины тут же порвали свои связи и стали искать честный заработок. Одни поступили на фабрику или в услужение, другие нашли себе место в больницах и богадельнях. А на Маркизовых островах двенадцать Сабин устроились в лепрозории ухаживать за прокаженными. Увы! Не надо думать, что движение это сразу же охватило всех. Напротив, новые сонмы грешниц, да еще с избытком, пришли на смену выбывшим и очищенным от скверны. Среди раскаявшихся тоже нашлись такие, которые снова поддались искушению и вернулись к порочным утехам.
К счастью, гориллоподобное чудовище частенько навещало Луизу Меньен. Так как он был все так же уродлив, груб и от него по-прежнему ужасно воняло, его похотливость была, можно сказать, душеспасительной. Каждый раз, когда он появлялся в лачуге, дрожь отвращения охватывала женщин, и нашлось все-таки тысячи две среди них, которые взялись за достойный труд и добрые дела, хотя многие потом, передумав, вновь впадали в привычный грех. В конечном счете, если судить по цифрам, Сабина не очень-то продвигалась по пути добродетели, но количество ее любовников остановилось примерно на шестидесяти семи тысячах, и это уже было кое-каким достижением.
Однажды утром Горилла пришел к Луизе Меньен с большим холщовым мешком, в котором лежали восемь коробок паштета, шесть — лосося, три овечьих сыра, три камамбера, шесть крутых яиц, на пятнадцать су маринованных огурчиков, горшок мелко изрубленной и зажаренной в сале свинины, колбаса, четыре кило свежего хлеба, двенадцать бутылок красного вина, бутылка рома и к тому же фонограф выпуска 1912 года с записями на валиках, которых было три, а именно (перечисляем их в том порядке, в каком отдавал им предпочтение Горилла): «Песня золотых нив», игривый монолог и дуэт Шарлотты и Вертера. Явился Горилла с мешком за плечами, заперся в лачуге с Луизой Меньен и вышел оттуда только на третий день в пять часов пополудни. О мерзостях, которые происходили в течение двух суток этого совместного пребывания, пристойнее будет умолчать. Единственно, о чем следует сказать, что в это самое время двадцать тысяч опомнившихся женщин оставили своих любовников, дабы посвятить себя богоугодным делам и помогать страждущим. Правда и то, что девять тысяч среди них (почти половина) снова впали в грех, но начало было отрадно. С тех пор число вернувшихся к добродетели было более или менее постоянно, несмотря на новые падения и новые возвраты к былому распутству. А так как все эти бесчисленные тела были движимы одной-единственной душой, то, быть может, читатель удивится, что доброе семя так медленно давало всходы. Но жизненные привычки, особенно самые повседневные, самые невинные, самые на вид пустячные, неразрывно сцепляют душу с плотью. Сабина тому отличный пример. Те из ее сестер, которые жили распутно — сегодня один любовник, завтра другой — и всегда были легки на подъем, первыми признали свою вину и раскаялись. Большинство остальных держались за порочную жизнь из-за аперитива в привычный час, из-за комфортабельного жилья, из-за накрахмаленной салфетки в ресторане, приветливой консьержки, сиамского кота, борзой собаки, завивки каждую неделю, радиоприемника, портнихи, удобного кресла, партнеров в бридж и, наконец, постоянного присутствия мужчины, с которым обмениваешься замечаниями о погоде, галстуках, кино, смерти, любви, табаке или простреле. Но и боязнь лишиться всего этого, казалось, постепенно исчезала. Каждую неделю зверь проводил у Луизы дня два или три подряд. Он безобразно напивался и был чудовищно пылок, вонюч и покрыт гнойниками. Тысячи и тысячи женщин начинали тогда замаливать свои грехи, устремлялись к чистоте и добрым делам, снова погружались в скверну и снова из нее выныривали, колебались, не знали, что делать, выбирали, пробуя, обдумывая, отшатываясь, опять принимаясь за старое; все же большинство из них окончательно замкнулось в непорочной жизни, полной труда и самоотверженности. Потрясенные ангелы, затаив дыхание, склонялись с высоты небес и наблюдали за этим доблестным поединком. А когда они видели, что Горилла направляется к Луизе Меньен, они невольно начинали петь ликующий гимн. Сам господь время от времени следил за Сабиной краешком глаза. Но он совсем не разделял восторга ангелов, подсмеивался над ними и подчас их журил (по-отечески, разумеется):
— Ну-ну, — говорил бог, — мало ли что, чего только не бывает. Это такая же душа, как всякая другая. В ней происходит то же, что во всех несчастных душах, которым я не потрудился дать шестьдесят семь тысяч тел. Я признаю, что поединок этой души — зрелище довольно захватывающее, но только потому, что я это допустил.
На улице Абревуар Сабина вела уединенную и полную забот жизнь, следя за движениями своей души и записывая их цифрами в блокноте вместе с расходами по хозяйству. Когда число ее раскаявшихся сестер достигло сорока тысяч, она стала на вид несколько спокойнее, хотя все еще была настороже. Вечером в столовой улыбка часто освещала ее лицо, придавая ему особую лучезарность. Более чем когда-либо Антуану Лемюрье казалось, что она говорит с ангелами. Однажды воскресным утром, когда она вытряхивала постельный коврик у окна, а рядом Лемюрье бился над трудным кроссвордом, по улице Абревуар прошел Теорем.
— Смотри, — сказал Лемюрье, — вот этот сумасшедший. Давненько его не было видно.
— Не надо называть его сумасшедшим, — кротко возразила Сабина. — Господин Теорем — великий художник!
Медленно прогуливаясь, Теорем шел навстречу своей судьбе, которая заставила его сначала выйти на Ивовую улицу и довела до Блошиного рынка за ворота Клиньянкур. Не обращая внимания на окружающее, он бродил там без определенной цели и наконец оказался на той самой нищенской окраине. Жители смотрели на него со скрытой неприязнью париев к хорошо одетому чужаку, в котором почуяли любопытствующего зеваку, глазеющего на их живописную нищету. Теорем ускорил шаг и, дойдя до последних лачуг, оказался лицом к лицу с Луизой Меньен, которая несла лейку с водой. Она была в сабо на босу ногу, в ветхом черном платье, чиненом-перечиненом. Молча он взял у нее лейку и вошел за ней в ее убогую комнатенку. Старик сосед потащился на Блошиный рынок, чтобы по случаю купить там тарелку, и в лачуге было тихо. Теорем взял руки Сабины в свои и оба они не в силах были попросить прощения за то зло, которое, как казалось им, они причинили друг другу. Когда он встал на колени перед ней, она хотела его поднять, но сама упала на колени. У обоих глаза были полны слез. И в эту минуту вернулся Горилла. Он нес за плечами большой мешок, набитый припасами, ибо решил остаться в лачуге у Луизы на целую неделю. Молча он поставил свой мешок, молча схватил любовников за горло — в каждой руке по шее, — приподнял, поболтал, точно фляги, потом задушил. Они умерли одновременно, лицом к лицу, глаза в глаза. Посадив каждого на стул, Горилла сел с ними за стол, открыл коробку с паштетом и выпил бутылку красного вина. Так он провел целый день, ел, пил, заводил фонограф и слушал «Песню золотых нив». Когда наступил вечер, он связал веревкой трупы и сунул в свой поместительный мешок. Уходя из лачуги с ношей за плечами, он ощутил, как под ложечкой у него что-то дрогнуло, словно от умиления, и не поленился развязать мешок и положить туда цветок герани, сорванный с окна одной из фур поселка. К одиннадцати вечера он добрался по центральным улицам до Сены. В результате этой истории у него в конце концов появилось какое-то подобие воображения. Когда на набережной де ля Межиссери Горилла кинул оба трупа в реку, он почувствовал, что жизнь скучна и утомительна, как книга. И тотчас же решил с ней покончить. Но, вместо того чтобы броситься в воду, у него хватило деликатности перерезать себе глотку в одной из подворотен на улице де Лавандьер-Сент-Оппортюн.
В ту самую секунду, когда Горилла задушил Луизу Меньен, ее шестьдесят семь тысяч и еще несколько сестер тоже испустили последний вздох, со счастливой улыбкой поднеся руку к горлу. Одни, как леди Бэрбери и миссис Смитсон, покоятся в роскошных склепах, другие — под скромным земляным холмиком, который время быстро сотрет. Сабину похоронили на маленьком монмартрском кладбище Сен-Венсен, и ее друзья время от времени там ее навещают. Должно быть, она в раю, и в день страшного суда для нее будет великой радостью воскреснуть во всех своих шестидесяти семи тысячах тел.
Указ
В самый разгар войны воюющие державы заинтересовались вдруг вопросом, который как будто не рассматривался тогда еще в полном своем объеме; речь шла о практиковавшейся в летние месяцы передвижке времени. Судя по всему, до сих пор к этому не подходили достаточно серьезно, и человеческая мысль, как это часто случается, шла здесь на поводу у привычных представлений. Особенно заманчивой с первого же взгляда представлялась та удивительная легкость, с которой время передвигали на один-два часа вперед. Что, в сущности, мешало передвинуть его и на двенадцать, и на двадцать четыре, да и на любое число, кратное двадцати четырем? Так мало-помалу родилась идея, что люди по своему усмотрению могут распоряжаться временем. На всех континентах, во всех странах главы правительств и министры принялись изучать философские труды. На государственных советах без конца говорилось о времени — времени относительном, времени физическом, времени субъективном и даже о времени сжимаемом. Стало очевидным, что само это понятие в том виде, в каком оно тысячелетиями существовало у наших предков, — совершеннейшая чушь. Древний неумолимый бог Хронос, доселе определявший ход времени, размахивая своей косой, терял свой престиж. Он не только переставал быть неумолимым, но оказывался вынужденным повиноваться человечеству, приспосабливая свое движение к заданному темпу, — то замедлять свой ход, то идти беглым шагом, а иной раз мчаться на такой бешеной скорости, что жалкую стариковскую бороденку относило назад, и она болталась у него за спиной. Вальяжной его походке пришел конец. В сущности, он был просто старый дуралей, этот самый Хронос. Хозяевами времени стали люди, и они вознамерились распоряжаться им с большей фантазией, нежели делал это развенчанный бог в пору своей слишком уж неторопливой деятельности.
Сначала правительствам, как видно, не удавалось извлечь ничего путного из своего нового завоевания. Проводившиеся секретные испытания не давали никаких полезных результатов (см. карту времени). А между тем народы томились. Во всех странах штатские люди становились все угрюмее и мрачнее. Жуя черный хлеб и запивая его суррогатными напитками на сахарине, они мечтали о вкусной пище, о табаке. Война затягивалась. Неизвестно было, когда она кончится. Но должна же была она когда-нибудь кончиться? Каждый из противников твердо верил в свою победу, но высказывались опасения, как бы не пришлось долгонько ее дожидаться. Правители государств страшились того же и от нетерпения готовы были кусать себе локти. Чувство ответственности до того угнетало их, что они поседели. О мире, разумеется, не могло быть и речи — это было бы несовместимо с честью государства, не говоря о других соображениях. Можно было лопнуть с досады — знать, что время в твоих руках, и не находить способа заставить его работать на себя.
Наконец, при посредничестве Ватикана, между государствами заключен был договор, освобождавший народы от ужасов войны, не влияя при этом на естественный исход военных действий. Все оказалось как нельзя более просто. Договорились перевести во всем мире время на семнадцать лет вперед. При определении этой цифры исходили из максимального срока окончания вооруженного конфликта. Да и то официальные круги все же беспокоились, достаточный ли это срок. Но когда в силу указа человечество в одно мгновение постарело на семнадцать лет, оказалось, что война, слава богу, уже кончилась. Оказалось также, что следующая война еще не началась. О ней только поговаривали.
Можно было ожидать, что тут-то народы с облегчением вздохнут и повсюду раздадутся радостные клики. Ничуть не бывало. Ибо ни у кого не было ощущения, что совершен скачок во времени. События, которые должны были произойти в течение этого длительного периода, столь внезапно уворованного у человечества, оказались зафиксированными в памяти каждого. Каждый помнил — вернее, полагал, будто помнит, — все, что якобы произошло на протяжении этих семнадцати лет: за это время выросли деревья, родились дети, одни умерли, другие разбогатели или разорились; выдержаннее стали вина, распались большие государства — словом, все выглядело так, будто мир и в самом деле прожил эти годы. Иллюзия была полной.
Что касается меня, то в тот момент, когда указ вошел в силу, я находился в Париже, в своей квартире, сидел за столом и работал над книгой, первые пятьдесят страниц которой были уже написаны. Я слышал, как в соседней комнате жена разговаривает с двумя нашими детьми — пятилетней Мари-Терезой и двухлетним Кловисом. А секунду спустя я оказался на морском вокзале в Гавре, куда только что вернулся после трехмесячного путешествия по Мексике. Выглядел я еще довольно молодо, но уже начинал седеть. Книга моя давным-давно была написана, и последующая ее часть удалась мне не хуже начала, так что у меня были все основания полагать, что ее написал я. И я успел написать за это время (так мне казалось) еще дюжину книг, которые, так же как и первая, были уже позабыты (публика так неблагодарна). Во время своего путешествия по Мексике я регулярно получал известия о жене и четверых моих детях; двое последних — Луи и Жюльетта — родились уже после указа. Мои воспоминания об этом иллюзорном существовании были не менее ярки и достоверны, чем воспоминания о моей жизни предшествующего периода. Ни минуты не испытывал я ощущения, будто кто-то в чем-то меня надул, и, не знай я об указе, я бы, конечно, и не подозревал о том, что со мной приключилось. В общем, для человечества все происходило совершенно так, как если бы оно и в самом деле реально прожило эти семнадцать лет, уложившиеся в малую долю секунды. А может быть, и в самом деле оно их прожило? На эту тему было немало споров. Философы и математики, физики и метафизики, биологи, физиологи, теологи, теософы написали по этому поводу целую уйму диссертаций, ассертаций, тезисов и антитезисов. В поезде, по пути из Гавра в Париж, я просмотрел три брошюры, где трактовался именно этот вопрос. Выдающийся физик Филибер Костюм в кратком резюме своей «Теории выравнивания времени» доказывал, что эти семнадцать лет были прожиты на самом деле. Преподобный отец Бишон в «Трактате о субметрической системе» доказывал, что они прожиты не были. Наконец, господин Бономе, профессор кафедры юмористики в Сорбонне, в своих «Размышлениях о роли смеха в государстве» утверждал, будто время никто и не передвигал, а пресловутый указ есть не что иное, как грандиозный розыгрыш, придуманный правительствами. Лично мне подобное толкование показалось несколько натянутым, а его веселый тон неуместным под пером профессора Сорбонны. Господин Бономе, я убежден в этом, никого да не будет избран в Академию, и поделом! Что касается вопроса, прожиты или не прожиты эти семнадцать лет, я так и не смог составить себе определенного мнения.
Квартира, в которой я оказался в Париже, была мне как будто знакома, хотя, возможно, я впервые переступил ее порог. За эти пресловутые семнадцать лет я действительно успел переменить квартиру, и с Монмартра переехать в Отей. Жена и дети были дома, я обрадовался при виде их, но ничуть не удивился. Реальными или воображаемыми были годы жизни, заключенные в скобках семнадцатилетнего периода, но они так плотно примыкали к тем, другим, безо всякого перерыва во времени, что невозможно было обнаружить между ними ни малейшего просвета, они были спаяны между собой, они составляли единое целое. Меня, следовательно, нисколько не поразило, что парижские улицы запружены машинами. Ярко освещенные окна, такси, теплая квартира, свободная продажа товаров — все это снова стало чем-то само собой разумеющимся. Обнимая меня, жена сказала с радостным смехом:
— Наконец-то! Ведь мы с тобой не виделись больше семнадцати лет!
И, подтолкнув ко мне восьмилетнего Луи и шестилетнюю Жюльетту, она добавила:
— Вот, познакомься, это твои младшие, их ты не имел еще удовольствия видеть.
Впрочем, мои младшие превосходно меня узнали: они повисли у меня на шее, и я почувствовал, что, пожалуй, профессор Бономе не так уж не прав, утверждая, что вся эта история со временем — попросту веселая мистификация.
В начале лета мы с женой договорились, что отдыхать поедем в Бретань, на побережье. Отъезд был назначен на 15 июля. Но до этого мне нужно было еще съездить в Юру навестить старого моего друга, композитора, который приглашал меня к себе. Лет пять-шесть тому назад, тяжело заболев, он навсегда поселился там, в своей родной деревне. Помню, как раз накануне поездки, я отправился за какими-то покупками в центр города, взяв с собой мою шестилетнюю дочурку Жюльетту. На площади Согласия, в то время как мы стояли на островке безопасности, пережидая поток машин, Жюльетта указала пальчиком на отель «Крийон» и здание Морского министерства и спросила, что это. Отвечая ей, я с легкой грустью вспомнил вдруг времена немецкой оккупации и сказал не столько ей, сколько самому себе:
— Тебя тогда еще на свете не было. Шла война. Франция была побеждена. В Париже были немцы. Их флаг развевался над зданием Морского министерства. Здесь на часах стояли немецкие моряки, а на этой площади и на Елисейских полях полно было людей в зеленых мундирах. И те французы, которые в то время были уже старыми, думали, что им никогда не увидеть, как немцы станут удирать отсюда.
Утром 3 июля 1959 года на Лионском вокзале я сел в поезд и к полудню был уже в Доле. Друг мой жил в восемнадцати километрах от города, в деревне, расположенной среди леса Шо. Автобус, регулярно циркулировавший между Долем и этой деревней, отходил в половине первого, но я этого не знал и опоздал на несколько минут. Чтобы не заставить волноваться друга, который был предупрежден о моем приезде, я взял напрокат велосипед, но стояла такая невыносимая жара, что я решил подождать, пока она спадет, и отправиться в путь уже во второй половине дня — это позволило мне не спеша позавтракать в ресторанчике, где превосходно кормили и было отличное арбуазское вино. Я рассчитывал, что за час наверняка доеду. Когда я выезжал из Доля, собиралась гроза, над городом нависли большие тучи и было почти так же душно и жарко, как в начале дня. А тут еще у меня началась страшная головная боль, которую я приписал слишком обильному завтраку и крепости арбуазского вина. Стремясь поскорее уйти от грозы, я поехал проселками и в конце концов заблудился. Долго я кружил по лесу и уже в самый разгар грозы выехал на скверную лесную дорогу, на которой проезжавшие повозки оставили глубокие рытвины, за лето успевшие совершенно окаменеть от жары. Я попытался укрыться под деревьями, но дождь хлынул с такой силой, что стал проникать сквозь листву. И тут я заметил место, где можно было спрятаться, — неподалеку, у края тропинки, стоял сплетенный из прутьев навес, подпертый четырьмя кольями. Под ним я обнаружил дубовый чурбан, на котором можно было довольно удобно усесться, чтобы переждать грозу. Приближался вечер. Темное нависшее небо и сплошная пелена дождя, казалось, подгоняли сумерки, а лесная тень еще сгущала их — лишь временами прорезывали их голубые молнии, на мгновение открывая на заднем плане высокие стволы дубов. Между раскатами грома, которым потом долго еще вторило лесное эхо, слышался размеренный, монотонный шум, в котором постепенно я начинал различать множество различных оттенков стука дождевых капель, падающих с листка на листок. Усталый, измученный головной болью, я еще какое-то время попытался бороться со сном, но в конце концов заснул, уткнувшись лбом в колени.
Меня разбудило ощущение, будто я стремглав лечу куда-то вниз; сквозь сон падение это показалось мне каким-то нескончаемым, как если бы я падал с крыши небоскреба. Гроза уже кончилась, снова было светло. По правде говоря, было даже не похоже, что здесь прошла гроза. Земля казалась совершенно сухой, даже пересохшей, на деревьях, на кустарниках, на травинках не было ни малейшего следа дождя. Лес вокруг меня выглядел так, словно прошло много засушливых дней. Небо, видневшееся сквозь листву, было нежным, светло-голубым, а не ярко-синим, каким обычно бывает после ливня.
И вдруг я заметил, что лес вокруг меня словно бы изменился — то были уже не высокие старые дубы, которые я видел во время грозы, а молодые, примерно двадцатилетние дубки. Исчез мой навес, не было уже толстого бука, к которому он был пристроен, исчез и чурбан, давеча служивший мне сиденьем. Я сидел прямо на земле. И тропинки тоже не было видно. Я ничего не узнавал вокруг, кроме высокого межевого столба, обозначавшего, вероятно, границу каких-то общинных владений; при виде этого столба я почувствовал даже нечто вроде досады, ибо его присутствие отнюдь не помогало мне объяснить себе столь странную метаморфозу. Я попытался убедить себя, что мерцающий свет, в котором первоначально предстал передо мной лесной пейзаж, попросту исказил мои представления о нем. Впрочем, все это не слишком меня беспокоило. Головная боль совершенно прошла, я ощущал непривычную легкость во всем теле, какую-то приятную бодрость. И я принялся фантазировать, воображая, будто заблудился где-нибудь в лесу Броселианды и заколдован какой-нибудь феей Морганой. Взяв свой велосипед, я возвратился на ту дорогу, с которой свернул, чтобы спрятаться от грозы, заранее приготовившись к непроходимой грязи, к вязким колеям и лужам; однако, против ожидания, дорога оказалась сухой и пыльной, словно никакого дождя и не было. «Все еще действует колдовство», — мысленно пошутил я. Через четверть часа я выехал на небольшую равнину, имевшую форму вытянутого прямоугольника и со всех сторон окруженную лесом. Вдалеке, за лугами и хлебными полями, виднелись ярко освещенные солнцем колокольня и крыши какой-то деревушки. Оставив позади неровную лесную дорогу, я покатил по проселочной, более узкой, но зато мощеной, и вскоре доехал до верстового столба, на котором прочитал название деревни. Это была другая деревня, не та, которую я искал.
Метрах в двухстах-трехстах от нее у меня вышло из строя колесо, так что пришлось продолжать путь пешком. Проходя мимо высоких кустов орешника, я увидел в нескольких шагах от них старого крестьянина, который стоял у края канавы и задумчиво глядел на пшеничное поле. И почти рядом с ним, у самого орешника, я обнаружил еще двух человек, которых не сразу заметил за кустами, — они тоже стояли и смотрели на высокие хлеба. И эти двое были в зеленых мундирах и сапогах, какие носили в немецкой армии во времена оккупации. Сперва это меня не очень удивило; я подумал, что эти мундиры, второпях брошенные здесь оккупантами в момент отступления, были, очевидно, подобраны местными крестьянами, и теперь они их донашивают. Нынешние их владельцы, здоровые малые лет сорока пяти, с обветренными лицами, явно были крестьянами. И однако меня смущали их военная выправка, их портупеи, пилотки, их бритые затылки… Старик, казалось, и не замечал их. Высокий, худой, он стоял неподвижно, очень прямо, с тем горделивым видом собственного достоинства, который часто встречаешь у юрских стариков крестьян. Как раз когда я подходил, один из тех одетых в мундиры людей повернулся к нему и тоном человека, знающего в этом толк, сказал по-немецки несколько одобрительных фраз по поводу высоких хлебов. Старик медленно повернул к нему голову и произнес ровным и спокойным голосом:
— Вам всем крышка. Скоро придут американцы. Убирались бы вы отсюда восвояси, да поскорее!
Тот явно не понимал смысла его слов и доверчиво улыбался. Заметив меня, старик немедленно призвал меня в свидетели глупости своего собеседника.
— Ведь ни фига не понимают, — сказал он, — только и умеют, что по-своему лопотать, другого разговора у них нет. Одно слово — дикари!
Я смотрел на него совершенно ошеломленный, не находя слов. Наконец я спросил его:
— Скажите, я не ошибаюсь? Это в самом деле немецкие солдаты?
— Вроде бы так, — ответил старик не без некоторого ехидства.
— Но как же это? Что они тут делают?
Он окинул меня не слишком дружелюбным взглядом, видимо, решив сначала не отвечать; но потом раздумал и в свою очередь спросил:
— А вы что, из свободной зоны, что ли?
Я пробормотал несколько бессвязных слов, которые ему угодно было понять как утвердительный ответ, потому что он тут же принялся просвещать меня относительно условий существования в оккупированной зоне. Совершенно растерявшись, я просто не в состоянии был следить за фразами, которые он нанизывал одну за другой и в которых то и дело мелькали такие уже забытые слова, как свободная зона, оккупированная зона, немецкие власти, реквизиции, военнопленные и еще всякие другие, не менее ошеломляющие. Тем временем немцы удалились и медленно шли по дороге к деревне тяжелой, раскачивающейся походкой солдат, изнывающих от праздности и бесцельного шатания взад и вперед. Я вдруг вспылил и резко оборвал старика.
— Но послушайте, — вскричал я, — да что вы такое городите? Все же это совершенная чушь! Война-то давным-давно кончилась!
— Давным-давно? Навряд ли это возможно, — спокойно заметил он. — Ведь и двух лет не прошло, как она началась!
В деревне, в какой-то лавчонке, где немецкий унтер-офицер покупал открытки, я спросил сегодняшнюю газету, положил на прилавок монету и машинально, не глядя, взял сдачу. Газета была от 3 июля 1942 года. Крупные заголовки: «Война в России», «Война в Африке» — воскрешали в моей памяти события, современником которых я уже однажды был и дальнейшее течение и конечный исход которых мне были известны. Я забыл, где нахожусь, и тут же, у прилавка, погрузился в чтение. Зашла какая-то крестьянка за покупками, она громко рассказывала о своем сыне, военнопленном, и о посылке, которую собирается ему послать. Нынче утром она получила письмо от него, он в Восточной Пруссии, работает там на ферме. Все, что я слышал, лишь подтверждало то, о чем говорила дата газеты, но я все еще отказывался верить собственным глазам и ушам. Вошел мужчина лет пятидесяти, в коротких штанах и крагах, гладко причесанный, розовый, по виду этакий деревенский барин. По нескольким фразам, которыми он обменялся с лавочником, я понял, что это мэр здешней общины. Я заговорил с ним; из лавки мы вышли вместе. Инстинктивно стараясь не обнаруживать всю необычность своего положения, я упомянул в разговоре о летнем часе, об ускорении хода времени. В ответ он громко рассмеялся:
— Ах да, ускорение времени. Как же, как же. Два месяца тому назад, когда я в последний раз был в Доле, супрефект мне об этом рассказывал. Да, помнится, и в газетах насчет этого что-то писали. Чепуха какая, только людей смешат. Ускорить время — и выдумают же такое!
Задав ему несколько более определенных вопросов, я с облегчением подумал, что, кажется, начинаю понимать, что произошло в этой деревне. Вследствие ли недосмотра администрации или отсутствия постоянной связи предписание об ускорении времени не было доведено до этой небольшой общины, затерянной среди лесов, и она живет еще по старому календарю. Я открыл было рот, намереваясь объяснить мэру, что все происходящее в его деревне — чистейшей воды анахронизм, но в последнюю минуту решил, что разумнее промолчать. Он бы мне не поверил, и я рисковал прослыть сумасшедшим. Мы дружески продолжали беседовать, речь зашла о войне, и тут я осторожно попытался высказать некоторые прогнозы, к которым мой собеседник отнесся в высшей степени недоверчиво; да и в самом деле, с точки зрения нормальной логики, будущее всегда выглядит неправдоподобным. Прощаясь, он объяснил мне, какой дорогой лучше ехать, чтобы поскорее попасть в деревню Вьей-Луа, бывшую целью моего путешествия. Как оказалось, я значительно отклонился от пути, ибо мне предстояло проехать еще тринадцать километров.
— На велосипеде вы доберетесь туда меньше, чем за час. Приедете еще засветло, — сказал он мне.
Я засомневался, стоит ли мне пускаться в дорогу под вечер, он сказал, что для такого молодого человека, как я, тринадцать километров — сущие пустяки, на что я ему заметил, что вряд ли можно считать себя молодым человеком, когда тебе минуло пятьдесят шесть. Он страшно удивился и стал уверять, что мне никак нельзя дать этих лет. Я переночевал в гостинице, единственной в деревне. Прежде чем заснуть, я еще некоторое время размышлял по поводу странного своего приключения. Подивившись ему, я подумал, что не стоит по этому случаю так расстраиваться. Будь в моем распоряжении несколько лишних дней, я охотно провел бы их здесь, в этой воротившейся эпохе, вместе со всеми этими горемыками, застрявшими в первой половине столетия, и стойко пережил бы сызнова несчастья родной страны. Затем я стал раздумывать над некоторыми загадочными обстоятельствами, с которыми столкнулся в этой своей ссылке в прошлое и на которые вначале не обратил должного внимания. Мне, например, было любопытно, каким образом в здешней деревне все еще получают газеты из Парижа и письма от военнопленных из Восточной Пруссии. Выходит, между этой деревней, живущей в 1942 году, и всем остальным миром, постаревшим на семнадцать лет, существуют какие-то связи или же видимость связей? Эти парижские газеты, отправленные из Парижа семнадцать лет тому назад, — где, в каком тайнике, на какой такой полке времени хранились они, прежде чем дошли по назначению? А военнопленные, до сих пор еще не вернувшиеся домой, — не могли же они оставаться до сих пор в Восточной Пруссии? Где же они? Я так и заснул, думая обо всех этих таинственных сношениях между двумя эпохами.
На другое утро я проснулся очень рано и сделал несколько удивительных открытий. В моей комнате, весьма скромно обставленной, не было зеркала, и, чтобы побриться, я вынужден был воспользоваться зеркальцем из своего дорожного несессера. Посмотревшись в него, я обнаружил, что и в самом деле мне не пятьдесят шесть лет, а еще только тридцать девять. Я и чувствовал себя бодрее, и двигаться было мне легче, чем вчера. Это открытие отнюдь не было неприятным, но оно меня смутило. Несколькими минутами позднее я сделал еще новые открытия. Оказалось, что и одежда моя помолодела. Вместо серого костюма, в котором я был накануне, на мне оказался другой, несколько старомодный и вызвавший у меня смутное ощущение, что когда-то я его уже носил. В своем бумажнике вместо денег, имеющих хождение в 1959 году, я обнаружил и купюры, выпущенные в 1941 году, и другие — более ранних выпусков. Приключение осложнялось. Вместо того чтобы совершать путешествие в прошлое в качестве стороннего наблюдателя, я становился сопричастным этому прошлому. У меня совсем не было уже уверенности в том, что мне удастся вырваться из него. Я стал успокаивать себя с помощью не слишком убедительных доводов. «Быть современником какой-либо эпохи, — рассуждал я, — это значит воспринимать окружающий мир и самого себя определенным образом, так, как это свойственно людям данной эпохи». Я надеялся, что как только покину пределы этой общины, так сразу же начну видеть и воспринимать действительность такой, какой видел и воспринимал ее позавчера, — и миру не понадобится для этого менять обличье.
В Вьей-Луа я приехал в семь часов утра. Мне не терпелось поскорее увидеть своего друга Борнье, чтобы поделиться с ним своими сомнениями, а главное, успокоить его — ведь он, должно быть, ждал меня еще накануне. По пути мне попались навстречу два немецких мотоциклиста в железных касках, и я снова с тревогой подумал, скоро ли наконец возвращусь в 1959 год. Я проехал половину деревни, не встретив ни одного немца, и сразу узнал домик Борнье, в котором гостил два года назад. Ставни были закрыты, садовая калитка оказалась запертой на ключ. Я помнил, что друг мой имеет обыкновение вставать поздно, и немного поколебался, стоит ли его будить, но мне так нужно было скорее увидеть и услышать его. Я несколько раз громко позвал его по имени. В доме ничто не шевельнулось. Мимо проходили трое молодых людей с вилами на плечах; услышав мой голос, они остановились. От них я узнал, что друг мой в плену и находится сейчас в Силезии, — об этом недавно сообщила его жена, оставшаяся в Париже.
— Он там работает на ферме, — сказал один из них, — не по нем такая работа…
Мы немного помолчали. Каждый представил себе тщедушную, зябкую фигурку композитора, согнувшегося с заступом.
— Бедняга Борнье, — вздохнул я. — У него была такая тяжелая зима, а ведь через полгода ему еще придется перенести воспаление легких… Вот ужас!
Молодые люди удивленно переглянулись и пошли своей дорогой. Я немного постоял, глядя на домик с закрытыми ставнями. Вспомнилось мне последнее свидание с Борнье. Я вновь видел его сидящим здесь за роялем и играющим мне только что сочиненный им «Тревожный лес». С тех пор пьесу эту не раз играла моя дочь, и память моя сохранила несколько музыкальных фраз из нее. Мне захотелось тихонько напеть одну из них, в честь друга, что томится сейчас на немецкой земле, а потом, вернувшись сюда больным, создаст произведение, о котором, может быть, еще и не помышляет. Но голос меня не слушался. Охваченный паническим ужасом перед этим обратившимся вспять временем, гонимый желанием как можно быстрее вырваться из него, я вскочил на велосипед и пустился по направлению к Долю. По пути мне снова и снова встречались многочисленные приметы иноземной оккупации. Я мчался вперед на предельной скорости, торопясь оставить позади этот лес, словно границы его одновременно были и границами возвратившегося времени, будто это лесная сень способствовала коварному воскрешению тех далеких лет.
Выехав на опушку леса Шо, я почувствовал огромное облегчение — уж теперь-то я был уверен, что вырвался наконец из заколдованного круга. Тем острее было мое разочарование, когда у самого въезда в город, на мосту через Ду, я обогнал взвод немецких пехотинцев, которые с песнями возвращались с учений. То, что лесные деревни застряли в прошлом времени, было, конечно, достойно удивления, но это, считал я, относилось лишь к одному району, каким-то образом уклонившемуся от подчинения указу. Этому можно было найти хоть какое-то разумное объяснение. Теперь внезапно задача не только меняла свой объем, но приобретала совершенно иные масштабы. Сместились все ее исходные данные. Вчера, 3 июля 1959 года, я выехал из города Доль, а сегодня. 4 июля, возвращаюсь туда в 1942 году. Я готов был уже предположить, что, вопреки доктрине о необратимости времени, появился новый указ, аннулировавший первый. Но в таком случае у всех жителей городка должны были бы, как и у меня, сохраниться воспоминания об их будущей жизни, а между тем я убедился, что этого нет и в помине. В конце концов я пришел к абсурдному выводу: как видно, существуют одновременно два города Доль, один из которых живет в 1942 году, другой — в 1959-м. Вероятно, так обстоит дело и во всем остальном мире. И я уже не смел надеяться, что в Париже, куда должен был скоро повезти меня поезд, застану другую эпоху.
Совершенно растерянный, я спрыгнул с велосипеда и уселся на перила мостика через канал Дубильщиков. Я чувствовал, что не хватит у меня сил начинать сызнова уже однажды прожитую жизнь. Меня ничуть не прельщала относительная молодость, которую я только что вновь обрел.
«Это лишь иллюзия! — думал я. — Какая же это молодость, когда впереди ничего нового. В эти семнадцать лет мне предстоит вторично пережить и познать все, что уже было мною однажды испытано и познано, у меня больше жизненного опыта, чем у всех стариков Франции и Наварры, вместе взятых. Я — несчастный старик. Нет для меня завтрашнего дня, нет для меня случайности. Никогда больше не забьется мое сердце перед неведомым грядущим. Я — старик, отныне я приговорен к унылому существованию некоего всеведущего бога. В течение семнадцати лет мне все будет известно заранее. Не знать мне больше чувства надежды». Прежде чем сесть в поезд, я решил вернуть взятый напрокат велосипед, но магазина велосипедов, в котором я его получил, еще не существовало. В помещении этом располагался магазин зонтиков, на пороге которого стоял его хозяин, человек лет двадцати пяти — тридцати. Для очистки совести я спросил, не знает ли он в городе владельца магазина велосипедов по имени Жан Дрюэ.
— Такого у нас нет, — отвечал он мне. — Уж я бы знал, если бы был. Но самое смешное, что ведь меня тоже зовут Жан Дрюэ.
— В самом деле, удивительное совпадение, — сказал я. — А скажите, нет у вас намерения или хотя бы желания заняться когда-нибудь продажей велосипедов?
Он от души рассмеялся. Видимо, его смешила сама мысль, что он мог бы торговать велосипедами.
— Нет уж, увольте, такое занятие меня не прельщает. Не подумайте, ничего дурного о нем не скажешь, но велосипеды и зонтики — это, знаете ли, вещи разные.
И в то время, как он говорил это, рядом со свежим, улыбающимся его лицом я невольно видел другое, постаревшее на семнадцать лет и наполовину изуродованное волчанкой.
И все же, когда поезд тронулся, во мне еще теплилась надежда, что, приехав в Париж, я застану город живущим в той самой эпохе, в которой оставил его два дня назад.
Все, что со мной происходило, было до такой степени фантастично, что у меня было смутное ощущение, будто я вправе надеяться на самое невероятное, на какое-то чудо, — но поезд шел посреди сурового, реального мира, который оставался верен себе. Из окна вагона в пути и на всех станциях, где поезд останавливался, видел я немецких военных, которые, судя по всему, не сомневались в том, в какую живут эпоху. По разговорам моих дорожных спутников — некоторые из них покинули Париж меньше недели тому назад — было совершенно ясно, что столица живет еще в 1942 году. Я покорился очевидности, но это было мучительно. В купе меня сразу же обступила полузабытая гнетущая атмосфера военных лет и оккупации. Ни в Доле, где я был так недолго, ни в лесных деревнях эта тягостная действительность не ощущалась до такой степени. Все разговоры здесь вертелись вокруг жизненных трудностей сегодняшнего дня либо так или иначе возвращались к этой теме. Говорили о возможном исходе войны, о военнопленных, о трудностях с продовольствием, о черном рынке, о свободной зоне, о Виши, о всеобщем разорении. У меня сердце сжималось, когда я слышал, как мои спутники обсуждают ход мировых событий, соотнося с ними собственную судьбу и вероятное принимая за достоверное. Мне, уже знавшему все заранее, хотелось вывести их из заблуждения, но правда выглядела слишком неправдоподобной, чтобы можно было противопоставить ее тем, казалось бы, неоспоримым аргументам, на которых основывались прогнозы моих соседей по купе. Старая дама, сидевшая рядом со мной, рассказала мне, что едет в Париж за десятилетним внуком, живущим в Отейе. Родители отдают его ей на каникулы, но настаивают, чтобы в октябре она привезла мальчика обратно, потому что ему надо учиться. Она собирается уговорить их отсрочить его возвращение, ведь у ребенка больные легкие, из-за плохого питания ему грозит туберкулез.
На Лионском вокзале мне сразу же, еще до того, как поезд остановился, бросилась в глаза фигура немецкого жандарма, шагавшего взад и вперед по перрону. Париж был оккупирован. По правде говоря, это последнее подтверждение было излишним — я и так это знал. Выйдя из вагона, я направился было к выходу и вдруг заметил, что забыл свою шляпу. Я вернулся, нашел ее в только что оставленном мною купе и тут же обнаружил довольно увесистый пакет, забытый старой дамой, что сидела рядом со мной. Я забрал его, надеясь, что мне удастся догнать его владелицу, но на вокзале ее не оказалось, не было ее и в метро, куда, как мне казалось, она должна была спуститься раньше меня, — ведь и она тоже направлялась в Отей. Я пропустил два поезда, но, так и не дождавшись ее, сел в третий. Напротив меня сидел немецкий офицер.
И вот с пакетом в руках в восемь часов вечера я выхожу в Отейе. Еще совсем светло, но напрасно ищу я свой дом. На месте нового здания, где я облюбовал себе квартиру и куда переехал в 1950 году, стоит какой-то забор, за ним виднеются деревья. И тут я вспоминаю, что ведь еще живу на Монмартре, на улице Ламарк, где мне предстоит прожить еще восемь лет. И я вновь спускаюсь в метро.
На улице Ламарк дверь открывает служанка, и мне вдруг сразу же приходит на память ее имя. Она спрашивает меня, удачно ли я съездил. Я отвечаю ей со смешанным чувством симпатии и жалости, вспомнив о том, что в будущем году ее сманит от нас негр с площади Пигаль, который затем оставит ее на панели. Бьет девять часов вечера. Моя жена как раз кончает обедать, она не ждала меня, но, услышав мой голос, выбегает в прихожую — такая молодая, ей едва исполнилось двадцать восемь. При виде ее я чувствую умиление, я прижимаю ее к груди и слезы навертываются мне на глаза.
Но она-то не помнит, что позавчера видела меня пятидесятишестилетним, для нее я нисколько не изменился, и мое волнение, я чувствую, немного ее удивляет. В ванной комнате, где я наскоро привожу себя в порядок, она начинает расспрашивать меня о поездке в Жиронду, я открываю рот, чтобы ответить ей, и в этот момент вспоминаю о путешествии, из которого вернулся когда-то в такую же пору, и подробно рассказываю ей об этой поездке, и, кажется, даже теми же самыми словами, которые употреблял тогда. Впрочем, у меня ощущение, будто говорю я их как бы не по собственной воле, а потому, что их необходимо говорить, и я покоряюсь этой необходимости, как если бы играл какую-то роль. Жена рассказывает мне о Кловисе, который спит в соседней комнате, говорит о том, как трудно стало доставать для него детскую муку.
Он вообще-то здоровенький, только вес у него недостаточный для почти полуторагодовалого ребенка. Позавчера, когда я уезжал из Парижа, Кловис сдавал письменные экзамены на бакалавра. Я не спрашиваю о двух последних своих детях — Луи и Жюльетте. Я знаю, что они еще не существуют. Остается еще девять лет до рождения Луи и одиннадцать до рождения Жюльетты. В поезде я много думал об этом, приготовился к тому, что их нет, но теперь мне как-то трудно с этим примириться. В конце концов я все же осторожно спрашиваю: «Ну, а остальные дети?» Жена удивленно поднимает брови, и я спешу добавить: «Я хочу сказать, дети Люсьена». И опять попадаю впросак — ведь мой брат Люсьен женится только через два года, у него еще нет детей. Я тотчас же поправляюсь, заявляю, что оговорился, я хотел сказать не «Люсьен», а «Виктор». Этот промах немного беспокоит меня. Я начинаю бояться, как бы и в более серьезных случаях я не стал путать две эпохи.
В коридоре мы останавливаемся около Мари-Терезы, — служанка как раз несет ее в постельку. Старшая моя дочь, которая позавчера была невестой, сегодня — трехлетняя девчушка. Я предвидел эту метаморфозу и все же испытываю острое разочарование — отцовское мое чувство несколько поколеблено. Когда она была взрослой девушкой, между нами — ею и мною — было много общего, мы понимали друг друга, а с таким маленьким ребенком это уже невозможно. Правда, меня ждут другие радости. И потом, меня утешает мысль, что Мари-Терезе предстоят долгие годы детства, а ведь эти годы слывут самыми счастливыми.
Мы приходим в столовую; жена просит извинить ее за скромный обед.
— Ничего вкусного я тебе предложить не могу. Последние дни нигде ничего не достать. Мне еще повезло сегодня, я достала у Брюне пару яиц и полколбасы.
И я слышу собственный свой голос, который говорит:
— Да, кстати, я привез оттуда некоторые продукты. Меньше, чем хотелось бы, но все-таки это уже кое-что.
И я говорю, что привез дюжину яиц, фунт сливочного масла, бутылочку оливкового, сто граммов настоящего кофе и банку гусиного паштета. Я иду в переднюю, где оставил пакет, забытый в вагоне старой дамой, приношу его в столовую и спокойно разворачиваю. В нем оказывается все то, что я только что перечислил. При этом я не испытываю ни малейших угрызений совести. Я воспринимаю как нечто само собой разумеющееся, что этот пакет оказался в моих руках, что я разворачиваю его здесь, сейчас, в присутствии жены. Это в порядке вещей, я просто подчиняюсь необходимости. Я уже сомневаюсь даже, принадлежал ли пакет той старой даме. Забытая в купе шляпа представляется мне теперь делом рук хитрой судьбы, задумавшей вновь завладеть мною и пустить по привычному руслу уже однажды прожитой жизни.
Я как раз кончаю обед, когда слышу, как раскрывается и с грохотом захлопывается входная дверь. Чей-то голос в прихожей изрыгает проклятья.
— Это дядя Том, и опять пьяный, — говорит жена.
Ах, правда, я и забыл про дядю Тома. В прошлом году его дом в Нормандии был разрушен во время бомбежки, жена убита при наступлении немцев, двое сыновей взяты в плен. Мы приютили его у себя, а он, пытаясь залить свое горе вином, все дни проводит в погребке. Алкоголь он переносит плохо и, как выпьет, начинает браниться и скандалить. Поэтому его присутствие в нашем доме становится нам все тягостнее. Но нынче вечером, хотя он пришел в отвратительном настроении и держится вызывающе, я терплю это и не сержусь на него. Ведь через три месяца дядя Том умрет. Я помню его агонию. Он звал сыновей, которые в плену, и поминутно повторял: «Хочу домой, хочу во Францию…»
Всю ночь я беспробудно спал, и мне ничего не снилось. А наутро у меня исчезло то ощущение двойственности времени, которого я так страшился накануне. Я чувствовал себя уже вполне в своей тарелке, все в квартире вновь было мне хорошо знакомо. Я поиграл с детьми, почти уже не думая о вчерашнем. Мне все еще немного недоставало Луи и Жюльетты, но уже не так остро, как вчера вечером. Теперь воспоминание об их детских личиках живет во мне просто как надежда. Может быть, мне это только кажется, но похоже, будто моя память о будущем начинает притупляться. Сегодня утром я с интересом прочитал газеты. Хотя исход текущих событий мне известен, но уже не так отчетливо припоминаю все этапы и повороты войны.
Я вышел из дому, спустился в метро, доехал до площади Мадлен и походил по городу, но вид улиц не поразил меня. Ведь между позавчерашним и сегодняшним днем лежат целых семнадцать лет. На площади Согласия перед зданием Морского министерства вновь стояли на часах немецкие моряки, и я не пожалел о том, что со мной нет моей маленькой Жюльетты.
В этот день у меня было несколько поразительных встреч. Самое большое впечатление оставила у меня встреча в большим моим другом, художником Д. Мы столкнулись с ним нос к носу на углу улицы Аркады и улицы Матюрен. Я радостно ему улыбнулся и уже готов был протянуть руку, но он скользнул по мне невидящим взглядом и прошел мимо, не замечая моей дружеской улыбки. И я вовремя вспомнил, что мы только через десять лет с ним познакомимся. Конечно, я мог его догнать и под каким-нибудь предлогом представиться, но не сделал этого — то ли из ложного стыда, то ли покоряясь судьбе; и хоть я и пообещал себе, что, вопреки ее предначертаниям, непременно постараюсь ускорить час нашего знакомства, я и сам не очень в это верил. Однако и разочарование мое, и нетерпение были не менее сильны, чем печаль, в которую ввергла меня эта встреча.
А немного раньше мне встретился Жак Сарриет, жених моей дочери Мари-Терезы. За одну руку его вела мать, в другой он держал серсо. Мы с госпожой Сарриет остановились, и она стала рассказывать мне о своих детях, в том числе и о Жаке. Эта достойная женщина, не менее своего мужа пекущаяся о моральном подъеме Франции, сообщила мне, что они избрали для мальчика поприще священнослужителя. Я ответил ей, что одобряю их решение. На обратном пути, в метро, я встречаю Роже Л., малого лет тридцати, к которому никогда не испытывал особой симпатии. У него расстроенный вид, он говорит мне о своем тяжелом материальном положении. Я с любопытством смотрю на этого жалкого человека, который лет через десять станет обладателем огромного состояния, нажитого всякими темными делами. И пока он жалуется мне на свою теперешнюю нужду, я вспоминаю его таким, каким он будет впоследствии — наглым, грубым, торжествующим хамом, кичащимся своим богатством. А сейчас это жалкий бедняк со страдальческим выражением лица, с печальными глазами, с робким, подобострастным голосом. И я чувствую к нему одновременно и сострадание, и отвращение, внушаемое мне его будущей блестящей карьерой.
В тот же день после обеда я ухожу к себе и достаю из стола начатую книгу, из которой написаны уже пятьдесят страниц. Наперед зная содержание тех, которые за ними последуют, я не испытываю никакого желания писать их и с тоской думаю, что отныне мне целых семнадцать лет придется пережевывать знакомые мысли и жизнь моя будет бесконечным, нудным повторением пройденного. Одно занимает меня теперь: что это за таинственные скачки взад и вперед сквозь время? И я прихожу к совершенно удручающим выводам. Вчера я столкнулся с одновременным существованием двух миров, разделенных между собой семнадцатью годами и перемещающихся один относительно другого. Сегодня передо мной возникает кошмарное видение бесконечного множества миров, в которых время представляет собой перемещение моего сознания от одного мира к другому, потом еще к другому… Три часа: существует мир, в котором я осознаю себя держащим перо. Прошла секунда: существует другой мир, где я осознаю себя кладущим перо. И так до бесконечности.
Однажды человечество единым махом перескочило через то, что условились называть семнадцатилетним периодом. И только я после этого коллективного скачка, бог знает почему, вновь проделал его в обратном направлении.
Все эти бесчисленные миры, в каждом из которых повторялась моя особа, представали передо мной в бесконечной перспективе, от которой кружилась голова.
Совершенно измученный, я в конце концов так и заснул, сидя за столом.
Скоро уже месяц, как записал я эту случившуюся со мной историю, и сегодня, перечитывая ее. я горько сожалею, что не изложил ее с большими подробностями. Я упрекаю себя, что не сумел предвидеть всего, что произошло со мною с тех пор. За прошедшие недели я снова так крепко врос в нашу печальную эпоху, что перестал помнить будущее. Я начисто позабыл все грядущие горести и радости, все, что предстоит мне пережить в ближайшие семнадцать лет. Я забыл лица своих еще не родившихся детей. Я не помню исхода войны. Я уже не знаю, чем она кончится. Я все решительно перезабыл и, может случиться, в один прекрасный день усомнюсь даже в том, действительно ли все это со мною было. Мои воспоминания о будущей жизни, изложенные на этих листках, столь незначительны, что если мне суждено будет проверить их точность, я, пожалуй, склонен буду считать их просто предчувствиями. Раскрывая газеты, размышляя о политических событиях, я пытаюсь пробудить свою память, ища ответы на мучащие меня вопросы, но это ни к чему не приводит. Лишь временами, но это случается все реже и реже, охватывает меня ощущение, которое многим знакомо, — будто все это однажды уже было.
Равнодушный
Июльским вечером, через сутки после выхода из тюрьмы, я пришел в бар «Буссоль», убогое заведеньице на бойкой стороне бульвара Рошшуар. Мне надо было встретиться там с неким Медериком, по кличке Медэ-Прищура, и сослаться на одного из его дружков, с которым я сошелся в последние месяцы заключения. Сперва я было подумал, что, кроме меня, в «Буссоли» никого нет, но тут же заметил, что в темной глубине бара сидит компания из трех человек, выпивая и беседуя, а хозяин отвечает им из-за стойки. Один из них, высокий седой толстяк с крысиным глазком как раз и оказался Медериком. Я не зря говорю «глазок», ибо Медерик был одноглазым, откуда и кличка «Прищура». Хозяин кафе обращался, главным образом, к нему, но тот благодушно помалкивал, предоставляя двум другим поддерживать разговор. Собеседники были на вид довольно жалкими. Один, поболтливее, широкоплечий коротышка с жирной мордой недоделанного бандюги, сидел, лихо надвинув на глаза темно-зеленую шляпу. Второй, замухрышка в черном костюме, был похож на потрепанного судейского чинушу.
— Слушай, Медерик, — сказал хозяин, — я дело говорю. До войны не проходило недели, чтобы я не побывал в «Европейском» или в «Бобино», вот тебе честное слово. Хвастать не буду, но в певцах я разбираюсь не хуже, чем в напитках. Мне скажут: «Андрэ Клаво», а я отвечу — согласен, воркует он нежно, но что касается голоса…
— Прошу прощения, — прервал его недоделанный бандюга, — но тут я с тобой поспорю. Во первых, ты пристрастен…
— Конечно, — хмыкнул хозяин. — Я еще жизни не видел. Я, значит, лопух…
— Дезирэ, дай сказать…
— Зови меня лопухом, говорю.
Вот такой примерно разговор шел в баре «Буссоль», когда я оказался возле стойки. Медерик ласково улыбался. Мне хотелось, чтобы он вступил в беседу до того, как я заговорю с ним, но прошло немало времени, а он все отмалчивался. Я заказал фруктовый сок. Хозяин, увлеченный разговором, подал его, не глядя на меня. В кафе вошла худая, темноволосая девица в красном платье искусственного шелка, черные глаза ее отливали медью, черные завитки были подклеены лаком ко лбу. Премиленькая была шалавка, с тонкими чертами, лет этак двадцати. Тоненькая, гибкая, она двигалась, слегка вихляя бедрами, как панельная девка, и задик у нее так и ходил ходуном, как маятник.
Она прямехонько направилась к стойке, но ничего не заказала, а только метнула на хозяина вопросительный и тревожный взгляд.
Он раздраженно покачал головой, будто досадуя, что она так упрямо не хочет согласиться с чем-то очевидным. Они шепотом перебросились несколькими словами, я не расслышал о чем. Шалава несколько раз украдкой поглядывала на Медерика, и мне казалось, что в медном отблеске ее глаз полыхает злость.
— Лично я рассуждаю так, — говорил недоделанный бандюга. — Если директор зала отслюнил певцу десять кусков за вечер, директор, выходит, не дурак: разобрался.
— Ты меня извини, — ответил хозяин, — но позволь тебе заметить, что ты не туда заехал. Я тебе про голос и чувство, а ты мне про деньги. На мой взгляд, ты просто права не имеешь…
— Ну, если ты вздумал у меня в мозгах ковыряться…
Однообразной болтовне не видно было конца. Медерик пока что слова не вымолвил. Время от времени его крысиный глазок упирался в меня. То ли это было праздное любопытство, то ли привычка разбираться в людях без чужой помощи. Рядом со мной девица в красных шелках тихо закипала, потягивая фруктовый сок. Казалось, ее вот-вот прорвет и она выложит все свое возмущение и обиду.
Наконец Медэ заговорил.
— Ясненько, ребятки, ясненько, — сказал он добродушно.
Эти слова положили конец спору, но я мало что узнал из них относительно самого Медэ-Прищуры. Одно было очевидным — молчал он более многозначительно, чем говорил. Судя по всему, он был человеком скрытным. Я отошел от стойки и приблизился к пьющей троице.
— Мсье Медерик? — спросил я. — У меня к вам дело.
При этом я понизил голос и отступил на шаг, чтобы дать понять, что дело у меня секретное. Недоделанный бандюга сдвинул шляпу на затылок и подозрительно уставился на меня, а замухрышка в черных обносках сделал вид, будто вовсе меня не замечает. Медерик чрезвычайно любезно поднялся и повел меня к выходу из бара. Когда он проходил мимо шалавы, та попыталась остановить его и стала что-то шептать ему на ухо. Он с приветливой улыбкой отстранился и, уходя, бросил ей через плечо: «Об этом мне ничего неизвестно, да и вообще я с ним не знаком». Она вроде не поверила и с ненавистью посмотрела ему вслед, поджав губы. Медерик указал мне на стул за первым столиком от двери, а сам уселся, прислонясь к дверному стеклу.
— Я сказал, что у меня к вам дело, — повторил я. — Это не совсем так. Я пришел от Кристофа-бельгийца.
Медэ кивком подтвердил, что знает, кто такой Кристоф, и ждал, что я скажу дальше. Его жестокий, умный глазок очень внимательно следил за мной из-под приспущенного века, ни на мгновение не отвлекаясь. Я понял, что усадил он меня на это место не случайно, а так, чтобы лицо мое было освещено и хорошо ему видно. Когда я рассказал, как познакомился с бельгийцем и почему тот меня сюда направил, Медерик ответил, что отошел от дел и может помочь мне только добрым советом.
— Когда началась война, я многое понял: приходилось мне и раньше бывать во всяких переделках, но исход и оккупация меня в самое сердце поразили, душа изболелась за родную землю. «Медэ, — сказал я себе, — ты жил, как все французы, наслаждался жизнью — и вот результат: твоя страна попала в беду». Само собой, когда тебе за пятьдесят, впрягаться в работу не захочешь, но жить я решил достойно. Вот уже три года, как ничем таким не занимаюсь. Упускаю золотые дела, живу на сбережения. Денег у меня не густо, да ведь и живу-то я без особого размаха.
Медэ явно насмехался надо мной. Я видел, как весело поблескивал его глазок, пока он нес эту туфту. Но ему еще было мало:
— Моя награда — это когда маршал к нам обращается по радио. «Ну, Медэ, — говорю я себе по совести, — считай, что ты тоже в строю».
— Не жалею, что зашел, — сказал я. — Может, вам когда-нибудь служка в церковь понадобится…
Медэ снисходительно усмехнулся на мою выходку.
— Ладно, шутки в сторону, слушай. Честный труд, шлея да хомут, тоже имеет свои достоинства.
— Еще бы, тем более что столько делается в интересах трудящихся!
Я приподнялся. Он спокойно положил мне руку на плечо и усадил меня на место.
— А ты вспыльчивый, колючий, мне это по душе. Как я тебе говорил, сам по себе я теперь ничто, но кореши у меня еще остались, я их уважаю, хоть и не одобряю их поступков. Иногда я им читаю мораль — насчет там чести и прочей петрушки. Им, понимаешь, и самим все ясно, они бы и рады завязать. Да вот беда, у каждого своя ноша. Одному мамашу-старушку надо побаловать, другой детишкам хочет дать образование, а иной заведет себе такую кралю, что только подавай ей норку да бриллианты. Вот и остаются ребята при деле. Да, кстати, за что отбывал в Центральной?
— Кассу взял в лавке. Получил восемь месяцев.
— А до того как кассами баловаться, что поделывал?
Мне не хотелось отвечать на этот вопрос, и лицо мое, видимо, стало хмурым. Медэ помолчал минутку и тихо спросил:
— Папаша твой еще сидит?
Может быть, он ожидал, что вопрос застанет меня врасплох, но этого не случилось.
Отец мой до ареста за крупные махинации на черном рынке содержал ресторан на улице Сен-Жорж с баром в подвальчике, где после шести вечера всегда было полным-полно. Не помню, видел я там Медэ или нет, но я, вообще-то, за редким исключением, не больно приглядывался к отцовским посетителям.
— Ему еще два года до срока, — ответил я.
— Ты думаешь, я так и поверил, что он тебя оставил на бобах?
— Все забрали, счет в банке закрыли, наличность у Долговязой Бетти. А у меня одна мелочь.
— Допустим. Но знакомые-то у тебя кой-какие водились. Мог бы и выплыть.
— Мог бы.
Это прозвучало сухо — суше, чем мне самому хотелось. Медэ больше не улыбался. Должно быть, на моем лице проступила та холодная отчужденность, которая доставила мне в свое время немало приятных, а еще больше неприятных минут. Он не спеша, внимательно, разглядывал меня. Но пытливый глазок смотрел уже без насмешки. Более того, в нем светился какой-то интерес ко мне.
— Может, хочешь сказать парочку слов Долговязой Бетти? — спросил он.
— Ничего я не хочу.
— Ей от твоего папаши остался немалый куш, не говоря о сверканцах и мехах.
Медэ напрасно настаивал, высмеивая мою «щепетильность», как он выразился. Я сумел вкратце объяснить ему, что отродясь не знавал щепетильности или угрызений совести, но зато втолковать, что я поступаю только так, как мне вздумается, без каких-либо доводов рассудка или тем более принципов, оказалось делом нелегким. Мои слова неприятно поразили его, и он с досадой вздохнул.
— Эх вы, молодежь. Значит, пусть любая шкура захапает отцовское добро и мы с ней церемонии разведем, а вот с кассой в мелочной лавчонке не церемонимся. Допустим. Чем же ты теперь думаешь заняться?
Еще труднее мне было признаться в полном отсутствии каких-либо намерений. Я хотел одного — избавиться от присущего мне равнодушия к людям и к самому себе, равнодушия, за которым мне виделся недолгий путь до канавы. Чтобы не скатиться туда, надо жить в постоянном напряжении, а этого не может предоставить какая-то обыкновенная профессия. В свое время, когда я уже сидел без гроша, но еще не воровал, я подумывал, не примкнуть ли к подпольщикам, но мне совершенно чужды такие понятия, как родина или социальная справедливость. Среди фанатиков, кем бы они ни были, я неизбежно буду чужаком. Мое обидное равнодушие вызовет их недоверие и ненависть. Кстати, я не раз проверял это на практике, например, в собственной семье, возмущенной таким небывалым отсутствием родственных чувств. Неспособный на порыв ненависти или любви и даже просто на восприятие мира как единого целого, я лишен присосков, связующих человека с обществом, и поэтому буду обречен на роль наблюдателя из подленького далека, если только не сверну на такую дорожку, чтобы дух захватывало от смены тревог и опасностей.
Вот что я пытался изложить языком, доступным Медерику, перенося на практическую почву эту жажду уйти от себя самого на поиски острых ощущений.
На слова я скупился, да и лень мне было его уговаривать, но он меня отлично понял.
— Ясно. Захотелось поиграть в фартового парня. Скажу напрямик, это не по моей части и знакомых таких у меня тоже не значится. Однако загляни к Гюставу — я-то сам его не знаю, но кое-что о нем слыхал. Говорят, он этим промышляет.
Последовало описание упомянутого Гюстава, которого мне надлежало отыскать в тот же вечер, часов в восемь, в одном из кафе на бульваре Шапель. Засим Медэ-Прищура слегка кивнул мне на прощание и без дальнейших слов вернулся в глубину бара.
Я подошел к стойке, чтобы расплатиться за сок. Шалава, уплатив за свой, вышла раньше, чем я. Она поджидала меня на тротуаре, заговорила ни с того, ни с сего, да еще с марсельским акцентом и все добивалась, давно ли я знаю Медэ и какие веду с ним дела.
— Берегись его, — сказала она. — Он многих заложил.
Потолковав о том, о сем, мы забрели в киношку, где шел старый фильм вроде оперетки с голыми девками. Из вежливости я полез под юбку к моей соседке. Она сказала, что это не обязательно, и под вопли актеров на экране принялась рассказывать мне, не считаясь с возмущенным шиканьем соседей, не очень вразумительную историю, где Медэ играл неясную для меня роль. Какой-то парень, очевидно, хахаль этой шалавы, поссорился с Медэ и спустя несколько дней куда-то пропал, а она, безо всяких к тому оснований, подозревала, что Медэ настучал на парня в полицию. Не успела она завести свой рассказ по новой, как явилась билетерша и от имени зрителей попросила ее замолчать. Когда мы вышли из кино, шалавка назначила мне на тот же вечер свидание, на которое не явилась. Больше я ее не видел.
В восемь часов я пошел в то самое кафе на бульваре Шапель, где должен был найти Гюстава. Я без труда узнал его по описанию Медэ. На вид это был ничтожный конторский служащий, угрюмый и сварливый.
— Я пришел от Медэ.
— Не знаю я никакого Медэ, — ответил он, нажимая на каждое слово, чтобы оно полновеснее звучало.
— Ну, как хотите.
— Дело не в том, хочу я или нет. Я не знаю, что это за Медэ. Точка. Оставим это. Вы можете завтра утром отправиться в поездку дней на восемь-десять?
— Могу, — ответил я.
Мы помолчали. Гюстав спросил:
— Вопросов ко мне нет?
— Нет.
— Тогда встречаемся утром в девять на Восточном вокзале у билетной кассы на Труа. Вещей берите возможно меньше.
Я встал. Разговор не занял пяти минут, и я ушел, ничего не заказав. В конце вечера, в кафе на площади Пигаль, где я тщетно прождал девку в искусственных шелках, ко мне подошел мой бывший одноклассник по лицею с отцом, которого он, перед этим, сводил в театр. С напористым дружелюбием он принялся рассказывать о наших соучениках и о своих занятиях. Отец не менее дружелюбно сопровождал наши воспоминания детства ласковым блеяньем. Разговор не вызывал у меня ни удовольствия, ни досады и я вежливо изображал внимательного слушателя. Впрочем, эта роль мне не слишком удавалась, и, когда тема наша стала иссякать, я сообщил, что только что отбыл восемь месяцев сроку за грабеж. Я вовсе не чванился этим происшествием и рассказал о нем отнюдь не с целью позабавиться над моими собеседниками. Такое отсутствие бахвальства ужаснуло их еще больше, чем непринужденность, с которой я все это выложил. Старик пустил слезу и слюни на отвороты своего пиджака.
— Пойдем, папа, — сказал мой одноклассник печальным и благородным тоном и увел отца под руку, положив передо мной две стофранковые купюры, которые я не замедлил сунуть в бумажник.
Моя поездка, совместно с Гюставом и еще двумя парнями моего возраста, заняла, как и намечалось, немногим более недели. Она была вовсе не так опасна, как можно было предположить, послушав хвастовню моих спутников по возвращении. Задача наша состояла в том, чтобы ограбить несколько уединенных ферм в районе От, перебив сперва их обитателей. Дело нехитрое. Крестьяне, как правило, оружия не держат, к тому же на стороне налетчика всегда преимущество внезапности. Гюстав верно рассчитал, что нападать надо на рассвете, тогда собачий лай не вызовет переполоха среди фермеров. Кроме того, когда светает, можно легко уследить за всеми выходами, а в таком деле главное — никого не выпустить живым. Гюстав методично руководил операциями. Он любил чистую работу и сам действовал с придирчивой дотошностью мастера преступных дел. Он убивал аккуратно, без возбуждения или жестокости, в отличие от Фреда и Пьеро, которые быстро пьянели от крови и без нужды мучили людей. Я же делал свое дело хладнокровно, преодолевая довольно сильное и, вероятно, навсегда засевшее во мне отвращение к виду крови, смертных мук и лиц, искаженных ужасом. В то же время сама мысль о смерти никогда не заставляла меня задуматься о человеке, как таковом. Надо пожить, как жил я, нищий двадцатилетний юнец, томясь день за днем от голода и тоски на садовых скамейках или в суетливой толпе, чувствуя себя невидимкой среди людей, чтобы постичь во всей ее злостной очевидности лживость такого понятия, как общечеловеческое единство. Сказать по правде, я еще в детстве с удовольствием ощущал, что этого попросту не существует, или, вернее, всегда был уверен, что связи между людьми крайне поверхностны. И последнее — мысль о смерти, своей или чужой, никогда не пробуждала во мне какого-либо беспокойства религиозного порядка.
Вспоминать о своих преступлениях я не люблю, потому что в памяти встают довольно гнусные картины, но это волнует меня не более, чем рассказ о преступлениях любого из моих сообщников. Вскоре Гюстав по достоинству оценил хладнокровие и рассудительность, с которыми я убивал, и более всего, вероятно, мое учтивое равнодушие к людям и событиям, создавшее в нашей банде, по его словам, атмосферу приятной деловитости. Вдобавок я узнал, все от того же Гюстава, что сдержанный и строгий стиль совершаемых мною убийств доставлял знатокам истинное наслаждение. Мало-помалу он проникался ко мне все боль шим доверием, часто принимал мои предложения и даже поручал мне лично некоторые, особо трудные задания. Однако он так и не раскрыл мне, на кого же мы работаем. Почти все наши предприятия принесли нам немалый доход, и мы ни разу не подверглись сколько-нибудь серьезной опасности. На третий день после нашего приезда в эти края Гюстав навел местную полицию на молодых парней, скрывавшихся в тамошних лесах, не то голлистов, не то коммунистов, так как мы могли бы нажить из-за них неприятности.
Я вернулся в Париж с двадцатью тысячами франков в кармане и не видел Гюстава до второй поездки, на следующей неделе. За это время я встретился с сожительницей отца, известной среди друзей под кличкой Долговязая Бетти. За все семь или восемь лет связи с отцом она вечно лезла ко мне с материнскими заботами, что меня ничуть не трогало, хоть и не раздражало. В общем, мы неплохо ладили. Как-то, разок-другой, по воле случая, мы с ней даже переспали. Бетти приветливо спросила меня об отце; я ничего о нем не знал, кроме того, что он, должно быть, все еще за решеткой.
— Кстати, — сказала она, — я только на днях узнала, что ты тоже сидел.
— Кто тебе сказал?
— Медэ. Знаешь его? Он зашел ко мне выпить портвейну в прошлую субботу. Симпатяга этот Медэ. Вежлив и не дурак.
— Что он говорил?
— Да так, поболтали. Он и сказал, что тебя недавно выпустили. Собирается опять ко мне заглянуть.
Я понимал, что Медэ приходил к ней с корыстной целью и посоветовал Бетти остерегаться его. Она рассказала, что вот уже больше года всерьез, по-настоящему любит какого-то парня из очень хорошей семьи, окончившего «самую высшую школу» и застрявшего в Алжире из-за высадки англо-американцев. Прощаясь с ней, я еще раз посоветовал ей быть поосторожнее с Медэ. Мне было наплевать на то, что мерзавец обдерет ее как липку, но меня разозлило, что он явился к ней от моего имени после того как я без обиняков заявил ему, что охотно предоставляю ей пользоваться «отцовским наследством», как он говорил. Минуту спустя все это вылетело у меня из головы.
В течение месяца или больше мы с Гюставом и двумя или тремя убийцами, которые постоянно менялись, ездили по фермам Иль-де-Франса. Во время последнего налета фермеры убили одного из наших, а мне всадили пулю в бедро. Гюстав отвез меня в Париж и устроил в клинику. Там меня сочли за патриота, окружили всяческим вниманием, и я стал быстро поправляться. Я уже выздоравливал, когда Гюстав пришел навестить меня.
— Шеф говорил со мной о тебе. Понимаешь, ты у него на хорошем счету.
— Я его не знаю, — ответил я.
— Возможно, зато он-то всех знает и ему известно, как ты работаешь. Он тебе прислал со мной подарок, в награду. Гляди. Полное собрание Виктора Гюго. В сафьяновом переплете.
— Это избранное, — заметил я.
— Даже избранное, скажи на милость! — опечаленно воскликнул Гюстав. — Мне он ничего такого не дарил. Правда, у меня образование не то. Да, что ни говори, а учиться все-таки стоит — времени потеряешь мало, а добьешься многого. Я, впрочем, за тебя рад. Шеф сказал, что, когда ты окрепнешь, тебе больше не придется гонять по фермам. Он подыскал тебе работенку похитрее.
Как только я вышел из клиники, Гюстав познакомил меня с этой новой работой. Оказывается, шеф берется за известную сумму переправить самолетом в Англию любого, кто желает туда попасть. Я везу клиента из Парижа в пустынное место, где якобы должен сесть английский самолет, и там пускаю ему пулю в лоб. Мой барыш — деньги и ценности убитого, ведь с пустым карманом вряд ли кто отправится в такой путь.
Это занятие меня не устраивало. Как и раньше, мне ничего не стоило убить человека, но я не люблю обманывать чужое доверие. Совесть моя всегда молчит, о чем бы я ее не спрашивал. Все, что в ней происходит, можно отнести только к области смутных ощущений, зато восстает она куда более яростно, чем совесть честного человека, сколько бы он в ней ни копался. Мой первый клиент, человек лет сорока, с первой минуты знакомства держался со мной дружелюбно и доверчиво. Проведя с ним один только час в пригородном поезде, который вез его на верную смерть, я понял, что не смогу его прикончить. Я открыл ему правду, но проделал это достаточно умело, чтобы добиться от него обещания сохранить все втайне. Если кто-нибудь из моих сообщников станет его расспрашивать, он ответит, что передумал из-за непредвиденного поворота в делах. Дяденька этот, в общем-то, потерял таким образом тысчонку — другую, но сохранил шкуру в целости и на радостях осыпал меня бурными изъявлениями благодарности, не глядя, что имеет дело с профессиональным убийцей. Мы выехали из Парижа в шесть вечера, а к восьми уже вернулись.
В тот же вечер я встретил в метро, на переходе, Долговязую Бетти.
— Вот хорошо, что увиделись, — сказала она. — Завтра я уезжаю.
Мимо нас шли прохожие. Она отвела меня в сторону и шепотом добавила:
— Завтра вечером еду в Англию. Медэ все устроил.
— Самолетом?
— Да.
Я пожелал ей счастливого пути. Она передала привет отцу. Открытие, что шеф — это Медэ, не удивило меня. Я уже давно об этом догадывался по тому, как уклончиво говорил о нем Гюстав. Судьба Бетти меня мало беспокоила. Взбесило меня другое — что Медэ некрасиво обошелся со мной, воспользовавшись моим доверием.
На следующий день я вновь поехал тем же путем, что и вчера, но на этот раз в одиночестве, и к шести часам вечера оказался на так называемой посадочной площадке. Еще утром Гюстав сообщил мне, что шеф сам берет на себя дело, которое к ночи завершится обычной развязкой.
Посадочной площадкой называли большой луг недалеко от опушки, леса, от которой его отделял пустырь, где чернели развалины сожженной фермы. В подвале этого дома и расправлялись с очередными жертвами. Гюстав однажды привез меня сюда, чтобы ознакомить с местностью, и ничего от меня не утаил — мы с ним даже отрепетировали убийство. Сидя среди развалин, в густых зарослях дрока, я издалека увидел наших путешественников и спустился в подвал, чтобы там их дождаться. Медэ галантно нес чемоданчик Бетти. Я стоял со стороны его слепого глаза, так что Медэ не увидел меня, когда вошел в подвал, и я без труда отнял у него оружие. Он держался молодцом и сразу уселся на пенек, как я ему велел. Мое появление в этом полумраке напугало Бетти, она заныла, разревелась, требуя, чтобы мы ей сказали правду. Медэ прикрикнул на нее и кивком показал, что готов меня выслушать.
— Как я понимаю, — сказал я, — тебе покоя не дает отцовское добро?
— Я хотел сделать тебе сюрприз, вернуть твое наследство, но вижу, ты уже в курсе. Что, мадам проболталась?
— Плакали мои денежки, попади они в твой карман. Нечего было соваться в чужие дела. Я ведь тебе все ясно сказал, когда мы с тобой об этом толковали.
Медэ указал мне на Бетти, которая исподтишка подбиралась к двери. Я оттолкнул ее в глубь подвала, не обращая внимания на ее визг. Медэ немного подумал, потом заговорил. Крысиный глазок его горел в темноте.
— Справедливость есть справедливость, — изрек он. — Я считаю, что отцу семейства, попавшему в беду, нужна помощь, если молокосос-сынок не умеет отстоять свои права. Плоды отцовского труда должны идти детям. Нынче ни к чему нет уважения. Как тут не рассвирепеть, на то есть все основания. Когда твоему отцу дали срок, мадам должна была отдать тебе деньги, а сама пусть работала бы, пока он не выйдет.
Бетти закричала, что отец ей ничего не оставил. Медэ живо поймал ее на вранье и попрекнул хахалями. Спор разгорался, мне стало скучно. Бетти довольно бестактно напомнила мне, что я с ней подживал. Они валили друг на друга грязные сплетни обо мне. Чтобы положить этому конец, я вынул из кармана револьвер, взятый у Медэ, швырнул его на пол и вышел, хлопнув дверью. Из подвала доносились крики, беготня, топот. Несколько минут спустя, сидя в траве, я услышал глухой выстрел. Бетти, вся взъерошенная, выскочила на верхнюю ступеньку, и я был вроде раздосадован этим. Но, признаюсь, другой финал вызвал бы у меня, пожалуй, не меньшую досаду.
Помолвка
После завтрака маркиз де Валорен предложил всем пройтись по парку. Шествие открывал монсиньор д'Орвиель; он страдал подагрой и шел, опираясь на руку маркизы, женщины лет тридцати, стройной и хрупкой на вид, в глазах которой порою вспыхивали зловещие искры. Они медленно двигались под величественными кущами деревьев, в которых распевали птицы. За ними, тем же неспешным шагом, следовали маркиз де Валорен и его тесть, барон де Каппадос, беседуя о проекте подоходного налога на земледельцев. Оба были одного возраста, тесть — низкорослый, сухой, вооруженный моноклем, зять — тучный, с брюшком, весельчак и шутник; однако с тестем он держался почтительно. Эрнестина Годен, крестница прелата, чаще всего шла между обеими парами гуляющих, с которыми ей было одинаково скучно; иногда она ускоряла шаг, чтобы догнать передних, иногда замедляла, поджидая тех, кто шел позади. Она думала о последнем номере «Киногрез», который тайно передавали друг другу воспитанницы монастырской школы святой Терезы. Ее огорчало, что она ни капельки не похожа на портрет Мишель Морган из «Киногрез», а скука еще усугубляла ее грусть. Действительно, у Эрнестины Годен были пышные бюст и зад, икры борца, миловидное круглое лицо с пухлым ртом и черными бархатистыми глазами, исполненными томления.
Идя рядом с монсиньором, Эрнестина вдруг вскрикнула и остановилась. Ее грудь напряглась, зад круто выгнулся. Перед ней, среди веток орешника, неожиданно появился обнаженный торс мужчины в шляпе канотье. Это был красивый юноша лет восемнадцати, с тонкими чертами и застенчивым выражением лица. Маркиза де Валорен тоже остановилась; ее пальцы судорожно впились в руку прелата, лицо стало мертвенно-бледным, ноздри затрепетали.
— Что тут происходит? — спросил барон де Каппадос, ткнувшись носом в сутану епископа.
— Ничего интересного, — отвечал тот. — Вернемся в замок.
Монсиньор двигался медленно и только начал поворачиваться, когда юноша в шляпе, проворно обогнув куст орешника, предстал перед взорами всех совершенно голый. Потрясенная Эрнестина снова вскрикнула, а вслед за ней монсиньор и барон. Дело в том, что торс юноши, вместо того чтобы покоиться на соответствующих ему опорах, был прикреплен к туловищу здоровенного, по виду деревенского, коня, серого в яблоках.
— Vade retro, Satanas![8] — произнес епископ, начертав в воздухе крестное знамение.
Но, очевидно, юный кентавр был отнюдь не демонической породы, ибо, вместо того чтобы растаять в облаке дыма, он снял шляпу и стал вертеть ее в руках, смущенно потупив глаза. Лицо его, безбородое и обрамленное белокурыми вьющимися волосами, было прелестно. Эрнестина Годен рассматривала его с живым интересом, и грудь ее вздымалась от нахлынувшей нежности. Она еще не вполне уяснила себе, на какое место его тела не дозволено смотреть, и поэтому старалась видеть только его лицо и забывала, что он кентавр. Монсиньор д'Орвиель был разочарован, что призрак не рассеялся от его заклинания, и срывал досаду на маркизе, которая тяжело повисла на его руке и, казалось, была близка к обмороку; он нетерпеливо пытался выдернуть руку, чтобы освободиться от нее. Кентавр продолжал крутить шляпу, не решаясь поднять глаза. Маркиз де Валорен побагровел.
— Аристид, — сказал он резким тоном, — извольте немедленно вернуться в свои апартаменты, рысью, понятно?
При этих словах кентавр покраснел до ушей, но все с тем же скромным видом приблизился к группе и, остановившись в трех шагах от маркиза, ответил:
— Папа, я прошу вас простить меня за огорчение, которое я вам причиню, но вы требуете от меня невозможного.
— Невозможного? Что вы хотите сказать?
— Папа, я буду в отчаянии, если вы на меня рассердитесь, но поймите меня. Я не хочу больше жить затворником. Я хочу узнать свет.
— Бросьте ребячиться, Аристид. Повинуйтесь!
Аристид упрямо уставился на свои передние копыта и не двигался с места. Маркиз вытер капли пота, проступившие у него на лбу, и повернулся к своим гостям, растерянно улыбаясь. Монсиньор искоса наблюдал за ним, поджав губы, с выражением сдержанного любопытства. Барон де Каппадос сурово смотрел на зятя.
— Албан, — холодно сказал он, — я жду от вас объяснения.
Маркиз попросил Аристида отойти на минутку. Он старался поймать взгляд жены, словно ища у нее помощи и поддержки, но ничего не добился. Она стояла без кровинки в лице, с померкшим взором, не в силах произнести ни единого звука.
— Любезный тесть, — начал он деланно развязным тоном, — я бы не хотел посвящать вас в эту тягостную тайну. Наше пребывание на этой земле так мимолетно. Все суета. Жизнь — это фарс, иллюзия, чехарда, обман, волан, дурман, ресторан, передник без карманов, ледник, изъеденный мышами, посредник…
— К делу! — завопил барон де Каппадос.
— Ну, так вот что случилось, но не думайте, все это очень просто.
Маркиз позволил себе небольшую передышку. Он привлек к себе жену, сжал ее бледное лицо большими ладонями и ласково улыбнулся ей. Аристид отошел к тому самому кусту, из которого он перед тем вынырнул, и разглядывал Эрнестину Годен со страстным любопытством.
— В тысяча девятьсот сорок первом году, когда вы жили в Амбере, по ту сторону демаркационной линии, Эстелла забеременела. Какое это было счастливое событие! Нас радовала надежда, оживившая наше одиночество. Вы же знаете, чем была наша жизнь во время оккупации. Мы были отрезаны от мира, вдали от всего, без машины и — увы! — без развлечений. Главной нашей поддержкой было чтение. Эстелла страстно увлекалась античностью и мифологией. Где бы она ни была, в постели, за столом, стоя, она без передышки читала книги о Древней Греции. Ночью я слышал, как она бредила богами, аргонавтами или садом Гесперид. Роковое увлечение!
С этими словами маркиз печально покачал головой. Тесть усмехнулся, и монокль его засверкал.
— Послушайте, Албан, вы ведь всегда любили верховую езду. Полагаю, что чтение не было вашим единственным занятием и что заботы о конюшне отнимали у вас немало времени.
— Моя конюшня? Она распалась в тысяча девятьсот сороковом году, во время разгрома. Клео, та несравненная кобыла, которую я любил больше всех, погибла от бомбы, когда везла телегу с бельгийскими беженцами. Когда мы после перемирия вернулись в замок, я нашел здесь одного Россиньоля, рабочего коня, который, кстати, еще жив. Да вы его, кажется, знали?
— Да, да, помню, — пробурчал барон. — Большой серый в яблоках, с какой-то нелепой шеей.
Его гнев мгновенно угас, и он задумался. Аристид, державшийся поодаль, возле орешника, по-прежнему пожирал Эрнестину Годен лихорадочным взглядом, а солнечные блики играли сквозь листву на его пестрой шерсти.
— Какая прекрасная погода! — заметил монсиньор. — В этом году природа поторопилась не по сезону.
— Природа всегда готовит нам сюрпризы, — сказал барон де Каппадос. — И все же меня не слишком удивляет тот результат, к которому привело мою дочь общение с греками. Эстелла всегда была крайне впечатлительна. Она очень живо представляет себе все, что угодно; и вот стоило ей вообразить самый невероятный миф, как он тут же стал воплощаться в ее теле. Аристид! Подойдите, поцелуйте деда!
Аристид подбежал мелкой рысцой, и барон нежно облобызал его.
— Великолепный малый! Настоящий Каппадос! Но какого черта от меня скрывали рождение этого ребенка?
Зять пустился в пространный анализ душевных переживаний, которые причинило ему и жене рождение сына. А между тем прогулка по парку продолжалась. Взрослые шли впереди, молодке люди молча следовали за ними, шагах в десяти. Под обволакивающим взглядом Аристида у крестницы епископа пылали щеки и она так сильно потела от волнения, что терпкий запах ее подмышек доходил до ноздрей кентавра. Время от времени она поворачивала голову, чтобы украдкой бросить взгляд на конское продолжение своего спутника. Он первый нарушил молчание.
— Мне бы хотелось увидеть вас голой, — сказал он.
По тому, как вздрогнула Эрнестина, он понял, что его слова неуместны, и вежливо извинился. Маркиз де Валорен и смотритель замка, поделившие между собой труды по его воспитанию, избегали касаться некоторых тем.
— Папа взялся обучать меня латыни, математике и истории Франции. Смотритель учит меня садовничать и играть на флейте. Но ни тот, ни другой не говорят мне о женщинах. Я вижу только мою мать и жену смотрителя. Я нахожу, что мама очень красива, и не стану от вас скрывать, что я с удовольствием женился бы на ней, но она мне сказала, что об этом нечего и думать. А впрочем, маминому крупу не сравниться с вашим. Я говорю это не из лести: честное слово, я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь женщина была красивее вас. Что за круп! Ах, что за круп!
Эрнестина задыхалась, ее бросало в жар, платье прилипало к спине. Все эти комплименты, очевидно искренние, кружили ей голову, по ее телу пробегали какие-то тяжелые волны. Теперь она с удовольствием вдыхала конский запах, исходивший от Аристида.
— А я, — спросил он, — как вы меня находите?
— Вы потрясающий, — сказала она тоном, не допускавшим сомнения.
— Вы согласны выйти за меня замуж? — спросил он, снимая шляпу.
В ее глазах он прочел согласие; он привлек ее к себе и прижал к своему обнаженному торсу. В эту минуту монсиньор д'Орвиель повернул голову; увидев обнимающуюся пару и канотье кентавра, прикрывавшее мягкие полушария его крестницы, он дал волю охватившему его раздражению.
— Ваш уважаемый сын слишком много себе позволяет, — сказал он маркизу.
— Узнаю свою кровь, — ликовал барон. — Ни один Каппадос никогда не отворачивался от любви.
— Аристид, — воскликнул маркиз, — оставьте мадемуазель Годен и идите сюда.
Аристид выпустил Эрнестину, но не сразу. И сама она нисколько не спешила освободиться.
— На вашем месте, — с досадой сказал епископ, — я бы немедленно велел оскопить этого кентавра, иначе вы неприятностей не оберетесь.
— Монсиньор, — возразил маркиз, — отдаете ли вы себе отчет, что вы говорите о моем сыне как о простой кляче, и неужели вы в самом деле думаете, что на основании чисто внешних признаков можно считать конем сына мужчины и женщины?
— Но не станете же вы отрицать, что естество у него лошадиное?
Вместо ответа маркиз спросил прелата, согласен ли он с тем, что местопребывание души находится в голове, а если нет, то где же она, по его мнению, обитает? На что монсиньор резонно возразил, что, поскольку душа нематериальна, было бы неразумно назначать ей какое-то определенное место не только в теле, но и вообще в пространстве.
— Вы хотите сказать, что моя душа не находится ни во мне, ни в другом месте, что ее вообще нигде нет?
— Вопрос не в этом, — отвечал епископ, повернувшись к крестнице. — Ну, Эрнестина, что вы мне скажете?
Эрнестина Годен и ее кентавр, держась за руки и глядя друг другу в глаза, неспешно подошли к компании. Девушка не посмела ответить на вопрос крестного, но, чувствуя себя виноватой, отдернула руку, лежавшую в руке кентавра.
— Аристид, — сказал отец, — ваше поведение недостойно благовоспитанного молодого человека. Вы проявили неуважение к мадемуазель Годен и грубо оскорбили ее, как, впрочем, и монсиньора, ее крестного. Вы должны перед ними извиниться.
— Бросьте, Албан, — прошептал барон, подталкивая зятя локтем, — оставьте мальчика в покое. Молодость бывает только раз, черт возьми!
— Тра-та-та! Я хочу, чтобы он извинился.
Аристид встал прямо перед отцом и сказал очень искренно и в то же время сдержанно:
— Если я кого-нибудь оскорбил, я готов принести извинения, но по отношению к мадемуазель Годен я решительно ни в чем не могу себя упрекнуть. В ту минуту, когда вы меня окликнули, а я держал ее в объятиях и чувствовал сквозь платье ее прекрасные толстые груди, я как раз хвалил ее круп, и уверен, что этим ее ничуть не обидел: ведь он у нее вправду очень красивый. Взгляните, папа, какая замечательная пара ягодиц! Полные, круглые, упругие! Разве это не наслаждение для глаз? Я даже сказал, что мамины ягодицы, которые мне всегда нравились, далеко не такие роскошные и внушительные, как у Эрнестины. Простите меня, мама.
Аристид ласково улыбнулся матери и, переведя взгляд на округлости Эрнестины, на минуту погрузился в созерцание. Монсиньор нетерпеливо выслушал объяснения Аристида; он потянулся к уху маркиза и сказал вполголоса:
— Я же вам говорил, и его речи подтверждают мое мнение. Конского естества в нем несравненно больше, чем человеческого, если таковое у него вообще есть. Вы слышали его, он говорит с непосредственностью бедной твари, лишенной даже смутного понятия о грехе. Это и есть признак животной природы.
— Кто знает? — сказал маркиз. — Не забудьте, что Аристид еще ребенок. Ему недавно минуло девять лет.
— Во всяком случае, у него рост и разум взрослого; это потому, что лошади развиваются быстрее людей, и уж это одно доказывает, что природа вашего сына…
— Мой сын хорош, каков он есть, — ответил маркиз де Валорен. — Впрочем, ваша крестница, как мне кажется, разделяет мое мнение.
И в самом деле, во все время этого разговора, который велся полушепотом, вид Эрнестины Годен явно выдавал ее волнение: глаза ее затуманились, губы приоткрылись, и если предположить, что она задумывалась о конской природе Аристида, то это, по-видимому, ее ничуть не пугало.
— Разрешите мне, — сказал кентавр, обращаясь к родителям, — поговорить с вами откровенно. Я испытываю самые нежные и верные чувства к крупу мадемуазель Годен, и поскольку я, кажется, имел счастье ей понравиться, мы решили обвенчаться как можно скорее. Я думаю, что ни вы, ни монсиньор не станете препятствовать этому союзу. Какие у вас могут быть возражения?
На мгновение все остолбенели; но потом мысль о союзе Эрнестины и кентавра стала казаться не такой уж нелепой. Монсиньор д'Орвиель был не прочь пристроить крестницу, будущее которой внушало ему серьезные опасения. Сирота без имени и состояния, она никогда не проявляла склонности к учению; в школе святой Терезы она уже пять лет тащилась в хвосте класса. Но особенно тревожило ее богатырское здоровье, благодаря которому она воспринимала жизнь с угрожающей жадностью. Что ни говори, этот молодой кентавр все-таки граф де Валорен; на такую партию трудно было надеяться. С другой стороны, и маркиз думал об этом браке без всякого неудовольствия, потому что ему не терпелось сложить с себя бремя ответственности за не совсем обычного сына. Что касается маркизы, то она, благополучно оправившись от испуга, с умилением смотрела на молодую чету.
— Граф бесспорно еще очень молод, — заметил монсиньор.
— Не в этом главное, — проворчал барон. — Во время войны с альбигойцами третий Жан де Каппадос был не старше Аристида, когда он взял жену из дома графов Тулузских.
— Я, вероятно, смог бы добиться разрешения Церкви, но оно будет ни к чему, если нам не удастся зарегистрировать брак этих детей в мэрии.
— Тут я, пожалуй, смогу уладить дело, — сказал маркиз. — В сороковом году пожар уничтожил мэрию и все акты гражданского состояния.
Маркиз дал понять, что ему нетрудно будет сделать мэра своим сообщником и прибавить несколько лет Аристиду. Монсиньор ничем не выразил ни согласия, ни неодобрения по поводу этих махинаций с датами и перевел разговор на приданое Эрнестины, заботы о котором он желал полностью взять на себя.
Оставалось только назначить день бракосочетания, но тут барон де Каппадос, который все время пожимал плечами, бурча что-то в свой крахмальный воротничок, обратился к Аристиду:
— Дитя мое, покатайте мадемуазель Годен по парку. Вам нужно размяться.
Аристид с готовностью подогнул ноги, чтобы Эрнестина могла сесть на него без посторонней помощи. Она приподняла юбку до колен, думая, что этого достаточно, но когда она уселась на своего жениха, ее ноги обнажились доверху, и она громко и возбужденно расхохоталась, и тут монсиньора охватило беспокойство, о котором он предпочел умолчать. Когда молодая чета скрылась за поворотом аллеи, барон, трепеща от гнева, резко повернулся к зятю:
— Этот брак недопустим. Я признаю, что крестница монсиньора очаровательна, но мой внук не может жениться на какой-то мадемуазель Годен. Я просто не понимаю, Албан, как вы могли хотя бы на минуту допустить мысль о подобном мезальянсе. Аристид еще слишком молод, чтобы думать о браке, но если вы обязательно хотите его женить, найдется достаточно благородных девиц, на руку которых он может претендовать.
— Вы забываете, что у Аристида довольно своеобразное телосложение.
— Ну и что же? Это не мешает ему быть красивым. Он встречал уже много девушек?
— Нет, мадемуазель Годен первая.
— Вот именно. Первая, которая его увидела, тут же в него влюбилась, а вы еще сомневаетесь, может ли он внушить любовь девушке нашего круга.
Маркиза возразила, что если девушкам ничего не стоит влюбиться в кентавра, то у их родителей на это другие взгляды, и в случае чего они не постесняются его прогнать и даже пустить в ход хлысты. Уж раз им так повезло, что Эрнестина Годен — сирота, нельзя ее упускать. Со своей стороны, епископ стал доказывать, что в век социализма родовые предрассудки не выдерживают критики, и к тому же они противоречат христианскому учению. Но барон оставался непоколебим и заявил, что если его внук женится на этой Годен, он в жизни его больше не увидит. Это непреклонное сопротивление явно встревожило прелата, но маркиз де Валорен успокоительно подмигнул ему и, улучив удобный момент, уверил, что можно будет обойтись и без согласия деда.
А пока длился этот спор, Эрнестина скакала верхом на своем женихе под высокими деревьями парка. Они обменивались нежными речами.
— Как приятно, — говорил Аристид, — что мы помолвлены и что ваши ляжки сжимают мне бока. Я ощущаю в области живота необычайную теплоту, которая растекается по всему телу и доходит до самой головы. Папа часто говорит мне о душе, но я никогда так живо не ощущал, что она у меня есть. А вы?
— Ах, — сказала Эрнестина, — мне кажется, будто я лечу к звездному своду на лазурных крыльях счастья. А моя душа кажется мне радужным шаром, который парит в мягком весеннем воздухе.
— В самом деле? Это любопытно. Своей души я не вижу, но я ее чувствую всем телом и, как я вам уже сказал, особенно в области живота. Сожмите меня ляжками как можно крепче. Ах, как мне хорошо! Внутри у меня все горит.
— У меня тоже, — прошептала Эрнестина.
Беседуя таким образом, они достигли ограды парка и некоторое время скакали вдоль нее, пока не очутились у ворот, загороженных решеткой. Очевидно, в прежнее время через них выезжали в поле телеги, но теперь ими уже не пользовались. Приумолкший кентавр открывал мир сквозь прутья решетки, и то, что ему удалось увидеть, показалось ему таким прекрасным, что слезы навернулись ему на глаза. Поля, луга, рощи, долины уходили в глубокие дали, а у горизонта земля сливалась с небом. Решетка была на замке, но Аристид, вооружившись толстой палкой, как тараном, сорвал его без особого труда.
— Эрнестина, — сказал он, когда они миновали ворота, — я свободен, и вы сидите у меня на спине. Я не представлял себе такого чистого счастья, такого певучего опьянения. Теперь я вижу, что и моя душа — радужный шар, как и ваша. И я не понимаю, что меня заставило говорить вам о моем животе, когда речь у нас была о любви. Это бессмысленно и даже, мне кажется, непристойно. На самом деле моя любовь — тоже радужный шар. А может быть, моя душа и моя любовь — это один и тот же радужный шар, который стремится к небу.
— Тем лучше! — сказала Эрнестина.
Оставив ворота позади, кентавр пустился вскачь по полям и лугам, занимая свою наездницу нежными и изысканными речами. Пересекая какую-то дорогу, они увидели жандарма на велосипеде. При виде получеловека-полуконя в шляпе канотье, он почуял какое-то неуважение к законным властям. Он спешился и спросил агрессивным тоном:
— Куда вы направляетесь?
— Мы бродим по свету, — отвечал Аристид, — без всякой цели и необходимости и время от времени, ради удовольствия, оборачиваемся назад, чтобы измерить путь, пройденный нашей любовью. За нами следуют или нам предшествуют два радужных шара, которые уже породнились.
— Бумага у вас есть?
— Нет, — сказал Аристид: он не понял вопроса жандарма. — Вам нужна бумага?
— Предупреждаю вас, что мне не до шуток. И прежде всего я составлю на вас протокол за оскорбление общественной нравственности.
— Ваши слова меня беспокоят, но я не вполне улавливаю их смысл. Что это, собственно, значит — общественная нравственность?
— Не прикидывайтесь дурачком. Вам прекрасно известно, что закон воспрещает людям выставлять себя напоказ перед прохожими в обнаженном виде. А ну-ка, следуйте за мной в участок.
Аристид не на шутку перепугался, он уже видел, как закон набрасывает свою мрачную тень на вольное существование, о котором он так давно мечтал.
— А я не человек, — сказал он, превозмогая чувство унижения, — я лошадь.
Сбитый с толку жандарм изо всех сил напрягал мозг, но, поняв, что ему в этом не разобраться, поехал дальше, окинув кентавра подозрительным и осуждающим взглядом. Аристид тоже тронулся в путь, опустив голову; он призадумался и не говорил ни слова, как будто забыв, что несет на спине свою любовь. Вид его в конце концов насторожил Эрнестину, и она спросила его, уверен ли он, что действительно ее любит.
— Больше всего на свете, — отвечал он, — я так уверен в своей любви, что даже не считаю нужным говорить вам о ней.
Доехав до угла изгороди, вдоль которой их вела тропинка, они увидели молодую кобылу, которая паслась на лугу, окруженном белым деревянным забором. Аристид пустился в галоп, чтобы поближе ее рассмотреть. Эрнестина ухватилась за него, стараясь удержаться. То была красивая рыжая кобылка изящного телосложения. Она приблизилась к белому забору с небрежным кокетством, но, очутившись возле кентавра, не сумела скрыть своего волнения: сперва она заржала, потом стала перебирать всеми четырьмя копытами. Когда она взвилась на задние ноги, Аристид, потерявший всякое хладнокровие, тоже поднялся на дыбы, не заботясь о своей невесте, которую он при этом сбросил наземь, и поскакал рядом с кобылкой, хотя их разделял забор.
— Аристид! — отчаянно звала Эрнестина. — Аристид! Любовь моя! Моя радужная душа! Мой воздушный двойник!
Но Аристид остановился лишь для того, чтобы отворить калитку и выпустить кобылу, и понесся с ней дальше по направлению к лесу.
Эрнестина Годен вернулась в замок и со слезами рассказала о своей неудаче. Барон де Каппадос не скрывал своего удовлетворения; его только интересовал вопрос, чистокровная ли это кобыла.
— Увы, я был прав! — с горьким вздохом сказал монсиньор. — То, что случилось, вполне подтверждает, что у молодого графа доминирует конское начало.
— Да нет, — краснея, запротестовала маркиза. — Это вовсе не доказательство.
— Может быть, может быть, — задумчиво согласился прелат. — Во всяком случае, он вел себя как свинья.
Несчастная Эрнестина зарыдала еще громче, и маркиз де Валорен потрепал ее по щеке и сказал, чтобы ее утешить:
— Успокойтесь, детка. Возможно, это просто каприз, мимолетная прихоть. Я уверен, он к вам вернется.
Но вот уже больше семи недель, как Аристид исчез. Эрнестина Годен вернулась в школу святой Терезы, и никому не известно, что сталось с кентавром, а также с рыжей кобылой, хозяин которой не помнит себя от ярости.
Жосс
Хотя за пять лет он уже трижды приезжал сюда, Жосс не смог бы узнать дом сестры среди других домов предместья этого маленького городка. Он забыл даже примечательный карниз с фаянсовыми зелеными ромбиками, отделявший на фасаде второй этаж от первого. Выйдя из такси и оказавшись перед решетчатой оградой этого чистенького тихого домика, он испытал какое-то незнакомое ему до сих пор чувство, похожее на чувство одиночества. Шофер с угрюмым видом вытаскивал из машины три железных сундучка, в которых помещались все пожитки Жосса и на которых крупными белыми буквами значилось его звание унтер-офицера и его имя. Еще у вокзала, увидев этого низенького сухопарого седого человека с желтой ленточкой в петлице и в баскском берете, он тотчас узнал кадрового военного и почувствовал, как в нем закипает антимилитаристская желчь. Надпись на багаже укрепила его антипатию.
Попытавшись открыть входную железную калитку, Жосс обнаружил, что она заперта на ключ. Он обернулся к шоферу, ставившему в это время на тротуар улицы Аристида Бриана третий сундучок, и отрывисто бросил, нахмурив брови и как бы возлагая на него ответственность за свою неудачу:
— Никого? Что бы это могло значить?
— Меня не касается, — резко ответил шофер.
— Сколько я вам должен?
За проезд надо было заплатить семь франков плюс три франка за багаж. Жосс отдал деньги и добавил десять су чаевых. Шофер, злобно сверкнув глазами и презрительно поджав губы, молча сунул деньги в карман, плюнул в сторону ограды и уехал. Жосс взглянул на ручные часы. Было около пяти. Свинцовое, очень низкое небо и мокрый ветер уже предвещали зиму. По обеим сторонам улицы, почти безлюдной, стояли маленькие грустные и уютные домики. Не то было при въезде в город, где доходные дома выстроились прямо друг против друга, а на другом конце его, у железнодорожного переезда, в случайных жилищах ютились семьи бедняков. Стоя перед своими сундучками, Жосс не слышал никаких иных звуков, кроме шума ветра, свистевшего в деревьях, да еще, в редкие минуты затишья, стука лесопилки, который доносился с улицы, пересекавшей линию железной дороги. И он, человек, который, подчиняясь случайностям военной жизни, побывал во Франции, в Германии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке, равнодушно взирая на любой пейзаж, внезапно ощутил уныние, овевавшее это провинциальное предместье, где его убедили провести остаток жизни, ощутил в этом унынии какую-то смутную угрозу. Он с беспокойством отметил в себе эту новую способность поддаваться подобным впечатлениям, готовый приписать ее гибельному, разлагающему влиянию гражданской жизни на то жесткое, крепкое, закаленное существо, — словом, настоящего мужчину, каким был в его глазах истинный солдат. Повернувшись к дому, он заметил на одном из каменных столбов ограды кнопку звонка и на всякий случай нажал ее. Почти тотчас до него донесся звук хлопнувшей двери, а затем шум шагов на бетонированной дорожке, которая шла вдоль боковой стены дома. Длинная, худая, с суровым лицом, чуть смягченным седыми, уложенными в гладкую прическу и закрывавшими уши волосами, появилась его сестра Валери в своем обычном черном платье. Голос у нее был ясный и холодный, она отчетливо выговаривала каждое слово.
— Каким это образом ты уже оказался здесь? Ты ведь должен был приехать только завтра вечером.
— Вот уже четверть часа, как я жду у дверей. Что это ты вздумала запираться?
— У меня на то свои причины. Но почему же ты не предупредил, что приедешь раньше? Это было совсем нетрудно.
— Если тебе будет угодно открыть мне дверь, открывай побыстрее. Мои вещи стоят на тротуаре.
Валери открыла дверь, увидела три сундучка и спросила:
— Это все твои вещи?
Жосс перенес сундучки на крыльцо, прислонил их к входной двери, а сестра вошла в дом, чтобы отпереть ее изнутри. День клонился к вечеру, в доме было уже темновато. Не находя выключателя, Жосс попросил Валери зажечь свет, но она возразила, что еще рано и видно достаточно хорошо. Хотя Жосс был отнюдь не мотом, даже напротив, но за тридцать шесть лет военной службы ему негде было научиться понимать мелочную экономию домашней жизни.
— Не желаю я ломать себе шею, когда буду поднимать сундуки по лестнице! Зажги электричество, чертова кукла!
— Хорошо, хорошо, прекрасно, — сказала Валери, зажигая свет, — только я не вижу надобности будоражить соседей этой отвратительной бранью. Здесь ты уже не в казарме и прошу хорошенько запомнить это.
В комнате Жосс начал распаковывать свои сундучки. В двух первых лежало белье, один штатский костюм и три военных мундира, которые он разложил на кровати бережными, осторожными, какими-то ласкающими движениями. Присутствовавшая при распаковке Валери уделяла меньше внимания вещам, чем персоне брата. Прислонясь к двери, находившейся между кроватью и зеркальным шкафом, куда он складывал белье, она со жгучим любопытством наблюдала за тем, как он ходит взад и вперед по комнате. В третьем сундучке находились главным образом сувениры, по большей части купленные на североафриканских и сирийских базарах, — чернильницы, пепельницы, дешевые сафьяновые изделия, шкатулки, медные вазы, вышитые серебром домашние туфли, кинжалы, пистолеты, цветные открытки. Жосс послал сестру вниз за молотком и гвоздями, чтобы прикрепить к стене собственный портрет в парадном мундире, портрет в красках маршала Фоша[9] и другие фотографии, где были изображены группы младших офицеров, среди которых был и он, Жосс. И, наконец, над кроватью, на месте гипсового, потемневшего от времени распятия, он повесил рамку, где под стеклом на черном бархате покоились его военные награды — медаль и два креста: один за войну 1914–1918 годов, а другой — за участие во внешних военных действиях.
— Ты не повесил ни одной моей фотографии, — заметила Валери.
— А зачем? Тебя я и так буду видеть круглый год. Впрочем, я давно их потерял, твои фотографии.
— Будь так добр разыскать их. Я посылала тебе мои фото три раза. Один раз в тысяча девятьсот четырнадцатом, второй — в тысяча девятьсот двадцать седьмом и третий — в прошлом году. Я не потерплю, чтобы мои фото болтались где-то в казармах.
Жосс взглянул ей в лицо, тут же отвел глаза и пожал плечами. Валери покраснела. Во взгляде брата она вновь прочитала все те мужские взгляды, которые отворачивались от нее на протяжении всей ее стародевичьей жизни, она вновь прочитала в нем неизменный ответ на иллюзии, которые все еще к ней возвращались. Пока он раскладывал сувениры и безделушки, она посмотрелась в одну из зеркальных створок шкафа и увидела там свое костлявое лицо. Возраст и седые волосы немного сглаживали его жесткое выражение, слегка смягчая то агрессивное, что всегда кроется в уродстве, но все-таки это лицо сохраняло свое неблагодарное мужеподобие.
Когда надо было садиться за стол, произошла резкая стычка. Валери, как обычно, накрыла в кухне, а Жосс пожелал обедать в столовой. Его подталкивало не чувство мещанского тщеславия, а давнишнее отвращение — и Валери оно было небезызвестно — к запахам кухни, раковины, мусорного ящика. На требование брата она ответила решительным отказом. И тут разразился громкий яростный спор, в ходе которого каждый стал подсчитывать, что именно он внес в общее хозяйство. Валери подчеркнула, что дом и некоторое количество ценных бумаг являются ее личной собственностью, так как она получила все это по наследству от одной из двоюродных бабушек, за которой ухаживала в течение тридцати лет. Кроме того, она ставила себе в заслугу свою роль хозяйки, свои музыкальные таланты — ведь она играла на пианино — и приятное общество, которое принимала у себя, общество, выбранное ею среди самых уважаемых людей. Со своей стороны, Жосс похвалялся тем, что отныне есть мужчина в доме, где она боялась жить одна, деньгами, которые он предоставляет в распоряжение сестры и которые позволят ей жить с большим комфортом, а потом недвусмысленно заявил, что ему плевать на ее музыкальные таланты и ее уважаемых людей. Так как она не уступала, он сказал, что пойдет обедать в ресторан и завтра же уедет. Валери пришлось согласиться накрыть на стол в столовой.
Жосс проснулся около семи часов, сейчас же встал и по привычке быстро оделся и побрился, словно очень спешил и ему надо было явиться во двор казармы к часу переклички. Перед тем как спуститься, он окинул взглядом улицу. По обоим тротуарам, направляясь в город, торопливо шагали приказчики и школьники. Из второго окна он увидел сверху, за стеной ограды, сад соседнего дома, где пока как будто ничто не шевелилось. Сойдя вниз, он никого не нашел и не смог открыть ни одной из двух входных дверей. Он уже собирался вылезти в окно, когда Валери в домашнем халате вошла в кухню.
— Интересно знать, как можно выйти из твоей халупы, — сказал он. — Ключа я не нашел нигде.
— А ты бы не мог поздороваться со мной?
— Здравствуй. Дай ключ.
— Тебе незачем иметь ключ.
Жосс и так был не в духе, потому что в это раннее утро ему уже недоставало казармы, и он ощущал себя как-то не у дел. Услыхав явно нелепое заявление сестры, он побелел. У нее хватило чутья в какой-то степени угадать охватившую его ярость, и, чтобы брат не успел взорваться, она вручила ему ключ. Пока он пил кофе, она показала ему из окна кухни на огород, тянувшийся за домом.
— Часть времени ты сможешь работать на огороде.
— Нет, — отрезал Жосс.
— Тебе будет скучно. Что же ты собираешься делать по целым дням?
— Наслаждаться своей отставкой, — мрачно ответил он.
Когда после завтрака брат собрался уходить, Валери, заинтригованная его торопливостью, его почти деловым видом, не удержалась и спросила, куда он идет, но получила уклончивый ответ, который только подстегнул ее любопытство. Жосс дошел по улице Аристида Бриана до городских ворот и направился по главной улице, не обращая внимания ни на внешний вид домов, ни на уличное движение, ни на суету хозяек, спешивших за покупками. Он шел быстро, с озабоченным видом, словно опаздывал на свиданье. Выйдя из города, он поколебался, какую из двух улиц выбрать, и пошел по улице Тьера, но, не уверенный в том, что выбрал правильно, убавил шаг и несколько раз чуть не поддался искушению повернуть обратно. Внезапно, уже перестав надеяться, Жосс оказался перед решетчатой оградой казармы. Это была покинутая кавалерийская казарма, где размещались теперь какие-то гражданские службы армии. И все же опустевший, голый и ровный двор давал возможность опытному глазу бывшего унтер-офицера различить легкие и волнующие изгибы участка, а при виде высоких синевато-голубых окон казарменного помещения и зеленоватых стекол манежа у него забилось сердце. Глядя на этот мир, который даже в своем запустении оставался для него образцом прекрасной полноценной жизни, он в своей поношенной гражданской одежде испытал острое чувство собственного упадка и не посмел остановиться на тротуаре, чтобы дольше созерцать все это. Он продолжал идти по улице, но вскоре повернул обратно и вошел в кафе, находившееся против бывшей кавалерийской казармы. Хозяйка, подав ему белого вина, попыталась было завязать разговор и, хотя не встретила ни поддержки, ни поощрения, стала жаловаться на значительные убытки, которые причинил ее заведению отъезд полка. Она с горечью отозвалась о социалистическом муниципалитете, ничего не сделавшем, чтобы удержать военных в городе.
— Эти люди не понимают, что город без полка — это все равно, что бедная вдова без надежды.
Когда она начала вспоминать о пышном прошлом своего кабачка, Жосс поднял на нее жесткий взгляд, который заставил ее замолчать и уйти за стойку. Сидя у окна, он мог спокойно насыщаться зрелищем казармы. Двор интересовал его больше, чем окружавшие его здания. Только истинный солдат может постичь красоту и бесконечное разнообразие казарменного двора. Пространство в нем обладает особым, неуловимым свойством, которое как бы дает представление об объеме военной дисциплины. Почти целый час Жосс открывал здесь все новые, тревожащие душу и вместе с тем такие знакомые приметы. И каждое из переживаемых им чувств находило в его собственных воспоминаниях какое-то продолжение или точную аналогию.
Около одиннадцати часов двое мужчин — сержант и человек в штатском — вышли из самого отдаленного здания и направились к решетчатой ограде. Штатский, который нес зонт, как саблю, явно был прежде военным. Вблизи покрой его одежды, то, как он поправлял галстук, и какая-то наивная манера носить черную фетровую шляпу уже не оставляли сомнений. Это немного утешило Жосса. Сначала появление этого субъекта, попирающего двор казармы, показалось ему профанацией. И все же, когда двое мужчин вошли в кафе, ему не пришло в голову ни познакомиться с ними, ни продолжить затем это знакомство. За время своей военной жизни он и всегда держался на расстоянии от других, был одинок, не имел друзей. Во всех войсковых частях, где он служил, он сумел вызвать ненависть солдат, проявляя безжалостную суровость, придирчивую заботу о порядке, о дисциплине. Равные ему по званию старались держаться от него в стороне, а старшие офицеры с трудом скрывали презрение к этому образцовому служаке, которого они считали тупым и лишенным малейшего человеколюбия. Сам он не любил никого.
Вернувшись домой, он застал сестру в страшном возбуждении, которое она не могла скрыть, как ни старалась сохранить на лице спокойствие. Утром, пользуясь отсутствием Жосса, она произвела разведку в его комнате и обнаружила коробку с презервативами, которые он, приличия ради, спрятал за стопкой белья. Именно что-нибудь в этом роде она и рассчитывала найти. Мысль, что ее брат мог поддерживать с женщинами подобные возмутительные отношения, преисполнила ее разнородными чувствами: яростью, отвращением, смесью ужаса, восхищения и лихорадочного любопытства. За вторым завтраком, пока он ел, почти не замечая ее присутствия, она украдкой поглядывала на него, раздражаясь и воспламеняясь при виде хладнокровной и циничной уверенности этого самца, который, конечно, мысленно смаковал сейчас похотливые воспоминания. Его спокойствие было просто вызывающим и, не удержавшись, она спросила так резко, что он подскочил на месте:
— Куда ты ходил сегодня утром?
У Жосса сделался растерянный, почти виноватый вид, и он уклончиво рассказал о прогулке по улицам города. Опасаясь выдать хоть одним словом свое паломничество к воротам казармы, он сбивался, путался и был похож на человека, боящегося выдать какой-то постыдный секрет. Валери вскочила и, наклонясь над столом, выкрикнула, задыхаясь:
— Ты ходил к женщине!
— Нет, — очень спокойно ответил Жосс, — я не ходил к женщине.
Неверный ход подозрений сестры успокоил его. Она стояла на своем. Он сказал:
— А хоть бы и так! Тебе-то что за дело?
— Мне? В городе меня знают. И мне вовсе не хочется слыть сестрой какого-то омерзительного субъекта.
Ответ Жосса поверг Валери в изумление.
— Не воображаешь ли ты, — сказал он невозмутимо, — что я собираюсь обходиться без женщин?
Жосс усвоил привычку три раза в неделю проводить утро в кафе напротив казармы. Странная робость мешала ему ходить туда ежедневно. К тому же он оберегал себя от какого-то сладостного и отнюдь не подобающего военному человеку волнения, которое охватывало его при виде этого кавалерийского участка, не отвечающего своему первоначальному назначению и такого же ненужного, как он сам. Однако в те дни, когда он не ходил к казарме, он все равно проводил утро вне дома, наполовину от нечего делать, наполовину ради удовольствия помучить сестру. Бродя по городу или за городом, равнодушный к людям и к природе, он повсюду носил с собой свою скуку, спокойную, послушную. После долгих странствий, бесцельных и не приносящих ничего неожиданного, он охотно возвращался домой, где его встречала неизменная враждебность Валери, ее неустанная злоба и инквизиторский взгляд. Глубокая взаимная неприязнь, столкновения и взрывы, ежеминутно возникавшие между ними, поддерживали в обоих состояние нервного напряжения, мучительного и в то же время подстегивающего, — состояние, в котором каждый из них испытывал потребность. Когда оскорбительной репликой или каким-нибудь нарушением привычек их совместной жизни он дразнил сестру, когда чувствовал на себе ее жесткий взгляд, в котором уже мелькали предгрозовые молнии, он вновь испытывал нечто вроде того удовлетворения, какое некогда доставляли ему лица солдат, искаженные ненавистью, вызванной его окриками и ядовитыми насмешками. И все же агрессивное отношение и подозрительность Валери, казалось ему, таили какую-то загадку, связанную со смертельно уязвленной женской сущностью, загадку, внушавшую ему страх и отвращение. И эти чувства были так сильны, что иногда, в разгаре ссоры, ему случалось внезапно уступить сестре и позволить ей одержать верх.
Дни тянулись медленно, скучно, и он бы не вынес этой скуки, если бы не испытывал удовлетворения при мысли, что раздражает и интригует Валери, поднимаясь к себе и запираясь под предлогом срочной работы, сущность которой держал в секрете. В действительности же он сидел в кресле, читая газету или просто ничего не делая. Но вот, убедившись однажды, что сестра подслушивает за дверью, он поднялся с кресла и ручкой перочинного ножа начал через равные промежутки времени стучать по столу, а после четверти часа этого занятия, требовавшего большого внимания, стал почти в таком же темпе скрежетать зубчиками своей расчески, проводя ею по выступу мраморного камина. Эти равномерно чередующиеся звуки были совершенно непонятны Валери, и, стоя за дверью, она кипела от досады и любопытства. С той поры Жосс терпеливо старался усовершенствовать все эти шумы, ежедневно вводя какое-нибудь новшество. Вскоре он и в самом деле усложнил свои упражнения — так, например, стучал по столу правой рукой, а левой в это самое время тряс сетку, наполненную купленными на базаре целлулоидными шариками, причем крупинка металла, находившаяся внутри каждого шарика, издавала глухой треск. В эти опыты он внес ту изобретательность, с какой некогда в казарме мучил своих солдат. Валери, вконец изнервничавшаяся, готовая лопнуть от сдерживаемой ярости, поняла, что должна начать контратаку. Она тоже стала проводить часть дня у себя в комнате, якобы занятая чем-то, но, будучи уверена, что брат не придет подслушивать за дверью, вынуждена была шуметь так сильно, чтобы он услышал ее через две перегородки. Некоторое время она не могла найти ничего такого, что бы ее удовлетворило, но в один прекрасный день ее осенила идея обзавестись точильным кругом. Чтобы не портить своих ножей, она точила о круг куски железа, вышедшие из употребления кастрюли, и добилась довольно значительных успехов. Услышав этот скрежет, Жосс в первую минуту пал духом, но быстро взял себя в руки. Уверенный в превосходстве своей работы над тяжелым трудом Валери, он продолжал свои комбинации негромких звукосочетаний и порой, когда точильный круг затихал, с радостью слышал за дверью легкий скрип паркета, выдававший присутствие Валери.
К вечеру Жосс выходил из комнаты, предварительно заперев ее на ключ и унося с собой объемистый пакет, в котором не было ничего, кроме бумаги, а, чтобы избавиться от него, шел в маленький лесок, расположенный метрах в двухстах за железнодорожным переездом. В самом конце улицы Аристида Бриана, недалеко от железнодорожного полотна, стояли домишки и лачуги, сооруженные из случайно добытого строительного материала. В этих краях Жосс часто встречал молоденькую брюнетку, худую, с волчьими глазами, — дочку испанских беженцев, которая дерзко ему улыбалась и даже пыталась с ним заговорить. Он не раз испытывал острое искушение, но его удерживал страх уронить достоинство своего военного прошлого с какой-то нищенкой в лохмотьях. Зато он разрешал себе посещать публичный дом на улице Блан-Бокен, где бывал каждую пятницу вечером, после обеда, считая этот еженедельный визит данью гигиене, а кроме того, обретая там обстановку и атмосферу, тесно связанную с его гарнизонными воспоминаниями.
Однажды в воскресенье, в конце февраля, примерно месяца через четыре после его приезда, с ночи шел снег, и утром Жосс читал газету в столовой, сидя у камина. В половине двенадцатого, как и каждое воскресенье, он услыхал, как сестра вернулась из церкви после обедни, как она открыла и закрыла за собой калитку. Когда он поднял голову от газеты, она уже прошла, и он увидел сквозь занавеси только плотную пелену падающих хлопьев снега, скрывавшую дома, что стояли на другой стороне улицы. Валери вошла через кухню и, остановившись прямо перед ним, сказала:
— Посмотри на меня!
Он посмотрел. Она стояла прямо, выпятив подбородок, и глаза ее сверкали из-под праздничной шляпки, украшенной белой птицей.
— Я знаю, где ты развратничаешь каждую пятницу по вечерам, грязная свинья! Мадам Жессико только что рассказала мне все, когда мы шли от обедни, и уж, конечно, сейчас об этом знает весь город!
— Ну и что? Кому это мешает?
Взбешенная спокойствием Жосса и уже совершенно выйдя из себя, она начала выкрикивать ругательства, называя его кобелем, мерзким самцом, похотливым развратником, смакуя каждое свое бранное слово. Раздраженный этими, как он считал, незаслуженными оскорблениями, Жосс встал и, скрывая возбуждение, пропел сестре первый куплет неприличной песенки, начинавшейся так: «Первую девку, с которой я спал, я за дверьми караульной прижал». Он пел громко, отчеканивая каждое слово, и голос его звучал как победный марш.
Валери, все еще в своем праздничном пальто, нервно расхохоталась и убежала в кухню, куда он последовал за ней, чтобы добить вторым куплетом: «Парень я хваткий, тянуть не люблю, девку я вмиг на тюфяк завалю…»
Забившись в угол, затравленная, она увидела, что он идет прямо на нее и, прикрывая руками живот, закричала: «Нет! Нет!» Озадаченный, немного смущенный, встревоженный, он повернулся к ней спиной и ушел обратно в столовую — ему показалось, что он взбаламутил какую-то грязь, таившуюся в сокровенных глубинах ее существа.
В следующую пятницу, после обеда, Жосс, не желая показать, что он спасовал перед сестрой, как обычно, пошел на улицу Блан-Бокен, но почти без всякой охоты: спектакль, разыгравшийся в воскресное утро, все еще не выходил у него из головы. На следующий день Валери ничего ему не сказала и выразила свое неодобрение лишь тем, что вообще перестала разговаривать с ним. Отныне его посещения публичного дома по пятницам сделались нерегулярными. Всякий раз, как Жосс приходил туда, он с неприятным чувством вспоминал о сестре, причем ему даже казалось, что она где-то близко, что она чуть ли не бродит по комнатам этого заведения, а однажды случилось так, что в нужный момент у него ничего не вышло. С середины апреля он окончательно перестал посещать дом.
Примерно в то же время, как-то утром, когда он сидел у окна маленького кафе и созерцал двор кавалерийской казармы, произошел случай, как будто не очень и важный, но оказавшийся для него чреватым последствиями. Каменщики, работавшие на стройке поблизости, пили за стойкой и громко шутили с хозяйкой. Раздраженный этим шумом, мешавшим его созерцательному раздумью, Жосс обернулся и бросил на них повелительный взгляд, как бы требуя тишины. И вот тут один из каменщиков, человек лет тридцати, отделился от группы, прошел через всю комнату и остановился прямо перед Жоссом. Он долго разглядывал его, словно барышник, покупающий лошадь, потом усмехнулся.
— Так это и впрямь ты, унтер Жосс! Ведь это из-за тебя, подлая тварь, я целый год промаялся в Эпинале! Стало быть, они вышвырнули тебя в отставку?
— Я запрещаю обращаться ко мне на ты!
— Запрещаешь? Хотел бы я знать, как и чем ты можешь мне что-нибудь запретить? Своим толстым коровьим языком? Теперь уж тебе не засадить меня в тюрьму, с этим покончено. И если мне вздумается плюнуть тебе в рожу — а ты того заслужил, продажная тварь, — так это только наше с тобой дело. Ты не можешь отправить меня в крепость, как отправил моих приятелей Равлена и Мино. Может, они еще и сейчас мучаются на Олероне или на тунисском юге. Ты еще не забыл Равлена и Мино, падаль ты этакая? Отвечай, не забыл? Я хочу, чтобы ты сказал мне прямо!
Остальные каменщики подошли ближе И, быстро смекнув, в чем дело, злобно смотрели на бывшего унтер-офицера. Жосс поднялся, чтобы дать отпор. Он пожалел, что не захватил револьвер, и решил принести его на следующий же день, чтобы проучить смутьяна. Но тут вмешалась хозяйка, умоляя зачинщика ссоры не трогать ее клиентов. Тот как будто затих, и на том дело бы кончилось, если б как раз в эту минуту в кафе не вошли два младших офицера, которые возвращались из бывшей кавалерийской казармы. Они спросили о причине скандала, каменщик снова воспылал злобой и, кивком головы указав на своего врага, внезапно, словно по наитию, произнес самые подходящие слова, чтобы унизить его в присутствии двух военных:
— Мой бывший ундер, — сказал он. — Теперь, когда его вышибли из седла, он приходит сюда полюбоваться казармой в надежде попробовать еще разок.
Встретив смущенный взгляд двух военных, Жосс покраснел и почувствовал себя голым. Он решил, что никогда больше не войдет в маленькое кафе, никогда не будет бродить около казармы. Этот эпизод привел его в угнетенное состояние. Впервые он ощутил, насколько возврат к гражданской жизни, лишив преимуществ звания и всесильного покровительства армии, сделал его уязвимым перед лицом внешнего мира и насколько это умаляло его престиж. Подчиненный иерархии мир, в котором более тридцати лет он находил поддержку при любых обстоятельствах, этот мир был теперь для него закрыт, и он понял, что не имеет никакой власти над странной и хаотической стихией, куда его забросило увольнение в отставку.
Лишившись вылазок в окрестности казармы и в публичный дом, Жосс потерял всякую охоту выходить из дому куда бы то ни было. Прогулки его стали более короткими, менее частыми и менее регулярными. На городских улицах и за городом — везде он чувствовал себя чужим для всех и для самого себя и, спеша вернуться домой, иногда ловил себя на том, что бежит бегом. Дома и только дома он вновь обретал себя, вступал во владение своим «я» и наслаждался возможностью жить взаперти, в атмосфере злобы и безопасности. Впрочем, он был несколько обеспокоен тем, что после нескольких месяцев пребывания у сестры словно бы пустил здесь корни и, зная ее тайное желание одержать над ним верх и подчинить себе, делал иногда слабые попытки распрощаться с ней, но попытки эти ограничивались словами, и Валери уже не принимала всерьез его угрозы уехать. Чувствуя, что жертва созревает, она искусно расшатывала его волю, ухитрялась создать ему дома наибольший комфорт и в то же время обостряла разногласия, придающие остроту совместной жизни. Она уже предвидела момент, когда брат, одинокий, опутанный сетью привычки и неспособный создать себе иное существование, вне стен этого дома, окажется в полной ее власти и она пригрозит выгнать его, мягко уклоняясь от любых пререканий. Она заранее обдумала свои слова, свои интонации, слышала, как ласково говорит ему: «Мой дорогой, у меня трудный характер. Возможно, он не всегда дает мне возможность выразить мою истинную нежность к тебе, и я подумываю, не лучше ли будет, как в твоих интересах, так и в моих, если ты переедешь жить под другую крышу». В душе она лелеяла мечту заставить его с утра до вечера работать в саду.
Постепенно Жосс усвоил привычку поздно вставать — не потому, что он обленился, а просто чтобы отдалить минуту выхода на улицу. Как-то утром, в первых числах мая, часов около восьми, он открыл ставни и за оградой, в залитом солнцем соседском саду, увидел ребенка, который улыбался ему. Это был двухлетний мальчик Ивон, которого он много раз видел и прежде, но как-то не замечал. Валери уже давно поссорилась с этой семьей, презирая всех ее членов за социалистические взгляды отца — человека тридцати пяти лет, агента страхового общества. Стоя посреди аллеи, ребенок смотрел на Жосса с растрогавшей его доверчивой улыбкой, и он улыбнулся ему в ответ. Он отошел от окна, потом вернулся снова, и Ивон, который, видимо, ждал его возвращения, засмеялся, размахивая руками. Всякий раз, как Жосс отходил от окна, а потом подходил опять, мальчик встречал его появление с той же радостью, с тем же смехом. Жосс охотно принял участие в этой игре, и она почти беспрерывно продолжалась до тех пор, пока он не спустился в столовую к утреннему завтраку. Здесь у него произошел с Валери яростный спор по поводу давно умершего деда: сестра утверждала, что тот всегда носил усы кончиками вниз, а брат твердо помнил, что завитые кончики дедовых усов торчали кверху чуть не до самых глаз. Это оказалось для них удобным случаем обвинить друг друга в недобросовестности, в лицемерии, в эгоизме, в ревности и во всех остальных смертных грехах. Полный гнева, Жосс ни разу не вспомнил о мальчике за все утро.
В полдень, поднявшись к себе, чтобы, как обычно, заняться своими шумовыми упражнениями, он сначала подошел к окну. Мальчуган неверными шажками шел по аллее, повернувшись к нему спиной, и спотыкался о камушки, которые перекатывались у него под ногами. Неуклюжая, как у щенка, походка малыша позабавила Жосса, и, глядя на него, он забыл о своей размолвке с сестрой. Заметив, что ребенок пошатнулся, он затаил дыхание и сделал невольное движение, словно желая его поддержать, но мальчик удержался на ногах и, обернувшись, выразил жестами и улыбками свою радость при виде Жосса, вновь появившегося в окне. Так они обменивались улыбками с четверть часа, но вдруг Жосс спохватился, решив, что теряет время на глупости. Он отошел к ящику, ключ которого всегда держал при себе, и вынул оттуда сетку с целлулоидными шариками. Усевшись за стол, он ручкой перочинного ножа трижды постучал по столу, и в это самое время левой рукой секунд пятнадцать гремел своими шариками. Потом снова трижды постучал по столу. Однако в этот день работа занимала его меньше обычного и он предавался ей не с таким усердием. Несколько раз он бросал ножик, шарики и подходил к окну, чтобы заглянуть в соседский сад. Он как раз стоял там, когда Валери у себя в комнате начала обтачивать свои железки. Она ухитрялась извлекать при этом разнообразные и любопытные звуки, которые в целом не лишены были некоторой музыкальности. Жосс, наблюдавший за шалостями маленького соседа, не отошел от окна, и у него мелькнула мысль, что его собственные дневные упражнения так же бессмысленны, как и упражнения сестры.
Лишь недели через две Валери убедилась, что в поведении, и даже в характере брата произошла явная перемена. До этого ей уже случалось замечать в нем какую-то беспечность, незнакомую ей прежде, а также отсутствие агрессивности и относительное равнодушие во время возникавших между ними ссор, которые прежде неминуемо вызвали бы у него бурный взрыв. Но поскольку эти понижения тонуса в достаточной мере возмещались мрачным настроением и приступами ярости, она не обратила на это особого внимания. И вдруг ей стало ясно, что брат находится на пути к какой-то безмятежности, к какой-то затаенной радости, наводящей на мысль о чудесно обретенной молодости. Правда, это не мешало ему постоянно носить маску суровости, не мешало все свои короткие фразы выкрикивать отрывистым, звучащим как собачий лай голосом, но он все реже выходил из себя, и в большинстве случаев противопоставлял умелым подстрекательствам сестры какой-то отсутствующий вид, а иногда даже миролюбиво, доброжелательно отвечал ей. Порой случалось, что без всякой видимой причины улыбка вдруг освещала, насколько это было возможно, его хмурое замкнутое лицо. Даже холодный взгляд его маленьких светло-серых глаз казался теперь смягченным дымкой какой-то мечтательной задумчивости. Снедаемая досадой, гневом, ревностью, любопытством, чувствуя, что брат ускользает от нее, Валери, с обостренным вниманием следившая за этим все более заметным перерождением, уже не сомневалась, что у него новая женщина и что большая любовь вошла в его жизнь.
Жосс жил теперь у окна своей комнаты, и в жизнь его действительно вошла большая любовь. Почти постоянное общение установилось между ним и ребенком, который, видимо, действительно нуждался в его присутствии. С утра и до вечера Жосс не уставал любоваться играми мальчугана, удивлялся его позам, его лепету, восхищался и умилялся. Иногда, желая лучше его рассмотреть, он брал бинокль и, полуприкрыв створки, чтобы скрыться от глаз родителей, с наслаждением разглядывал личико ребенка, его гримаски, чувствуя себя покровителем всей этой хрупкой прелести. Он уже знал привычки ребенка, знал, в какой комнате он спит, когда встает, когда ложится, когда ест. В дождливые дни в сад не выходили, и Жосс сторожил за занавесками, чтобы хоть на минуту увидеть его на крыльце или у открытого окна. Сам он переменил часы прогулок, сообразуясь с часами отдыха малыша после второго завтрака. Но и в эти часы он тоже был счастлив, чувствуя себя во власти каких-то неясных чар, рассеивавшихся по мере того, как приближалось время снова увидеть ребенка. Он повторял про себя слова, которые, коверкая их, уже начал произносить Ивон, и от восхищения, от нежности, внезапно смеялся вслух. Как-то раз, когда он прогуливался по городу, впереди шла крестьянка с трехлетней девочкой, и та, ускользнув на секунду от материнского глаза, оказалась посреди дороги между двумя машинами, ехавшими навстречу друг другу. Жосс схватил девочку на руки, отнес матери и разговорился с женщиной. Речь пошла о детях вообще, и вдруг, хоть никто его не спрашивал, он заявил:
— Мой немного помладше вашей дочки. Ему только что исполнилось два. Это мальчик. Его зовут Ивон.
Он тут же покраснел и раскаялся в своих словах, потому что терпеть не мог никчемную ложь. Однако, поразмыслив, решил, что, утвердив себя в правах отцовства, он был не так уж далек от истины, и с радостью подумал, что его слова могут быть оправданы глубоким чувством к ребенку, которое и заставило его их произнести.
Валери была бессильна помешать перемене в характере брата. Его явно счастливое состояние духа и благодушие по отношению к ней самой сводили на нет все ее неистовство, все ухищрения. Сбитая с толку, потеряв всякую надежду удовлетворить свою жажду власти, она испытывала такое чувство, словно была женой, над которой открыто издевались, — с той разницей, что ей не хватало возможности предъявить законные права и приходилось молча проглатывать свою ярость. Как-то вечером Жосс спустился в столовую с почти сияющим лицом, мурлыкая песенку, чего, насколько было известно сестре, с ним никогда не случалось прежде. Она была так потрясена, словно этой тихой песенкой он нагло бросил ей в лицо свою радость и любовь.
— Чего ради ты так распелся? Из-за женщины, да? Вечные истории с женщинами! Вечно эти непристойные песни! Вечное свинство!
Она столько раз повторила это «свинство», что у нее сорвался голос. Жосс мягко пожурил сестру, братским тоном уверяя, что ее гневные слова ничем не оправданы, ибо он очень далек от непристойных мыслей.
— Уверяю тебя, что у меня в голове совсем другое, а не эти глупости. Что до женщин…
Он тихо рассмеялся, как бы показывая, что у него есть более важные заботы. Валери неправильно истолковала его смех и, выведенная из себя этим благодушием, подошла к нему совсем близко, почти вплотную, крича, что он лжец и лицемер. Жоссу показалось, что сейчас она укусит его или даст пощечину, но внезапно она расплакалась, бросилась ему на шею и прерывающимся от рыданий голосом назвала его своим дорогим-дорогим братцем. В исступлении, всхлипывая, она с поразительной силой обхватила его обеими руками, притиснулась лицом к его лицу и, судорожно изгибаясь, прижалась к нему всем телом, яростно царапая ему спину. Почувствовав омерзение к этой тошнотворной близости, Жосс каблуками придавил ей пальцы на ногах и, высвободив правую руку, ударил кулаком в челюсть. Как будто даже не заметив этого, она не разжала своих объятий, и ему пришлось несколько раз ударить ее кулаком и коленом, пока наконец с окровавленным лицом она не упала на пол.
Валери не могла простить брату, что ему довелось увидеть ее в таком возбуждении. И вообще их совместная жизнь осложнилась каким-то обоюдным чувством стыда, возникавшим при воспоминании об этой тягостной сцене. Встречаясь за обеденным столом, они хранили почти полное молчание, избегая даже смотреть друг на друга. Что до Жосса, то, несмотря ни на что, инцидент оказал на него не такое уж сильное воздействие и не изменил его существования в том, что сейчас было для него основным. Он жил теперь только соседским ребенком, время его проходило лишь в улыбках, которыми он обменивался с мальчиком, и в созерцании. Даже за столом, когда единственной его мыслью оставалась мысль об Ивоне, он был все так же счастлив и только радовался, что эти молчаливые трапезы позволяли ему предаваться сладостным мечтаниям.
Так прошло два года, в течение которых брат и сестра были почти чужими друг для друга — по крайней мере внешне, ибо если молчание Жосса служило лишь признаком равнодушия, то с Валери дело обстояло иначе: ее ненависть и жажда мести еще усиливались во время этих безмолвных свиданий с глазу на глаз. Она могла бы выгнать его из своего дома, и такое желание у нее было, но, не говоря о материальных преимуществах, которые ей обеспечивала совместная жизнь, она все еще надеялась когда-нибудь восторжествовать над ним, унизить, благодаря какому-нибудь новому событию. А вернее сказать, она ожидала разрыва между Жоссом и заполонившей его женщиной, разрыва, который, по ее предположениям, должен был произойти рано или поздно. Валери хотелось бы увидеть эту тварь. Она воображала ее роскошной красавицей, обладающей всем тем роковым обаянием, какое соединяют в себе звезда экрана, уличная девка и какая-нибудь похотливо извивающаяся жительница Востока. Однако он хранил молчание о предмете своей страсти, и она могла только рисовать себе образ этой женщины, не в силах предпринять что-либо, могущее приблизить срок столь желанного ею разрыва. Ей приходилось довольствоваться тем, что она вредила брату, сажая жирные пятна на его одежду, на галстуки, портя пемзой его пиджаки и нарочно гладя раскаленным утюгом воротнички и манжеты его рубашек, чтобы они пожелтели. Иногда она целый день возилась с его кальсонами, рвала их, а потом штопала нитками другого цвета. И постепенно внешний облик Жосса, который прежде тщательно следил за собой, в самом деле сильно изменился. Валери действовала с рассчитанной медлительностью, и вот из-за потертых, засаленных костюмов, плохо выстиранного белья, потерявших форму ботинок (она портила их точильным камнем), он, сам того не замечая, утратил вкус к чистоте, к аккуратности. Дошло до того, что он брился уже только раз в три-четыре дня и так мало занимался своим утренним туалетом, что едва ополаскивал лицо. У него был теперь просто неопрятный вид, и от него дурно пахло. Удивляясь, тревожась, Валери не понимала, каким образом он может еще нравиться красивой женщине, но с удовлетворением наблюдала эти первые шаги на пути к упадку, которые являлись делом ее рук и началом ее отмщения.
Между тем Жосс и не подозревал о терзаниях сестры и ничего не делал — во всяком случае умышленно, — чтобы их усилить. Оценив прелесть своих новых занятий, он даже строго осуждал себя за прежние старания производить разнообразный шум. Однако от первых месяцев, прожитых вместе с Валери, у него осталась привычка скрывать важнейшие свои дела. Он старался вести себя так, чтобы сестра не могла догадаться о его привязанности к ребенку соседей, так как, с одной стороны, он считал, что она недостойна прикоснуться к такому прекрасному чувству, а с другой — опасался, что она помешает этой дружбе, как только проникнет в его тайну. Преобразившись, перенесясь в какой-то зачарованный мир, Жосс наблюдал, как растет мальчик, и ему казалось, что он и сам растет вместе с ним, что его настоящая жизнь началась лишь в тот день, когда он познал радость любви. Внимательнее, чем родители, он следил, как все больше развивается Ивон, как расширяется его ум, и хранил ясное воспоминание о всех пройденных мальчиком этапах. Он купил фотоаппарат и ежедневно фотографировал Ивона, когда находил удобную минуту, а негативы отдавал проявлять в административный центр департамента, так как боялся, как бы родители или Валери не обнаружили случайно его интерес к ребенку. Почти каждую неделю он получал из фотографии объемистое заказное письмо, на конверте которого были напечатаны название фирмы и адрес отправителя. Почтальону было приказано вручать письма в собственные руки адресата и даже никому их не показывать, так что все попытки Валери взглянуть на них терпели поражение. Эти еженедельные послания, источник которых был ей совершенно непонятен, отравляли ночи старой девы. Неоднократно, пользуясь отсутствием Жосса — а его прогулки делались все короче, — она безуспешно пыталась открыть замки его сундучков, надеясь найти там эти заказные письма.
Фотографии, по большей части посредственные, были сняты с чересчур далекого расстояния и в неудачном ракурсе, но для Жосса каждая из них, даже расплывчатая, даже испорченная, представляла известный интерес, потому что была связана с каким-то воспоминанием, которое она закрепляла и уточняла в его памяти. Он вставлял их в альбомы, делал надписи, помечал даты, снабжал пояснениями или рассказом, относившимся к тому дню, когда они были сняты. «25 июня. Он побежал, споткнулся, оцарапал коленку, заплакал, пришла служанка. Я крикнул ей: «Смажьте йодом». Она поняла. Когда мальчик вернулся в сад, он уже не плакал и не хромал. А я было испугался». Эти альбомы помогали ему коротать дождливые или зимние дни, когда он видел ребенка только мельком. Некоторые фотографии были удачнее, и он отдавал увеличить их. Иногда по вечерам, запершись у себя в комнате, закрыв ставни, он позволял себе маленькое пиршество. Выдвинув кровать на середину комнаты — причем как-то раз Валери, подслушивавшая за дверью, не могла удержаться и крикнула: «Да что это ты там делаешь?», на что он ответил: «Не суйся не в свое дело», — итак, выдвинув кровать, чтобы иметь возможность двигаться свободно вдоль стен, он снимал портрет маршала Фоша и другие военные сувениры (большая часть которых была в конце концов погребена в сундучке) и повсюду развешивал фотографии Ивона и его увеличенные портреты всех размеров. Он допоздна разгуливал по комнате, останавливаясь перед множеством фотографий, вполголоса выражая свою радость, свой восторг, а иногда даже громко хохотал, над какой-нибудь позой или выражением лица ребенка, вновь встававшими перед ним. Что до Валери, которая подслушивала на площадке лестницы, то она выходила из себя, не понимая причины этого бурного веселья.
Однако с течением времени безоблачное счастье Жосса омрачилось некоторыми огорчениями. По мере того как ребенок делался старше, он стал более сдержанным, словно поняв разницу между своим возрастом и возрастом Жосса и признав в нем взрослого. Дружбе их как будто ничего не угрожало, но Ивон стал более скуп на улыбки и больше интересовался теперь собой и играми, которые придумывал. Присутствие Жосса было ему приятно, но он уже не с таким нетерпением ожидал, когда тот появится в окне. Его сдержанность сделалась еще более заметной, когда другие дети стали приходить в сад его родителей играть с ним. В те дни, когда с ним были его одногодки, он не улыбался Жоссу, смотрел на него лишь изредка, украдкой, и на лице его отражалось нетерпение, словно он чувствовал себя скомпрометированным в глазах товарищей столь странной дружбой. У Жосса сжималось сердце, и он некстати улыбался еще чаще, не понимая, что мальчика это раздражает. Ему искренне хотелось радоваться тому, что Ивону весело с этими товарищами, но в иные минуты он поддавался чувству ревности, досады и подумывал, что неплохо было бы засадить их в тюрьму денька на четыре.
В одно октябрьское утро, когда мальчик в первый раз отправился в школу, у Жосса защемило сердце, и внезапно из глаз у него хлынули слезы. В его жизни это событие оказалось не менее важным, чем в жизни ребенка. Теперь в дни школьных занятий Жосс взял за правило уходить из дому в семь часов утра и бродил по городу с единственной целью встретить мальчика, когда тот пойдет в школу. Он ждал этих утренних встреч с мучительным нетерпением, потому что поведение мальчика, всякий раз неожиданное, являлось для него потом предметом бесконечных размышлений. В конце концов он заметил, что Ивон не скупится на улыбки лишь тогда, когда бывает один. Если же с ним шли товарищи, он только снимал шапку с холодным, почти жестким взглядом, а порой даже притворялся, будто не заметил его. У Жосса были слишком бесхитростные, слишком наивные представления о детстве, чтобы он мог предположить, что Ивон стыдится перед товарищами этой дружбы. Еще менее он подозревал, что не только его возраст, но и неопрятная поношенная одежда, придающая ему вид бедняка, настраивают против него выросшего в зажиточной семье пятилетнего ребенка, который, разумеется, презирал внешние признаки нищеты и питал к ним отвращение. Таким образом, расчеты Валери, старавшейся портить и пачкать костюмы брата, чтобы сделать его менее привлекательным, в конце концов оказались верными. С тех пор, как соседский мальчик пошел в школу, она стала замечать, что у Жосса часто меняется настроение, что иногда он кажется хмурым, и она, не показывая из осторожности виду, радовалась, надеясь, что «той твари» надоело, что конец ее владычества близок и скоро начнется ее собственное. Однако она была вынуждена признать, что у него бывают еще и хорошие дни. И самым значительным, самым тревожным был тот факт, что он продолжал регулярно получать заказные письма.
Однажды, из-за оплошности брата, к ней в руки попал пустой конверт, на котором были напечатаны фамилия и адрес фотографа. Несколько дней спустя, под предлогом какого-то приглашения, она села на поезд, поехала в административный центр департамента, явилась к фотографу и попросила выдать ей фотографии для господина Жосса. Фотографии были готовы, и ей отдали их без всяких возражений. На улице она взглянула на них и с изумлением, с яростью решила, что у брата есть от «той твари» сын, рождение которого он держит втайне. Фотографии были расплывчатые, сняты сверху, и трудно было различить черты лица ребенка, а с первого взгляда даже пол его казался неясным. Валери уселась на скамейку в городском саду, чтобы как следует их рассмотреть. На одном из снимков она наконец узнала дом соседей, отчетливо видный на заднем плане, на фоне темных деревьев, и поняла, кто этот мальчик. Подобное открытие, дававшее место для множества догадок и прежде всего для догадки о связи Жосса с женой страхового агента, озадачило ее, ибо ни одна из них не казалась правдоподобной. Вечером, когда брат пришел в столовую обедать, она протянула ему конверт и небрежно сказала:
— Там, в городе, я видела Одрио, фотографа, и он сказал, что у него есть для тебя фотографии. Я привезла их тебе.
Удивленный, встревоженный, он покраснел, как преступник, и решил, что должен объясниться, рассказать о своей привязанности к соседскому ребенку.
— Трудно вообразить, — сказал он с глуповатым смехом, — до чего мил, до чего приятен этот малыш. Настоящий ангелочек!
По улыбке сестры он понял, что выдал свою тайну и опошлил ее.
Узнав об истинной сущности этой великой страсти, которую она представляла себе совсем иной, Валери была и довольна, и разочарована. Жосс потерял в ее глазах тот престиж, каким она его наделила, воображая, что он предается разврату в объятиях дурной женщины. Она увидела в его сентиментальности признак старческого маразма и решила, что он созрел для лопаты и граблей. На другой же день после поездки в город она, хоть это ей было нелегко, попыталась вновь завязать отношения с соседями и пошла поговорить с хозяином дома о том, что хочет застраховаться на случай пожара в обществе, где он работает. Агент встретил ее с холодком, но так как она сказала, что хочет также застраховать жизнь в пользу брата, он быстро оттаял, и разговор стал более сердечным. Посетив дом еще несколько раз, она проявила тонкость ума, на какую, как правило, не была способна, и сумела понравиться всей семье.
Как-то в полдень, в конце апреля, Жосс стоял у окна своей комнаты и вдруг увидел собственную сестру, которая вышла из дома соседей и стала прогуливаться по их саду вместе с женой агента и с Ивоном. Пройдя несколько шагов, Валери, державшая Ивона за руку, приподняла его и, говоря что-то, со смехом показала пальцем на окно, в котором виднелась фигура Жосса. Мать подняла голову и посмотрела туда же. Жосс отпрянул с такой быстротой, словно боялся, что его обрызгают грязью, ноги у него подкосились, и он повалился на кровать. Появление в этом саду Валери, ее фамильярность с Ивоном — все это таило в себе что-то бесстыдное, но, главное, он уже предвидел осквернение его близости с мальчиком, умышленное, коварно рассчитанное осквернение. Жосс никогда не разговаривал с Ивоном, между ними было лишь безмолвное общение. В их дружбе был привкус тайны, в котором, возможно, и состояла для мальчика ее истинная ценность, ее хрупкое очарование. Жосс долго сидел на кровати, вновь и вновь мучительно перебирая в уме случившееся, не смея подойти к окну из страха поймать во взгляде Ивона упрек, презрение, а быть может, уже и равнодушие. Часов около шести он услышал, как Валери открывает калитку, обходит дом, потом поднимается по лестнице, собираясь войти к себе и переодеться. Когда она оказалась на площадке, он открыл свою дверь и крикнул:
— Зачем это тебе понадобилось слоняться по соседскому саду?
— Не понимаю, почему ты сердишься, — ответила она тоном веселого упрека. — У меня часто бывают дела с соседями по поводу страхования моего дома. Они очень милые люди, а их маленький Ивон просто очарователен. Это хорошо воспитанный, а главное, очень ласковый ребенок.
Жосс позеленел, а Валери, сделав паузу, добавила с умилением:
— Он очень любит меня, этот чудесный малыш.
— Врешь! Никто не может тебя любить! Никто!
Жосс был так взволнован, что не заметил, как подействовали на сестру его слова, — он считал, что эта истина очевидна и неоспорима. Теперь и Валери изменилась в лице. Ее щеки, а в особенности длинный костистый нос побледнели как полотно, и сталь маленьких глазок тоже побледнела. Она сдержала проклятия, распиравшие ей грудь, — они могли лишь ослабить ее позицию по отношению к брату. Каким-то чудом она все-таки сумела заставить себя улыбнуться и мягким голосом проговорила:
— Забавно, что он сразу принял меня как родную, был так нежен, так доверчив. Ему все время хотелось обнимать меня, сидеть у меня на коленях. А родители сейчас сказали, что когда я долго не прихожу, он постоянно требует свою «милую тетю Валери».
— Гадина, — пробормотал Жосс, — ну и гадина!
На лбу у него выступил пот, руки дрожали, он испугался самого себя и, продолжая что-то бормотать, начал шаг за шагом отступать от сестры, а та вошла в его комнату вслед за ним. Несмотря на все усилия, она не могла больше притворяться спокойной. Торопясь причинить ему боль и радуясь возможности удовлетворить свою ненависть, она искаженным голосом проговорила:
— Сегодня я была огорчена за тебя. Он сказал мне, что терпеть тебя не может, что ты грязнуха, что у тебя злое лицо, и он просит, чтобы ты больше не торчал у окна.
Пройдя мимо брата, она как раз подошла к окну и посмотрела в соседский сад, где играл мальчик. Приторно сладким голосом она окликнула его и стала медленно махать ему рукой.
— В жизни не видела такого очаровательного ребенка! — сказала она, поворачиваясь к Жоссу.
И вдруг дико вскрикнула. С револьвером в руке Жосс стоял между кроватью и зеркальным шкафом. Вид у него был не раздраженный, и он смотрел на нее так спокойно, что она немного приободрилась. Она хотела было подойти к нему, чтобы предупредить роковую вспышку, но, подняв револьвер, он начал стрелять и всадил ей в бедро четыре пули. Встревоженные револьверными выстрелами и воплями Валери, соседи засуетились. Ожидая их прихода, Жосс сел на кровать и, глядя на свою жертву, рухнувшую на пол у окна, с удовольствием подумал, что она останется калекой и, сверх того, после этой истории репутация ее будет запятнана.
В полицейском участке он заявил, что хотел убить сестру, чтобы обокрасть ее. Ему казалось, что этим он сыграет с Валери ловкую шутку и все жители города начнут презирать ее, когда узнают, что ее брат — убийца и вор. Как только он вышел, комиссар, допрашивавший его, сказал бригадиру:
— И все-то он врет! На самом деле он просто не выдержал — видно, старая карга довела его и стерпеть было уже невозможно. Тот же случай, что и у всех этих славных парней, которые в конце концов убивают своих жен.
В камере Жосс с удовлетворением думал о годах каторги, которые его ожидали. Ему казалось, что он возвращается в тот исполненный смысла мир, где иерархии и инструкции станут управлять его совестью и разумом и защитят от чувствительных приключений.
«Назад»
Их было пятеро — пятеро сынков парижских миллиардеров, и хоть франки у папаш были бумажные, все-таки это были настоящие миллиардеры, мульти, с капиталовложениями даже за границей, — словом, пятеро сынков из хороших семей, счастливых обладателей авто и девиц в мехах; с ними был еще и шестой, не из хорошей семьи, сын мелкого служащего префектуры Сены, человека плохо оплачиваемого, с плохим характером, плохо воспитанного. Пятеро познакомились с шестым в одном из литературных кафе Сен-Жерменского предместья и поддались его уговорам основать ежемесячный журнал «Назад». Само собой разумеется, пятерка дала деньги, шестой дал идею. Сынки миллиардеров были неплохие ребята, порядочные, бесхитростные, любители посмеяться, а иногда немного и поработать, и хотя звезд с неба они не хватали, но не лишены были чувства юмора. Имена их знать не обязательно. Однако сына мелкого служащего, того, у которого не было за душой и ломаного гроша, я вам назову. Этого звали Мартен, ему было двадцать три года, он был лиценциатом словесности и, несмотря на все отцовские увещевания, не желал стать ни учителем, ни чиновником в каком-нибудь министерстве — словом, не выбрал ничего такого, что могло бы составить гордость родителей, людей скромных и достойных. Отличный говорун, обладавший к тому же большой легкостью пера, Мартен был человеком извращенного ума и нередко смеялся каким-то сухим смешком, от которого по спине у вас пробегал озноб.
О первом и единственном номере журнала «Назад» вы можете получить понятие, хотя бы прочитав заголовки. Передовица, написанная Мартеном, носила название «Хватит революционного недержания!». Остальные статьи, из коих каждая была подписана одним из богатых сынков, назывались так: «Пусть бедняки выкручиваются сами!», «Давайте любить богачей!», «Надо поставить массы на место!», «Народ глуп!». И последняя: «Крупный капитал, мы за тебя!»
Если пятеро миллиардерских сынков с легкостью позволили уговорить себя основать журнал, следует в их оправдание сказать, что они не сразу согласились принять его дух. Они долго спорили, несколько раз передумывали, отступали и после двухнедельных переговоров были почти готовы отказаться от намерения издавать журнал. Однако Мартен был тверд, чертовски тверд. С каким-то дьявольским коварством он стал говорить им о дерзости мысли, о нонконформизме, о свободе, об истине, о честности, повторяя слова, которые некогда причинили немало зла и могли бы еще и сейчас вызвать бурю среди молодежи, если бы не были приняты меры предосторожности. «Наш долг, — говорил он, — выполнить нашу миссию, то есть освободить умы и облегчить совесть людей». В конце концов бедные юнцы сдались на его доводы и, что еще хуже, приняли его взгляды за свои собственные.
На третий день после выхода в свет журнала «Назад» господин X…, всем известный миллиардер, вызвал сына к себе в кабинет. Журнал лежал у него на столе на видном месте. Он встретил юношу весьма сурово, хотя втайне не мог не умилиться, глядя на его красивое лицо и элегантный костюм. Предложив ему сесть, он ударил ладонью по вещественному доказательству и произнес ледяным тоном:
— Я не спрашиваю, известно ли тебе это дерьмо, поскольку твое имя, которое является также моим, и прежде всего моим, красуется здесь без всяких изменений. Хочу думать, что ты согрешил по легкомыслию или по недомыслию. Но как ты, юноша воспитанный, неглупый, образованный, юноша, который любит комфорт и имеет возможность жить с комфортом — ибо ты богат, очень богат, ты сын миллиардера! — как мог ты без краски стыда написать статью, одно заглавие которой — «Крупный капитал, мы за тебя!» — уже само по себе звучит как вызов? И если бы только заглавие! Но ведь и все ее содержание — верх бесстыдства. Да вот, читаю первые попавшиеся строчки: «Мы больше не хотим притворяться перед пролетариатом, будто испытываем к нему любовь, которой не чувствуем…» И далее: «Пусть социалисты изо всех сил стараются изобразить бедняков еще более бедными, чем на самом деле, пусть их, раз это доставляет им удовольствие! Но чего мы не в силах долее терпеть — это что они мешают богачам с чистой совестью наслаждаться своими деньгами и заставляют их испускать братские вздохи…» И еще: «Покончим с революцией, которая служит только алиби — алиби для хитрецов, для мерзавцев, для всяких сукиных…»
Отец закрыл журнал и стукнул по нему кулаком:
— Ты что, голову потерял? Разве о таких вещах говорят вслух?
— Я не отказываюсь ни от одной фразы, которую написал, — заявил сын.
— Ни от одной! А я — я требую, чтобы ты отказался от всех и притом во весь голос. Мне надо иметь возможность сказать как нашим друзьям из крайней левой, так и нашим друзьям в правительстве, что это была шутка и что ты по-прежнему всей душой за народ.
— Никогда!
Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Взгляд отца был мрачен и полон угрозы. Внезапно сын вскочил с кресла и, выпятив грудь, громко крикнул:
— Долой Арагона!
Услыхав это, бедный миллиардер побледнел как полотно.
— Негодный мальчишка! — произнес он дрожащим голосом. — Негодный мальчишка, тебе мало, что ты пишешь какие-то гнусности, тебе надо еще говорить гадости в лицо отцу! Тому, кто никогда и ни в чем тебе не отказывал, кто ежемесячно дает тебе шестьсот тысяч франков карманных денег, кто совсем недавно купил тебе «крайслера» ко дню рождения. Негодный мальчишка! Скажи, разве я когда-нибудь мешал тебе заниматься литературой? Напротив! У меня широкие взгляды, и вообще есть немало приличных людей, которые пишут. Ты мог бы взять пример с них. Подумать только, ведь сын Ревейо-Пишона… ну, тех Ревейо, что из фирмы «Продукты питания. Шампанское», ведь его сын только что выпустил книгу стихов, прославляющих рабочий класс, книгу, о которой заговорили все самые передовые газеты. Как, должно быть, горды и счастливы родители! Послушай, сынок, одумайся, поразмысли. Ведь так легко воспылать душой, проявить возвышенные чувства! И, поверь, это не только легко, но всегда окупается, всегда. Да, в сущности, о чем я тебя прошу? Быть за народ, как все, быть революционером, как все мы.
— Я продумал то, что написал, и всегда буду думать так.
— Ах, вот оно что! — вскричал бедняга отец. — Впредь, пока ты не переменишь своего мнения, у тебя будет только пятьдесят тысяч карманных денег. Повторяю — пятьдесят тысяч.
Пятьдесят тысяч — такова была сумма, которой и другие миллиардеры (они сговорились заранее) решили ограничить ежемесячные карманные деньги своих сыновей. У Мартена дело обстояло несколько иначе.
Его отец, мелкий служащий префектуры Сены, которому для чтения хватало вечерней газеты и еженедельного спортивного журнала, не потрудился ни прочитать, ни даже просмотреть «Назад». И он не мог понять, почему начальник канцелярии вдруг стал так щедр на окрики и придирки. Беспокоясь о своей репутации, или, вернее, о своем служебном положении, он занялся самоанализом, но не нашел ничего, заслуживающего упрека, ни в работе своей, ни в выражении своих политических взглядов. Сослуживцы избегали обращаться к нему, а в присутствии начальника канцелярии смотрели на него с явным презрением. Наконец один из них, самый старый конь во всей упряжке, объяснил ему, из-за чего так разъярились в управлении префектуры. Гнев Мартена-отца был ужасен.
— Негодяй! — зарычал он. — Дрянной сын! Так вот как ты отблагодарил меня! Всю жизнь я жертвовал собой, чтобы ты мог добиться положения в обществе и в один прекрасный день жениться на богатой девушке, а ты в благодарность за это открываешь анархистские журналы! Пишешь какие-то гнусности! У начальства я всегда был на хорошем счету, а теперь в глазах моих шефов я — отец негодяя, мерзавца, сквернослова, который хочет втоптать революцию в грязь! Ничтожество! Вон из моего дома! Я проклинаю тебя!
Вопрос о карманных деньгах он поднимать не стал, тем более что никогда в жизни не давал сыну карманных денег. Изгнанный из отчего дома, Мартен остался при своих пятистах пятидесяти франках, ассигнованных ему в качестве скромного жалованья, как главному редактору журнала. Впрочем, денежный вопрос относительно мало тревожил его. Этот юноша мефистофельского склада почти легко переносил бедность и в нашем мире искал только извращенных радостей, наихудших — тех, которые доставляет подобным субъектам возможность разозлить, нарушить покой благомыслящих особ. Быстро позабыв о проклятии отца, которое он, грешный, воспринял с чрезмерной легкостью, Мартен прямехонько отправился в редакцию «Назад», которую избрал своим жильем. Редакция эта состояла из одной-единственной комнаты, прихожей и уборной. В первую ночь, устроив себе постель на груде журналов, Мартен уснул там и спал отлично. Утром, часов около десяти, когда пришла молоденькая секретарша, он был давно на ногах и уже успел исписать семь страниц бумаги, предназначенной для машинки. Он не потрудился открыть окно, и она брезгливо сморщила носик.
— Пахнет козлом, — сказала она.
Жинетта, молоденькая секретарша, маленькая пухлая блондинка, очень нравилась пятерым сынкам миллиардеров. Она проводила вечера то с одним из них, то с другим и принимала их скромные подарки с тем же тактом и изяществом, с каким эти подарки преподносились. Один только Мартен ничего не дарил ей. Впрочем, она никогда и не проводила с ним вечера. По ее мнению, он был самым бездарным из всех.
Пятеро сынков явились около полудня с удрученными физиономиями и унылыми речами. Теперь, когда их карманные деньги свелись к пятидесяти тысячам франков, будущее журнала «Назад» казалось им безнадежным, и они даже не собирались выпускать второй номер. Мартен начал их тормошить, усовещевать и подбадривать, снова и снова повторяя, что они являются поборниками нонконформизма и свободы.
— За работу! — сказал он под конец. — За работу в пользу богачей и крупного капитала!
Все пятеро, казалось, вновь обрели былой пыл и ушли из редакции лишь после того, как дали слово приняться за работу немедля. Что до Мартена, то он снова взялся за прерванную большую статью под заглавием: «Обогащайтесь!», которой, к счастью, не суждено было увидеть свет. Это был многословный памфлет, в котором он пытался, хотя и тщетно, высмеять благородные замашки нашей буржуазной элиты, ее нежную привязанность к рабочему классу и достойную примера любовь к революции. Стремясь придать своей статье совершенную форму, он решил переделывать ее до тех пор, пока это ему не удастся. Листки грудой ложились на стол, а так как почерк у него был неразборчивый, Жинетта, перепечатывая, не поспевала за ним. Время от времени она бросала машинку и подходила к нему, чтобы он помог ей разобрать какое-нибудь слово, а он, раздражаясь тем, что она нарушает ход его мыслей, сердился и называл ее безграмотной дурой и недоучкой. Жинетта говорила, что он просто сопляк, жалкий воображала, и порой дело доходило чуть не до драки. В одно прекрасное утро, в десять минут двенадцатого, они обменялись такими сильными выражениями, что Жинетта дала ему пощечину, а он встал, чтобы ответить тем же. В эту самую секунду их озарил луч солнца, а этажом ниже из радиоприемника полились звуки джаза, и вышло так, что молодые люди совершенно нечаянно упали в объятия друг друга.
В этот же день, в начале первого, пятеро миллиардерских сынков вошли в редакцию. Мартен, еще весь красный после бесконечно долгого поцелуя, встретил их несколько смущенно. На его вопрос, кончили ли они свои статьи, пятерка посмотрела ему в глаза.
— Взвесив все, — сказал один, — я за народ.
— Взвесив все, — сказал другой, — я за рабочих.
— Взвесив все, — сказал третий, — я за простых людей.
— Взвесив все, — сказал четвертый, — я за массы.
— Взвесив все, — сказал пятый, — я за революционный дух.
Те несколько дней, которые миллиардерские сынки провели, не общаясь с Мартеном, они посвятили глубоким и небесполезным размышлениям. А главное, получая отныне в месяц только пятьдесят тысяч франков карманных денег, они как бы заранее ощутили вкус нищеты и испытали чувство солидарности с простыми людьми, с рабочим классом, с народными массами. Осознав свои ошибки и воспылав к ним отвращением, они вновь сделались революционерами, каковыми им и следовало неизменно оставаться по примеру их отцов.
— Что с вами стряслось? — спросил Мартен. — Не собираетесь же вы бросить «Назад» на произвол судьбы?
— И еще как бросим, — ответила пятерка. — К тому же «Назад» больше не существует. Жаль, что вышел тот, единственный, номер. Теперь с этой грязной тряпкой, осквернившей великие идеи, которые хранит в сердце каждый человек из приличной семьи, покончено. Да, наши отцы правы: понося революцию, не создашь себе положения в литературе. А нам тоже хочется, чтобы о нас говорили, что мы — молодые писатели большого сердца и широких взглядов. Итак, с «Назад» покончено — и покончено навсегда.
— Посмотрим, — сказал Мартен. — Я берусь выпускать «Назад» один.
— А на какие шиши?
Мартен умолк. До сих пор он думал только о содержании журнала, а в материальную сторону не вникал. Заметив его растерянность, пятеро с полным основанием принялись хихикать, и Жинетта, не вынеся этого, сначала поцеловала Мартена в губы, а потом сурово сказала:
— Деньги мы найдем. Ваших денег, представьте себе, мы не желаем, потому что вы сопляки и жалкие воображалы, а таланта у вас не больше, чем у меня в мизинце. Убирайтесь и попросите благословения у своих папаш-миллиардеров!
— Мы — за народ, — возразила пятерка.
— Отлично. Не путайтесь под ногами. У моего мальчика и у меня куча работы. Вон отсюда!
Все пятеро были задеты уже и тем, что она поцеловала Мартена в губы. По их мнению, это было не очень-то деликатно в их присутствии. Но дерзость последних слов Жинетты окончательно возмутила их.
— Мы здесь у себя дома, — заявили они. — Помещение оплачиваем мы, за газ и электричество платим мы. Так что убирайтесь отсюда вы сами и делайте «Назад» где-нибудь в другом месте!
Наши сообщники, кипя от ярости, вынуждены были ретироваться. Совершив свой подвиг, каждый из пятерки вернулся к своему отцу и скромно, без лишних слов, рассказал о том, что все они сделали для трудового народа. Они высказали также свою безграничную веру в будущее революционного духа. Одинаковое волнение охватило сердца пятерых отцов. Они немедля повысили ежемесячную сумму карманных денег своим сыновьям до восьмисот пятидесяти тысяч.
Между тем Жинетта и Мартен оказались в самом шатком положении. Без поддержки, почти без денег, они могли теперь рассчитывать только на себя. Мартен ни капельки не тревожился и думал только о большой статье, которую он еще далеко не закончил. К счастью, Жинетта обладала отличной практической сметкой. На те несколько сот франков, которые у них оставались, она сейчас же купила государственный лотерейный билет, и на следующий день они оказались обладателями суммы в пять миллионов. Мартен уже радовался, предвосхищая выход второго номера журнала «Назад», но Жинетта (она многое обдумала за ночь) твердо и разумно доказала ему, что пять миллионов еще не очень большая сумма, что прежде чем очертя голову пойти на значительные расходы для поддержания ненадежного предприятия, надо обеспечить себе прочную позицию. Ее доводы были так убедительны, что она победила. Они вместе ринулись в коммерцию и занялись оптовой торговлей английскими булавками. Сказать по правде, Мартен был далеко не в восторге. Но постепенно ему предстояло войти во вкус такого рода занятий и посвятить им себя с усердием и уменьем.
В настоящее время супруги располагают значительным состоянием. Как и предвидела Жинетта, Мартен потерял всякое желание выпускать «Назад». Он за народ, за простых людей, он революционер, как все. К тому же он помирился с пятью сынками миллиардеров, и они вместе подсмеиваются над судьбой покойного журнала. У него превосходные связи в политических кругах, и недавно он купил американскую машину за четыреста тысяч. И все-таки Мартен — человек ненадежный. Частенько, уходя со званого обеда или с коктейля, устроенного особами высшего общества, он вдруг раздраженно восклицает: «Знали бы они, как я плюю на эту их революцию!» И у него появляется злобная усмешка, а в глазах зажигается ехидный огонек. Я хорошо его знаю, и у меня возникает легкая тревога — а что, если в один прекрасный день он преподнесет обществу такое зрелище, какое даже трудно себе вообразить: архибогач публично признаётся в своих истинных чувствах к народным массам?
СКАЗКИ
Слон
Родители нарядились по-воскресному и, уходя из дому, сказали дочкам:
— Мы не возьмем вас с собой к дяде Альфреду: дождь уж очень сильный. Оставайтесь-ка дома и хорошенько выучите уроки.
— Я еще вчера вечером все приготовила, — сказала Маринетта.
— И я тоже, — подхватила Дельфина.
— Тогда играйте тихонько и смотрите никого не впускайте.
Родители ушли, а обе девочки, прижавшись носом к оконному стеклу, долго провожали их взглядом. Дождь лил как из ведра, и они почти не жалели, что не попали в гости к дяде Альфреду. Они собрались играть в лото, но вдруг увидели индюка, поспешно перебегавшего двор. Он укрылся под навесом, отряхнул мокрые перья и стал вытирать длинную шею о свой пушистый зоб.
— Скверная погода для индюков, — заметила Дельфина, — да и для других животных тоже. Хорошо, что долго она не продержится. А что, если бы дождь не переставал сорок дней и сорок ночей?
— Не выдумывай! — сказала Маринетта. — С какой стати дождю идти сорок дней и сорок ночей подряд?
— Ну, конечно. Я просто подумала, что вместо лото можно бы сыграть в Ноев ковчег.
Маринетте эта идея пришлась по душе, и она решила, что кухня отлично заменит ковчег. Что касается животных, то найти их было легче легкого. Сестры побежали в конюшню и на скотный двор и без труда убедили быка, корову, лошадь, барана, петуха и курицу последовать за ними на кухню. Большинство охотно согласилось играть в Ноев ковчег. Правда, некоторые ворчуны, вроде индюка и свиньи, заартачились, требуя чтобы их оставили в покое, но Маринетта очень серьезно заявила:
— Начинается потоп. Дождь будет лить сорок дней и сорок ночей подряд. Если вы не желаете войти в ковчег, дело ваше. Земля скроется под водой, и вы утонете.
Повторять не пришлось: ворчуны бросились к кухне, отталкивая друг друга. А кур и запугивать не надо было: все они хотели играть. Дельфине пришлось выбрать одну, а других отстранить.
— Поймите, я могу взять только одну курицу. А то будет не по правилам.
Не прошло и четверти часа, как на кухне собрались представители всех животных фермы. Девочки боялись, что бык не пролезет в дверь из-за рогов, но он наклонил голову набок и свободно прошел, корова тоже. Ковчег был битком набит, так что курицу, петуха, индюшку, индюка и кота пришлось поселить на столе. Но никакого беспорядка не было, и животные вели себя вполне благопристойно. К тому же они немного расхохоталась и убежала в кухню, куда он последовал за исключением кота, а быть может, и курицы. Лошадь стояла возле стенных часов и то поглядывала на циферблат и на маятник, то беспокойно шевелила ушами. Корова с неменьшим любопытством осматривала все, что виднелось за стеклянными створками буфета. Она не могла оторвать глаз от сыра и горшка с молоком и то и дело повторяла: «Теперь я все поняла, все…»
Но постепенно животных стал одолевать страх. Даже те, которые знали, что это просто игра, начали сомневаться, так ли это. И в самом деле, Дельфина, сидя на кухонном окне, иначе говоря — на капитанском мостике, поглядывала во двор и сообщала встревоженным голосом:
— Дождь все идет… вода прибывает… сада уже не видно. Ветер по-прежнему сильный… Право руля!
Маринетта, исполнявшая обязанности лоцмана, повернула вправо вьюшку, и плита задымила.
— Дождь не прекращается… вода дошла до нижних веток яблони. Внимание, скалы! Лево руля!
Маринетта повернула вьюшку влево, и плита стала меньше дымить.
— Дождь все льет… еще видны верхушки самых высоких деревьев, но вода прибывает. Теперь все, больше ничего не видно.
Послышалось рыдание… Это свинья не могла сдержать своего огорчения при мысли о разлуке с фермой.
— Тихо на борту! — крикнула Дельфина. — Никакой паники! Берите пример с кота. Смотрите, как он мурлычет.
Кот и в самом деле мурлыкал как ни в чем не бывало: он-то ведь знал, что потоп не всерьез.
— Хоть бы все это поскорее кончилось, — стонала свинья.
— Надо рассчитывать на год, даже немного больше, — заявила Маринетта, — но продуктов у нас достаточно, голодать никому не придется, будьте спокойны.
Бедная свинья рухнула наземь и тихонько заплакала. Она подумала, что путешествие может затянуться дольше, чем рассчитывали девочки, и наступит день, когда запасы иссякнут. Она была толстая и поэтому страшно боялась, что ее съедят. Пока она горевала, на карниз взобралась маленькая белая курочка, вся съежившаяся под дождем. Она постучала клювом по стеклу и сказала Дельфине:
— Мне тоже хочется играть.
— Бедная белая курочка, ты же видишь, что это невозможно. У нас уже есть курица.
— Тем более что ковчег переполнен, — заметила подошедшая Маринетта.
Белая курочка была, видимо, так огорчена, что девочкам стало ее жаль. Маринетта сказала Дельфине:
— А ведь нам не хватает слона. Белая курочка могла бы изображать слона.
— Это верно, слон ковчегу необходим.
Дельфина открыла окно, взяла курочку на руки и сообщила ей, что она будет слоном.
— Ах, как я рада, — сказала белая курочка. — А как выглядит слон? Я никогда не видела слона.
Девочки постарались ей объяснить, что такое слон, но безуспешно. Тогда Дельфина вспомнила книжку с картинками, которую ей подарил дядя Альфред. Она лежала в соседней комнате, в спальне родителей. Поручив Маринетте надзор за ковчегом, Дельфина унесла белую курочку в спальню, раскрыла перед ней книгу на странице, где был нарисован слон, и дала ей несколько пояснений. Белая курочка усердно и внимательно рассматривала картинку, потому что ей очень хотелось изображать слона.
— Я тебя ненадолго оставлю, — сказала Дельфина. — Мне нужно вернуться в ковчег. Я за тобой приду, а пока ты хорошенько присмотрись к своему образцу.
Белая курочка с таким увлечением вошла в свою роль, что взаправду стала слоном, о чем она и мечтать не смела. Это случилось так быстро, что она не сразу сообразила, что с ней произошло. Ей казалось, что она все еще маленькая курочка и сидит где-то очень высоко, у самого потолка. Наконец она заметила свой хобот, бивни из слоновой кости, четыре массивные ноги, толстую, бугорчатую кожу, на которой еще застряло несколько белых перышек. Это ее слегка удивило, но больше обрадовало. Особенно ей понравилось, что она стала обладательницей огромных ушей, тогда как прежде, можно сказать, у нее их вовсе не было. «Свинья уже не будет так гордиться своими ушами, когда увидит мои», — подумала она.
А в это время на кухне девочки совсем позабыли про белую курочку, которая так усердно готовилась к своей роли по ту сторону двери. Объявив, что ветер стих и ковчег плывет по спокойной воде, они собрались произвести смотр своих подопечных. Маринетта вооружилась блокнотом для записи требований пассажиров, а Дельфина объявила:
— Дорогие друзья, сегодня сорок пятый день нашего плавания.
— Слава богу, — вздохнула свинья, — время бежит быстрее, чем я думала.
— Свинья, тихо!.. Дорогие друзья, как видите, вам не приходится сожалеть о том, что вы пришли в ковчег. Самое трудное преодолено, и у нас есть уверенность, что мы вернемся на землю месяцев через десять. Теперь я могу вам сказать, что до самых последних дней мы не раз подвергались смертельной опасности; избежать ее нам удавалось только благодаря нашему лоцману.
Животные горячо благодарили лоцмана. Маринетта покраснела от удовольствия и сказала, указывая на сестру:
— И благодаря капитану… не надо забывать капитана.
— Конечно, — подтвердили животные, — конечно! Не будь капитана…
— Это очень мило с вашей стороны, — отвечала Дельфина. — Вы не представляете, до какой степени ваше доверие вселяет в нас мужество… А оно нам еще понадобится. Плавание наше еще далеко не закончено, хотя самые большие неприятности уже позади. Но я хотела с вами побеседовать, чтобы узнать, нет ли к нам каких-нибудь претензий? Начнем с кота. Есть у тебя какие-нибудь желания, кот?
— Есть, — отвечал кот. — Мне бы кринку молока.
— Запишите: кринку молока для кота.
Пока Маринетта записывала в блокнот просьбу кота, слон тихонько приотворил хоботом дверь и заглянул в ковчег. То, что он увидел, его очень порадовало; ему не терпелось присоединиться к игре. Дельфина и Маринетта стояли к нему спиной, и в данный момент никто не смотрел в его сторону. Он с удовольствием подумал, как девочки удивятся, увидев его. Смотр пассажиров был почти закончен, а когда дошли до коровы, которая не переставала осматривать содержимое буфета, слон распахнул дверь настежь и громко крикнул каким-то чужим, незнакомым ему голосом:
— А вот и я…
Девочки не верили своим глазам. Дельфина онемела от изумления, а Маринетта выронила блокнот. Они невольно начали сомневаться, правда ли, что все это — просто игра, и готовы были поверить, что потоп настоящий.
— Ну да, — сказал слон, — это я… А что, разве я не красивый слон?
Дельфина с трудом удержалась, чтобы не подбежать к окну; ведь она все-таки была капитаном, и ей не пристало выставлять напоказ свою растерянность. Она наклонилась к Маринетте и вполголоса попросила ее посмотреть, не скрылся ли сад под водой. Маринетта отошла к окошку и, вернувшись, шепнула сестре:
— Нет, все на месте. Во дворе всего несколько луж.
При виде незнакомого слона животные забеспокоились. Свинья пронзительно завизжала, а это могло посеять панику среди ее товарищей. Дельфина сказала строго:
— Если свинья сейчас же не замолчит, я прикажу бросить ее за борт… Так. А теперь я должна сказать, что забыла сообщить вам о слоне, который путешествует вместе с нами. Будьте добры, потеснитесь еще немножко и дайте ему место в ковчеге.
Смущенная суровым тоном капитана, свинья сразу же перестала кричать. Все животные сгрудились, чтобы освободить как можно больше места новому спутнику. Но когда слон захотел войти в кухню, он понял, что это невозможно, если дверь не станет по крайней мере в полтора раза выше и шире.
— Я боюсь напирать, — сказал он, — как бы не унести с собой стену. Я ведь сильный… Даже очень сильный…
— Нет, нет, — закричали девочки, — не напирайте! Вы будете играть из комнаты.
Им и в голову не приходило, что дверь будет слишком мала, и это новое осложнение испугало их. Если бы слону удалось выйти, родители удивились бы, увидев его около дома, ведь животных этой породы в деревне не водилось. Но, во всяком случае, у них не было бы никаких оснований подозревать девочек. На другое утро мать, вероятно, заметила бы, что одной белой курочки не хватает, и на этом дело бы кончилось. Но если они найдут в своей комнате слона, они обязательно станут расспрашивать дочек, и тогда волей-неволей придется сознаться, что они согнали всех животных на кухню, чтобы играть в Ноев ковчег.
— А они так наказывали нам никого не впускать! — вздохнула Маринетта.
— Может быть, слон снова сделается белой курочкой, — прошептала Дельфина. — Ведь он — слон только для игры. Когда игра в Ноев ковчег кончится, ему незачем будет оставаться слоном.
— Все может быть. Ну, так давайте скорее играть.
Маринетта вернулась к рулю, а Дельфина — на капитанский мостик.
— Плавание продолжается!
— Тем лучше! — сказал слон. — Теперь-то мы поиграем.
— Мы находимся в море девяносто дней, — продолжала Дельфина. — Без перемен.
— А мне кажется, где-то дымит, — заметила свинья.
В самом деле, Маринетта была так взволнована присутствием слона, что поворачивала вьюшку плиты, сама того не замечая.
— Сто семьдесят второй день на море! — объявил капитан. — Без перемен.
В общем-то животные были довольны, что время летит так быстро, но слону плавание казалось немного однообразным, и он на это пожаловался, добавив с недовольным видом:
— Все это очень мило, но мне-то что здесь делать?
— Быть слоном и ждать, когда вода спадет. По-моему, вам жаловаться нечего.
— Ну, ладно, ждать так ждать.
— Двести тридцать седьмой день на море! Дует ветер, уровень воды как будто понижается… да, понижается.
При этой новости свинья так обрадовалась, что стала с веселым визгом кататься по полу.
— Да замолчите же, свинья! А не то я прикажу слону вас съесть, — заявила Дельфина.
— Ах да, — сказал слон, — мне очень хочется ее съесть.
И добавил, подмигнув Маринетте:
— А все-таки это забавно…
— Триста шестьдесят пятый день на воде! Сад уже виден. Приготовиться к выходу, в полном порядке! Потоп кончился.
Маринетта открыла дверь во двор. Свинья, боясь, что слон ее съест, так стремительно выскочила из кухни, что чуть не опрокинула девочку. Она решила, что земля не очень намокла, и помчалась под дождем прямо в свинарник. Остальные животные покинули кухню без всякой толкотни и пошли на свои места в конюшне и на скотном дворе. Один только слон оставался с девочками; он, по-видимому, не собирался уходить. Дельфина подошла к нему и сказала, хлопая в ладоши:
— Ну, белая курочка, живей… игра кончена… Возвращайся-ка в курятник.
— Белая курочка… белая курочка… — звала Маринетта, протягивая горстку зерна.
Но, сколько они ни просили, слон ни за что не соглашался снова обернуться белой курочкой.
— Мне не хочется вас огорчать, — говорил он, — но слоном быть гораздо забавнее.
Родители вернулись под вечер; они были очень довольны, что повидали дядю Альфреда. Их плащи промокли насквозь, и даже в деревянных башмаках хлюпало.
— Какая отвратительная погода, — сказали они, открывая дверь, — хорошо, что мы не взяли вас с собой.
— Как поживает дядя Альфред? — спросили девочки; щеки у них горели.
— Мы вам все расскажем потом. Дайте нам сперва пройти в комнату и переодеться.
Родители направились к двери. Они были уже на середине кухни, и девочки тряслись от страха. Сердце так сильно колотилось, что им пришлось прижимать его обеими руками.
— Плащи у вас совсем мокрые, — сказала Дельфина сдавленным голоском. — Лучше бы снять их здесь. Я повешу их сушить у плиты.
— Что ж, это хорошая мысль, — сказали родители. — Мы об этом не подумали.
Они сняли плащи, с которых еще стекала вода, и растянули их у плиты.
— Мне очень хочется знать, как здоровье дяди Альфреда, — вздохнула Маринетта. — Как его нога? Боли не прошли?
— Ревматизм его не очень мучит. Но потерпите немножко, мы только переоденемся, и вы все узнаете.
Родители были уже в двух шагах от двери в комнату, когда Дельфина загородила им путь и робко произнесла:
— Прежде чем переодеваться, вы бы лучше сняли башмаки. А не то нанесете грязи и запачкаете пол в комнате.
— Правда, это хорошая мысль. Мы об этом не подумали, — сказали родители.
Они вернулись к плите и сняли деревянные башмаки, но на это ушло не больше минуты. Маринетта снова произнесла имя дяди Альфреда, но так тихо, что ее даже не услышали. Девочки видели, что родители приближаются к двери, и от испуга у них похолодели щеки, нос и даже уши. Родители уже взялись за дверную ручку, как вдруг услышали за спиной рыдания. Это Маринетта от страха и отчаяния дала волю слезам.
— О чем же ты плачешь? — спросили родители. — Болит что-нибудь? Уж не кот ли тебя расцарапал? Да ну, скажи же, почему ты плачешь?
— Это из-за сло… из-за сло… — захлебываясь, повторяла Маринетта, но рыдания мешали ей продолжать.
— Это потому, что она видит, как у вас промокли ноги, — вмешалась Дельфина, — и боится, что вы простудитесь. Она думала, что вы сядете перед плитой посушить носки. Она и стулья приготовила.
Родители погладили Маринетту по головке и сказали, что они очень рады иметь такую хорошую дочку, но ей незачем бояться, что они простудятся. И обещали прийти посушиться, как только переоденутся.
— А может быть, лучше сперва посушиться, — настаивала Дельфина. — Насморк легко схватить.
— Ерунда! Мы не такое еще видели. Не в первый раз вода попадает нам в башмаки, а насморка у нас никогда не было.
— Я это говорю только ради того, чтобы успокоить Маринетту. Тем более что ее немного тревожит здоровье дяди Альфреда.
— Дядя Альфред совершенно здоров… Он никогда так хорошо себя не чувствовал. Не волнуйтесь. Через пять минут вы узнаете все подробно. Мы вам расскажем.
Дельфина больше ничего не могла придумать. Родители шагнули к комнате, улыбаясь Маринетте, но кот, спрятавшийся под печкой, сунул хвост в поддувало и так сильно им замахал, что когда родители проходили мимо, поднялось облако пепла и они зачихали.
— Вот видите, — воскликнули девочки, — нельзя терять ни минуты, вам надо согреть ноги. Идите садитесь скорее.
Сконфуженным родителям пришлось сознаться, что Маринетта была права. Они уселись на стулья, положив ноги на припечку, и смотрели на свои дымящиеся носки, беспрерывно зевая. Казалось, они вот-вот заснут от усталости после долгого пути под дождем по размытым дорогам. Девочки старались не дышать.
Но вот родители вздрогнули. Послышались как будто тяжелые шаги; в буфете задребезжала посуда.
— Что это? В доме кто-то ходит. Кажется…
— Пустяки, — сказала Дельфина. — Это кот гоняется за мышами на чердаке. После обеда он так же шумел.
— Не может быть. Ты, верно, ошиблась. Где это видано, чтобы буфет дрожал из-за кота? Ты, верно, ошиблась.
— Да нет же, он сам мне это сказал.
— Да? Мне просто не верится, чтобы кот мог поднять такой шум. Но раз он сам тебе сказал, значит, так оно и есть.
Кот свернулся в комочек под печкой. Шум почти сразу прекратился, но родителям уже расхотелось спать и в ожидании, пока их носки совсем просохнут, они принялись рассказывать о своем посещении дяди Альфреда.
— Дядя ждал нас на пороге. Он так и думал, что вы не придете из-за плохой погоды. Он очень жалел, что вас не увидит, и поручил нам… Ну вот, опять начинается! Честное слово, стены шатаются!
— Так дядя Альфред просил вас нам что-то передать?
— Да, он сказал… Ну, теперь-то вы не будете сваливать на кота! Можно подумать, что дом вот-вот рухнет!
Кот съежился, как только мог, но он слишком поздно сообразил, что кончик его хвоста торчит из-под печки. Он хотел поскорее запрятать его между лап, но как раз в эту минуту родители заметили кота.
— Ну, теперь, — сказали они, — вы уж не можете обвинять кота, раз он сидит под печкой!
Они собирались встать со стульев, чтобы пойти посмотреть, кто это так тяжело ходит, что трясется печка. Тогда кот вылез из своего укромного уголка, выгнул спину, как будто только что проснулся, и сердито заворчал:
— Прямо несчастье, уж и спать спокойно не дают! Не знаю, что такое стряслось с лошадью, она с самого утра колотит копытами по стене и по перегородке. Я думал, что на кухне этот грохот не слышен, а здесь еще хуже, чем на чердаке. Не понимаю, с чего это лошадь так волнуется.
— В самом деле, — сказали родители, — она, должно быть, больна или чем-нибудь недовольна. Мы потом сходим и посмотрим.
Пока они говорили о лошади, кот смотрел на девочек, покачивая головой, как будто хотел им сказать, что все эти разговоры бесполезны и что лучше не упрямиться. И в самом деле, к чему? Они все равно не помешают родителям войти в комнату. На пять минут раньше или позже, какая разница? Девочки были, в общем, согласны с котом, но считали, что на пять минут позже все же лучше, чем на пять минут раньше. Дельфина покашляла, чтобы прочистить горло, и еще раз спросила:
— Вы начали говорить, что дядя Альфред просил нам передать…
— Ах, да, дядя Альфред… Он прекрасно понял, что в такую погоду нельзя выпускать детей на улицу. Ведь дождь был очень сильный, особенно когда мы к нему пришли. Настоящий потоп… к счастью, это ненадолго, дождь как будто перестает, правда?
Родители выглянули в окно и вскрикнули от удивления при виде лошади, которая прогуливалась по двору.
— Ну и ну! Вон лошадь гуляет. Ей удалось отвязаться, и она вышла во двор подышать воздухом. Что ж, тем лучше для нее. Она будет поспокойнее и перестанет так шумно лягаться в конюшне.
В ту же минуту снова послышались шаги, еще тяжелее, чем прежде. Полы трещали, дом стонал сверху донизу. Стол встал на дыбы, и родители еле усидели на стульях.
— На этот раз, — вскричали они, — это никак не лошадь, ведь она еще во дворе! Ведь правда, кот, это не лошадь?
— Конечно, — отвечал кот, — конечно. Должно быть, это волы соскучились в хлеву…
— Что ты болтаешь, кот? Где это видано, чтобы волам наскучило отдыхать?
— Тогда, значит, баран затеял драку с коровой.
— Чтобы баран с кем-нибудь подрался? Гм!.. Чует наше сердце… гм!.. тут что-то неладно.
Девочки задрожали так сильно, что их белокурые головки тряслись из стороны в сторону, а родителям показалось, будто они мотают головой, чтобы их зря не обвиняли в непослушании.
— Ну хорошо, — все еще неуверенно проворчали родители. — А вот если бы вы впустили кого-нибудь в дом… О, если бы вы кого-нибудь впустили… Тогда, бедняжки, для вас было бы лучше… Лучше было бы… просто не знаю что.
Родители угрожающе нахмурились. Дельфина и Маринетта не решались поднять на них глаза. Даже кот был перепуган и не знал, как себя вести.
— Ясно одно, — рассуждали родители, — эти шаги слышались совсем близко. Уж, конечно, не с конюшни. Скорее можно было подумать, что кто-то ходит в соседней комнате… да, в комнате. Ну, да мы сейчас увидим.
Их носки совсем просохли. Они встали со стульев, не спуская глаз с двери. За их спиной Дельфина и Маринетта держались за руки и, по мере того как родители подходили к двери, все теснее жались друг к другу. Кот терся об их ноги, чтобы показать, что он верный друг, и немного подбодрить их, но все равно было очень страшно. Девочкам казалось, что у них вот-вот сердце разорвется. Родители приложили ухо к двери и прислушивались с недоверчивым видом. Наконец ручка повернулась, дверь со скрипом отворилась, и наступило минутное молчание. Дельфина и Маринетта, дрожа всем телом, заглянули в комнату. И тогда они увидели, как маленькая белая курочка украдкой проскользнула между ног у родителей, бесшумно пробежала через кухню и забилась в уголок под стенными часами.
Задачка
Отец с матерью вернулись с огорода, прислонили к стене свои тяпки, которыми они окучивали картошку, отворили дверь в кухню и остановились на пороге. Дельфина и Маринетта сидели рядышком за большим столом, спиной к двери, а перед ними лежали черновые тетрадки по арифметике. Девочки сосредоточенно сосали кончики своих карандашей и болтали ногами.
— Ну, решили задачку? — спросили отец с матерью.
Девочки покраснели и вынули изо рта карандаши.
— Нет еще, — ответила Дельфина жалобным голосом. — Она трудная, нам сама учительница сказала.
— Раз она вам ее задала, ваша учительница, значит, вы можете ее решить. Да только с вами вечно так: баловаться горазды, а как дело делать, так не дозовешься. Одни проказы на уме. Нет, милые, хватит! Вон какие вымахали! Десять лет девицам, а какую-то несчастную задачку решить не могут!
— Да-а-а, мы уже целых два часа сидим, — сказала Маринетта.
— И еще посидите. До вечера будете сидеть, а чтоб задачка была сделана, понятно? Ну, а коли не сделаете, коли не сделаете — тогда уж пеняйте на себя.
При мысли, что задача так и останется нерешенной, отец с матерью очень рассердились. Но, подойдя к столу и заглянув в тетрадки своих дочек, они остолбенели от негодования: в тетради Дельфины, вместо решения задачи, красовался большой, на всю страницу, кот с бантиком на хвосте; а Маринетта нарисовала целую картину: дом с трубой, из трубы валит дым, возле дома — пруд, в пруду плавает утка, а по длинной-длинной дороге, ведущей к дому, едет на велосипеде почтальон.
Девочки сжались в комок от страха и готовы были сквозь землю провалиться. А родители наконец пришли в себя и принялись кричать, что с девками никакого сладу нет, — и за что им только такое наказанье! Крича, они расхаживали взад и вперед по кухне, махали руками и время от времени останавливались, чтобы посильнее топнуть ногой. От этого получился такой шум, что пес, большая западноевропейская овчарка, не выдержал, вылез из-под стола и подошел к отцу с матерью. Он их очень любил, но еще больше любил он Дельфину и Маринетту.
— Послушайте, отец с матерью, по-моему, вы не правы. Ведь сколько ни кричи и ни топай ногами, задачу это решить не поможет. И вообще я не понимаю: зачем в такую погоду сидеть взаперти и решать какие-то задачи? Лучше бы пошли погуляли, поиграли во что-нибудь.
— Ну да! А потом, когда они вырастут, что тогда будет? Небось выйдут замуж, а мужья потешаться станут, ведь они ничегошеньки не знают. Таких дур неученых никто и замуж не возьмет!
— Они научат мужей играть в классы и в кошки-мышки, и все обойдется. Правда, девочки?
— Точно, — ответили хором Дельфина и Маринетта.
— А вы молчите! И за работу, живо! Постыдились бы, честное слово: вон какие вымахали, а задачку решить не могут.
— Не могут так не могут, — сказал пес, — ничего не поделаешь. И нечего тут переживать. Я вот, например, не переживаю.
— Чем рисовать всякие глупости, сто раз бы уже решили. А впрочем, что с тобой толковать! Не хватало еще перед собакой отчитываться. Пойдем. А вы, негодницы, смотрите: не решите до вечера — худо будет!
С этими словами отец с матерью вышли во двор, взяли тяпки и пошли на огород окучивать картошку. Склонившись над своими тетрадями, Дельфина и Маринетта горько плакали. Пес протиснулся между ними, встал на задние лапы, положив передние на стол, и по очереди лизнул несколько раз каждую в щеку.
— Что, в самом деле такая трудная задачка?
— Еще бы не трудная! — вздохнула Маринетта. — Да тут сам черт ногу сломит!
— Если бы я знал, в чем дело, то, может, что-нибудь бы и придумал.
— Давай я тебе прочитаю условия, — предложила Дельфина. — Вот, слушай: «Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров. На каждом аре растет по три дуба, по два вяза и по одной березе. Сколько деревьев каждого вида насчитывается в лесу?»
— Да, я согласен с вами, — сказал пес, — задачка не из легких. Кстати, что такое гектар?
— Точно не знаю, — ответила Дельфина. Как старшая из сестер, она считалась более образованной. — Гектар — это вроде ара; но вот который из них больше — хоть убей, не помню. Пожалуй, все-таки гектар.
— Да нет же, — запротестовала Маринетта, — ар больше!
— Не спорьте по пустякам, — сказал пес. — Не все ли равно, который из них больше. Займемся-ка лучше задачей. Значит, так: «Общинный лес занимает площадь…»
Выучив условие наизусть, пес принялся думать. Думал он долго; время от времени кончики ушей у него начинали подрагивать, и тогда девочки затаив дыхание ждали, что он скажет. Но в конце концов пес вынужден был признать, что все его усилия ни к чему не привели.
— Но вы не расстраивайтесь. Хотя задачка и трудная, мы ее все-таки решим. Я сейчас пойду и созову всех животных на ферме. Уж все-то вместе мы найдем решение.
Пес выпрыгнул в окно, побежал на выгон, где паслась лошадь, подошел к ней и сказал:
— Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров.
— Вполне возможно, — ответила лошадь. — Но я не совсем понимаю, какое отношение это имеет ко мне.
Но когда пес объяснил ей, в чем дело, лошадь очень разволновалась и тоже решила, что самое лучшее — предложить задачу всем животным фермы. Она поскакала на задний двор, встала посередине, три раза громко заржала, а потом принялась барабанить копытами по доскам. И вот со всех сторон во двор сбежались куры, коровы, волы, гуси, свиньи, селезень, петух, кошки, телята и выстроились полукругом в три ряда перед домом. Когда все были в сборе, в окне кухни появились пес, Дельфина и Маринетта. Пес объяснил собравшимся, в чем дело, и три раза прочитал условия задачи:
— «Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров…»
Животные молча размышляли, а пес то и дело подмигивал девочкам: мол, не беспокойтесь, все будет в порядке. Но вскоре в рядах послышался ропот. Даже селезень, на которого возлагали особые надежды, заявил, что у него ничего не выходит, а гусыни стали жаловаться, что у них болит голова.
— Очень трудная задачка, — ворчали животные. — Где уж нам решить такую!
— Послушайте, но так же нехорошо! — воскликнул пес. — Не можем же мы оставить девочек в беде. Подумайте еще!
— Что зря голову ломать? — хрюкнул боров. — Все равно ничего не выйдет.
— Ну, ясно, — сказала лошадь. — Ты никогда ничего не хочешь сделать для Дельфины и Маринетты. Только и знаешь, что ябедничать отцу с матерью.
— Ничего я не ябедничаю. Просто я считаю, что такую задачу, как эта…
— Ладно, помолчи!
Все снова принялись думать, но так ничего и не придумали. У гусынь окончательно разболелась голова, а коровы стали клевать носом. Даже лошадь то и дело отвлекалась и глядела по сторонам. И вот, посмотрев в сторону выгона, она увидела, что во двор не спеша направляется белая курочка.
— Так, так. Вы, я вижу, не торопитесь, — сказала ей лошадь. — Вы что, не слышали сигнала?
— К вашему сведению, я должна была снести яйцо, — сухо ответила курочка. — Надеюсь, у вас нет принципиальных возражений против этого?
Она заняла свое место в первом ряду, среди других куриц, и лишь после этого осведомилась о причине сбора. Пес, который уже почти потерял надежду на успех, не хотел даже вводить ее в курс дела. Он и мысли не допускал, что какая-то курица может придумать что-нибудь путное там, где потерпел неудачу весь коллектив. Однако Дельфина и Маринетта решили, что хотя бы из вежливости надо объяснить ей, что происходит. Пес еще раз изложил ситуацию и еще раз прочитал условия задачи:
— «Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров…»
— Ну и что? Не понимаю, что вас тут смущает, — заявила белая курочка, едва лишь пес кончил читать. — По-моему, все очень просто.
У девочек даже щеки порозовели от волнения, они уже смотрели на белую курочку как на свою спасительницу. Между тем животные обменивались не очень-то лестными замечаниями по ее адресу.
— Ишь какая умная выискалась!
— Ничего она не решила!
— Просто фасонит.
— Выпендривается.
— Где ей, с ее куриными мозгами!
— Послушайте, да дайте же ей сказать! — закричал пес. — Боров, заткнись! И вы, коровы, помолчите немного. Ну, так что ты придумала?
— Повторяю, все очень просто, — ответила белая курочка. — Даже странно, что никто об этом не подумал раньше. Ведь общинный лес в двух шагах отсюда, через дорогу. Лучший способ узнать, сколько в нем дубов, вязов и берез, это пойти и посчитать. Я уверена, что если мы все возьмемся за дело, через час, самое большее, задача будет решена.
— Вот это да! — воскликнул пес.
— Вот это да! — воскликнула лошадь.
А Дельфина и Маринетта так обрадовались, что даже не знали, что сказать. Они выпрыгнули из окошка, подбежали к белой курочке и, встав на колени, принялись гладить ей перья на спине и на груди. Животные столпились вокруг, все наперебой поздравляли, хвалили белую курочку; даже боров, который явно завидовал ей, не мог скрыть своего восхищения:
— Какое, однако, способное пернатое! — сказал он. — Вот уж никогда бы не подумал.
А белая курочка скромничала и говорила, что не заслуживает таких похвал.
Наконец пес и лошадь положили конец этому потоку комплиментов, напомнив, что дело не ждет, и вся компания, под предводительством Дельфины и Маринетты, отправилась в лес. Там прежде всего потребовалось научить каждого распознавать дуб, вяз и березу. Затем весь лес разделили на сорок два участка — по числу взрослых особей (цыплятам, гусятам, котятам и поросятам поручили считать кустики земляники и ландыша). Боров тут же стал ворчать, что ему дали самый плохой участок: сплошное мелколесье! Вот участок белой курочки ему бы подошел.
— Послушайте, любезный, — сказал ему курочка, — я решительно не знаю, почему вас привлекает мой участок, но что я знаю твердо, так это то, что люди правильно говорят: «Глуп, как боров».
— Сама дура! Подумаешь, решила какую-то паршивую задачку, так теперь и задается. Да ее кто угодно мог решить.
— А я что говорю? Маринетта, дайте, пожалуйста, мой участок борову и выделите мне какой-нибудь другой, как можно дальше от этого грубияна.
Маринетта удовлетворила ее просьбу, и все принялись за работу. Животные считали деревья, а девочки ходили от участка к участку и записывали цифры в черновые тетрадки.
— Двадцать два дуба, три вяза, четырнадцать берез, — говорила гусыня.
— Тридцать два дуба, одиннадцать вязов, четырнадцать берез, — говорила лошадь.
И они начинали считать снова. Работа шла быстро, и казалось, что все произойдет без осложнений. Три четверти деревьев были уже сосчитаны, а селезень, лошадь и белая курочка закончили свои участки, когда вдруг из глубины общинного леса донесся пронзительный визг:
— Спасите! На помощь!
Это кричал боров. Девочки бросились на крик и прибежали к месту происшествия одновременно с лошадью. Боров мелко дрожал всеми своими четырьмя конечностями, а перед ним стоял огромный дикий кабан. Кабан злобно смотрел на борова и сердито выговаривал ему:
— Вы кончили орать, дурак несчастный? Я вам покажу, как будить порядочных зверей среди бела дня! И вообще, с такой рожей, как у вас, надо сидеть дома, а не расхаживать по лесу. А вы, дети, живо в берлогу! Нечего вам тут болтаться.
Его последние слова относились к дюжине веселых полосатых кабанят, которые крутились вокруг борова, а некоторые даже играли в пятнашки у него под животом. Они были ростом с кошку и очень веселые. Может быть, им-то боров и обязан был своим спасением, потому что кабан не мог броситься на него, не рискуя задавить при этом пару-другую собственных детей.
— А это еще что за публика? — заворчал кабан при виде девочек и лошади. — Мы где, в лесу или на большой дороге? Только машин не хватает. Нет, с меня довольно!
У него был такой сердитый вид, что девочки очень испугались. Они было застыли на месте, бормоча извинения; но, заметив кабанят, тут же забыли про кабана и закричали, что никогда в жизни не видели такую прелесть. Они бросились гладить и целовать кабанят, а те, довольные, что есть с кем поиграть, весело и дружелюбно похрюкивали.
— Какие хорошенькие! — повторяли Дельфина и Маринетта. — Какие миленькие! Какие лапочки!
Кабан живо потерял свой сердитый вид. Его глазки стали такими же смешливыми, как у кабанят, а морда добродушной.
— Действительно, выводок неплохой, — согласился он. — Конечно, шалуны, неслухи, непоседы. Но что поделаешь: дети есть дети. Мать твердит, что они красивые, и, сказать по чести, я рад, что вы тоже так думаете. А вот про вашего борова этого не скажешь. Чего уставился? Ну и скотина! И бывают же на свете такие уроды.
Боров, который весь дрожал еще от пережитого страха, не осмелился протестовать, хотя в глубине души считал, что он гораздо красивее кабана.
— Ну, а вы, девочки, что вас привело в наш общинный лес? — спросил кабан.
— Мы пришли с друзьями считать деревья. Вот лошадь вам объяснит, а то нам нужно идти кончать задачу.
Дельфина и Маринетта расцеловали на прощание кабанят и ушли, пообещав, что скоро вернутся.
— Понимаете, — сказала лошадь, — дело в том, что учительница задала вчера девочкам очень трудную задачку.
— Что-то я не пойму. Вы уж извините: я живу тут на отшибе, выхожу из дому только по ночам и в ваших деревенских порядках плохо разбираюсь.
Тут кабан прервал свою речь, взглянул еще раз на борова и заявил:
— Нет, но до чего же урод! Я просто прийти в себя не могу. А кожа-то, кожа! Розовая, гладкая! Фу, противно смотреть. Да, так простите, я отвлекся. Я говорил, что мы звери темные, живем в лесу и многого не знаем. К примеру, что такое учительница? И что такое задачка?
Лошадь объяснила ему, как могла, что такое учительница и что такое задачка по арифметике. Кабан очень заинтересовался школой и пожалел, что не может отдать в школу своих кабанят. Но он никак не мог понять, почему у девочек такие строгие родители.
— Мне бы и в голову не пришло держать целый день моих кабанят в берлоге, за уроками. Они бы меня просто не послушались, да и мать была бы на их стороне. Ну, хорошо, а что это все-таки за задачка такая?
— Пожалуйста, вот: «Общинный лес занимает площадь…» и так далее.
Как только лошадь изложила условия задачи, кабан подозвал белку, которая прыгала на нижней ветке соседнего вяза.
— Собери-ка мне сведения, сколько в лесу дубов, вязов и берез. Живо! Я буду ждать здесь.
Белка тотчас же исчезла в ветвях. Она побежала предупредить других белок. Через пятнадцать минут самое большее, утверждал кабан, она принесет ответ, и тогда можно будет проверить, правильно ли решили задачу Дельфина и Маринетта.
Боров, который стоял как статуя среди резвящихся кабанят, вдруг вспомнил, что не кончил свой участок. Но от страха он перезабыл все цифры, и теперь надо было начинать все сначала. Пока он так стоял, не зная, как ему поступить, на полянке появились селезень и белая курочка.
— Надеюсь, вы не переутомились, — сказала ему курочка. — Задавался, корчил из себя невесть что, а сам так ничего и не сделал. Нам с селезнем пришлось пересчитывать за вас.
Боров очень смутился и не знал, что сказать. А белая курочка сухо добавила:
— Пожалуйста, не извиняйтесь. И не благодарите нас — это абсолютно ни к чему.
— Ну и тип! — заметил кабан. — Рожа мерзкая, кожа розовая, а сам лодырь. Хорош!
Кабанята тем временем окружили вновь пришедших и хотели поиграть с ними, но белая курочка, которая терпеть не могла фамильярностей, попросила их оставить ее в покое. А так как они не отставали — толкали ее мордами или становились передними копытами ей на спину, — она взлетела на ветку орешника и уселась там. В сопровождении остальных животных Дельфина и Маринетта пришли за цифрами, которые должен был сообщить им боров. Он, естественно, ничего сообщить им не мог, и цифры эти они получили от селезня и белой курочки. Оставалось только сложить результаты, и через несколько минут Дельфина объявила:
— В общинном лесу три тысячи девятьсот восемнадцать дубов, тысяча двести четырнадцать вязов и тысяча триста две березы.
— Так я и думал, — сказал боров.
Дельфина поблагодарила всех животных за успешную работу и особо отметила белую курочку, которая так хорошо поняла задачу и сообразила, как ее решать. Тем временем кабанята, которые сначала застеснялись от такого количества незнакомых, осмелели и стали заигрывать с гусынями. Те по доброте сердечной не противились. Вскоре к ним присоединились Дельфина и Маринетта, а за ними — все животные и даже сам кабан, который бегал и хохотал во всю глотку. Никогда еще в общинном лесу не было так шумно и весело.
— Послушайте, мне жаль вас прерывать, — сказал через некоторое время пес, — но солнце уже садится. Отец с матерью скоро вернутся с огорода, и если они не застанут никого дома, то наверняка рассердятся.
Вся компания уже собралась уходить, когда на нижней ветке большого вяза появилась группа белок и одна из них доложила кабану:
— В общинном лесу растет три тысячи девятьсот восемнадцать дубов, тысяча двести четырнадцать вязов и тысяча триста две березы.
Ответ белки точь-в-точь совпал с ответом, который получился у Дельфины и Маринетты. Кабан обрадовался:
— Значит, вы решили правильно. Завтра учительница поставит вам хорошие отметки. Хотел бы я послушать, как она вас будет хвалить! Да и вообще побывать бы хоть разок в этой самой школе!
— Так приходите завтра утром, — предложили девочки. — Учительница у нас не очень сердитая, она вас пустит.
— Вы думаете, пустит? Что ж, я, пожалуй, не откажусь. Во всяком случае, подумаю.
К тому времени, когда девочки окончательно собрались уходить, кабан уже почти решился отправиться на следующее утро в школу. Лошадь и пес пообещали ему, что тоже придут, чтобы ему было не так одиноко.
Возвращаясь, отец с матерью еще с дороги увидели, что Дельфина и Маринетта играют во дворе, и закричали им издалека:
— А задачку решили?
— Решили, — ответили девочки и побежали им навстречу. — Решили, но пришлось-таки немало повозиться.
— Да, поработали на славу, — подтвердил боров. — Не буду хвастаться, но в лесу…
Маринетта в самый последний момент заставила его замолчать, наступив ему на левое заднее копыто. А отец с матерью посмотрели на него косо и проворчали, что эта скотина что ни день, то глупее. А девочкам они сказали:
— Решить-то вы, может, и решили. А вот правильно ли? Ну, да это завтра будет видно; посмотрим, какие отметки вы завтра принесете. И знайте: если решили неправильно, то вам это так не пройдет. А то сделают как попало и рады.
— Почему как попало? Мы сделали хорошо, — сказала Дельфина. — Можете не сомневаться.
— Кстати, у белки такой же ответ, как у нас, — заявил боров.
— У белки? Совсем с ума спятил. И смотрит как-то чудно. А ну, ступай в хлев и не болтай!
На следующее утро, когда учительница вышла на крыльцо, чтобы построить в пары своих учениц и вести их в класс, она нисколько не удивилась, обнаружив на дворе лошадь, собаку, свинью и белую курицу. Такое случалось уже не раз; нередко скотина с соседней фермы забредала на школьный двор. Но когда из кустов неожиданно выскочил огромный дикий кабан, учительница очень удивилась и даже испугалась. Она собралась уже звать на помощь, но Дельфина и Маринетта успокоили ее:
— Не бойтесь, мадемуазель! Мы этого кабана знаем, он хороший.
А кабан подошел к учительнице и вежливо сказал:
— Извините меня, пожалуйста, за беспокойство. Дело в том, что я слышал столько хорошего о вашей школе и вашем преподавании, что мне очень захотелось самому побывать у вас на уроке. Я уверен, что узнал бы много нового и интересного.
Учительнице было лестно услышать такие слова, но она все еще не решалась допустить его на урок, тем более что другие животные тоже подошли к ней и обратились с той же просьбой.
— Само собой разумеется, — сказал кабан, — мы все обязуемся вести себя хорошо и не нарушать дисциплину.
— В конце концов, почему бы и нет? — решила учительница. — Становитесь в пары!
Животные встали в пары позади учениц, которые уже построились. Кабан встал с боровом, белая курочка — с лошадью, а пес встал один в самом конце колонны. Учительница хлопнула в ладоши, и новые ученики вслед за остальными вошли в класс, не шумя и не толкаясь. Пес, боров и кабан сели за парты, белая курочка устроилась за спиной Дельфины и Маринетты, а лошадь, которая не поместилась бы за партой даже в самом старшем классе, встала сзади в проходе.
Первым уроком было чистописание, а вторым — история. Учительница рассказывала про пятнадцатый век и, в частности, про короля Людовика Одиннадцатого — очень жестокого короля, который имел обыкновение сажать своих врагов в железную клетку.
— К счастью, — сказала она, — с тех пор нравы изменились и в наше время уже никто никого не сажает в клетку.
Как только учительница произнесла эти слова, белая курочка подняла лапку и, когда ее вызвали, громко сказала:
— Мадемуазель, вы, как видно, недостаточно осведомлены о том, что происходит у нас в деревне. Потому что у нас с пятнадцатого века ровным счетом ничего не изменилось. Я своими глазами не раз видела несчастных куриц, сидящих в клетках. И, насколько я понимаю, этот варварский обычай продолжает существовать.
— Быть не может! — воскликнул кабан.
Учительница сильно покраснела, так как сама откармливала в клетках двух цыплят. «Сегодня же выпущу их на свободу!» — подумала она.
— Когда я стану королем, — заявил боров, — я прикажу посадить в клетку всех отцов и матерей.
— Ну, где вам стать королем, — сказал кабан. — С такой-то рожей!
— Не все так думают, как вы! — ответил боров. — Как раз вчера вечером отец с матерью говорили: «А боров-то все хорошеет, надо будет заняться им». Правда, вот и девочки не дадут соврать, они тоже слышали.
Дельфина и Маринетта очень смутились, но подтвердили, что действительно отец с матерью держали такие лестные для борова речи. Боров шумно возликовал.
— Все равно, вы самое уродливое животное, какое я только видел, — сказал кабан.
— А вы бы на себя посмотрели, — ответил боров. — С этими клычищами, что торчат у вас из пасти, вы просто пугало какое-то!
— Что? Да как вы смеете так отзываться о моей внешности? Ну, погоди же, бездельник, я тебе покажу, как оскорблять порядочных зверей!
С этими словами кабан соскочил с парты. Боров пронзительно завизжал и кинулся от него наутек через весь класс. Он был так напуган, что даже толкнул учительницу и та чуть не упала. «Спасите! Убивают!» — кричал боров и кидался куда попало, не разбирая дороги и натыкаясь на парты, так что книги, тетради и чернильницы летели во все стороны. А тут еще кабан, который бежал за ним по пятам и кричал, что сейчас выпустит ему кишки! Пролезая под стулом, на котором сидела учительница, кабан приподнял его над полом и даже провез немного на спине. От этого, впрочем, бег его замедлился, чем поспешили воспользоваться Дельфина и Маринетта. Они напомнили кабану, что он обещал вести себя хорошо и не нарушать дисциплину, и в конце концов, с помощью пса и лошади, кое-как его успокоили.
— Извините меня, мадемуазель, — сказал он учительнице. — Я немного погорячился, ко согласитесь, что когда имеешь дело с таким уродом, трудно сдержаться.
— Я должна была бы выгнать вас обоих из класса, но на первый раз ограничусь тем, что поставлю вам единицу за поведение.
И учительница написала на доске крупными буквами:
КАБАН: ЕДИНИЦА ЗА ПОВЕДЕНИЕ.
БОРОВ: ЕДИНИЦА ЗА ПОВЕДЕНИЕ.
Кабан и боров очень огорчились и стали просить учительницу, чтобы она стерла единицы. Но она ничего не хотела слушать.
— Каждому по заслугам. Белая курочка — пять за поведение, пес — пять, лошадь — тоже пять. А вы что заслужили, то и получайте. А теперь займемся арифметикой. Посмотрим, как вы справились с задачкой про общинный лес. Поднимите руки те, кто решил.
Кроме Дельфины и Маринетты, никто не поднял руку. Учительница бросила взгляд в тетради сестер и сделала такое лицо, что Дельфина и Маринетта забеспокоились: неужели они решили неправильно?
— Ну что же, — сказала учительница, подходя к доске, — давайте еще раз посмотрим условия. «Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров…»
Объяснив ученицам, как надо было решать, она проделала все вычисления на доске и объявила:
— Итак, в общинном лесу насчитывается четыре тысячи восемьсот дубов, три тысячи двести вязов и тысяча шестьсот берез. Следовательно, Дельфина и Маринетта решили неправильно. Они получат двойки.
— Простите, мадемуазель, — сказала белая курочка. — Мне очень неприятно, но это вы решили неправильно. В общинном лесу растет три тысячи девятьсот восемнадцать дубов, тысяча двести четырнадцать вязов и тысяча триста две березы. Именно такой ответ у Дельфины и Маринетты.
— Позвольте, но это же невозможно! — запротестовала учительница. — Берез не может быть больше, чем вязов. Давайте рассуждать вместе.
— Чего тут еще рассуждать, если в лесу растет тысяча триста две березы? Мы вчера целых полдня их считали. Ведь правда же?
— Конечно, — подтвердили лошадь, пес и боров.
— Я тоже там был, — сказал кабан. — Между прочим, деревья были сосчитаны дважды.
Учительница попыталась было объяснить животным, что общинный лес из задачки не имеет ничего общего с их лесом, но белая курочка совсем разобиделась, а ее друзья тоже помрачнели.
— Если нельзя доверять условиям, то зачем вообще решать такую задачку? — сказали они.
Учительница рассердилась и заявила животным, что они просто глупы. Она уже собиралась поставить двойки Дельфине и Маринетте, но в этот момент в класс вошел инспектор из отдела народного образования. Прежде всего он очень удивился, увидя в классе лошадь, собаку, курицу, свинью и в особенности кабана.
— Ну, ладно, допустим, — сказал он, узнав, что они присутствуют на уроке с разрешения учительницы. — Так о чем вы говорили?
— Господин инспектор, — сказала белая курочка, — позавчера учительница задала ученицам задачу. Вот ее условия: «Общинный лес занимает площадь в шестнадцать гектаров…»
Когда ему все объяснили, инспектор без колебаний поддержал белую курочку. Прежде всего он попросил учительницу поставить пятерки Дельфине и Маринетте и уговорил ее стереть единицы за поведение, которые она поставила борову и кабану.
— Общинный лес — это общинный лес, — сказал он. — Тут не может быть двух мнений.
Он был так доволен новыми учениками, что поставил по пятерке каждому, а белой курочке за находчивость и инициативу вручил похвальный лист.
С легким сердцем возвращались домой Дельфина и Маринетта. Родители были горды и счастливы, что их дочери принесли столько пятерок (они подумали, что пятерки, которые инспектор поставил псу, лошади, белой курочке и борову, тоже получены Дельфиной и Маринеттой). В награду они купили девочкам новые пеналы.
Волк
Укрывшись за изгородью, волк терпеливо наблюдал за входной дверью. Он обрадовался, когда родители вышли из кухни. На пороге они обратились к детям с последними наставлениями:
— Смотрите никому не открывайте, — сказали они, — как бы вас ни просили и чем бы ни грозили. Мы вернемся вечером.
Когда волк увидел, что родители уже далеко, на последнем повороте тропинки, он обошел вокруг дома, хромая на одну лапу, но все двери были плотно закрыты. На свиней и коров надеяться было нечего. Эти твари слишком глупы, их не уговоришь, чтобы они дали себя съесть. Волк остановился около кухни, положил лапы на карниз и заглянул в дом. Дельфина и Маринетта играли в косточки перед печкой.
Маринетта, та, что поменьше и посветлее, говорила своей сестре Дельфине:
— Вдвоем плохо играть. Хоровод водить нельзя.
— Правда, ни в хоровод, ни в палочку-выручалочку не сыграешь.
— Ни в колечко, ни в жмурки.
— Ни в свадьбу, ни в горелки.
— А ведь как весело играть в хоровод или палочку-выручалочку.
— Вот если бы нас было трое…
Девочки стояли к волку спиной, поэтому он стукнул носом по оконному стеклу, чтобы заявить о себе. Они бросили игру и подошли к окну, держась за руки.
— Добрый день, — сказал волк. — На улице не жарко. Пощипывает, знаете…
Светленькая засмеялась, потому что ей показались забавными его острые уши и пучок шерсти, торчащий на макушке. Но Дельфина сразу поняла, с кем имеет дело. Она прошептала, сжимая руку младшей сестры:
— Это волк.
— Волк? — сказала Маринетта. — А это страшно?
— Ну, конечно, страшно.
Девочки, дрожа, обняли друг друга за шею; их светлые локоны смешались, а слова слились в один сплошной шепот. Волк невольно подумал, что он ничего не видел прелестнее с тех пор, как рыщет по лесам и лугам. Он совсем размяк.
— Что это со мной? — подумал он. — У меня лапы подкашиваются.
Размышляя об этом, он понял, что внезапно стал добрым. Таким добрым и кротким, что никогда уже не сможет есть детей.
Волк наклонил голову налево, как делают очень добрые люди, и сказал самым ласковым голосом:
— Мне холодно, и у меня очень болит нога. А главное — то, что я добрый. Если бы вы мне открыли дверь, я вошел бы погреться у печки, и мы славно провели бы время.
Девочки удивленно переглянулись. Они и не подозревали, что у волка может быть такой нежный голос. Та, что посветлее, уже успокоившись, дружелюбно кивнула ему, но Дельфина, которая не так легко теряла голову, вовремя опомнилась.
— Уходите, — сказала она, — вы волк.
— Понимаете, — с улыбкой сказала Маринетта, — мы вас не гоним, но родители наказывали нам никому не открывать, несмотря ни на какие просьбы и угрозы.
Тогда волк тяжело вздохнул, и его острые уши прижались к голове. Видно было, что он огорчился.
— Знаете, — сказал он, — про волка много чего рассказывают, не надо всему верить. А по правде я совсем не злой.
Он еще раз глубоко вздохнул, и у Маринетты навернулись слезы на глаза.
Девочек мучила мысль, что волку холодно и что у него больная лапа. Младшая прошептала что-то на ухо сестре и при этом подмигнула волку, давая ему понять, что она на его стороне. Дельфина стояла задумавшись, потому что она ничего не решала сплеча.
— Вид-то у него добрый, — сказала она, — но я ему не доверяю. Вспомни-ка «Волка и ягненка». Ягненок ведь ничего ему не сделал.
Волк стал снова распространяться о своих добрых намерениях, и тогда она спросила его напрямик:
— А как же ягненок?.. Да, ягненок, которого вы съели?
Волка это не смутило.
— Ягненок? — переспросил он. — Который?
Он сказал это спокойно, как что-то совсем простое и само собой разумеющееся, таким невозмутимым голосом и с таким невинным видом, что у девочек мурашки пробежали по спине.
— Как? Значит, вы съели их несколько! — воскликнула Дельфина. — Ну и ну! Прекрасно!
— Ну, конечно, несколько. Я не вижу, что тут плохого. Вы же их едите!
Возражать было нечего. Как раз на завтрак была жареная баранина.
— Ну, так вот, — продолжал волк, — вы видите, что я не злой. Отворите-ка мне дверь, сядем в кружок около печки, и я расскажу вам разные истории. Можете себе представить, сколько у меня их накопилось за то время, что я брожу в лесах и бегаю по равнинам! Если я вам расскажу хотя бы то, что случилось на днях с тремя кроликами на опушке леса, я вас здорово рассмешу.
Сестры спорили шепотом. Младшая считала, что волка надо впустить, и сейчас же. Нельзя же оставлять его на ветру, дрожащего от холода и с больной лапой. Но Дельфина не сдавалась.
— Послушай, — говорила Маринетта, — брось упрекать его за ягнят, которых он съел. Не может же он морить себя голодом!
— Пусть ест картошку, — возражала Дельфина.
Маринетта так настаивала, в голосе ее было столько волнения, а в глазах столько слез, что старшая наконец смягчилась. Дельфина направилась было к двери, как вдруг спохватилась, расхохоталась и сказала огорченной Маринетте, пожав плечами:
— Ну нет, это было бы уж слишком глупо!
Она посмотрела на волка в упор.
— Послушайте-ка, волк, я совсем забыла про Красную Шапочку. Давайте поговорим о Красной Шапочке, согласны?
Волк смиренно опустил голову. Этого он не ожидал. Слышно было, как он сопит носом за окном.
— Ну да, — сознался он, — Красную Шапочку я съел. Но уверяю вас, что я очень в этом раскаивался. Если бы снова так случилось…
— Да, да, так всегда говорят.
Волк ударил себя лапой в грудь по тому месту, где сердце. У него был красивый низкий голос.
— Честное слово, если бы снова так случилось, я бы лучше подох с голоду.
— А все-таки, — вздохнула младшая, — вы съели Красную Шапочку.
— Я и не отпираюсь, — согласился волк. — Я ее съел, это точно. Но то был грех молодости. Подумайте, ведь это было так давно. Всякому греху бывает прощение. И потом вы не знаете, сколько у меня было неприятностей из-за этой девчонки! Уверяли даже, будто я сперва съел бабушку, а это уже совсем вранье.
Тут волк невольно ухмыльнулся, вероятно, сам того не замечая.
— Судите сами! Стал бы я есть бабкино мясо, когда меня ожидала на завтрак свеженькая девчушка! Не такой я дурак…
Вспомнив об этом лакомом кусочке, волк не утерпел и несколько раз провел по губам своим большим языком; при этом обнажились его длинные острые зубы, вид которых не слишком-то успокоил девочек.
— Волк, — вскрикнула Дельфина, — вы лжец! Если бы вы раскаивались, как вы говорите, вы не стали бы облизываться!
Волку было очень стыдно, что он облизнулся при воспоминании о пухленькой девочке, которая так и таяла во рту. Но он чувствовал себя таким добрым, таким честным, что ему не хотелось сомневаться в самом себе.
— Простите меня, — сказал он, — это дурная привычка; я унаследовал ее от родителей, но это ничего не доказывает.
— Тем хуже для вас, если вы плохо воспитаны, — заявила Дельфина.
— Не говорите так, — вздохнул волк, — я очень сожалею…
— А есть маленьких девочек — тоже наследственная привычка? Когда вы обещаете больше не есть детей, это почти то же самое, как если бы Маринетта обещала не есть сладкого.
Маринетта покраснела, а волк пытался протестовать:
— Но раз я вам клянусь…
— Прекратим этот разговор, а вы ступайте своей дорогой. Вы согреетесь на бегу.
Тогда волк рассердился, потому что ему не верили, что он добрый.
— Ну, знаете, это уж слишком, — крикнул он, — правду никогда не хотят слушать. Так можно отбить всякую охоту к честной жизни. А я считаю, что никто не имеет права мешать добрым намерениям, как это делаете вы. И можете быть уверены, что если я когда-нибудь снова отведаю детского мяса, вы будете в этом виноваты.
Слушая его, девочки не без тревоги думали о бремени ответственности, ложившейся на них, и о раскаянии, которое они себе, быть может, готовили. Но острые уши волка так быстро шевелились на его голове, глаза так злобно сверкали, а клыки так высовывались из-под оттопыренных губ, что они остолбенели от ужаса.
Волк понял, что запугиванием ему ничего не добиться. Он попросил прощения за свою вспышку и пустил в ход просьбы, чтобы добиться своего. Пока он говорил, взгляд его затуманился нежностью, уши прижались к затылку, а нос сплюснулся об оконное стекло, так что пасть его казалась плоской и безобидной, как морда коровы.
— Ты же видишь, что он не злой, — говорила маленькая.
— Может быть, — отвечала Дельфина, — может быть.
Голос волка стал умоляющим; и тогда Маринетта не выдержала и направилась к двери. Перепуганная Дельфина удержала ее за локон. Послышались пощечины. Волк в отчаянии метался за окном, говоря, что он лучше уйдет, чем будет причиной ссоры двух самых хорошеньких блондинок, каких он когда-либо видел. И действительно, он отошел от окна и удалился, сотрясаясь от рыданий.
«Вот беда! — думал он. — Я такой добрый, такой нежный, а они отказываются от моей дружбы. Я бы стал еще добрее, я даже перестал бы есть ягнят».
Между тем Дельфина смотрела, как волк уходил, ковыляя на трех лапах и дрожа от холода и горя. Охваченная раскаянием и жалостью, она крикнула в окно:
— Волк! Мы больше не боимся. Идите скорей погреться.
Но беленькая уже отворила дверь и выбежала навстречу волку.
— Боже мой, — вздыхал волк, — как славно сидеть у огня. Право, ничего нет лучше семейной жизни. Я это всегда думал.
Глазами, полными слез, он нежно смотрел на девочек, которые робко держались в сторонке. После того как он хорошенько облизал больную лапу и согрел живот и спину у очага, он стал рассказывать разные истории. Девочки подошли поближе, чтобы послушать о приключениях лисы, белки, крота и трех кроликов с опушки леса. Некоторые были такие смешные, что волку пришлось повторять их по два-три раза.
Маринетта уже обнимала своего друга за шею, дергала его за острые уши и гладила и по шерсти, и против шерсти. Дельфина освоилась не так быстро, и, когда она в первый раз сунула для забавы свою маленькую ручку в волчью пасть, она не удержалась и вскрикнула:
— Ах, какие у вас большие зубы…
Волку стало так неловко, что Маринетта обхватила его голову обеими руками, чтобы скрыть его смущение.
Волк из деликатности ни слова не говорил о том, как его мучит голод.
— До чего же я добрый, — радостно думал он, — прямо не верится.
После того как он рассказал много историй, девочки предложили ему поиграть с ними.
— Играть? — переспросил волк. — Да ведь я не знаю никаких игр.
Но он очень быстро научился играть в пятнашки, в хоровод, в палочку-выручалочку и в жмурки.
Он пел довольно красивым басом куплеты «Кум Гильери»[10] или «Латур, берегись». На кухне стоял настоящий содом: толкотня, крики, хохот, опрокинутые стулья. Между друзьями исчезла всякая неловкость: они перешли на ты, как будто век были знакомы.
— Волк, тебе водить!
— Нет, тебе! Ты шевельнулась! Она шевельнулась…
— Волку фант!
Волк в жизни так не смеялся, он чуть не свихнул себе челюсть.
— Никогда не думал, что играть так весело, — говорил он. — Как жаль, что нельзя играть каждый день!
— Но ты ведь опять придешь, волк. Наши родители всегда уходят по четвергам после обеда. Ты подкараулишь, когда они уйдут, и постучишься в окно, как сегодня.
Под конец стали играть в лошадки. Это была отличная игра. Волк был конем, младшая сидела верхом на его спине, а Дельфина держала его за хвост и правила упряжкой, во весь опор мчавшейся между стульями. Высунув язык, разинув пасть до ушей и задыхаясь от быстрого бега и от смеха, распиравшего ему ребра, волк иногда просил разрешения перевести дух.
— Чур! — говорил он прерывающимся голосом. — Дайте мне посмеяться… я больше не могу. Нет, дайте посмеяться!
Тогда Маринетта слезала с коня, Дельфина выпускала волчий хвост, и все они, сидя на полу, хохотали до упаду.
Веселье кончилось к вечеру, когда волку пришлось подумать об уходе. Девочки чуть не плакали, и Маринетта умоляла:
— Волк, оставайся с нами, мы еще поиграем. Наши родители ничего не скажут, вот увидишь…
— Ну, нет! — отвечал волк. — Родители — люди рассудительные. Они не поверят, чтобы волк мог стать добрым. Я знаю, что такое родители.
— Да, — согласилась Дельфина, — лучше тебе не задерживаться. Я боялась бы, как бы с тобой чего не случилось.
Трое друзей уговорились встретиться в следующий четверг. Последовали новые дружеские излияния и уверения. После того как младшая привязала ему на шею голубой бант, волк убежал и скрылся в лесу.
Больная лапа еще мучила его, но при мысли о будущем четверге, когда он снова придет к девочкам, он напевал, не обращая внимания на возмущение ворон, дремавших на самых высоких ветках:
Кум Гильери, Неужели ты помрешь…Вернувшись, родители стали принюхиваться еще с порога кухни.
— Здесь как будто волком пахнет, — сказали они.
Девочки сочли нужным солгать и сделать удивленное лицо; так всегда бывает, когда волка принимают тайком от родителей.
— Как вы можете слышать волчий запах? — возразила Дельфина. — Если бы волк зашел в кухню, мы были бы съедены.
— Это верно, — согласился отец. — Я об этом не подумал. Волк бы вас сожрал.
Но младшая, которая не умела врать два раза подряд, возмутилась, что о волке смеют так враждебно отзываться.
— Неправда, — заявила она, топнув ножкой, — волк не ест детей, и он вовсе не злой. Иначе бы он…
К счастью, Дельфина пнула ее ногой, а то она бы все разболтала.
Родители пустились в длинные рассуждения о прожорливости волка. Мать захотела этим воспользоваться, чтобы лишний раз рассказать историю Красной Шапочки, но не успела она сказать двух слов, как Маринетта прервала ее:
— Знаешь, мама, все произошло совсем не так, как ты думаешь. Волк вовсе не проглотил бабушку. Ты же понимаешь, что он не стал бы загружать себе желудок перед тем, как съесть на завтрак свеженькую девочку.
— И потом, — добавила Дельфина, — нельзя же вечно сердиться на волка.
— Это старая история…
— Грех молодости.
— А всякому греху — прощение.
— Волк уже не тот, что прежде.
— Никто не имеет права мешать добрым намерениям.
Родители ушам своим не верили. Отец положил конец этому неуместному заступничеству, заявив дочкам, что у них ветер в голове. Потом он постарался показать им на тщательно подобранных примерах, что волк всегда останется волком, что надеяться на его исправление неразумно и что если он когда-нибудь и притворится добрым, то от этого он станет еще опаснее.
Пока он говорил, девочки думали о том, как весело они играли в лошадки и в палочку-выручалочку и как радовался волк, разинув пасть и задыхаясь от смеха.
— Вот и видно, — заключил отец, — что вы никогда не имели дела с волком.
Тут младшая подтолкнула сестру локтем, и обе расхохотались ему прямо в лицо. В наказание за дерзость их отправили спать без ужина, но еще долго после того, как их уложили в постель, они все еще смеялись над наивностью родителей.
В следующие дни, чтобы заглушить нетерпеливое ожидание новой встречи со своим другом, они задумали играть в волка; в этом крылся иронический намек, что очень раздражало их мать. Маринетта пела на два тона традиционные слова:
— Погуляем вдоль лесочка, пока волка нет. Волк, ты здесь? Ты меня слышишь? Что ты делаешь?
А Дельфина, спрятавшись под кухонным столом, отвечала:
— Натягиваю рубашку.
Маринетта повторяла все те же вопросы, пока волк надевал одну за другой все части своей амуниции, от носков до большой сабли. Тогда он бросался на девочку и пожирал ее.
Вся соль игры заключалась в неожиданности, так как волк иногда выскакивал из лесу, не кончив одеваться. Случалось, что он кидался на свою жертву в одной рубашке или даже вовсе без одежды, кроме шляпы на голове.
До родителей не доходила прелесть этой игры. На третий день у них лопнуло терпение, и они запретили ее под предлогом, что однообразный припев терзает им уши. Девочки, разумеется, не захотели играть ни во что другое, и в доме воцарилась тишина вплоть до дня назначенной встречи.
Волк все утро умывал себе морду, наводил блеск на шерсть и взбивал мех на шее. Он стал такой красивый, что обитатели леса, проходя мимо, не сразу его узнавали. Когда он вышел на равнину, две вороны, глазевшие по сторонам под полуденным солнцем (это их обычное занятие после завтрака), спросили его, в честь чего он такой нарядный.
— Я иду в гости к своим подружкам, — с гордостью отвечал волк. — Они мне назначили свидание сразу после обеда.
— Они, наверное, очень красивые, раз ты так принарядился.
— Еще бы! Таких беленьких не найдешь на всей равнине.
Вороны вытаращили глаза от восхищения, но старая болтливая сорока, слышавшая этот разговор, не могла удержаться от смеха.
— Волк, я не знаю твоих подружек, но уверена, что ты сумел выбрать очень пухленьких и очень мягких… или я сильно ошибаюсь.
— Замолчите, болтунья! — сердито крикнул волк. — Вот как создаются репутации, из сплетен старой сороки! К счастью, совесть моя чиста!
Когда волк подошел к дому, ему не пришлось стучаться в окно: девочки поджидали его на пороге.
Друзья долго обнимались, еще нежнее, чем в прошлый раз, потому что все трое были полны нетерпения после недельной разлуки.
— Ах, волк, — жаловалась младшая, — всю неделю в доме было так грустно. Мы все время говорили о тебе.
— И знаешь, волк, ты был прав: наши родители не верят, что ты можешь быть добрым.
— Это меня не удивляет. Знаете, одна старая сорока только что…
— И все-таки мы за тебя очень заступались, волк, и родители даже отправили нас спать без ужина.
— А в воскресенье нам запретили играть в волка.
Трем друзьям так много нужно было друг другу рассказать, что прежде чем приняться за игру, они уселись у печки. Волк просто разрывался. Девочки хотели знать обо всем, что он делал за неделю, не было ли ему холодно, зажила ли его лапа, встречались ли ему лиса, белка, кабан.
— Волк, — говорила Маринетта, — когда наступит весна, ты поведешь нас в лес, где есть всякие звери. С тобой нам будет не страшно.
— Весной, мои душечки, вам нечего будет бояться в лесу. К тому времени я успею так обработать всех жителей леса, что самые сварливые станут шелковыми. Да вот, не дальше как позавчера я встретил лису, она только что пустила кровь целому курятнику. Я ей сказал, что так дольше продолжаться не может, что ей надо переменить образ жизни. Ну и отчитал же я ее! А она-то всегда так хитрит, а тут знаете, что мне ответила? «Волк, я готова последовать твоему примеру. Мы об этом еще потолкуем, а когда у меня будет время оценить все твои добрые дела, я сразу же исправлюсь». Вот что она мне ответила, даром что лиса.
— Ты такой добрый, — прошептала Дельфина.
— О да, я добрый, ничего не скажешь. А все же, вот вы сами видите, ваши родители никогда этому не поверят. Как подумаешь, грустно становится.
Чтобы рассеять печальное впечатление от этих слов волка, Маринетта предложила сыграть в лошадки. Волк отдавался игре еще с большим азартом, чем в прошлый четверг. Наигравшись вдоволь, Дельфина спросила:
— Волк, а не сыграть ли нам в волка?
Эта игра была ему незнакома; ему объяснили правила и, естественно, предоставили роль волка. Он спрятался под столом, а девочки стали прохаживаться перед ним взад и вперед, напевая:
— Погуляем вдоль лесочка, пока волка нет. Волк, ты здесь? Ты меня слышишь? Что ты делаешь?
Волк отвечал, задыхаясь и корчась от смеха:
— Надеваю штаны.
Все так же смеясь, он сообщил, что натягивает штаны, потом подтяжки, крахмальный воротник, жилет. Когда дело дошло до сапог, волк стал серьезнее.
— Я пристегиваю портупею, — сказал он с отрывистым смехом. Ему было не по себе, тревога сжимала горло, когти царапали кухонный стол.
Ножки девочек мелькали взад и вперед перед его сверкавшими глазами. Дрожь пробежала у него по спине, губы сморщились.
— Волк, где ты? Ты меня слышишь? Что ты делаешь?
— Беру большую саблю! — отвечал он хриплым голосом; мысли уже путались в его голове. Он больше не видел ног девочек, он их нюхал.
— Волк, где ты? Ты меня слышишь? Что ты делаешь?
— Сажусь верхом и выезжаю из лесу.
Тут волк с громким воем выскочил из укрытия, разинув пасть и выпустив когти. Девочки даже испугаться не успели, как волк их уже проглотил. К счастью, он не умел отворять двери и оказался в плену. Когда родители вернулись, им ничего не стоило вспороть ему брюхо, чтобы освободить дочек. Но это, честно говоря, было не по правилам.
Дельфина и Маринетта немного сердились на волка за то, что он их сожрал без всяких церемоний, но они так хорошо с ним поиграли, что стали просить родителей отпустить его. Ему прочно зашили брюхо двумя метрами толстого вощеного шпагата при помощи большой матрасной иглы. Девочки плакали, потому что волку было больно, но он говорил, сдерживая слезы:
— Я это заслужил, а вы слишком добры, что меня жалеете. Клянусь, что в будущем меня больше не поймают на обжорстве. И вообще, как только я увижу детей, я буду сразу же улепетывать.
Говорят, волк сдержал слово. Во всяком случае, никто не слышал, чтобы он съел какую-нибудь девочку после приключения с Дельфиной и Маринеттой.
Примечания
1
Се человек (лат.).
(обратно)2
Ландрю — преступник, убивший десять женщин. Казнен в 1922 году.
(обратно)3
Искаженное criterium national, название одного из традиционных велогоночных маршрутов.
(обратно)4
Традиционная ежегодная велогонка, маршрут которой проходит в основном вдоль границ Франции.
(обратно)5
«Angelus» (лат.) — молитва, которую католики читают три раза в день; к этой молитве призывает церковный благовест.
(обратно)6
В память (лат.).
(обратно)7
Алeзия — крепость, в которой Юлий Цезарь взял в плен вождя галлов Верцингеторикса.
(обратно)8
Изыди, сатана! (лат.)
(обратно)9
Фердина́нд Фош (фр. Ferdinand Foch, 2 октября 1851, Тарб — 20 марта 1929, Париж) — французский военный деятель, военный теоретик. Французский военачальник времен Первой мировой войны, маршал Франции (6 августа 1918).
(обратно)10
Гильери — прозвище трех братьев, казненных за разбой в XVI веке. О них было сложено много песен.
(обратно)
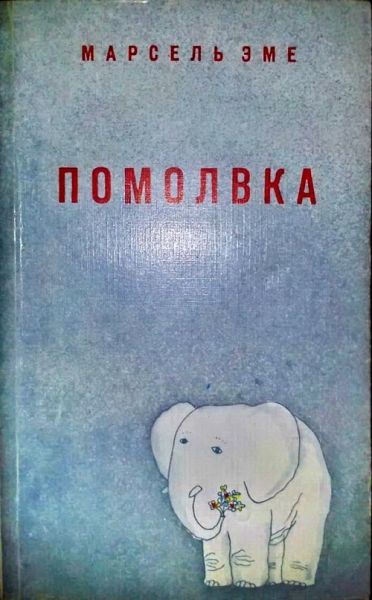











Комментарии к книге «Помолвка: Рассказы», Марсель Эме
Всего 0 комментариев