Михаил Попов. ЛАРОЧКА Повесть
Однажды, ночью вороною,
молчанье белое храня,
прекрасный ангел спал со мною,
и сделал девушкой меня.
А. Герасимова
часть 1
1
Майский полдень в советском райцентре конца 60‑ых. Неподвижная свежая зелень на деревьях вдоль улицы Советской, взбодренной утренним ливнем. Редкие прохожие смутно отражались в зеркале асфальтового тротуара. Входные двери «современного» — стекло, бетон — универмага отбрасывали большие, веселые блики, выпуская и впуская покупателей. Тележка с рукотворной газировкой подвергалась бесшумной атаке ос, это раздражало пухлую продавщицу. На противоположной стороне улицы господствовала афиша кинотеатра «Заря», на ней было начертано огромными белыми буквами непонятное слово «Героин».
Третьеклассница Ларочка Конева возвращалась из школы домой. Пробежав мимо универмага, она свернула на улицу Коммунистическую, в конце которой видны уже зеленые ворота военного городка, где служит ее отец, капитан Конев, и проживает все ее семейство, состоящее еще из бабушки Виктории Александровны, мамы Нины Семеновны.
Дорога вела мимо обшарпанной третьей школы, в которую Ларочку не пустили родители, хотя она и ближе к дому, потому что у третьей плохая репутация. Ларочка искренне гордилась, что учится в пятой; она бежала мимо райкома комсомола, с бюстом неузнаваемого Ленина на постаменте перед входом; мимо магазина «Филателист», где кроме марок, продавались карандаши, тетради, и канарейки; мимо…
— Девочка, хочешь конфетку?
Дядя. Незнакомый. Некрасивый. Серые штаны на тонком ремешке, рубашка с короткими рукавами и связкой олимпийских колец на нагрудном кармане. Улыбается. Но улыбка неприятная.
Ларочке не хотелось никакой конфетки. Дома ее должна была ждать мама, обещавшая приехать сегодня утром. Она была «в области» на курсах повышения медработников, и уж конечно привезла кое–что поинтереснее конфеток. Но дядя улыбался так заискивающе, что третьекласснице стало его жаль, и она кивнула, — ладно, давайте свою конфетку.
Он неловко полез в карман, и лицо его стало виновато–удивленным.
— Ой, забыл. Тут рядом в мастерской, пойдем, я тебе там дам.
На лице Ларочки появилось сомнение. Ей никуда не хотелось идти, и дядя быстро спросил, пока она не успела отказаться.
— Тебя как зовут девочка?
— Лариса. — Сказала школьница, так ее научили себя называть в официальной обстановке, например, в классе. Данную ситуацию, она сочла нужным рассматривать тоже как официальную.
— Ларочка! — Воскликнул негромко дядя, и первоклассница удивилась, и была немного сбита с толку. Незнакомец легко и сразу вычислил ее домашнее, ласковое имя. Она кивнула.
— Вот и хорошо, пойдем. Пойдем, Ларочка. А то мне так стыдно, пообещал конфету, а сам забыл.
Вот как все обернулось. Дядя шмыгал носом, он был очень смущен. Кроме того, можно считать, что они уже как–то сошлись. Почему бы не сходить? Не из–за конфеты, конечно. Просто немножко любопытно, да и дядю жалко, какой–то он… даже, кажется, хромает.
— А это не за речкой?
Родители и бабушка, категорически запрещали Ларочке ходить через мост за Чару, там ивняки, там заброшенная лодочная станция, со страшными дырявыми байдарками, там мальчишки жгут костры и дерутся.
— Да нет, за какой речкой, здесь рядом, за кочегаркой.
Получается, что она ничего не нарушает, все рядом, возьмет конфету и все. Второклассница хлопнула портфелем по коленке.
— Пойдемте.
— Вот и хорошо, и не надо меня боятся.
— А я и не боюсь.
Ларочка сказала правду, ей нисколько не было страшно.
Они свернули с улицы на тропинку между липами, и направились вглубь двора. Мимо напряженно гудящей трансформаторной будки, как будто проглотившей огромную пчелу. Мимо прохладной компании белоснежных простыней на провисшей веревке.
— Куда, сюда? — Деловито осведомилась Ларочка. Такой у нее был характер. Если приняла решение, то дальше она сама решительность и деловитость.
— Сюда, сюда! — Хрипло шептал дядя, отворяя грязную железную дверь, и опасливо оглядываясь, не обратил ли кто внимания на них. Место глухое, тихое, хоть и в центре города.
Коневы жили в отдельном одноэтажном доме с садом, примыкавшим к реке. Конечно, нет тех удобств, что в недавно построенных пятиэтажках для офицерского состава, но зато какой простор. Жена Нина пилила капитана «тебя не ценят, ты тряпка, удивляюсь, как нас вообще в капонир не загонят». А капитану его «поместье» нравилось, и огород под боком, и рыбалка. Ларочке тоже нравилось жить у реки, например этой весной, когда начался ледоход, то у них льдины плавали между яблонями, царапая острыми краями мокрую кору, а папа со своими солдатиками спасал под причитания жены и вой сирены картошку из родимого погреба.
Бабушка Виктория как всегда пила с улыбкою кофе, стоя на крыльце в черно–золотом халате с драконами. Она смотрела на наводнение без страха, и внушила это бесстрашие внучке. «Что поделаешь, это стихия, Ларочка».
Ларочка вбежала в большой, неправильно скроенный, и от этого особенно уютный дом, где открыты все окна, отдернуты все занавески, и куда ни глянь — жасмины и сирени, то в оконных проемах, то в зеркалах.
— Папа! Мама! Бабушка! — Потрясенно кричала второклассница вращая портфелем как пропеллером. Ей нужно было немедленно с кем–то поделиться открытиями, которые она только что совершила. Она была уверена, что все страшно удивятся. Что похвалят, она уверена не была. Вернее, не думала сейчас об этом.
Главное — рассказать!
Первая по коридору с веранды комната — спальня. Папина и мамина. Там всегда торжественно пахнет духами, там таинственно лоснящиеся шкафы с вожделенными платьями и туфлями на каблуках.
— Мама!
Мама Нина стояла на коленях перед открытым чемоданом, и нервно запихивала в него вещи. Пальто с песцовым воротником, босоножку, замотавшуюся в газовый шейный платок, и хрустальную салатницу. При этом мама тяжело навзрыд плакала. Нескладно, кое–как, набив фибровое вместилище, она начала его закрывать, надавливая чахлой грудью на непокорную крышку.
Ларочка была потрясена: вместо того, чтобы вытаскивать щедрые подарки из командировочного чемодана, она вела себя совершенно противоположным образом!
Школьница бросилась маме Нине сбоку на шею, чем нарушила ее равновесие на коленях.
— Что я расскажу, мамочка, что я расскажу!
— Погоди, дочка.
— Послушай, мамочка, послушай!
Чтобы не упасть на бок, придавливая говорунью, Нина Семеновна оттолкнула ее острым локтем.
— Я сказала, погоди!
Ларочка слегка опешила от этого приступа резкости. Она считала, что такого отношения никак не заслужила, она ведь хотела всего лишь рассказать…
— Не мешай, Лариса, не мешай мне! — Голос у мамы был такой, что девочка совсем растерялась. Она не отказалась от своей идеи порадовать домашних, описанием удивительного события произошедшего только что с нею, ее не так–то легко было сбить с выбранного курса, она лишь решила слегка поменять порядок радуемых.
Выскочила в упоительно затхлый полумрак коридора, и взорвала его.
— Папа!
Николай Николаевич Конев сидел в комнате, называвшейся «зал». Сидел в продавленном кресле из чешского гарнитура с деревянными подлокотниками, под торшером: два опрокинутых ведерка из крашеного картона. Он был в домашних штанах, подтяжках, голова очень круто поникла и была схвачена обеими руками самым отчаянным образом.
— Папа, послушай!
Капитан не мог слушать, его расплющивало неизвестное горе, и, кажется, еще и смешанное с позором. Ларочка, конечно, не отметила про себя именно эти особенности отцовской позы, она просто удивилась тому, как он странно сидит. Может, устал?
— Папочка, я тебе сейчас что расскажу!
— Не сейчас Ларочка, не сейчас.
— А когда? — Искренне, и требовательно удивилась шумная школьница.
— Не сейчас, Ларочка, не сейчас.
Дочь очень удивилась. Папа никогда ей ни в чем не отказывал. Она знала, что папа ее любит, ей было приятно знать, что он ее любит, но вместе с тем, она не раз слышала от мамы, что отец у них «тряпка» он вообще не способен отказать женщине, ни в чем, если она его хотя бы чуть–чуть попросит. И вот теперь, папа отказывал ей.
С ума сойти!
Когда рассчитываешь на полную безотказность, то даже мягкий отказ сбивает с напора и ритма.
— Что же мне, к бабушке пойти? — Вслух высказалась школьница.
В ответ на это капитан Конев только странно дернулся, и еще сильнее сцепил пальцы на затылке.
Папа, явно испуган. Ларочка знала, что ее папа «боевой офицер», но, при этом привыкла к мысли, что его очень легко поставить на место, которое предусмотрено для него в семье. И мама, и бабушка легко проделывали эту операцию, и дочь капитана знала, что и ей по наследству перейдет это право.
Ларочка не выбежала из «зала», а вышла медленно, размышляюще, прикусив губы. И увидела в дверном проеме Викторию Владимировну, она как в ни в чем не бывало, гладила на веранде, расположив гладильную доску у решетчатого окна, закрытого с той стороны бесплодным виноградом. Бабушка орудовала утюгом, прицелившись глазом в его поблескивающий нос, и что–то брезгливо напевала.
Вот ей она все и расскажет, решила школьница. Правда, желание поделиться невероятным событием из своей жизни, уже начало потихоньку уступать желанию разобраться в том, что происходит в семье.
Тихо выйдя на веранду, она остановилась.
Виктория Владимировна отметила ее появление периферическим зрением, но не стала уделять меньше внимания глажке. Даже поднесла ко рту утюг и плюнула ему в дно.
Ларочка молчала, обдумывая с чего и как начать. Бабушку, она не только любила, но и уважала. В свои сорок восемь лет Виктория Владимировна сохранила в себе больше женского начала, чем ее, все отдающая работе и семье дочь, в тридцать. Работала в парикмахерской, называла его «салоном красоты», и вела себя там верховной жрицей, хотя не считалась особо талантливым мастером ни среди коллег, ни среди клиентов. Но попробовал бы кто–нибудь ей об этом сказать в глаза.
— Ну, что Лариса, что тебе нужно, дочка? — Ларочке нравилось, когда бабушка называла ее так.
— Ты знаешь, Вика (бабушкой Виктория Владимировна называть себя запрещала), сегодня такое случилось!
— Да знаю, знаю.
Ларочка открыла рот.
— Знаешь?
— Конечно.
Бабушка снова плюнула в утюг.
— А кто тебе сказал?
Виктория Владимировна повернулась к ней, поставив утюг на расплющенную юбку. Наклонилась к внучке, подавляя мощным черноглазым взором.
— Я вообще все знаю наперед. Ты сегодня перешла в четвертый класс, правильно?
Ларочка не успела возразить. Бабушка своей простой, однозначной правотой перебила ее столь необыкновенную историю в том тихом дворе за железной дверью.
Тут еще сзади раздался такой звук, как будто весь дом вдруг поставили на пилораму и начала распиливать. Мама пронеслась по темному коридору в «зал» и накинулась там на капитана Конева и так на все согласного.
Виктория Владимировна прорычала несколько непонятных слов и решительно пошла вглубь дома.
— Ну, хватит, хватит! Что теперь делать, надо же как–то жить.
Ларочка вздохнула. Взгляд ее упал на гладильную доску — юбка сгорит! Она схватила утюг, поставила его на специальный плоский камешек, осторожно, чтобы не обжечься. И заметила вдруг, что утюг не включен, вилка волочиться по полу. Зачем же тогда бабушка на него плевала?
А из недр дома доносился звук мучительного, с закушенными рыданиями, и сдавленным беспросветным воем (мама Нина) скандала, поверх которого то и дело всплывало уверенное, повелительно успокаивающее мнение бабушки.
— Надо как–то жить!
2
Так ничего в тот день и не выяснилось. Взрослые не подпустили Ларочку к логову своих разборок, и действовали настолько консолидировано, что она даже зауважала их общую слезоточивую и невразумительную тайну. Было понятно, что они ни официально хором, ни сепаратно поодиночке не сообщат ей ничего. Ладно, решила она, не сегодня так завтра, кто–нибудь проколется, правда проклюнется, так уж бывало не раз. А пока она им сама им отомстит, то есть ничего не скажет о своем приключении в холодной кочегарке, то же ведь было интересно, а они пусть не знают, дураки.
Свой секрет Ларочка решила опробовать на подружках, на таких же капитанских дочках, как и она сама, благо офицерские семьи в ту пору расцветали как клумбы благодаря неусыпному пригляду партии и правительства. Ларочка была главой выводка одногодок, и по ее сигналу все имевшиеся поблизости Наташи, Лены и Кристины собрались в «штабе», покосившемся, вросшем в землю жестяном вагончике, давным давно забытом строителями.
Сошлись, готовые приобщиться. Затаив дыхание, выпучив глаза, кто простодушно, кто лукаво их прищурив.
— Так вот. — Начала Ларочка. Описала улицу, по которой шла домой, описала мужчину, предложившего ей конфетку, и все офицерские дочки заявили, что узнают его, даже из тысячи. Девичье дыхание сделалось чаще, когда пошла речь о закоулках, по которым мужчина с олимпийскими кольцами на кармане, вел Ларочку в укромное место. И чем чаще Ларочка повторяла, что ей было совсем не страшно, тем затаеннее становилось дыхание слушательниц.
Растягивая удовольствие, она замолчала, победоносно оглядывая подружек, она очень остро переживала факт своего превосходства над этими десятилетними, и даже постарше, клушами.
— И тогда он расстегнул ремень.
— Ой–ей–ей, девочка мне пора, мне надо идти. — Вскинулась белобрысая Света Михальчик. Дернулась было к выходу, но цепкие пальцы более устойчивых в нервном смысле товарок, пригвоздили ее к месту. Не сбивай рассказа!
Света захныкала, но это никого не тронуло.
— И тогда…
Пронизанный струями пыльного света из узких окошек вагончик, замер, даже перестало пахнуть застарелым мазутом.
Ларочка еще раз набрала воздуха в грудь, которой предстояло очень и очень развиться будущем.
— И…
Неплотно прикрытая дверь вагончика распахнулась, и в проеме показалась бесформенная и кажущаяся громадной и угрожающей мужская фигура. Разумеется, все офицерские девочки решили, что это явился он — олимпиец.
Взрывом общего визга рыбака, носившего по странному совпадению имя майор Рыбаков, просто выбило вон из проема, и он пропустил свору верещащих девчонок, как стайку рыб в разрыв невода.
Ничего не понял, всего лишь зашел за банкой накопанных червей, а тут шабаш юных вакханок (если он знал это слово).
Понятно, что волнующая повесть о ларочкином приключении мгновенно распространилась сначала по военному городку, а потом и другим городским кругам. Самым клейким ее местом был не озвученный конец. Женскую половину слушателей больше всего заинтересовал сам факт — с чьей именно девочкой произошло такое щекотливое приключение. «Ах, Конева!» Мужскую интриговало, насколько далеко после расстегивания ремня зашло дело.
Но тут начиналась тишина. Трудно сказать почему, Ларочка пресекла попытки повторных пресс–конференций на эту тему. То ли поняла, то ли почувствовала, что если она расскажет все, то перестанет взывать живой интерес, и останется ей лишь один только нездоровый. То ли руководствуясь еще каким–то диким девичьим капризом. Психология существ этого пола и возраста за гранью понимания какой бы то ни было психологической науки.
Вместе с тем, она постоянно оставалась в центре внимания, и не только недокормленных запретным плодом одногодок из гарнизона. Они то всеми силами отдались служению жутковатой тайне пола. То и дело какая–то Наташа, или Света, подбегали к ней и страшным шепотом сообщали что «видели его!» И тогда приходилось всей, быстро разрастающейся толпой лететь или к керосиновой лавке, или к пункту заготовки вторсырья, или к книжному магазину возле автовокзала.
И каждый раз случалось одно и то же.
Мужики, отловленные бдительным вниманием подружек, ну ни в малейшей степени не походили под описание сделанное на первом выступлении Ларочки в вагончике на берегу. Это были лысые толстяки, носатые с бородкой, а то и вообще одноногие дядьки на протезе.
Ларочка сначала волновалась, потом начала злиться, а уж когда со своей «информацией» к ней подкралась Катька Куркова, приехавшая в город через неделю после события в кочегарке, Ларочка надавала ей по физиономии. После этого решили, что она «истеричка».
Взрослые, до которых эта история то же не могла не дойти, понимающе кивали головами — " а что вы хотите, девушка пережила такой кошмар». И пытались осторожно поговорить с родителями и бабушкой Ларочки.
Те, искренне не понимали, о чем идет речь, даже шарахались от всяких попыток разговора по душам. У них были свои основания не впускать никого во внутреннюю жизнь своей семьи, и приходили в ужас от одной мысли, что посторонние начали догадываться об их тайне.
«Какие они странные, эти Коневы»
«Да, уж».
«Я всего лишь сказала Нине, покажите хотя бы ее врачу».
«А она вылупилась на меня, и говорит — кого?»
" Как кого, говорю, неужели непонятно!»
«Да что с ней может случиться!?»
«А если забеременеет, что будете делать?»
«Да, кто в таком возрасте беременеет?!»
«А я только прочитала в «Науке и жизни», что в Бразилии девочка, которая в восемь уже родила».
Нина Семеновна, подвергавшаяся этой деликатной попытке поговорить, заорала страшным голосом и, отпихнув слишком добрососедски настроенную подполковницу, убежала из магазина, роняя из хозяйственных сумок батоны и яйца.
Конечно, по гарнизону и городу поползли все более чернеющие слухи.
Чем бы это кончилось сказать трудно, но дело в том, что Коневы вдруг уехали из гарнизона.
Капитан, несмотря на всю свою мягкотелость и неспособность к отстаиванию своих интересов, добился перевода. Да еще и в область, да еще и на майорскую должность.
В гарнизоне к этому переводу отнеслись с пониманием, и даже поползли слухи, что таинственный владелец того самого ремня не простой человек.
Накануне отъезда было устроено по настоянию Виктории Владимировны (кстати, остававшейся для отдельного проживания в одной из комнат гарнизонного дома Коневых и при своей стильной работе в салоне красоты) некий вечер прощания. Помимо членов капитанского семейства, в числе приглашенных были еще и старший лейтенант Стебельков с супругой и трехлетним сыном — им доставалась большая часть жилплощади убывающих Коневых, а так же Лион Иванович, соученик Виктории Владимировны по Ленинградскому институту культуры. Автор скетчей и комических сюжетов в основном для коллективов художественной самодеятельности, но иногда прорывавшийся и на профессиональную эстраду, перебравшийся проживавший к тому моменту в Москву. В общем, человек из мира большого искусства. Маленький, ловкий как хорошо одетая обезьянка, в бежевой тройке с бабочкой, в очках без оправы, и с часами на цепочке. Вся эта сложная экипировка производила должное впечатление, почти все приглашенные немножко робели, несмотря на всю доступность и деликатность, и легкую смешливость гостя.
Виктория Владимировна подавала его как центральное блюдо своего пира, как какая–нибудь сиамская императрица потчует гостей редким жареным скорпионом.
Конечно, Лион Иванович прибыл к гарнизонному столу не специально, это было бы слишком. Просто в окрестностях городка вмещающего танковый полк, находился старинный монастырь, где происходили съемки слезливо–исторического кинополотна под условным названием «Полонез Огинского», а однокорытник Виктории Владимировны состоял в сценарной группе, и имел шанс даже оказаться в титрах по итогам работы.
Конечно, демонстрируя уровень своих творческих друзей, Виктория Владимировна очень поднимала свой статус. Она собиралась появиться с Лиошей и в своем салоне, и организовала через майора Глуховца, начальника гарнизонного клуба, вечер–встречу с «известным деятелем кино», но для начала и с самой большой педалью подала скетчиста у себя за столом, в домике над Чарой.
Стебельковы были в отпаде, кажется, так тогда говорили. Незаметно для них самих этим застольем устанавливался на годы вперед стиль их отношений с работницей салона красоты. Конечно, это будет что–то вроде добровольного радостного рабства: их мальчишка, когда подрастет, будет бегать в магазин, старший лейтенант чинить бытовую технику, а мадам Стебелькова гладить и возможно даже стирать для подруги Лиона Ивановича.
Коневы держались много суше. Скетчист это чувствовал, но это его не расстраивало. Он был дружелюбен, любезен и в силу этого выгодно смотрелся на фоне буки капитана.
Когда он шутил, Стебельков хохотал громче всех, показывая широту профессиональной и человеческой своей натуры. Ларочка посадили за стол как почти уже большую девочку, чем дали волю ее наблюдательности. презрительно на него косилась, он ей казался предателем. Почему он не так же суров как папа?
Она в течение этого одновременно развеселого и насупленного вечера укрепилась в своем отношении к отцу, и узнала одну поразительную для нее вещь. Сначала про отца. Его она жалела, и уже давно, о чем шла речь выше. Но не только лишь жалела. Вынося его образ из стен дома, где он играл роль предмета мебели, да еще и не главного, она считала своим долгом им гордиться, и всегда до последнего отстаивала его точку зрения на факты окружающего мира.
Был такой случай в ее школьной жизни. Учительница как–то задала классу загадку, одну из многих на уроке, но Ларочке запомнилась именно она. «Что это такое, что и в воде не тонет, и в огне не горит?» Ларочка сразу выбросила вверх свою решительную руку, ибо досконально знала ответ. Ведь папа ей сказал как–то, что это русский солдат, «он и в огне не горит, и в огне не тонет».
Зная избыточную активность ученицы Коневой, учительница не стала ее спрашивать, а спросила кого–то другого. И другая девочка сказала: «Лед!». Была похвалена за правильный ответ, что вызвало совершеннейшую ярость Ларочки, она продолжала тянуть руку, она требовала, чтобы выслушали ее ответ. Ответ, который казался ей возвышенным и прекрасным в отличие от банального ответа той другой девочки.
Наконец учительница, недовольно кривясь, дала ей слово.
— Русский солдат!
— Что русский солдат? — Устало переспросила учительница.
— Русский солдат и в воде не горит и в воде не тонет!
Учительница встретилась с Ларочкой взглядом и поняла, что спорить не надо.
— Да, можно сказать и так, что лед и русский солдат немного похожи.
Гордая своей победой в тот же вечер Ларочка рассказала отцу об этом эпизоде.
— Я ведь правду сказала, папа?!
Капитан, в тот момент оторванный злой женской волей от любимого хоккея, ради прополки картошки, обнял дочку и, шмыгнув, носом сказал.
— Солдат, да дочка, а вот офицер…
И ей стало его так жалко, и эта жалость таким удивительным образом перемешивалась с гордостью за него, за ту правду, что он позволял ей испытывать перед этой тусклой теткой–учительницей там, среди тупо хохочущего, или вяло зевающего класса.
— Папочка, а я ведь дочь офицера?
Капитан только сильнее ее обнял.
А в тот прощальный вечер произошло что–то скверное. Папа напился, хотя, в общем–то, не был гулякой и алкашом, как большинство подкаблучников.
Говорили о кино. Не вообще о кино, а о том фильме, при котором подвизался Лион Иванович. Бабушка и Стебельковы следили за тем, чтобы разговор никуда не отворачивал с этой «творческой» дорожки. Наконец, капитану Коневу это надоело, и он заявил, что «такие фильмы» он терпеть не может. «Какие?» — вежливо и весело поинтересовался гость. Капитан сказал, что любит фильмы настоящие. Гость попросил привести пример фильма, которые нравятся хозяину дома. Тот на секунду задумался.
— Вот «Героин». В «Заре» идет. — Капитал вспомнил, что замполит советовал сходить на эту картину, поскольку там отображены события на острове Даманский.
Лион Иванович радостно кивнул.
— Вы его уже видели?
— Я его еще не видел, но я люблю героические фильмы, а не ваши полонезы.
Гость притворно вздохнул.
— Мне кажется, что вам это кино не понравится. Это документальное кино.
— А это ты врешь! Героизм есть героизм, и без него армия никуда, с документами или без документов.
— Там, извините, о героине, а не о героизме.
— А это ты не болтай, героя как не назови, он всегда герой.
Ну, и так далее. Молодые Стебельковы уже сбегали в кино, и знали, о чем идет речь. Районные прокатчики, получив коробки с лентой, не разобрались, что там два фильма, один, действительно о событиях на амурской границе, а второй о страшном вреде, приносимом наркотиком героином. И на афишу вынесли самое звучное слово из написанных на коробках.
Стебельковы веселились. Нина Семеновна, была слишком занятая своей, не очень понятной тоской, тупо смотрела по сторонам, у нее не было сил, что либо понимать. Виктория Владимировна вертела за талию свою рюмку, подняв правую бровь. Лион Иванович сохранял на лице полную серьезность, но Ларочке было понятно, что он издевается над ее отцом–офицером. Это нужно было срочно прекратить, и Ларочка опрокинула бокал с вином «Лидия» на бежевые штанишки говорливого «денди», но промазала, попала на подол бабушки. На нее она то же была в данный момент сердита, хотя и в рамках общего почтения к ее грандиозности и величию.
Ларочка выбежала из–за стола, оставляя за собой неразбериху и причитания. Лучше скандал, чем зрелище агонизирующего отца. И унеслась злая в темноту на берег Чары. На мост, к которому ей запрещали приближаться.
Река была пятнистая, и сияла как начищенная, там, где ее не закрывали ивовые обвалы. Луна пересекалась двумя узкими облаками, разноцветными и двигавшимися с разной скоростью. На глинистом пятачке в камышах дергалось пламя костерка, там тоже было застолье.
Стоявшую на мосту девочку сразу заметили, что сказалось на работе голосов, они сразу все чуть охрипли, и вокруг них возникла заговорщицкая аура.
— Эй, Лариска, иди сюда, хочешь вина?
Ларочка не сочла нужным отвечать, ей еще хотелось получить какие–то витамины от этой поразительной ночной картины, почти не испорченной пьяноватым костерком.
— Эй! — Крикнули опять. И из камышей вышел парень. Незнакомый, как сразу поняла Ларочка. Она не испугалась, хотя поняла, что в парне этом есть угроза. Непонятная, но точно есть. Он забрался на мост и двинулся к ней, такой походкой, что даже в темноте можно было понять, что гнусно улыбается.
— Тебя ведь Лариса зовут?
— Да.
— Ну, это даже теплее. Пойдем. Там вина есть, поговорим. Луна.
Приблизившийся парень, видимо возбужденный рассказами о таинственном прошлом девы Ларочки, сделал почти мгновенное двойное движение, убил пару комаров на щеке и схватил третьеклассницу за руку.
— Пошли!
— Не хочу. — Просто и серьезно сказала Ларочка.
— Пошли, чего кобенишься. — И сильно, грубо потянул.
Непонятно, что показалось Ларочке более отвратительным физическое хамство или это, в общем–то общеупотребительное в здешних окрестностях слово. Она вдруг толкнула его с совсем не детской силой. И он, от неожиданности, перевалился спиной через перила, и молча, шлепнулся в реку.
3
Город Гродно от других белорусских городов отличался тем, что во время войны его и наши сдали немцам практически без боя, и получили обратно не штурмуя, поэтому он сохранил большую часть своего исторического вида.
Приземистый замок Стефана Батория на правом, высоком берегу Немана, несколько частично действующих костелов, сеть узких улочек старинной застройки, с крохотными магазинчиками и ресторанчиками. Несомненным культурным центром города был Дом Офицеров, двухэтажный особняк до такой степени увитый плющом, что напоминал лежащую овцу. В пристроенном у него в тылу концертном зале проходили главные гастрольные концерты, к нему же был прилеплен и специальный гимнастический зал для всемирно знаменитой гимнастки Ольги Корбут. Ларочка записалась сразу в пять кружков имевшихся в Доме. Музыка, лепка, театральный, кулинарный, исторический и еще хор.
Училась она отлично, пересадка ее ученического организма из одной школьной почвы в другую (что иной раз ломает слабые характеры) прошла для нее безболезненно. Она умудрялась быть одновременно и формальным и неформальным лидером. Активно включалась во все официальные акции — макулатура, металлолом — и всегда оказывалась среди передовиков, при этом даже у самых закоренелых неформалов не возникало желания отлупить ее после школы портфелями. И для них она оказывалась как бы своя. Когда пришло время вступать в пионеры, она не просто вступила, но скоро стала членом совета дружины с явными председательскими перспективами.
Каждое лето отправлялась Ларочка в пионерский лагерь. Детям обычно там не нравится, ей нравилось. Особенно во время праздников. Кутерьма, горн, ночные костры, песни в обнимку, слезы, восхищение наступающим будущим.
Лагерь «Румлево» располагался на огромном, густо поросшем соснами холме, изрытом кротами. Повседневная жизнь там была, конечно, вяловата. Пионервожатые крутили между собой полускрытые романы и почти открыто исповедовали портвейн. Пионеры, предоставленные сами себе зевали в беседках, скучно глядя на одинокий волейбольный мяч, валявшийся под дырявой, провисшей почти до земли сеткой. Отдельные личности охотились за земляникой или бабочками. Ларочка им даже завидовала немного, их посвященности и увлеченности, но чувствовала отвращение к столь немасштабной работе.
Лагерь преображался в последние три дня каждой смены, когда начиналась подготовка к «Большой эстафете». Многоэтапное соревнование: прыжки, метание, плавание, шахматы, бег, волейбол, городки и все что только можно придумать. Причем, суть замысла была в том, что соревновались не отряды, первый, второй, пятый, где победителя определяло бы простое преимущество в возрасте, а «цветные» команды, «нарезанные» по кусочку из каждого отряда. «Красные», «синие», «желтые», «белые».
Ларочка каждый год, и на все три смены становилась членом своего штаба, и всегда это были «красные». Она знала, как расставить людей. Лучше всех представляла кто «у нее» прыгун, кто бегун, а кому лучше сесть за шахматную доску, или согнуться в тире. Сначала с ней пытались спорить и ставить на место, как девчонку, но, она умела перекричать и настоять на своем, и, поскольку она всегда потом выигрывала и с большим отрывом, ее уже со второй смены делали начальником штаба.
Ларочка не могла бы объяснить, что с ней происходит, когда происходит это разделение на «своих» и «чужих». На «красных» и прочих. Важность победы для своих вдруг становилась для нее какой–то огромной, даже безусловной ценностью, и она на многое была готова. Да, на все. Почему–то с момента распределения ребят на команды, все «не красные» становились для нее совсем чужими, как бы выведенными из под действия общего дружеского закона. Не рассуждая, она готова была умереть за «красных». За своих.
Вот она — совершенно оформившаяся семиклассница. В обтягивающей майке, и синих трениках тоже все как надо обтягивающих, с двумя решительными хвостами на голове, быстрым зеленым взглядом, она, конечно, ощущала постоянно сочащееся в ее сторону мужское внимание. Завхоз и шофер лагерной продуктовой машины так те просто прицокивали языком при ее появлении, и произносили уже почти недвусмысленные двусмысленности, но Ларочка воспринимала эти «знаки внимания» с редкостным хладнокровием. Не оскорблялась ханжески, мол, как им не стыдно. Расценивала как все же отличие, но не заслуживающее какой–то реакции.
Между тем, ее быстрые зеленые глаза обречены были на ком–то остановиться. И только к третьему заезду «случилось». Уже с первого дня заезда, она почувствовала, что стремится оказаться рядом с мальчиком по имени Женя. Чем–то особенно выделялся? Да, в общем–то, нет. Длинный, с чуть наклоненной вперед наивной головой. У него была кличка Лапоть, из–за походки. Нога выросла непропорционально быстро, как это случается сплошь и рядом, нужен был семикласснику сорок четвертый.
«Пойдем собирать одуванчики?»
«Пойдем!»
«Сыграем в настольный теннис?»
«Сыграем».
Он всегда односложно соглашался на все, что она ему ни предлагала, и выполнял ровно столько, сколько от него требовалось данным соглашением.
Естественно, Ларочка ждала чего–то сверх. Пройдя свою часть пути, она интуитивно рассчитывала на продолжение, может быть, даже и не конкретизируя для себя каким ему быть. Целоваться они будут, или что–то там еще… Женя оставался неподвижен. Даже когда бродил по берегу реки, нырял, или лупил ракеткой по пластмассовому мячику.
Ларочка досадовала, но не слишком, потому что таким своим поведением Женя ничего вроде бы не портил, возможность продолжения все время сохранялась, тем более, что впереди расстилались почти бесконечные солнечные просторы лагерного августа.
Но несчастье пришло из под земли. Во время одной из меланхолических прогулок зачем–то понадобилось Жене залезть рукою в кротовью нору, и его цапнул за палец рассерженный зверек. Когда об этом узнала медсестра, она почему–то пришла в ужас, и велела везти Женю в город, делать прививку от столбняка и бешенства. Оказалось так же, что от бешенства нужно сделать целых тридцать прививок, и все в живот. Женю каждый день после обеда усаживали в продуктовую машину и везли Гродно, и возвращали лишь к вечеру на ней же.
И без того вялотекущий роман превратился вообще в дым. Ларочка с Женей могли только видеться мельком за завтраком и за ужином.
И вот очередная «эстафета».
Накануне старший пионервожатый Леонид с удивительной фамилией Желудок — ударение на последнем слоге — предложил Ларочке как начальнику штаба своей команды прогуляться вечером. «Надо обсудить, как все чтобы прошло завтра».
Ларочка сказала, что надо собрать всех начальников для такого дела. Сказала так не только из чувства справедливости, но и из любви к атмосфере штабных посиделок, когда ребята деловито покуривают, чертят какие–то схемы на столе, лихорадочно светит лампочка под потолком палатки, вершится лагерная история…
Леонид лениво объяснил, что с этими «оболтусами» он уже обмолвился, а с ней он бы хотел заняться отдельно, поскольку чувствует особую ответственность за ее «красных».
Ларочка согласилась, ради «своих» она была готова на многое. Ее не слишком смутило то, что местом важного разговора был выбрана отдаленная беседка на берегу реки, а временем — «после отбоя».
Светилось зеркало бесшумно бегущей воды, луна присутствовала за кронами сосен, комары то и дело вынуждали к неромантическим телодвижениям. Леонид начал издалека и солидно. Сказал, что уже давно следит за ларочкиной работой, и видит в ней перспективный кадр, собирается продвинуть по рельсам интересной комсомольской работы. С этими словами он положил руку ей на левую часть лифчика. Начальница штаба «красных» осталась в полнейшей неподвижности. Она не могла решить, продолжается ли разговор о ее карьерных возможностях, или это уже начался переход к чему–то другому.
Леонид, посчитав, что первый рубеж уже взят, решительно двинулся вглубь захваченного плацдарма. Он сказал, что есть мнение, что в будущем она, Лариса Конева вполне могла бы стать старшей пионервожатой здесь в «Румлево», и его вторая рука опустилась на колено кандидатки.
— Ах, вот оно что. — Сказала начальница штаба совершенно взрослым женским голосом.
— А ты как думала! — Сбросил маску Леонид, даже радуясь тому, что разговор приобретает простой технический характер. Ты мне, я тебе. До него доходили слухи, что эта Ларочка девушка с каким–то интересным прошлым. Ничего конкретного, но все же…
В этот раз она не стала заниматься рукоприкладством. Просто резко встала всей мощью юного крепкого тела, отчего принявший уже не вполне устойчивое положение Желудок, полетел со скамьи, да еще и под откос к реке.
Лариса молча развернулась и исчезла в ночи.
Леонид совсем не по–пионерски выматерился ей вслед, присовокупив обещание отомстить.
4
Сдерживать свое обещание он начал уже прямо назавтра. Выяснилось вдруг, что в лагерь не завезли красной материи, и ларочкиному отряду пришлось выступать с черными повязками, и их все стали называть «похоронная команда». А еще была запущена, конечно же из штаба эстафеты кличка для этой команды «жеребята». Как ни странно, многих мальчишек это смутило. У одного срочно разболелся зуб, у второго живот. У всех прочих потухли глаза. Команда лишенная боевого духа обречена на поражение.
Руки у Ларочки не опустились, даже наоборот. Она внутренне закипела, и одновременно сцепила зубы, провела необходимую контрработу. Встряхнула каждого, объяснила, что это диверсия, и все потому, что «их», «черных» все боятся. «Мы назло им всем будем работать по–черному и победим!»
До некоторой степени ей удалось поднять дух своего войска. Она с особой тщательностью разработала систему расстановки людей на этапах. Лично дважды прошла всю длинную дистанцию, изучила особенности трассы и так далее. У нее родилось несколько хитрых придумок, как выиграть тут, как выгадать там.
Утро эстафеты выдалось свежее, яркое, громко звенел на весь лес динамик прибитый к сосне, вились флаги, провисали транспаранты, лагерь был охвачен всеобщей боевитой и бестолковой суетой.
Леонид не смотрел в сторону Ларисы. Она только затаенно усмехалась.
Старт.
Сначала бег в мешках.
Ларисины мешочники сработали неплохо. Недолгое лидерство.
Потом стрельба по надувным шарам из пневматических винтовок. Вперед выходят «синие» и «желтые», но «черные» рядом. Над ними пытаются смеяться в толпе зрителей, но в состоянии реального соревнования, это производит обратный эффект, сплачивает «черную» команду.
Подтягивания на перекладине.
Специально подобранные и натасканные Ларочкой малыши–крепыши приносят кучу очков.
Перетягивание каната. Все команды с хохотом валятся на землю. Ничья.
Велосипедный слалом. Пятеро поцарапанных. Медсестра мечется с зеленкой и бинтами.
Лодочные гонки против течения. Безусловный победитель — течение.
Лариса с невозмутимым выражением лица перемещалась от одной арены к другой, отдавала короткие команды, поддерживала уставших, подбадривала сомневающихся.
Постепенно выявились два лидера. «Желтые» и «черные», они довольно сильно оторвались в общем зачете от других команд. Но лидировали все же «желтые». Лариса понимала, что сопернику подыгрывают, Леонид с послушной шайкой своих клевретов делает все, чтобы утопить «черных». И впереди оставалось самое главное соревнование — троеборье. Каждая команда выделяла по главному своему герою, и он должен был сразиться последовательно в лазании на скорость по канату, плавании и кроссе. По всем расчетам выходило — «черным» второе место. Слишком большой разрыв в очках. Пока все столпились у перекладины с канатами, Лариса Козлова тихо скрылась в зарослях орешника.
У нее был план, как обернуть дело на пользу своей команде. Не совсем честный, но как тут можно говорить о честности, после всех этих «жеребят», судейских придирок, и общего античерного настроя Желудка и его банды. На войне как на войне.
Взлетев по канату, троебороец, обжигая ладони, соскальзывал вниз, мчался к запруде, где бросался в воду. Форсировав тридцатиметровую запруду должен был, тут же обуться, и совершить пятисотметровый забег вокруг лагеря по пересеченной сосновыми корнями и усыпанной сосновыми шишками тропе.
Как выяснилось в последний момент, за лидеров, за «желтых» должен был финишировать Женя. Несмотря на свои актикротовые уколы, он чувствовал себя отлично и сам настоял на том, чтобы его поставили на самый трудный этап. Отчасти, может быть, потому, что ему хотелось покрасоваться перед Ларочкой, которую он не знал чем удивить.
Лариса Конева, узнав о раскладе, на некоторое время пришла в замешательство. Села в сторонке, прижав ладони к щекам. Предстояло сделать выбор, любовь, или победа.
Минуты через две выбор был сделан.
Лариса Конева выбралась из орешника как раз в том месте, где должен был начинаться беговой финальный этап. Там, на специальной широкой табуретке лежали уже четыре пары приготовленных кед, в них вставят свои мокрые ноги разгоряченные пловцы. У табуретки дежурила парочка первоклашек, да и то очень невнимательно, потому что им хотелось посмотреть «как там все».
Ларочка погладила их по нагретым солнцем головкам и совершенно незаметно изъяла пару длинных, сорок четвертого размера кед, предназначенных для Жени. И исчезла в орешнике.
С каким сердцем она делала это?
Кто может это знать!
Одно несомненно, когда лидер «желтых» не найдя подходящей обувки, и не сумев немедленно подыскать подходящую замену, рванул босыми ногами по лесной тропе, она смотрела на это с каменным, мертвым выражением лица. А когда Женю, некрасиво приплясывающего на бесконечных шишках, шипящего от боли, стали обгонять не только «черные», но и все остальные, она закрыла глаза и из под век выкатилось несколько слезинок.
Объяснились они через пару недель, уже в городе. Объяснение состоялось у домика–музея Элизы Ожешко, потому что там никогда не бывало никаких людей. Лариса спросила у Жени, как он себя чувствует, не нужна ли ему помощь, у нее мама работает в госпитале. Женя чувствовал себя нормально, так, царапины, никакого госпиталя не нужно. Вот бы только найти того гада, который стащил кеды со скамейки.
— Это я сделала. — Сказала Лариса, твердо глядя ему в глаза. Он сразу понял, что она не шутит. Лариса объяснила, что по–другому поступить не могла, после всего, что допустил этот негодяй Желудок. Она рассказала Жене все, и про беседку, и про подлые «клички» в адрес ее команды, и про судейские подтасовки.
— Разве я могла поступить по–другому в такой ситуации?
Женя совсем смешался под напором зеленого взгляда. Ситуация была до такой степени ему не по возрасту, что он отказывался что либо понимать.
— Так ты хочешь меня обвинить? Иди доложи, доложи, и пусть они отменят все результаты!
Какие результаты? кто отменит? Эти вопросы не помещались у парня в голове, ему хотелось уйти. Он сделал невольно несколько шагов в сторону.
— Иди, иди, беги, беги!
Он пошел быстро в непонятном направлении.
— Только учти, я тоже молчать не стану!
Женя пошел быстрее.
5
Ларочка, согревающаяся чувством исполненного долга, отправилась в парк. Там была назначена еще одна интересная встреча. Приехал в Гродно с концертной бригадой небезызвестный Лион Иванович. Афиша с его лоснящейся физиономией уже три дня висела в витрине Дома Офицеров.
Конечно же, он пожелал увидеть родственников своей старинной подруги и однокашницы Виктории Владимировны и в хорошем столичном стиле прислал им на дом билеты на концерт.
Несмотря на всю эту галантность Коневы не пожелали принять столичного гостя у себя дома, договорились только о встрече в парковом кафе. Надо сказать, Лион Иванович не оскорбился, сделал вид, что понимает — у людей могут быть свои основания для такого не слишком восхищенного приема, и вообще, он выглядел человеком, которого трудно обидеть и невозможно удивить.
Ларочка присоединилась к компании, как раз когда было подано мороженое и допита первая бутылка «Фетяски». Но напряжение и не думало спадать.
Увидев Ларочку, Лион Иванович вскочил со своего стула, чуть ли не опрокинув его, поцеловал «даме» ручку, что ей скорее понравилось, чем смутило, и пододвинул стул. Склонил голову на бок, демонстративно любуясь.
— Вы знаете, милочка, вы вылитая Виктория Владимировна. Вы–ли–та-я!
Капитан кашлянул.
Нина Семеновна стала нервно рыться в своей сумочке, но ничего не могла найти, потому что не знала, что ищет.
Лион Иванович вел себя так, словно ничего особенного не происходит.
— Знаете, — кивок в сторону родителей, — это вас наверно обидит чуть–чуть, но у меня такое впечатление, что Ларочка ваша, как бы это сказать, напрямую что ли родилась от Виктории Владимировны, хотя я понимаю всю бредовость этого соображения. Но что в нашей жизни не бред.
— Я очень люблю бабушку. — Сказала Ларочка казенным голосом. Ей не нравилось, что она ничего не понимает в происходящем.
Нина Семеновна встала и, кисло скривившись заметила, что им пора. Лион Иванович опять вскочил пинаемый бесом галантности, и кинулся было к ручке капитанши, но у него ничего не вышло. Офицер хмуро ушел вслед за своей супругой.
Ларочка демонстративно осталась. Раз родители ей ничего не рассказывают, она имеет право узнавать сама.
— Хочешь мороженого? Или вина? — Веселился Лион Иванович.
— Почему они ушли?
— Им, наверно, не понравилась новость, которую я им сообщил.
Ларочка отпила вина из бокала Нины Семеновны.
— Какую новость?
— На мой взгляд, интересную.
— Какую?
— Виктория Владимировна вышла замуж.
Ларочка осторожно, чтобы не подавиться, отняла бокал от губ.
— Вы зря смотрите так недоверчиво, дитя мое. Это правда.
— Я не ваше дитя.
— И, слава Богу.
— Продолжайте. — Твердо сказала Лариса.
Артист посмотрел на комсомолку с некоторым удивлением, взгляд его говорил — однако!
— За кого она вышла?
— За лейтенанта, прошу прощения, старшего лейтенанта Стебелькова.
Лариса испытала сложное чувство, не во всех его деталях она могла разобраться. По крайней мере, в одном она было уверена, этот балбес Стебельков наказан за то, что смеялся тогда над пьяным папой.
6
После окончания школы Лариса Конева поступила на филологический факультет Гродненского пединститута. Почему именно туда? Ответить непросто. В городе были и другие высшие учебные заведения, которые могли бы претендовать на эту яркую студентку. Скорей всего, дело в том, что основное здание педагогического вуза очень внешне напоминало здание Дома Офицеров, где Лариса провела такую насыщенную кружковую жизнь, оно было столько же радикально увито плющом, едва оставлявшим в своей толще небольшие просветы для окон.
Благодаря своему быстрому, схватывающему уму, училась Лариса легко, играючи. С первых же дней стала вгрызаться в общественные структуры нового мира. Выбрала сразу несколько направлений. Для начала явилась в комитет комсомола и потребовала, чтобы ей что–нибудь поручили. Ей поручили, она должна была вместе с учебной частью проследить за подготовкой своего потока к выезду на картошку, этот ежегодный карнавал единения города и деревни. Она включилась в прослеживание, и хорошо себя показала на этом поприще. От нее никто не увильнул, никому не удалось тихо отлынить. Хитрости юных филологов — типа фальшивых справок — она раскусывала с легкостью, сказывался штабной пионерский опыт.
Будучи девушкой довольно крупной, с длинными руками, плотным торсом и крепкими бедрами она тут же попала в поле зрения сборной института по гандболу, и посетила несколько занятий. В те годы, когда не было еще ни женского бокса, ни женской борьбы, гандбол являлся единственным видом спорта, в котором спортивным девам позволялось общаться между собой по–мужски. Синяки, царапины, выбитые зубы были обычным делом не только на соревнованиях, но и во время тренировок. Несмотря на это ряды гандбольных гренадерш не редели. И в спортзале института во время женских тренировок был слышен не только визг, но и порой боевое азартное рычание.
Привыкшая повсюду быть первой, Лариса крепко взялась за дело, тем более что физические данные позволяли. Но однажды, выходя на бросок в прыжке, она получила такой удар локтем в симпатичное личико, что грохнулась на пол без сознания. Она быстро в него вернулась, но уже совсем другим человеком. Рассматривая быстро расцветающий синяк под левым глазом, она не плакала, она соображала. Она решила, что грубый спорт, равно как грубый физический труд, это не ее стихия. Пострадав от гандбола, она почувствовала себя избавленной и от всех обязательств перед картошкой.
Она дождалась, пока раскраска лица примет наиболее жалобный вид, она явилась в деканат и объявила, что общеинститутский картофельный месяц проведет в городе. Она и так столько сделала для мобилизации первокурсников, и теперь вот пострадала, от скверной организации тренировочного процесса. Пострадала — она сделал на этом упор — в конце концов, за институт.
Ее не только поняли, хотя буквально каждый человек для картошки был на вес золота (громадный урожай 197.. года, задание обкома, колхозы задыхаются от отсутствия рабочих рук), но и в дальнейшем ставили в пример ее преданность институту доходящую до самозабвения.
Этот поход в деканат был замечателен еще одним моментом. Она столкнулась там с Леонидом Желудком. Он весело, по–приятельски с ней поздоровался, Лариса же чувствовала себя не в своей тарелке. Только что она была благодарна своему спортивному синяку, но при виде этого негодяя в хорошем югославском костюме, она разозлилась на себя, за то, что находится до такой степени не в форме. Не то, чтобы она желала произвести на Леонида неотразимое впечатление, он был ей неприятен как человек, но она не могла не учитывать, что он мужчина.
Желудок пригласил заходить в гости — «по–простому, по–товарищески, работали же вместе», — правда, не сообщил куда именно. Ларочка тогда не поняла: это не оттого, что приглашение было формальным, а от слишком большой уверенности — буквально всем известно, где он теперь обретается.
7
Гандбольное повреждение оказалось не совсем безобидным. Была повреждена какая–то маленькая мышца на левой щеке. Травма была совершенно незаметна, пока лицо Ларисы не выражало никаких чувств. Но стоило включить мимику, как во всякое движение лица вмешивалась едва заметная поправка. Улыбка получалась чуть иронической, удивление слегка высокомерным, неудовольствие малость свирепым, и все остальное — обида, восторг, скука получало некую эмоциональную присадку. Любой собеседник невольно был вынужден разгадывать эту непреднамеренную психологическую игру, хотя за ней ничего реального не стояло. В это время Лариса спокойно добивалась того, что ей было нужно от этого разговора. Собеседник, как правило, соглашался на ее условия, и даже чувствовал облегчение, когда она оставляла его в покое, получив свое. Со временем Лариса осознала и очень хорошо отточила технику мимического подавления, и поняла, что на мужчин она действует лучше, чем на женщин.
Все это выяснилось позже, а в те дни освобождения от картошки, она заскучала. Выяснилось, что оторвавшись от коллектива даже в выгодном для себя смысле, она не чувствует себя счастливой. Не дождавшись полного исчезновения синяка, она нацепила черные очки, купленные отцом во время крымского отдыха, она пошла по городу на поиски общения.
В Доме Офицеров был ремонт.
В институтском корпусе было пустынно. Старшекурсники заседали на своем третьем этаже, и в их круг было не втиснуться. Но попалась ей одна открытая дверь, в которую входили некие люди. Оказалось, что это литературный кружок. Помещение было заставлено шкафами с колбами и непонятными приборами, на стенах висели пачки географических карт и таблиц Менделеева. Портреты Льва Толстого и Тимирязева были прислонены к стене, рядом с охапкою старых, разномастных лыж. Пахло пылью, канифолью и непонятной неформальностью. Можно было при желании подумать, что сборище это чуточку запрещено. Здесь сошлись самодеятельные институтские поэты. Первое, что бдительно подумала Лариса — неужели они все тоже освобождены от картошки? Неужели болезнь и поэзия так уж связаны?
Она быстро поняла, что не все здесь знакомы друг с другом, большинство — новички, и успокоилась. На ней, помимо очков, были совершенно новые польские джинсы, туфли на высоченной платформе, она, закинув ногу на ногу, демонстрировала собравшимся размер ее, как уровень своей независимости. Еще на ней была черная водолазка с узким горлом, что, как ей казалось, делало ее самой поэтической фигурой этого собрания.
Посреди склада учебного оборудования, стояли свободным полукругом десятка полтора стульев. Сидящие держали на коленях кто тетрадку, свернутую в трубочку, кто стопочку листков машинописного текста. Завсегдатаи громко, по–хозяйски переговаривались. Новички бросали по сторонам затравленные взгляды.
Когда порядок почти установился, возник руководитель. Он вошел, мягко улыбаясь, в сопровождении двух льнущих к его власти поэтесс. Терпеливо кивнул им несколько раз, дослушивая их угодливый лепет, и отослал в общие ряды.
Лариса направила на него свой невольно инфернальный взор. Потом уже она узнала, что это Владимир Владимирович Либор, выпускник столичного (Минского) института культуры, руководитель здешнего ВИА, чуть ли не лучшего в городе, и по совместительству руководитель литкружка. Он был умеренно росл, гармонично кудряв, обаятелен, и одет вызывающе не по жлобски: фланелевые брюки, мягкий пуловер, мокасины. Лариса с содроганием вспомнила костюм преподавателя истмата, лоснящийся от многократного применения также как и терминология его науки, и всмотрелась в руководителя с усиленным интересом.
Он поздравил всех с началом нового сезона. Поприветствовал старых своих студийцев, улыбнулся новым, и выразил надежду, что они порадуют «всех нас», талантливыми стихами.
Лариса пыталась понять, обратил он внимание на нее или нет. Делает вид, что нет. Явная игра. Она выделяется среди этих озабоченных непонятно чем девчушек с блокнотами, как черная лебедь в стае серых уток. Тут даже селезни серы.
Владимир Владимирович продолжал говорить, кажется, шутил, ему отвечали понимающим смехом. Поэтессы, те, что из свиты и две еще другие возбужденно грызли изнутри губы, и раздували ноздри и глуповато улыбались, их возбуждало лениво–интеллигентное говорение руководителя. Лариса рассмотрела каждую из них, и даже сквозь затемненные стекла определила — не соперницы.
— Ну, что же, коллеги, давайте познакомимся с нашими новыми… м-м, коллегами.
Лариса напряглась. Сейчас придется вставать, в сидячем положении она чувствовала себя на высоте, а вот стоя… во–первых — поза! Нагловато отставить богатую туфлю и предъявить бедро во всей его замечательности, или отвечать по–школьному, вытянувшись во весь гордый рост, со сжатыми коленками? Поправлять ли водолазку, она всегда чуть собирается на животе, или лучше позволить себе эту небрежность?
Тем, что у нее нет с собой никаких тетрадок ни с какими стихами, она не была смущена нисколько. Спросят, сплетется само собой какое–нибудь объяснение.
Новички вставали по очереди, представлялись. Кто–то бормотал под нос два слова, и садился, кто–то «преподносил себя» оригинальным речевым поворотом, а то и четверостишием.
Лариса тут же клеила им клички. Девица в круглых очках и двумя огромными передними резцами, которые не укрыть даже специальным усилием верхней губы — «Заяц». Две тихо восторженные в адрес руководителя подружки — «Лисички». Чтобы не продолжать лесную линию, хлопца с широким, в непонятных шрамах лицом, она назвала «Ромштекс».
Встал приземистый, в черном свитере парень–мужчина. Из выреза торчала бледная шея, с большой квадратной головой похожей на совиную. Большие, круглые глаза, белые круги вокруг глаз. Он сказал, что работает на стройке, но что для него стихи «это очень серьезно», и почувствовался укор в адрес остальных, как бы заподозренных, что их сочинения — баловство.
«Прораб», сказала себе Лариса и отвернулась. Ей казалось, что он в каком–то смысле ее передразнивает — бледные круги вокруг глаз, как будто недавно тоже носил черные очки.
Владимир Владимирович был любезен с каждым, могло показаться, что он просто осчастливлен явлением нового таланта. Даже если он не из недр пединститута, а со стройки.
Лариса была довольна тем, как она встала, ее взбодрило явное неодобрение со стороны «Лисичек», они своим животным нюхом сразу учуяли большую опасность для себя со стороны загадочной дылды с драпированным взглядом. Владимир Владимирович и ей уделил порцию своей любезности, как и всем, но Лариса была убеждена, что улыбка и мягкая речь, обращенные к ней, имели отдельный, специальный характер. Интересуетесь поэзией? Оставайтесь.
После представления должно было начаться настоящее знакомство. То есть, чтение стихов. С немедленным их разоблачением путем перекрестной и безжалостной оценки. Тут уж было не до любезностей. Ларисе эта процедура показалась очень странной. Было видно, что каждый куплетист выставляет на всеобщее глумление что–то очень заветное, и очень страдает, когда ему говорят жестокую правду об этом заветном. До жуткого покраснения, до внезапного пота на лбу, до дрожания губ. Зачем это самоистязание? Все равно, если бы на собрании самураев все по очереди вспарывали себе животы, а собравшиеся копались в вывернутых внутренностях порицая ненормальный их размер, ощупывая скользкие от крови рифмы. Впрочем, Ларисе не могло придти в голову это сравнение, она мало знала о нравах самураев.
Пожалуй, только один смысл был в этом авторском всетерпении — каждый в свою очередь, превращался из жертвы в палача. И уж тут отыгрывался по полной.
Девушка «заяц», после «знакомства» с собратьями по цеху, сидела в обморочном состоянии, зажмурив за толстыми стеклами испуганные глаза. «Ромштекс» превратился в бифштекс с кровью, и шумно, мстительно дышал.
«Лисички» были из завсегдатаев, они схитрили, сказав, что отдали уже стихи прямо Владимиру Владимировичу, потому что их «надо читать глазами».
Руководитель кивнул, чем вызвал укол ревности в Ларисе. Оказывается, у этих шустрых сучек есть связь с красавцем в пуловере, которой она сама никогда не сможет воспользоваться. Она не успела углубиться в эту неприятную тему — встал «прораб».
Он стал читать не сразу, он обвел присутствующих тяжелым, как бы предупреждающим взглядом. Ему было лет двадцать пять, он по возрасту мало уступал самому руководителю, и по движениям его было видно, что на плечах его квадратной фигуры осел уже немалый жизненный опыт. Он тут же подтвердил это впечатление. Голосом негромким, но напряженным, готовым вот–вот прекратиться, он поведал, что стихи, которые он сейчас прочтет, это не просто стихи.
— То есть? — Вежливо поинтересовался Владимир Владимирович.
«Прораб» сказал, что «они» плод «тяжелых и страшных раздумий», ибо совсем недавно он, Валерий Принеманский «осиротел».
— У вас умерли родители?
«Прораб» едва заметно, но совершенно презрительно улыбнулся в ответ на это замечание предельно благополучного в этой жизни руководителя.
— У меня погибли жена и дочь и при родах месяц назад. От потери крови. Я потерял все, что у меня было.
Владимир Владимирович понимающе покачал головой, но был в его понимании все же какой–то формализм, что–то царапнуло в одном из неведомых изгибов души Ларисы ей самой до сих пор неведомых. «Прораб» подвергался невыносимо вежливой экзекуции, как капитан Конев в разговоре о кино.
— Я прочту стихи. Прошу учесть, то, что я сказал. — Надо было понимать, что никакой не может быть критики при таком деле. Еще не запеклась рана.
В душе Ларисы опять что–то царапнуло. И опять как–то по–новому.
«Прораб» стоял довольно далеко от нее. Ларисе захотелось снять очки и рассмотреть несчастного, она вовремя спохватилась, и лишь поправила их. С удивлением обнаружила, что сидящие вокруг, кривят губы и морщат носы. Между рядами проползло никому конкретное не принадлежащее, противное, какое–то голое слово — «мудила». Лариса конечно же сразу поняла к кому оно относится. Она уже сама была готова для себя решить, что не стоило бы «прорабу» выставляться с таким кровопролитным предисловием. Даже как–то неловко за нелепо разоблачившегося человека. Но всеобщая эта ироническая реакция показалась ей несправедливо жестокой. И она начала усиливаться, когда Валерий Принеманский стал произносить свои трагические строки. Ларисе было непонятно почему все так совокупно брезгливы в его адрес. То есть, понятно, человек вышел за рамки принятых здесь норм поведения, но как же ему быть, если у него в жизни случилось такое?! Стихи его… нет, она не могла определить, насколько они хороши, или плохи. Они, в общем, были похожи на то, что читалось до этого. По звуку, по словам, но они резко отличались от всех остальных тем, что за ними стояла подлинная боль. У них у всех этого не было, а у него было, и поэтому они отторгают его, весь этот самодовольный «зверинец», «зайцы», «лисы»…
Закончив чтение «прораб» сел, и стало заметно, что он сидит теперь более отдельно, чем до этого. Вокруг него возник некий вакуум. И он сидел, независимо закинув ногу на ногу, с непроницаемым лицом, со своим высказанным, но не понятым страданием.
Владимир Владимирович совершил ошибку. Ему следовало бы просто двинутся дальше по поэтическим рядам, поднять еще одного новичка, но он счел необходимым сказать несколько слов в адрес только что услышанного. Конечно мягких, конечно, ободряющих, но это вызвало на лицах студийцев отвратительно понимающие улыбочки. Они «понимали» друг друга — душка–руководитель и его секта. Они были благополучно вместе, а «прораб» был трагически один. Да еще с мертвой женой и дочкой.
Когда все закончилось, и «прораб» ушел, явно решив, что он здесь чужой, Лариса боялась, что начнется вроде вакханалии в его адрес. Наверняка каждый захочет или иначе пнуть вдогонку проклятого поэта. Лариса отлично понимала, почему так. На фоне его грандиозного конфуза, тихая бездарность любого из них скрадывалась, они становились ближе к норме, к какому–то пристойному уровню, как было упустить такую возможность.
Ничего подобного не произошло, все только пожимали плечами, и тихо обменивались фразами на самые разные темы, вроде бы и не касающиеся «прораба», но Ларисе казалось, что тем самым они еще злее, еще окончательнее втаптывают его в грязь. Притворное великодушие, наигранное желание «понять», это еще отвратительнее, чем прямое глумление.
Владимир Владимирович, конечно тоже не опустился до трусливых острот вслед изгнаннику, он только улыбался своей улыбкой, которая стала Ларисе отвратительна. Он грустно сказал.
— Я думаю, этот молодой человек у нас больше не появится, коллеги.
Лариса встала, уже, кстати, не думая, в каком состоянии ее джинсы и водолазка, и решительно направилась к выходу. Тут Владимир Владимирович обратил на нее внезапное внимание.
— Да, коллега, мы же вас–то так и не выслушали. Пожалуй, в следующий раз, да?
— Это вы калека, а не я, а я‑то у вас больше тут точно уж не появлюсь.
8
Ей было плевать, какое она произвела впечатление на эту публику. Конечно, дурнушки из руководительского «гарема» рады, что избавились от конкурентки, а о том, что твориться в кудрявой голове самого Владимира Владимировича ей и вообще не хотелось думать. Не говоря уж о прочих бездарях.
И еще раз задалась вопросом — почему это вся эта толпа тут поэтически бездельничает, когда весь народ в поле?!
Она пошла в деканат. Там ее выслушали. Поблагодарили за сигнал. Обещали разобраться. Она сказала, что проверит, каковы будут результаты разбирательства.
Вторая встреча с «прорабом» произошла непреднамеренно и внезапно, и что любопытно на том же самом месте, где у Ларисы в свое время состоялось историческое объяснение с Женей. Она стояла на остановке, поджидая автобус, когда вдруг услышала сзади стук яростно закрываемой двери, и звуки неприятного нервного голоса, что были волнующе знакомы. Обернулась. Он, то есть «прораб», шел «сквозь ветер мира», пытаясь намотать ша бледную, беззащитную шею развевающийся шарф, и размахивая как огромной ладонью канцелярской папкой. Он только что покинул голубенький домик–музей пани Ожешко, где по совместительству располагалось правление Гродненской писательской организации. Судя по всему, его там поняли не чуть не больше, чем на недавнем семинаре и он был очень возбужден по этому поводу.
— Здравствуйте. — Кинулась к нему Лариса.
Он посмотрел на нее взбешенным и одновременно несчастным взором. Но она была в себе уверена, в этом новом сером пальто и итальянских сапожках, она не могла слишком долго оставаться неуместным объектом в восприятии даже очень раздраженного мужчины. Она чувствовала в себе способность немедленно начать приносить психологическую пользу, какого бы размера не была душевная рана полученная сейчас этим человеком.
Поэт остановился.
Лариса улыбнулась.
Он сказал.
— И что с того, что он ходил через государственную границу, в Белосток, чтобы добыть документы в контрразведке, что он не предатель. Пусть он герой, но уже давно не война!
— Конечно. — Сказала Лариса.
Ей понравилось, что голос у проклятого поэта немного изменился. Он приобрел трагическую и хрипловатость, отчего в нем прибавилось и мужественности, но усилилось и опасение, что прервется навсегда. А с этим голосом, погибнет, возможно, и сам человек.
— Ты кто?
Трудно найти подходящий и короткий ответ на этот вопрос.
— Я слышала ваши стихи.
Он, наконец, укротил свой развевающийся, как свободная мысль, шарф.
— А-а, ну пошли.
Вокзальный ресторан, абсолютно пустой в этот час. Фикусы в кадках, зевающие официантки в наколках. В углу небольшая барная стойка. Поварихи гремят противнями где–то на кухне. Ларисе понравилось, что поэт не стал пить водку как сослуживцы отца, или того хуже — крепленое вино, которое предпочитали ее однокурсники. Пятьдесят граммов коньяка и конфетку. Девушке — сок.
— Абсента у вас нет? — Спросил он у бармена.
Тот с достоинством улыбнулся и поправил бабочку.
— Прошу прощения, вы меня уже спрашивали. Вчера.
Выпил полрюмки и откусил четверть конфетки, из чего Лариса сделала вывод, что рюмка будет не одна. Видимо велико огорчение этого поэтического сердца.
— Так ты кто? Ах, да. А кто я — знаешь?
Лариса замялась. Ей было, что ответить на этот вопрос, но она понимала, что если она все назовет своими именами — вы гонимый, непонятый, ни на кого не похожий человек — она как бы сразу сдастся в плен ему, выложит весь свой запас и ресурс. Ведь неизвестно, пришло ли уже время для таких откровений, и чем это может быть для нее обернутся.
Прораб спросил вторую рюмку и выпил ее, внимательно глядя на свою неожиданную знакомую. У него был странный взгляд. Белизна вокруг глаз придавала его взгляду и чуть–чуть нездоровый, и вместе с тем, породистый характер. Лариса опять подумала, что он долго носил черные очки во время солнечной погоды, и вспомнила о своем синяке, и о своих черных очках. Не может же это быть совсем случайным.
— Вы гонимый, никем не понятый, ни на кого не похожий человек! — Произнесла она со значительно большей серьезностью и силой, чем это было у нее в мыслях.
Поэт даже не стал откусывать от конфетки, и сразу потребовал третью рюмку.
Но тут вмешался бармен в бабочке, и сказал, что больше в долг он отпускать не может.
Поэт иронически усмехнулся, не в адрес работника торговли, а в адрес своей непутевой судьбы. И тут вырвался из сумочки кошелек Ларисы, готовый на все ради третьей рюмки для огорченной души.
«Прораб» покровительственно усмехнулся и отверг жертву. Сказать по правде, Ларисе было бы не очень приятно, воспользуйся он ее стипендией, но она сочла бы — этот поступок в рамках романтических правил, по которым живут гонимые и отвергнутые. Но то, что поэт не воспользовался ее кошельком, оказалось еще более неприятно, хотя и как–то по–другому. Получалось, что он ее куда–то не впустил. Как же так, она уже совсем готова была возглавить движение за понимание его как личности и художника, а он воздвигает стену вульгарной вежливости.
— Пойдемте отсюда, Киса. Мы чужие на этом празднике жизни.
Она не поняла, что он этой фразой вплел ее в пошлый литературный контекст. Она не была подвержена общеинтеллигентской моде тех лет на Ильфа и Петрова, она была девица классической ковки. Бедная Лиза, бедная Татьяна, бедная Наташа — вот это была ее компания. Но она почувствовала женским чутьем, которое сильнее литературного, что ее уже что–то связывает с этим замечательным человеком. И дело в не пошлом факте — он назвал ее Кисой, то есть ласково. Нет, тут другое. Какое? пока не ясно.
В тот день они расстались.
Даже не договорившись встретиться вновь.
Договариваться должен был «он», а он не стал почему–то. Если бы Лариса знала заранее, что поэт не озаботиться этим вопросом, она бы взяла инициативу на себя. А так, разошлись, как Маяковский и Азорские острова.
Она потом себя казнила — дура! Что было цепляться за остатки девичьей кичливости. Ах, я не такая, я жду, когда меня засватают. Он выпил, он задумался, взнуздан был внезапной музой, чего от него ждать рациональных решений!
Все придется делать самой.
Гродно был город хоть и областной, но не большой, тысяч сто жителей. Но чтобы найти нужного человека пришлось потрудиться.
Одно время Лариса просто бродила в районе тех мест, где она виделась с ним прежде. Но эта тактика результата не принесла. Закончилась осень, полетел снег, испугавшись, что он занесет все следы, Лариса пошла по людям.
Бармен вежливо ей улыбнулся, но не обнадежил. «Пан поэт», оказывается, не навещал его заведение уже с неделю. Посещение было неприятным, бармен несколько раз поправил свою опереточную бабочку и своим тоном дал понять, что догадывается отчего это столь «пенькная молодая пани» занялась такими странными разысканиями. Он думает, этот старый дурень, что «он» меня соблазнил и я теперь за «ним» гоняюсь?! Влепить что ли ему по физиономии, нет, для этого все же не набиралось достаточных оснований. Но ответить было надо. Обязательно. Лариса, глядя в упор на коньячного работника спросила, сколько задолжал «пан поэт» за выпитое. Обычно ведь брошенные женщины ловят алиментщиков, а здесь фигура обратного свойства.
Бармен расплылся в улыбке, и сказал, что ради такой миловидной и обаятельной пани, он списывает все счета упомянутого господина.
— Вы меня понимаете, пани Лара? — Наклонился со значением он вперед. И тут уж Лариса дала ему давно копившуюся в ладони пощечину. Официантки сделали вид, что продолжают дремать, рухнув на сложенные руки, только плечи у них подозрительно двигались.
Первую минуту после оставления омерзительного ресторана, она думала, что с делом этим покончено, и она больше никогда не пойдет на такие унижения, которые ей пришлось перенести из–за неуловимого «пана». Но, пройдя всего шагов двести по центральной улочке города, миновав родной Дом офицеров, она заметила слева от себя голубоватое здание. О, роковое место, никак его не миновать оскорбленной душе.
Ее принял подозрительный, очкастый человек в сером, явно довоенного покроя костюме. Видимо хозяин до такой степени мало напрягал своим телом его (костюм), что он выглядел вызывающе новым, даже, можно сказать, свежим. Сам хозяин был сух как саксаул, а по его повадкам чувствовалось, что он постоянно живет в состоянии готовности к команде: «на выход с вещами!» А между тем был человеком феноменальной личной смелости. Но это на войне. Современная жизнь казалась ему куда более заминированной, чем та, реально подрывная и диверсионная.
Глава гродненских литераторов очень долго обнюхивал прямой вопрос Ларисы о поэте Принеманском, не понимая, в чем здесь провокация. Да, он помнил этого странного субъекта с квадратной фигурой, хриплым дискантом и ни на что не похожими виршами, но не был уверен, что разумно вот так сразу в этом сознаться.
Кто эта особа? Он потребовал у нее документы, и они у нее оказались. С какой стороны подкоп? В городе, он знал, существует не менее десятка людей, в разной степени занятых опасным делом — попыткой написать подлинную историю белорусского партизанского движения. И этой было его главной, иррациональной тревогой. А тут является ни с того, ни с сего смазливая девица, с требованием дать ей координаты одного сумасшедшего сочинителя стихов!
Как это между собой связано?!
Подозрительная, очень подозрительная история!
Лариса нервничала, ситуация ей представлялась еще более неприятной, чем та в вокзальном баре. Что этот дяденька увиливает? Наконец, у нее что–то мелькнуло в сознании, и вырвалась фраза.
— Я член студкома.
— Чего? — Выпучил глаза хозяин кабинета.
— Студкома курса.
Партизан опал в кресле. Потом быстрым движением выдвинул ящик стола, сунул туда чистый лист бумаги, что лежал перед ним, закрыл ящик и заявил самым решительным тоном, что он должен уйти.
Лариса так и не поняла, что произошло. Удивленно пожаловалась отцу, вот, мол, какие странные люди бывают. Он вздохнул и объяснил: эхо войны. «Стояли мы под Лидой, года три назад что ли, на учениях, зашли в дом, хозяин нам сала пожарил, самогону бутыль, а я у него спрашиваю, после двух стопочек больших, правда, а как, говорю, дед полицаи, есть мол, в деревне. Ну, глупая, такая шутка. Наши хохочут, а он так палец к губам, подошел к окошку, и занавесочку задернул».
— Тут, у белорусов с этим серьезно.
Задумываться над этим рассказом Лариса не стала. Как офицерская дочь, жительница военных городков, она обитала как бы в сфере имперского, московского подчинения, и аборигенские бредни позволяла себе игнорировать. Язык она ставила себе «по телевизору», и очень часто ощущала, что говорит совсем не на том наречии, что окружающая масса. И чувствовала от этого свое превосходство. При этом она замечала, что русский язык собеседника тем «телевизионнее» чем собеседник ближе к верхам общества. С удалением же в глубинку, в сторону от асфальта, в картофельную супесь, в самогонные сумерки, речь населения становится все более невразумительной, до комизма.
А «пана Принеманского» она нашла.
9
Тогда в центре городов вывешивали доски антипочета. Кто–то напился, наскандалил
И вот на одном таком стенде у стадиона она заметила узнаваемую физиономию. Кстати, фотография была вполне приличная, «пан поэт» выглядел на помещенном снимке фигурой скорее несчастной, чем отвратной. Сопутствовавшая подпись — «тунеядец, дебошир и т. п.» нисколько не выходила за рамки уже создавшегося в ее сознании образа страдальца. Единственное, что смущало, он именовался там не поэтом Принеманским, а сварщиком Перковым. Принеманский — севдоним, догадалась Лариса. Красивый.
В милиции легко, без глупых вопросов и сальных намеков выдали адрес сварщика Перкова.
Общежитие строителей азотно–тукового комбината. Лариса смутно представляла себе, что на окраинах старинного города происходит вколачивание в землю огромных государственных средств, с целью возведения там огромного завода по производству минеральных каких–то удобрений.
На секунду она смутилась. Ей предстояло покинуть ухоженную, вымощенную гладким булыжником, увитую плющом и виноградом территорию и отправиться в дикие места огромных котлованов, ревущих тракторов, пыльных самосвалов, мужчин в промасленной одежде с папиросами и сомнительными комплиментами в зубах.
Но разве это препятствия для настоящего женского характера? От конечной остановки третьего троллейбуса до того самого общежития она отправилась по обочине грузовой трассы, преодолевая искусственную, поднятую машинами метель.
Вахтерша, с ужасом оглядев ее дубленку и прическу, назвала номер комнаты. Лариса демонстративно уверенным шагом поднялась на третий этаж. Разумеется, «его» комната была в самом конце коридора, можно сказать на отшибе, ее окно выходило не в фасад, а в торец здания. «Он» и здесь, в толпе работяг, умудрялся поддерживать состояние относительного одиночества.
Пальцы тряслись, это надо было признать, и тогда Лариса сжала их в кулак, чтобы унять дрожь, и постучала в дверь кулаком. Звук получился тяжелый, напористый, можно сказать, властный. Дверь была поцарапана, а замок раз пять ремонтирован, из чего Лариса заключила, что «к нему» часто вламываются в жилище. Может быть, и женщины. Почему–то и этот вывод пошел в плюс поэту.
Перков открыл. Он был гол по пояс, в трениках и тапочках. У него было удивительно белое тело, такого же цвета, как кожа вокруг глаз. Оказывается, только лицо темнеет от жестокого сварочного труда и непонимания окружающих.
— Я думал это комендант. — Объяснил он, хотя ситуация в объяснениях с его стороны не нуждалась.
— Можно войти? — С вызовом спросила Лариса.
Комната была крохотная как купе проводника. Но чистая, никаких тебе сушащихся портянок (Лариса была готова ко всему), и разбросанных отбойных молотков. Имелась на стене полка, настолько провисшая под тяжестью книг, что это наводило на мысль о какой–то беременности.
— Садись.
Из мест для этого подходящих имелся только табурет и узкая, примятая кровать. Нет, кровать, это было бы слишком для самого начала, решила Лариса, и села на табурет. Рядом с ним на тумбочке стояла удивительная вещь — пишущая машинка. Своим черным, технически выспренним обликом она выделялась среди прочих местных вещей как породистая иностранка. Ларисе захотелось представиться ей, как матери поэта.
— Меня хотят выгнать. — Продолжал что–то объяснять Перков, хотя нужды в его объяснениях не стало больше. — Сначала уволили со стройки. Теперь, говорят, освобождай помещение.
В его голосе слышалось ироническое возмущение. И в самом деле, с какой это стати выгонять из рабочего общежития человека, который уволили с работы за прогулы и пьянство.
— Обещали, что придут с милицией. — Поэт развел руками, показывая, что он прощает принципиальную абсурдность этого мира. Он уже надел рубашку, и чем больше пуговиц он на ней застегивал, тем больше в нем появлялось интеллигентности.
Лариса открыла сумочку, защищавшую колени, и достала оттуда бутылку коньку, украденную из отцовского бара. Почему коньяк? Она хотела протянуть ниточку связи к тем трем вокзальным рюмкам, показать, что у их отношений есть история.
Перков повел себя блестяще, он не застыл в идиотском обалдении как природный сварщик — в чем, мол, дело? Не расплылся в самодовольной улыбке польщенного самца. Он просто взял бутылку из рук дамы, потому что ей там не место, вынул из тумбочки два по–разному элегантных, хотя и не коньячных бокала, изящно надломленное песочное пирожное на блюдце и сервировал уютное застолье.
— Я бы ушел, но куда я со всем этим? — Махнул Перков в сторону книжной полки с таким видом, будто он герцог выселяемый из замка со всеми мебелями.
Коньяк солидно наливался в бокалы, как будто понимал, сколько в нем заключено роскоши человеческого общения. Ларисе хотелось пить, и она думала о коньяке только как о напитке.
— Что обидно, это ведь не в первый раз. По тем же причинам я должен был уехать из Ошмян. Родной город словно выплюнул меня. Теперь снова на улицу. В ночь, в метель, вот как он. — Перков ткнул пальцем в фотографию кудлатого мужика с высоченным лбом и бантом на шее. Лариса из поэтов могла узнать по внешности только Есенина и Пушкина, поэтому промолчала. Хозяин купе поднял бокал, поправил цветок в вазочке, что стояла на подоконнике (Ларису очень тронул тот факт: зима, общага и тюрьпан!) и предложил:
— Выпьем!
Обожгло небо. Жажда только усилилась.
— Тебя как зовут–то!
— Ларочка. — Сказала гостья неожиданно жалобным голосом. Имя прозвучало не только испугано по тону, но и игриво по форме, и сварочный поэт отчетливо ощутил, что с этого момента, он не атакуемая непонятной силой сторона, но, наоборот, фигура могущая атаковать, да и, наверняка с большими шансами на успех.
Сварщик быстро налил себе еще граммов восемьдесят, выпил не чокаясь, привстав, ткнул пальцем в выключатель. И начал быстро расстегивать рубашку, которую перед этим так тщательно застегивал.
По правилам хорошего литературного тона здесь следовало бы опустить занавес, ибо дальше, как ни крути, ничего кроме более менее банальной физиологии ждать не приходится.
Но только не в истории с Ларисой.
Спустя несколько минут, после совершенных стандартных усилий, пыхтений и тому подобного, обескураженный и вспотевший сварщик сел на кровати. Лариса лежала тихо, горизонтально, силясь понять — это все, или проведены лишь подготовительные работы?
— Я закурю? — Спросил поэт, и она уловила в его тоне нотки смятения. Если бы все было нормально, он бы не стал просить разрешения. Спрашивая себя, достаточно ли она сделала, для того, чтобы ее нельзя было в чем–то упрекнуть, она честно отвечала себе — все! Так в чем же дело?
— Послушай, ты ведь студентка?
— Я член студкома. — Сказала Лариса, и тут же пожалела об этом, вспомнив к какому результату привело это заявление в кабинете бывшего партизана.
Сварщик интересовался, конечно, не ее статусом, а ее возрастом.
— Такое впечатление, что ты еще… послушай, надо предупреждать! Ладно, я еще немного тресну…
Вторая попытка принесла тот же неудовлетворительный результат. В состоянии близком к панике, поэт начал одеваться.
— Ты лежи, лежи, я пока покурю.
Когда он выскочил из «купе» Лариса попыталась разобраться в том, что произошло. Она была достаточно нормальным человеком, чтобы не впасть во внезапную ненависть к своей девственности, но, вместе с тем, не могла не признать, что своей преувеличенной для столь зрелого возраста физической полноценностью нанесла болезненный укол в самолюбие человека, которому ей хотелось бы делать только хорошее и полезное. В самолюбие, которое и так принимает от мира одни только болезненные удары, несправедливости и насмешки.
Встать, одеться и уйти?!
Нет, невозможно!
Ей мешала русская литература. За все школьные годы Лариса усвоила из классики две цитаты, но зато насмерть. «Кто там в малиновом берете», что трактовалось ею, как «одевайся всегда очень хорошо, даже, если угодно, вызывающе», и " я другому отдана, и буду век ему верна». «Другому», значит не себе, а кому–то, в данный момент неудачнику поэту. А «век ему верна», означало, что буду тут лежать голая и нелепая пусть даже до следующего утра, пока не будет сделано все так, как надо!
Прошло с полчаса. За это время можно было выкурить полпачки сигарет.
Страшно хотелось пить.
Однако, надо было хотя бы в самых общих чертах разведать, что это такое — потеря девственности. Мать, родная мамочка работает как никак в госпитале, пусть там, в основном, вояки, но должна же она знать хотя бы не как сестра–хозяйка, а как женщина, что это такое… Чертов характер, отсутствие близких подружек, иногда оборачивается неприятной стороной. Вообще–то, рассуждала, Лариса, из самых общих соображений надо было быть готовой ко всему. Она вдруг вспомнила рассказ матери, о том, как та рожала ее, Ларочку. «Сутки на столе», ужас, а, в конце концов, — кесарево сечение.
Строго говоря, почему это первый постельный опыт, должен быть намного легче, чем первые роды?!
Кесарево сечение! До Ларисы вдруг дошло, что это за медицинское мероприятие, и она облилась потом, несмотря на всю свою жажду.
Может быть, все же удрать?
Но тут же вспомнилось, что раньше крестьянки рожали прямо в бороне, или борозде, все равно. Можно себе представить, с какой легкостью у них происходило обретение женственности.
Нет, жажда становилась невыносимой.
Лариса дотянулась до вазочки с тюльпаном, и отпила из нее слежавшейся, пластмассовой по вкусу воды. Цветок оказался искусственным.
Это почему–то обидело!
А он все не идет!
Вообще, чем он там занимается?!
Уйти?!
Нет, отдалась, так отдалась!
Сварщик шнырял по общежитию в поисках разных странных предметов. Длинная бутылочка для детского питания, обрезок ручки от швабры, эбонитовая палка, пробирка, пестик от медной ступки. Выпросил у соседа из соседней комнаты маленький детский рюкзак, куда сложил добычу.
Вошел в темную комнату, и застал свою гостью одетой, сидящей на стуле на фоне голого заснеженного окна. Несколько секунд они молчали. Сварщик положил маленькую жалкую свою торбу на кровать, не выпуская из руки, там что–то грюкнуло–звякнуло.
— Что это, закуска?
Сварщик совсем растерялся. Он был готов только к двум вариантам развития событий. Объект лежит готовый ко всему под одеялом, желательно с зажмуренными глазами. Или, объект исчез, не вынеся пытки бесконечным перекуром. Не зная, что сказать, он задал глупый вопрос.
— Ты встала?
— Да. — Ответила Лариса и решительно встала со стула, игриво пробежав пальцами по клавиатуре «ундервуда». — Помоги мне одеться.
Не выпуская из левой руки своего рюкзака, в котором была собрана на этот момент вся скорбь мира, он другой рукой схватил за ворот дубленки гостьи и начал ритуал ухаживания за дамой, превратившийся в какую–то медвежью пляску.
Лариса вытерпела и эту неожиданную неловкость, она гармонировала с общим обликом этого житейского оболтуса, и категорически застегнувшись, сказала.
— Не волнуйся, тебя никто отсюда не выселит. А если выселят, жить можно и у нас. — Сказала она безапелляционным тоном. — И не надо меня провожать.
Он и не хотел ее провожать. Положил рюкзак в тумбочку, выпил вслед ушедшей деве полфужера коньку. Чувствовал, что начинаются какие–то новые времена, и не мог понять, рад ли он этому.
10
Обнаружив пропажу «Ахтамара» капитан Козлов все понял. И встретил дочь вопросом.
— Кто он?
Чувствуя по тону вопроса, что он не будет доволен никаким ответом, Лариса ничего не стала объяснять. Просто проследовала в свою комнату. Отца она любила и не боялась. Относилась к нему лучше, чем к какому бы то ни было другому мужчине, но слишком точно знала схему его устройства: попыхтит, и смириться.
Не сегодня, так послезавтра.
Утром она оставила на видном месте свою зачетку — она отливала пятерочным сиянием, а рядом лежал в красиво упакованный галстук, с открыткой, пояснявшей — «С первой повышенной».
Не дожидаясь реакции отца, которую она и так отлично себе представляла, Лариса уехала скандалить к директору общежития. Заготовила превосходную речь, даже две речи, первая модификация — от имени комсомольской фурии, другая — от царевны Несмеяны. Слезы тоже форма демагогии, она это знала, хотя и не любила применять этот прием. Она была уверена, что никакой в мире директор не сможет объяснить ей, на каком основании он станет выгонять на мороз гения с пишущей и антикварной машинкой. Пусть даже этот гений давным давно ничего не варит для комбината, и платить за проживание отказывается. Для полноты победы, которую она собиралась одержать, она решила объявить этому держиморде, что он должен будет также смириться с тем, что утлый пенал в общежитских пенатах будет посещаем ею, отличницей, комсомолкой, активисткой Ларисой Коневой в любое время по ее усмотрению, и пусть только кто–нибудь заикнется насчет советской морали в этой связи.
Директор обитал на первом этаже в небольшом аппендиксе, где на стенах висели феерически лживые графики, по прошлогоднему покосившаяся стенгазета, а на стульях сидело человек шесть изможденных неизвестностью жильцов. Лариса прошла мимо них как бригантина мимо лежбища дохнущих котиков, даже не отвечая на жалобный рев этих бытовых животных.
И вот она в кабинете.
И вот она вылетает из кабинета.
Кто же мог знать, что вместо неизбежно улещаемого или запугиваемого административного бугая, она наткнется на угрюмую, рябую надзирательницу с банкой горчицы вместо сердца.
Ладно, зайдем с другой стороны, сказала себе Лариса и зашла. Вечером того же дня.
— Кто у нас будет жить?! — Взвился, успокоившийся было отец.
— Человек, которому надо помочь.
— Ты выходишь замуж?
— Я еще не решила.
— Подожди, даже если бы уже решила…
— Папа. — Сказала Лариса, и на щеке у нее задергалась гандбольная жилка.
— Ты давно с ним знакома?
— Несколько дней, но это не играет никакой роли.
Капитан пошел к холодильнику и там выпил две рюмки водки одну за другой, зная, что сейчас–то женщины ему и слова не скажут.
— Кто он?
— Это удивительный человек, ты сам это увидишь.
— Ну, хотя бы месяц, ну, полгода, вы встречаетесь, я…
— Нельзя ждать полгода, папа. И месяц нельзя.
— Почему?
— Его завтра уже выгонят из общежития.
— Почему?!
— Потому что до этого его выгнали с работы.
Капитан закашлялся, а потом захрипел.
— Папа, выпей еще водки.
Преодолев таким образом отцовскую преграду, Лариса обернулась к матери, та уже несколько раз тяжело вздыхала, прикидывая, какой подарочек приготовлен для нее.
— Мама, мне нужно сделать операцию.
— Операцию? Какую?!
— Папа, выйди, пожалуйста.
Выслушав соображения дочери, Нина Семеновна смешалась.
— Послушай, дочка, а ты уверена, что тебе нужен такой… друг, который…
Лариса посмотрела на маму настолько ласково, настолько обезоруживающе, что в голове Нины Семеновны ничего не осталось, кроме попыток прикинуть и сообразить, что она скажет главврачу, и кого из хирургов придется просить, чтобы все сошло тихо, без сплетен.
— Когда это нужно, Ларочка?
Дочка ответила модным комсомольским слоганом той поры:
— Это было нужно вчера.
Голова активистки работала как аэропорт Шереметьево, все рейсы были расписаны по минутам, и никаких накладок. На утро следующего дня была назначена операция. На обеденное время встреча капитана Конева и поэта–сварщика, вечером должно было состояться объединение тем.
Но опять–таки замешались в стройный расклад некие нюансы. Когда Лариса лежала под кристально–крахмальной простыней, а мама сидела рядом, держа ее за руку, а хирург с медбратом обсуждали в курилке некоторые аспекты произошедшего только что вмешательства, в палату заглянула виноватая физиономия с белыми глазами–окулярами. Лариса не вскрикнула, не сжала руку матери своей гандбольной ладонью, она грустно улыбнулась.
— Я так и знала.
Да, она надеялась на лучшее, но лучшего не случилось. Капитан Конев через полчаса беседы с поэтом, выгнал его из дому, даже не допив его водки.
— Что он сказал?
— Он говорил непонятно. Мол, один — один.
— Какой один — один?
Мать опустила голову и всхлипнула.
Поэт переводил свой совиный взгляд с одной женщины на другую, ничего, разумеется, не понимая.
— А-а. — Сказала Лариса, начиная догадываться в чем дело.
Поэт добавил.
— Он сказал, что если въеду я, то он пошлет за Викторией Владимировной.
Мать всхлипнула еще громче.
Лариса знала, когда можно и нужно надавить, а главное — на кого. Сейчас давить на отца было не нужно, и нельзя.
— Мам. — Она слегка дернула Нину Семеновну за руку. — Ничего не поделаешь.
— Чего не поделаешь?! — Мрачно, неприветливо спросила мать.
— Придется ему, — она ткнула пальцем в поэта, — искать место здесь.
— Где здесь, ты очумела?!
— Конечно, не в этой палате…
— Я говорю, очумела!
— Я только что лишилась девственности, так ты хочешь, чтобы я тут же лишилась и мужа.
При слове «мужа» сварщик потупился, ему казалось, что сейчас назвали слишком большую цену за то жилье, которое ему, возможно, подыщут, но все его вещи сейчас валялись в предбаннике общежития, и ему обещали, что уже вечером они будут валяться на улице в снегу.
Лариса повернулась к сварщику.
— Я же тебя просила не читать отцу стихи. Он офицер, он не поймет.
Поэт развел руками.
— Я читал переводы. Гонгору.
11
Сестра–хозяйка лицо влиятельное в госпитале и посвященное во все материальные обстоятельства своего заведения. Окружной госпиталь располагался на обширной территории, обладал множеством укромных уголков, и Нине Семеновне не надо было особенно ломать голову ради того, чтобы найти приемлемую нору для «зятя». Во флигеле неврологического отделения имелась конурка с отдельным входом, с койкой, тумбочкой и этажеркой, так что все имущество сварщика обрело привычные для себя условия существования.
Нине Семеновне поэт тоже не глянулся, но, правда, не до такой степени как мужу, она разрешила ему курить в форточку и показала ту дыру в ограде, через которую выздоравливающие бойцы бегали в самоволку. Через нее же проникала на территорию и Лариса, когда ей особенно нетерпелось добраться до спасаемого ею мужчины, и не хотелось тащиться лишних два квартала до КПП. Хотя там ее пропускали беспрепятственно, и даже приветственно зная, кто ее мать.
Началась их «семейная» жизнь. Получив минимальную медицинскую поддержку, сварщик показал, что он все же на многое способен. Но не это было для нее самым интересным. Лариса получала не столько сексуальное удовлетворение, сколько удостоверение, что с этой точки зрения у них все в порядке.
Намного важнее было духовное единение. Сварщик все время рассказывал о своих несчастьях, о своей незавидной, жестокой судьбе, а она разнообразно мечтала о том, какими способами и с какой энергией она будет бороться против всех этих черных сил.
Перков происходил из довольно родовитой по советским меркам семьи. Отец его был заместителем директора совхоза–техникума в Будо — Кошелеве, теперь, правда, сидящего за какие–то подло приписанные ему растраты. Единственный ребенок в семье, поэт ни в чем не знал отказа, первый в поселке магнитофон, лучший мотоцикл, волосы до плеч, возможность поступить по блату в БИМСХа, (институт механизации сельского хозяйства) и бегство оттуда. Лихая, богемная районная жизнь. Танцплощадки, общежитие кооперативного техникума. «О, ночная жизнь!» Лариса слушала, чувствуя мучительную работу разбуженного воображения. Скажем, ночная жизнь Парижа — это что–то банальное, предсказуемое (кафе–шантаны и канканы), а вот ночная жизнь Будо — Кошелева, это пьянило!
Потом Перкова накрыла страстная любовь.
Лариса из деликатности собиралась вообще не касаться этой темы, но очень скоро стало понятно, что сварщик без этой темы не мыслит себе общения. Данута и Рогнеда. Имена умершей жены и не родившейся дочери. Когда он в первый раз рассказывал, как добивался, чтобы ему сказали, кого он потерял дочь или сына, то не выдержал и разрыдался. Лариса легко разрыдалась с ним вместе.
— А потом я бежал, бежал от этого кладбища. Куда угодно, куда глаза глядят, хоть на стройку!
Лариса все время мечтала принести ему абсента, но этого напитка не могла достать даже мама, несмотря на все свои медицинские связи.
Тогда же он начал писать стихи. Всерьез. Потому что до этого всего лишь баловался, сочинил лишь слова для пары песен местного ВИА.
— Теперь ты понимаешь, почему меня бесит, когда их не принимают, и нигде не хотят печатать?
Еще бы ей не понять. Она хотела сказать ему, чтобы не волновался, она добьется, чтобы его напечатали, но сдержалась, понимая до какой степени не знакома ей эта область жизни. Как знать, какие там действуют правила. Но, черт возьми, должна же и там быть хоть какая–то справедливость!
Потом он начинал ей читать свои, как он говорил, «тексты», и ей нравилось это слово, оно как бы заведомо выделяло читаемое из числа обыкновенных стихотворений, какие сочиняли другие, разрешенные авторы.
Будучи в самом полном смысле комсомолкой, активисткой, советской девушкой, она пьянела от сознания, что напрямую общается с источником какой–то таинственной «неразрешенности».
Чтобы не огорчать отца, она всегда ночевала дома, и капитан жил в счастливом заблуждении, что своими решительными действиями он оградил дочь от этого «шланга». Собственно, Ларисе и самой нравилось установившееся положение вещей. Такой ограниченный, дневной брак ее вполне устраивал. Удивительным образом, живя полноценной половой и, можно сказать, семейной жизнью, она оставалась и прежней Ларочкой, папиной дочей. Некий кентавр, сверху по пояс студентка за партой, отличница, все время тянущая руку, чтобы правильно ответить на заданный преподавателем вопрос, а ниже пояса, под партой какая–то саския.
Свою компанию по продвижению творчества сварщика она начала с перепечатывания его текстов на машинке. Поэт потягивал пиво, держа на весу кисти сильных, но бледных рук, выискивая нужную, но всегда неуловимую букву, за окном метель. Идиллия.
Следующий шаг — институтская стенгазета. Редактор этого издания, втайне симпатизировавший стройной, решительной Ларе, прочитав то, что она ему всучила, заскучал. Лариса отставив крепкую, очень уверенную в себе ногу характерным атакующим движением, вперила в него презрительный взгляд, говоривший: не согласишься, уничтожу морально. Он стал длинно, и как–то аляповато оправдываться. Мол, у них выпуск ко дню Советской Армии, а предлагаемая поэма называется «Мои любовные пораженья». «Кстати, почему здесь через мягкий знак, не в размер?» Лариса знала почему, это была ее личная опечатка, но признавать свою ошибку она и не собиралась.
— То есть, не вставишь?
Годунок, так звали редактора, душераздирающе вздохнул.
— День Советской Армии!
— У меня отец — капитан. — Сказала проникновенно Лариса. — И я получше тебя понимаю, что нужно солдату в день его армии. Ты же вон отмазался.
— У меня астма. — Тихо просипел редактор, как будто был уже в состоянии приступа.
— Врешь ты все!
Лариса сказала это просто так, но Годунок испугался. Он вспомнил, где работает мать Ларисы, в госпитале, а именно там ему выдавали белый билет в связи с редким геморроидальным недугом. Он слишком не хотел, чтобы все узнали в институте, что про астму он врал. Он взял из ее рук листки, которые только что ей вернул.
— Но двести строк!
Лариса только усмехнулась, потрепала его по щеке и отправилась на следующее задание, которое сама себе дала.
Надо сказать, что дальше дело пошло еще туже, чем со стенгазетой. Повсюду ее отфутболивали. И в областной газете, и многотиражке химкомбината, и в редакции «Понеманья», сверхспорадически выходящего областного альманаха. Даже пугливый партизан из дома Ожешко проявил неожиданную твердость, и заявил, что никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет споспешествовать этому бездарному трутню Принеманскому.
Она понимающе кивнула.
— С завистью бороться труднее, чем с немцами.
Оставив старика в состоянии сердечного приступа, она направилась в последнюю литературную инстанцию города. К Василю Быкову, Всесоюзная знаменитость должна была навести порядок среди мелких областных завистников.
Оказался в отъезде.
Выслушав историю ее хождения по мукам, сварщик приголубил свою деловитую музу, и успокоил, сказав, что по–другому и быть не могло. Она не поняла.
— А что тут непонятного? Ты с кем говорила, назови еще раз фамилии: Годунок, Данильчик, Михальчик, Коник. Они все тебе отказали.
— Раньше мне отказывали только злые тетки в общаге.
— Причем здесь тетки? Они все белорусы.
— И что?
— Они занимают, Лара, все ключевые посты в областной номенклатуре, в культуре в частности. Тихий заговор, грибница, понимаешь?
— Нет.
— Я, например, русский, но не просто русский, я наполовину болгарин по матери, но не в этом сейчас дело. Я русский и за это меня душат, не дают прорваться. Белорусы многого не могут простить русским.
Лариса смотрела на возлюбленного все же с некоторым недоверием.
— Чего не могут?
— Ну, например, грубой, безапелляционной русификации. Ты не обращала внимания, что в Белоруссии школы на белорусском языке есть только в деревнях, а в городах, все образование на русском. То есть, любому белорусу дается понять, что место его в деревне, в его веске, сиди и не рыпайся. А националисты учат русский, выбиваются в люди, вспоминают свои корни, закипает задавленная обида, и они начинают, где возможно сопротивляться русской культуре, тащить своих.
— Но повсюду же печатают и русских сколько угодно.
— Так для этого нужно быть не просто русским, а разрешенным русским. Если бы я сочинил что–то о партии, о Ленине, попробовали бы они мне отказать. Но стоит начать воистину творить на русском языке, вот так откровенно, беззащитно, сразу — получай! Они партизаны, они привыкли добивать тех, кто отстал от общей колонны, или слишком забежал вперед.
Все сообщенное настолько потрясло воображение Ларисы, что она даже осталась ночевать у «мужа». Долго не могла заснуть, а, засыпая, видела какие–то фантастические сны. Она никогда не смотрела на жизнь с этой точки зрения, она всегда жила там, где было полно разных людей, поляков, евреев, русских, белорусов и национальные различия между ними никогда не были предметом ее размышления, или домашнего разговора родителей. Единственно в чем она отчетливо ощущала свое явное своеобразие, это военное, гарнизонное, в том смысле что неаборигенское происхождение. Да, в ней есть офицерская кровь. Да, однажды в детстве ее испугала цыганка, и вот цыганскость, тоже пожалуй, была для нее чем–то отдельным, не общим со всеми остальными людьми. Да, цыгане и офицеры, люди особые, но по–разному. Офицеры на ее стороне, а цыгане, скорее, нет.
Так сразу вслед за отказом от своей невинности, Лариса стала обладательницей русскости. И все, в общем–то, благодаря мужу. Мужу. Как оказалось, вообще болгарину.
Болгарин. А с этим, что делать? То, что надо бороться с тайным ползучим, партизанским белорусским национализмом она уже приняла как данность. Но как разыграть болгарскую карту?
Придумала! Она напишет письмо Тодору Живкову! Она найдет, что ему написать.
Проснувшись утром, Лариса решила утренним умом пока отставить болгарский план, все–таки выход за границы государства. Надо попробовать использовать местные ресурсы.
Это значит, надо идти скандалить.
Куда и с кем?
При свете дня ситуация не выглядела такой простой — пошла поскандалила, сорвала чиновничьи маски обнаружив под ними хитрые белорусские физиономии, и все в порядке. Сочтут, пожалуй, ненормальной.
Она смотрела на своих однокурсников с легким презрением, как носительница тяжелого тайного знания, на беззаботно резвящихся детишек. Ей в каком–то смысле было даже приятно ее состояние, когда бы не необходимость что–то решать с творчеством мужа.
Был и еще один фронт непрерывной работы — отец. Капитан Конев обрабатывался неутомимо и разными видами оружия. Лариса вздыхала, не только расписывала ужасы существования непризнанного поэта, заброшенного злой судьбиной в чужой город.
— Так ты что с ним встречаешься?
— Да.
— Где?
— Мы гуляем в парке.
Капитан скрипел зубами, но не мог же он и это запретить.
— Доча, он же дрянь, ничтожество, обмылок, а не человек.
Разумеется, отцовские слова производили эффект обратный желаемому.
Лариса долго думала, какую бы подвести мину под оборонительную систему отца. И однажды додумалась. Забралась к нему в стол во время его дежурства, и отыскала там потертую общую тетрадь, куда Николай Конев еще с тех времен, когда он только готовился поступать в училище, записывал умные и парадоксальные фразы по поводу военного дела. В основном, конечно, это были цитаты из чужих трудов. Но затесалось меж ними и несколько оригинальных мыслей молодого офицерского ума. Лариса выбрала парочку, не вдумываясь в смысл, написала гуашью на плотной бумаге, и повесила у себя над столом. Решила, что если папа спросит — откуда? скажет, что это осталось у нее в памяти от их давних задушевных бесед.
«Сила плюс культура равняется — офицер», «Война — это достижение справедливости силой». «Хочешь проиграть войну — начни ее!»
На капитана эта диверсия произвела очень сильное впечатление, он засопел, и скрылся на кухне.
— Еще немного и мы переезжаем к нам. — Сообщила Лариса Перкову.
Но вот как быть с публикацией? Годунок поклялся, что сделает, но до 23 февраля была еще целая неделя.
И тут судьба сама пошла ей навстречу. У Кинотеатра «Гродно» она столкнулась нос к носу с Желудком. Он обрадовался встрече, и даже сходу взял свой обычный самодовольно фатовской тон, что Ларису не удивило. Удивило другое, что он резко, посреди разговора, без всяких внешних причин свернул уже начатую обольстительскую компанию. Как бы внезапно опомнился. Даже оглянулся по сторонам — не видел ли кто–нибудь. Видимо, были причины внутренние. До них Ларисе не было дела, она вся сосредоточилась на той мысли, что Леонид работает в том самом доме, что не далеко от Советской площади, в «комитете», как тогда говорили. Не важно, на какой должности, важно, что он сам, помнится, предлагал ей помощь в случае чего. Тогда, в институтском коридоре. Давно, полгода назад, но это не важно. А тут как раз случай, да еще какой. Разве не должен человек, поставленный на страже интересов государства, немедленно отреагировать на отвратительный зажим поэтического таланта.
— Леня, нам нужно серьезно поговорить!
Он испугано заморгал, и сделал полшага назад.
— Я приду к тебе, какая комната?
— Никакая.
— Говори, Леня.
— Может быть, прямо здесь?
Он сделал еще шаг назад. Представитель власти явно боялся представителя народа.
— Что я тебе уличная девка? — Возмущенно сказала Лариса. Она имела в виду, конечно, не совсем то, что прозвучало. Она хотела сказать, что заслуживает того, чтобы ее выслушали в кабинете, а не на проезжей части. Мелкий сотрудник областного управления КГБ Леонид считал совсем другое сообщение с прозвучавшей фразы. И сообщение это попахивало чем–то скандальным, тем, чего он должен был по своему нынешнему положению тщательнейшим образом избегать. Он собирался в самое ближайшее время жениться на дочери одного из секретарей обкома, и уже успел понять каких строгих правил семейство, в которое он надеется войти. Старые, комсомольских времен ухватки придется отставить, опасно каждую активистку рассматривать как наложницу.
Леонид быстро огляделся, не наблюдает ли кто за разрастающимся скандалом.
— Хорошо. Приходи. Но через две недели. Командировка.
— Я не забуду, Леня.
Он знал это.
— Утром. Как можно раньше.
Выслушав сообщение Ларисы о страшном белорусском заговоре против русской поэзии, он чуть не разрыдался от смеха в своем кабинете.
— Что с тобой? — Спокойно спросила Лариса, не собиравшаяся шутить или смущаться.
— Это бред, понимаешь, абсолютный, клинический, махровый бред. Уж чего нет и не может быть в природе так вот этой «грибницы», этой «партизанщины». Ну, поляки как–нибудь втихую, ну, евреи само собой, но чтобы белорусы задумали… — Он рухнул на стул, стирая слезы с великолепно выбритых щек.
Лариса смотрела на него как на недоумка, временно имеющего возможность порезвиться, но неприятные известия уже в пути.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, что белорусы, они те же русские, только лучше. Добрее, толковее… Ни тени самостийной дури. Скорее Москва отделится от России, чем Белоруссия.
— Ты хочешь сказать, что мой муж… — Она сознательно усугубляла ситуацию.
— Так значит этот Перков тебе муж? — Желудок произнес этот вопрос настолько уничижительным тоном, что Лариса ослепла от ярости, надо было во что бы то ни было ответить!
— Не только муж, но и отец моего будущего ребенка!
Лариса свято верила в момент произнесения этих слов, что так оно и есть.
Леонид не сдержался, по молодости, из–за укола понятной мужской обиды. Лариса ему искренне нравилась, но у него ничего не вышло, а у этого … Перкова вышло, да еще и так далеко зашло.
— Хочу тебя обрадовать, ты замужем за идиотом!
— Мы пока не женаты.
— То есть как не женаты? Ты же сама говорила — муж. Впрочем, какое мне до всего этого дело?!
— Ты должен позвонить в «Понеманье» и Варивончику.
Леонид помотал головой, отгоняя страшный сон.
— Ты хоть понимаешь, куда ты пришла?!
Лариса усмехнулась.
— Я то, как раз, понимаю. А ты понимаешь, где работаешь? — Опять–таки Лариса сказала не совсем то, что было услышано. Она подразумевала, что отстаивать права советского человека, обязанность для всякого, кто оказался в здешних рядах. Леонид услышал какую–то смутную, и от этого очень неприятную угрозу. Ему стало понятно, что пугать эту дуру отчислением из университета, или исключением из комсомола за незаконную беременность, бесполезно, все равно все обернется против него.
— Давай пропуск.
— Зачем?
— Чтобы ты могла выйти отсюда.
— Ты меня выгоняешь?!
Леонид испугался, что она сейчас заявит, что никуда не уйдет, пока он не отдаст команду печатать Перкова. Он попытался обратиться к логике, мол, даже если бы он и хотел помочь, то не может, он работает не в том отделе, который ведает прессой и все такое.
— А в каком ты отделе?
— Ну, знаешь…
Лариса встала со стула.
— Хорошо, я уйду.
Остановилась у двери.
— Тебе наплевать на искусство, наплевать на моего мужа!
Это была чистейшая правда.
Она открыла дверь и уже стоя в проеме сказала.
— Но подумай, что будет с этим несчастным ребенком!
И исчезла.
Леонид вылетел следом. В предбаннике сидело человек пять, и все они видели его красное лицо.
Увидевшись с «мужем» сообщила, что все будет хорошо, и произойдет скоро.
— Все? — Спросил поэт со странным выражением голоса.
Да, уверенно подтвердила Лариса. И стихи пойдут в печать, и отец вот–вот смирится с переездом избранника дочери в их хорошую двухкомнатную квартиру по улице Карла Маркса.
— Ты удивительный человек Ларочка.
— Я знаю.
Капитан сдался.
Сразу вслед за Годунком. Тот дал «Мои пораженья», и слег с приступом геморроя, так что шокированному начальству сначала было даже не на кого обратить свое удивление.
Валерий Перков скрытно прокрался в здание пединститута, и долго стоял в сторонке пытаясь понять, какова реакция читающей публики на эту публикацию. У стенгазеты собралась толпа, но вела она себя странно. Читатели криво улыбались и пожимали плечами. Владимир Владимирович Либор, изучив текст, мрачно закурил, и куда–то заспешил. Это успех, или еще не успех, думал поэт.
— Ладно, — сказал капитан, — поехали.
Он, конечно, уже знал, где обретается «жених», и чувствовал себя осажденной крепостью, под которую подводят медленный, но неуклонный подкоп. В конце концов, каким бы куском дерьма не был будущий зять, Ларочка сделает из него человека. Будем считать, что ей виднее.
Выгнал из гаража свой «москвич», освободил багажник для пожитков поэта. Даже хорошо, что тот бросил сварочное дело, а то бы въехал к ним прямо со сварочным аппаратом, отвлекал себя таким незамысловатым юмором капитан.
— Сколько же ему лет?
— Двадцать шесть.
— А где служил?
— Па–апа!
— А вдруг теперь заберут?
Лариса рассмеялась.
— Кто его у меня заберет?! В крайнем случае, вернется опять в госпиталь на пару недель.
Въехали официально, через КПП, замедленно попетляв меж аккуратными сугробами сдали задом к дверям неврологического флигеля.
Сначала Лариса не поняла в чем дело. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие печатной машинки на тумбочке у окна.
Потом она обратила внимание, что исчезли и все остальные вещи. Какое наглое ограбление! Что она скажет Валере, это ведь она поселила его здесь, и на что годна вся наша Советская Армия, если не смогла обеспечить сохранность имущества всего лишь одного несчастного поэта. Вообще, он знает об этом? А вдруг, это начальник госпиталя распорядился. Валера сказал ему какое–нибудь слишком откровенное слово, он ведь не умеет кривить душой, и вот результат!
— Папа!
Капитан обнял ее за плечи, успокаивая.
— Ничего, ничего, я его найду и ноги повыдергаю.
Тогда Лариса поняла, что тут произошло на самом деле. Сбежал! Это был сколь несообразно, столь и очевидно. «Невеста» села на кровать в состоянии полного окаменения. Ни разговаривать, ни даже плакать она была не способна.
Капитан осмотрел помещение.
Ничего, кроме исчирканных обрывков бумаги, грязного носового платка, и заштопанного одиночного носка. Да, за кроватью обнаружился и небольшой серый рюкзачек. Отец сел на стул рядом с дочерью и стал вытаскивать из него находившиеся в нем предметы. Эбонитовую палочку, пробирку, обрезок деревянной ручки от швабры, отполированный до блеска медный пестик ……..
— Это все, что от него осталось?
Лицо Ларочки едва заметно исказилось.
12
Она слегла с сильнейшей простудой. Капитан и капитанша ходили как тени по квартире, дежурили по очереди у постели. Хорошо, что уход за больною требовал много внимания, в эти дни, они, наконец, полностью покончили с той старинной еще слонимской историей, все было прощено друг другу над раскаленным телом обманутой дочери. Все обиды как бы сгорели в этом костре. Дошло до того, что когда в один из дней по окончании кризиса, позвонил Лион Иванович, залетевший в Гродно на очередную свою гастроль, капитан Конев махнул рукою — да пусть заходит!
Супруги, конечно, ничего бы не стали ему рассказывать, кто же такой сор выносит из избы. Лариса сама, выйдя к гостю в пижаме, и с замотанным горлом тут же вывалила всю свою историю. Причем не в жалобной манере, мол, пожалейте меня, а чуть ли не с юмором, что при ее воспаленном взгляде, хрипловатом, больном голосе получилось впечатляюще.
Когда она ушла к себе, капитан похвалил ее — смотрите, держится, даже шутит.
Лион Иванович не разделил такого взгляда на ситуацию. По его мнению, именно в таком состоянии девицы глотают таблетки и бросаются с моста. Вслух он этого не сказал, но усиленно посоветовал родителям подумать о том, чтобы дочка сменила обстановку. Лучше, если целиком весь город.
— В каком смысле?
— Ей надо перевестись. Например, в Москву.
Это звучало как — хорошо бы ей полететь на Луну.
— И родной дом, и родной институт, все это будет давить на нее, а я мог бы попробовать похлопотать. Кроме того, я знаю людей такого типа, как этот ее, извините, жених. Никакой ведь нет гарантии, что однажды он не нарисуется поблизости, и не станет трепать Ларочке нервы.
— Я его… — Капитан поднял руку, демонстрируя, что он сделает с вернувшимся сварщиком.
— Да бросьте вы, это все слова. Что вы драться полезете, из пистолета своего застрелите его? А он своими выходками превратит Ларочкину душевную травму в хроническое заболевание. Сломаете своей заботой жизнь девочке.
Конечно, они не согласились, куда это, вдруг отпустить от себя раненое дитятко в чужие люди за тридевять земель! Но зерно сомнения было заронено. Капитан после одной из бессонных ночей, осторожно заговорил с Ларисой на эту тему. Она выслушала, ничего не ответила. Позвонил Лион Иванович, ну, что, надумали? Капитан переглянулся с супругой, и вздохнул — хлопочите!
Лариса возвращаясь домой с занятий вдруг ни с того, ни с сего (как будто кто–то дернул за рукав), ни с сего остановилась у газетного стенда «Гродненской правды», и там, на четвертой полосе, внизу, в углу увидела ненавистное имя. Валерий Перков, вслед за этим четыре стихотворения, полные такого декадентского дребезга, по сравнению с которым «Мои пораженья» звучали как почти жизнеутверждающий текст.
Стоял яркий, голубой, солнечный мартовский день. С сияющих сосулек мелко петляя сбегали вниз быстрые капли. Блестели окна домов, даже троллейбусы выглядели одухотворенно, а в Ларисе закипало злое, но жизнеутверждающее чувство.
Она поняла, что надо делать.
К офицеру Леониду ее не пустили. Она дождалась его в скверике у входа в управление. Завидев ее, он попытался свернуть в боковую аллейку и ускорить шаг, но все это были напрасные попытки.
— Решила меня поблагодарить?
— Ты мне должен помочь.
— Послушай, сколько это будет продолжаться? Я не собираюсь всю жизнь трястись при твоем появлении.
Лариса была спокойна.
— Все закончится, как только я отсюда уеду.
Мысль была настолько очевидна, что Леонид перестал раздувать возмущенные ноздри.
— Что?
— Ты должен мне помочь.
— Ну, говори.
— Перевод в Москву.
Он фыркнул.
— В любой институт.
Он фыркнул снова. Лечение выглядело обременительнее болезни.
Она вздохнула, как человек, обладающий куда большим жизненным опытом, чем собеседник, наивно сопротивляющийся неизбежному.
— Леня, ты же понимаешь, что это придется сделать.
Уже получив все необходимые документы, Лариса выступила на институтском комсомольском собрании, с требованием, чтобы Николая Годунка немедленно освободили от должности редактора стенгазеты. Потому что ведь недопустимо помещать на страницах этого уважаемого издания такую вредную и убогую продукцию как идеологически уродливые стишки Валерия Принеманского, дезертира трудового фронта.
Когда она выходила из аудитории, то случайно встретилась взглядом с Годунком. Он смотрел «так», что она не могла просто пройти мимо.
— Как тебе не стыдно, Коля. Ты думаешь, вот мол, она сама же мне навязала этого дурака, а теперь сама же за это бьет. Ты не можешь не напомнить мне о моей жизненной драме. Ты жестокий и мстительный человек, Годунок.
13
В столицу Лариса въехала слегка прищурившись, как бы прикидывая, кто из попадающихся навстречу мужиков собирается ее соблазнить своей беспомощностью и вслед за этим цинично бросить. Она была убеждена, что знает о представителях противоположного пола практически все, и решила, что ее больше никогда не заманить под вывеску «Гибнущий талант». Когда она услышала по радио некогда популярную песню, где были слова «женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет — жалею тебя», ее чуть не вырвало.
Ей дали койку в аспирантском общежитии пединститута. В двухкомнатном блоке с общим туалетом и душем. Одну комнату занимала Лариса вместе с очень болезненной, почти постоянно отсутствовавшей девушкой, вторую — Изабелла. Она сразу завладела вниманием новенькой. Она была иностранка, она шикарно одевалась, постоянно курила, отчего напоминала жрицу в облаке культовых испарений. У нее, правда, был недостаток — она печатала на машинке. Машинка была той же породы, что и у сварщика. Родственницы, как Лиля Брик и Эльза Триоле. Лариса сама додумалась до этого образа после одной из лекций по зарубежной литературе.
Лариса сначала напряглась, а потом простила новой подруге это сходство. Потому что Изабелла боролась. На ее латиноамериканской родине царила диктатура, держащаяся на штыках американской морской пехоты и Изабелла Корреа Васкес организовала что–то вроде ячейки сопротивления из соотечественников, студентов московских вузов.
Первое посещение ее комнаты поразило Ларису как выезд за рубеж. Здесь все было другое, запахи, предметы, даже свет из окна, как будто в него подмешали каплю крови. Коврики с диким орнаментом на стене и полу, портреты Боливара и Че, пузатые, губастые статуэтки, стопки книг с яркими латинскими буквами на корешках. На четырнадцати квадратных метрах была устроена совершеннейшая заграница.
Все началось с кофе. Изабелла вошла в комнату Ларисы, обаятельно выпуская дым изо рта, и красиво коверкая русские слова, предложила завязать знакомство. И немедленно отпраздновать его.
Кофеварка выглядела как маленький ацтекский храм, выдолбленный изнутри, запах ею произведенный еще некоторое время самостоятельно жил в воздухе, после того, как напиток был уже и разлит и выпит. Изабелла очень нравилась Ларисе, черные, смоляные с почти неуловимой проседью волосы, зачесанные назад, огромные, много повидавшие глаза, браслеты на коричневых запястьях, и манера материться. Она почти на все явления жизни реагировала одним словосочетанием — «бляга муга!»
Еще она нравилась Ларисе тем, что не мужик. Оказывается можно полноценно общаться с человеком, не думая «об этом».
Биография у иностранки была феерическая. Дочь плантатора, ушедшая в марксизм. Подруга одного из вождей так и не состоявшейся революции, вывезенная из страны на французской подводной лодке, во избежание резни.
Кроме того, у Изабеллы было больное сердце, поэтому она все увеличивала и увеличивала количество потребляемых сигарет и кофе. Неправильность ее речи во многом объяснялась тем, что во рту она постоянно держала таблетку валидола, и даже две, когда слушала по вечерам новости по телевизору. Кстати и материлась она чаще всего во время новостей.
Как это говориться, Ларочка потянулась к ней. Сначала клюнула на экзотику, а потом распробовав в соседке по настоящему интересного и оригинального человека. Ларочка ей завидовала. У Изабеллы была борьба, здесь на третьем этаже московской общаги тянулись будни обыкновенной обыденной жизни, а где–то горел костер сопротивления диктатуре. Джунгли, барбудос, белые штаны, ром, бандьера роса и сомбреро. Жизнь Изабеллы была более обеспечена содержанием и смыслом, словно бы порабощенная узурпатором родина была чем–то вроде огромного банковского счета, с которого можно было получать проценты самоуважения и сочувствия окружающих.
Лариса сочувствовала ей не только как идейной беженке, но и как сердечнице. У Изы иногда и вдруг серело ее смуглое лицо, Лариса неслась на первый этаж к жуткому скрипучему аппарату на столе вахтерши и звала скорую. Врачи уже изучили этот маршрут, каждая из бригад ближайшей подстанции перебывала в экзотической комнате по несколько раз, и чем дальше, тем больше они корили революционерку за непрерывный табак и кофе, угрожая больше не приехать, если она не оставит убивающих ее сердце привычек. Лариса ругалась с ними, требуя особенного внимания к подруге, стыдила, давая понять, что они имеют дело с необычным человеком, с человеком по сути сидящем в окопе непримиримой битвы с мировым империализмом. А вам лень оторваться от ваших кроссвордов!
После одного из таких приступов, Иза выглядела особенно подавленной. Что? Что с тобой? Тебе все еще плохо?! Оказалось, что Изабелла должна была этим вечером отвезти некие «материалы» товарищам латиноамерианцам в общежитие энергетического института.
— Они ждут, а я …
Лариса тут же оделась, мол, положись на меня.
— А лекции?
Лариса усмехнулась. Переехав из провинциального вуза в столичный, она обнаружила себя еще более бескопромиссной отличницей, чем была. Учение давалось легко, сказывалась врожденная бойкость ума, и то, что она не отвлекалась от учебы ни на что, кроме общения с Изой. Подваливали, конечно, какие–то увальни с вермутом, танцами и другими тусклыми глупостями, но она уничтожала их ехидным, разоблачающим взглядом. Однокурсницы перед ней заискивали, рассказывали фантастические сплетни про ее внеинститутские связи, и были втайне рады, что она не охотится на их территории.
В общежитии энергетиков ее «принял» Фернандо. Мрачноватый, жгучий красавец–брюнет. Он взял у нее пакет с «материалами» и настоял на том, чтобы «связная» выпила с ним кофе. Они поднялись в комнату, которую он делил еще с двумя другими брюнетами. Лариса поднялась из любопытства и из нежелания оскорбить уязвимую душу борца с тиранией. Никакой ожидаемой экзотики не обнаружилось в комнате Фернандо. Обычная общажная конура на три койки, кое–как застеленные постели, разбросанная одежда, грязный кед выглядывает из под стула. Велосипед в неприличном — вверх колесами — положении. Латиноамериканские мужчины были, видимо, не столь чистоплотны как их женщины.
Кофе оказался растворимый, да к тому же индийский. Лариса подумала, что это забавно, индеец потчует ее индийским кофе. Фернандо непрерывно тараторил. Почти непонятно. С огромным трудом Лариса намывала из породы этой болтовни золотой песок какого–то смысла. О, охмуряет! И он, действительно, охмурял. Великолепно, умело… Откуда–то из–за стены явился друг Фернандо по имени Аурелиано с расстроенной гитарой, отчего извлекаемые им звуки, были особенно душещипательны. От этого обволакивания и мужского напора, Ларисе стало душно. Она встала прямо посреди песни, и удалилась.
И устроила Изе тихий скандал по возвращении. Как ты могла?! Ты же знала о моем отношении к мужчинам!
Иностранка выглядела очень смущенной, она настолько расстроилась, что Ларисе пришлось ее утешать. Иза ругала себя, дура, дура, бляга муга! Как я могла! Я ничего не понимала!
— Он тебя обидел?
Лариса усмехнулась и сделала атакующее гандбольное движение, распахнула кисть так, будто держала в ней оторванную мужскую голову. Иза была в восторге, обняла и поцеловала подругу шепча, что–то вроде: как я могла такую девочку отдать каким–то грубым диким мужикам.
С тех пор Лариса, выполняя поручения Изы, никогда не попадала в сомнительные ситуации. С ней были просто вежливы и все.
Очень скоро стало понятно, что Изабелла не рядовой работник сопротивления заморской диктатуре, она, своего рода, профессор Мориарти в хорошем смысле, мозг этого сопротивления. Или, по крайней мере, один из важных отделов этого мозга. Лариса побывала в десяти–двеннадцати московских вузах, снабжая «материалами» группы смуглых активистов. Вечерами, они сидели с подругой при свечах, и ей было так уютно, так хорошо, как в постели с мамочкой лет в пять. Ни о чем не надо думать, ничего не надо бояться.
Лариса вошла во все обстоятельства подруги.
Например, почему это к ней никого не пускают из ее латинских друзей? Нарушение режима? Парням нельзя вваливаться в женское общежитие. Мгновенно образуется латинский квартал. Чепуха! Дискриминация! Сначала Лариса наехала на вахтершу, довела подслеповатую старуху до слез, и поняла только одно — гонения инспирированы откуда–то сверху. Даже к коменданту идти бесполезно.
Комитет комсомола.
На вопрос, почему так обращаются с хворой революционеркой, ей не смогли понятно ответить. Уклончивые слова, мягкие улыбки, странные советы не обострять, не напрягать.
Лариса отказывалась понимать иносказания, и требовала прямых формулировок.
Так мы дружим с теми, с кем у нас объявлена дружба, или только болтаем, что дружим? Партия и правительство за свержение той диктатуры с которой борется, превозмогая нездоровье Изабелла Корреа Васкес, или нет?
Не добившись вразумительного ответа в комитете комсомола, Лариса двинулась в массы. На каждой перемене она в буфетах и курилках возбуждала общественное возмущение против варварских порядков. Она всячески расписывала человеческие достоинства Изы, ей в ответ кивали, но без азарта. Любого, кто пытался ей возразить, она мгновенно обливала таким количеством ледяного презрения, что от человека оставался лишь Карбышев.
Приходите в гости, девочки, вы увидите, что это за чудо Иза!
Девочки усмехались, и обещали подумать. Один раз кто–то из них спросил, а что с Ларисиной соседкой по комнате, она еще не вернулась? Наверно, все еще где–то болеет, рассеяно отвечала Лариса.
Вообще, правильно говорят, что советские не слишком дружелюбны. Никакой открытости, никакой душевной щедрости. Одна похвальба. Одни только разговоры о дружбе народов, а на самом деле предубеждения и косность!
А Изабелла умела дружить. Да, она вся была «там», в пампасах горюющей родины, но и отлично различала то, что происходит вокруг. Она, например, первая поняла, что Ларочку тошнит отнюдь не только в ответ на песенный рефрен «женщина скажет, женщина скажет…».
— Ты беременна.
Ларочка посмотрела на подругу удивленно и испуганно. Нет, она, вобщем–то, осознавала, что значит факт многонедельной задержки, но, вместе с тем, совершенно искренне считала, что ненужный, неуместный, ребенок куда–нибудь денется, рассосется, ибо если отец его оказался такой законченной сволочью, то нет никаких оснований для продолжения состояния беременности. И какое–то время у нее были основания думать, что этот «ребенок» внял этой логике и пустился в обратный путь во вполне заслуженное небытие, из которого его выдернули и случайно, и напрасно.
— Я не хочу! — Оскорбленно и капризно заявила Лариса.
Изабелла заварила самый крепкий кофе, на какой была способна ее кофеварка. Подруги выпили по чашке, и стали подсчитывать, сколько недель этой неприятности. Выходило, что время еще есть. Одно посещение абортария — конечно, жуткое испытание — и свобода!
— А у тебя есть дети, Иза?
Подруга провела узкой ладонью по масляно поблескивающим волосам, и вставила сигарету в рот набитый валидолом.
— Я родила, когда мне было пятнадцать.
Лариса присвистнула, хотя и не умела свистеть.
— А твой муж, такой же негодяй как и мой?
— Хуже, Лала (она плохо выговаривала букву «р», как ребенок), хуже.
Лариса прониклась любопытством.
— Как это?
— Он вообще был индеец.
— Тебя похитили?
— Нет, я сама его соблазнила.
Лариса смотрела на подругу в полнейшем восхищении — какая сильная самка! Взяла и соблазнила команча. Пусть он и ускакал потом на своем абреке. Ей даже и в голову не пришло, что она с таким же правом могла бы восхищаться и собою. Чем уж так полуболгарский сварщик уступает в своей подлости краснокожему коннику. И тоже ускакал.
Так что же делать с потомством белорусского поэта? Ларисе сделалось как–то не по себе. Она боялась не возможной огласки, совсем нет. Впоследствии она спокойно и даже увлеченно обсуждала эту тему с однокурсницами, весьма шокируя их своей откровенностью. Аборты были вещью обычной в их гуманитарном заведении, но об этом все же предпочитали не распространяться, и только об абортных проблемах Ларисы был оповещен весь поток.
И не физической боли она боялась, хотя конечно думать о предстоящих скальпелях, крови и прочем было тоскливо. Ее угнетала мысль о том, что эта операция опять возвратит ее как бы в круг влияния этого негодного рифмача с белой шеей. Для того чтобы он в нее вошел пришлось делать операцию, и чтобы изгнать его опять без нее не обойтись. Она до такой степени полно, окончательно и уничтожительно презирала этого человека, что даже от такого, чисто условного возврата к нему ее тошнило, не хуже чем от песни со словами «женщина скажет».
Конечно, строго говоря, это был всего лишь несущественный каприз психики, но когда она рассказала Изе о нем, та отнеслась к нему с чрезвычайно серьезностью. Лариса была благодарна ей. Глубоко благодарна. Мы любим, когда учитываются наши законные требования, но особенно мы ценим, когда к таким вот искривлениям нашей натуры проявляют участливое понимание.
Но, вместе с тем, надо ведь что–то делать. Время идет. Не оставлять же ребенка, только исходя из–за приступа этой заочной брезгливости. Нет, в этом Иза поддерживала подругу. То, что Ларисой сделал беглый подлец, хуже, чем обыкновенное изнасилование, это духовное растление. И даже в некоторых католических странах разрешается избавление от подобного плода.
Так что же делать?!
Надо найти другой путь к очищению.
Какой?!
— Я, как ты наверно догадалась, немного ведьма. Совсем чуть–чуть.
Лариса улыбнулась — конечно, догадалась, Иза.
— Моя бабушка, она родом из маленькой деревеньки в Андах, она умела делать это очень хорошо, чисто женское дело, без всякого вмешательства мужчин.
— Да-а?!
Изабелла изложила ей суть старинного андского метода. Но не настаивала на его немедленном применении. Лариса взяла время на обдумывание, потому что была слишком впечатлена приемами Изиной бабушки. Этот метод требует не совсем обычного контакта человека с человеком, в смысле, женщины с женщиной. «И ты готова сделать для меня это?» — недоверчиво поинтересовалась Лариса. «Раз нет другого выхода, то готова», — сказала Иза, и погладила подругу по плечу.
Это может не получиться за один раз, честно предупредила коммунистка. Тем более что она не сможет действовать грубо и решительно, все же они находятся в цивилизованной стране, а не в древних Андах. Кроме того — Изабелла виновато улыбнулась — мне трудно причинить настоящую боль человеку, которого я люблю.
Нет, все же не напрасно врачи во всем мире стараются не лечить родственников, сказал Иза после того, как и пятый сеанс, очень длительный, доведший обеих подруг до полного изнеможения не дал результата.
— А твоя бабушка?
— Она тоже старалась со своими не связываться.
Изабелла так извинялась, так горевала о том, что оказалась неспособна помочь подруге, что Ларисе пришлось ее утешать с помощью скорой помощи.
И уже приближался критический срок, после которого попытка освобождения от наглого биологического захватчика, может быть просто небезопасной для здоровья.
Что ж, сказала себе Лариса, отчужденно чувствуя в себе сильного человека, видимо, от грязных сторон судьбы не увернуться, надо просто перетерпеть испытание, если нельзя избежать.
14
День освобожденья от плода неразумной страсти был назначен. Изабелла с самого утра очень внимательна к подруге, глаза у нее были влажные, и курила больше чем обычно, хотя и обычная доза могла ужаснуть неподготовленного человека.
Проводив Ларису до дверей, она крепко поцеловала, лишний раз давая понять, до какой степени переживает за нее. Лариса спускалась по лестнице, пребывая под впечатлением от этого поцелуя. У вахты ее окликнул молодой человек в плаще и шляпе, он приветливо улыбался, но чувствовалось, что пришел по делу.
— Я спешу.
Он снова улыбнулся, и Ларисе стало понятно, что даже если она ему расскажет, куда именно она торопиться, он не переменит свои планы на ее счет.
Они вышли из общежития.
— Мне вообще–то не следовало сюда приходить, — сказал молодой человек, — и только после этого объяснил кто он и откуда. После этого представился: Леонид.
Лариса остановилась и сказала.
— У вас там что все Леониды?
Молодой человек тоже остановился, и нахмурившись, сказал.
— Не надо так со мной разговаривать.
— Хорошо, больше не буду. — Сказала Лариса без малейшего следа извинения в голосе. Леонид поглядел по сторонам, ему требовалось время чтобы вернуться к задуманному плану разговора.
— Повторяю, мне не следовало приходить в общежитие, но в учебной части мне сказали, что вы уже несколько дней не ходите на занятия. А телефон у вас на вахте…
Она вспомнила грохот и скрежет, который живет в трубке страшного черного прибора на столе перед бабкой Аидой, и кивнула. Для связи со спецслужбами этот канал был непригоден. Лариса была смущена и польщена. Приятно ощутить себя хотя бы отчасти государственным человеком. Комитет–то ведь именно государственный. Конечно, это гродненский Леонид информировал столичных товарищей, что из провинции направляется в столицу подходящий кадр. Только в одном она пока не могла разобраться — хочется ли ей считаться этим подходящим кадром? В слоях московского студенчества модной считалась не полная лояльность по отношению к власти. Свободомыслие, чтение только запрещенных книг. Лариса вроде бы даже начала пропитываться этими настроениями, и тут — новый Леонид. И неприятно — вроде как тебя поймали. И, одновременно какое–то бодрящее ощущение нужности стране. И рядом другое приятное ощущение: что захочу, то и сделаю. Захочу — в диссиденты, захочу — ринусь отечеству служить. Но это продолжалось только краткий миг. Зашевелился шпион, засевший в животе. Внутренний враг высасывал все живые силы, как будто питался не просто соками тела, а ценными свойствами материнского характера. Решительностью, уверенностью в себе и т. п.
— Ну, — сказал Леонид.
— Что ну?
— Я жду, когда вы начнете рассказывать.
— О чем?!
Сотрудник недовольно снял шляпу, но потом снова ее нахлобучил.
— Сами знаете, Лариса.
Господи, подумала она, кстати, впервые в жизни. Господи, они все знают! Ну, и пусть! У нее внутри появился очаг острого раздражения — мужской козлизм многолик и изобретателен.
— Да, я иду делать аборт!
Леонид поглядел на нее так, словно рассчитывал услышать не это.
— То есть как?
— А так! Что, нельзя?!
Сотрудник все же снял шляпу и теперь трогал ею нос.
— Но она же всего лишь лесбиянка!
— Что?! Кто?!
Произнесенное сотрудником слово было настолько не из обиходного набора, что Ларисе оно представилось толстой извивающейся змеей, которую змеелов держит на вытянутой руке.
Леонид нервно усмехнулся.
— Да нет, этого не может быть! И вообще, я собирался говорить о другом.
— О каком? — Тупо, автоматически спросила Лариса.
— Неужели вы до сих пор не заметили, каким образом она распространяет свои листовки. Она никуда не выходит из–за своего сердца, к ней никто не приходит, она находится под постоянным вашим наблюдением, тогда как?!
Лариса села на подвернувшуюся скамейку.
— В ногах правды нет. — Услужливо пробормотал Леонид.
— Нет.
— Вы только не подумайте, что мы придаем этой деятельности какое–то большое значение. Но нам не хотелось бы, чтобы мадам Васкес спровоцировала какие–нибудь экстремистские выходки своих горячих друзей у известного нам посольства. Это, конечно, мелочь, но совершенно не нужная. Вы меня понимаете?
Она продолжала сидеть неподвижно, и как–то неразумно, словно не пользуясь сознанием во время этого сидения и разговора.
Леонид дернул щекой.
— Только не надо делать вид, что вы не в курсе.
Лариса уже поняла, что делать такой вид глупо.
— Ведь с вами разговаривали.
С ней разговаривали. В деканате, перед вселением. Разговор носил какой–то необязательный характер, мол, держите ухо востро, барышня, и по сторонам смотрите внимательно. О причине ее перевода из Гродно, тогда не было сказано ни слова, и тот, кто с ней говорил в деканате, не рекомендовал себя как сотрудник.
— Что вы молчите Лариса?!
Она посмотрела на часы.
— Мне было назначено на одиннадцать. Я опоздала. Придется завтра.
— Не понял.
— Можете успокоиться Леонид, листовок больше не будет.
Она развернулась и пошла обратно к общежитию. Сотрудник смотрел ей вслед, постепенно понимая, что значат ее последние слова. Губы его шевелились от бесшумных ругательств.
Вернувшись к себе она заглянула к Изабелле и увидела непривычную картину. Активистка и коммунистка стояла на полу на коленях и молилась маленькой гипсовой статуэтке, как потом выяснилось, Девы Марии. Молилась и просила, чтобы все было хорошо, то есть, чтобы задуманное преступление против человеческой природы, совершилось успешно.
Увидев Ларису, и догадавшись, что ничего не произошло, она вздохнула с явным облегчением и тихо сказала.
— Он будет жить, бляга муга.
15
Лариса опять развернулась и бежала от подруги, так же решительно, как от сотрудника. Весь день провела на факультете, в коридорах, в курилках, изнывая от нестерпимого желания — поделиться, вынести на общее обсуждение факт неприкрытого лесбийского извращенства в рядах советского студенчества. Это нестерпимое желание боролось в ней со страхом того, какую информацию о себе придется обнародовать, для инициирования подобного разговора. Выводя Изу на чистую воду, и самой придется на нее выйти. Плевать! Страх саморазоблачения отступал. Она все больше проникалась уверенностью, что какие бы помойные ведра ей не пришлось опрокидывать на окружающих, ее собственное оперение останется белоснежным. Единственное, что держало ее песню за горло, что ситуация не является ее частным несчастьем, а имеет и государственное измерение. До какой степени ей позволено обнажить политическую тайну родины, устанавливая личную истину?
И тут выяснилось, что она то созрела для самоочищения, а вот студенческая среда слишком консервативна, и не спешит ее поддержать. В одной копании Лариса в гуще общего разговора, сделала выпад против соседки–извращенки. Окружающие затихли, обратили на Ларису удивленные взоры. Одна девушка с маленьким бюстом, но твердым характером сказала
— Она же твоя подруга!
— Бывшая подруга. — Бросила Лариса, презрительно покидая компанию. Она поняла, что одним наскоком тут ничего не добиться, а есть ли силы на продолжительную кампанию?
За ней увязался парень по имени Дима (Дементий), старшекурсник, кружение которого на отдаленных орбитах вокруг солнца своей привлекательности она уже давно заметила. Молодой, но уже какой–то поживший на вид. Залысины, очки, маленький, жалкий подбородок, вечные пуловеры на рыхлой фигуре. Правда, рост под сто девяносто, но крохотные кисти рук, все время как будто в чем–то виноватые.
К Ларисе подъезжали, особенно на первых порах, и более перспективные парни, но в данный момент остался только Дима.
— Пошли в кино. — Сказал ему Лариса строго.
Они посмотрели «Романс о влюбленных», который видели каждый по отдельности и до этого. Но Ларисе нужно было не очищающего искусства, ей надо было подумать. Диме было надо просто посидеть рядом.
— Пойдем ко мне. — Сказала Лариса еще строже, когда они выходили из кино.
Прекрасная идея. Не надо баррикадироваться и вздрагивать во сне при мысли, что страшная иностранка подкрадывается к ее постели. Уложим Диму на соседкиной койке, а назавтра он еще поможет уложить вещи, и проводит на вокзал.
Все получилось так, как было задумано. Дима не раздеваясь (не велено) лежал, зажмурившись от счастья в темноте, и рассказывал, что на фанагорийском берегу после каждого приличного шторма можно прямо под ногами найти на пляже древнегреческую монету. Он, как водится, вываливал перед нею самое дорогое из закромов своей души, а Лариса прислушивалась к звукам за стеной, но там было тихо как в склепе.
Дима с удовольствием принял участие в процедуре сбора и отъезда, ему льстило, что он пользуется таким доверием Ларисы. Он вообще не вдумывался в смысл совершавшихся действий. Чемодан, вокзал, Белоруссия. И только когда Лариса махнула ему рукой из окна отходящего поезда, вдруг понял, что произошло. Он–то думал, что он за этими почти семейственными хлопотами сближаются с давным давно вожделенной девой, а они, оказывается, расставались. Ни адреса, ни вообще никакого намека на продолжение. Навсегда!
Налившиеся слезами очки Димы показались Ларисе на мгновение двумя серебряными монетами, кому там кладут пятаки на веки? Но она не успела додумать эту мысль, и вернулась к себе.
Всю дорогу она перебирала в уме известные ей способы избавления от беременности. После этой дикой истории с сумасшедшей революционеркой, поедавший ее изнутри плод нелепой провинциальной любви стал ей вдвойне отвратителен. Годился любой результативный способ избавления от него.
Москва готовилась той весной к олимпиаде, и об отъезде беременной девушки она не пожалела. Столица прихорашивалась и выметала вон лишних людей, рассыпая их веером на стокилометровом расстоянии от своих границ. Таким образом, ненужность Ларисиного ребенка, увеличивалась еще на целый порядок, он был лишним не только в жизни своей матери, но и в жизни Москвы.
Что она думала о пожирательнице валидола? Да почти ничего. Против ожиданий какого–нибудь отставной козы неофрейдиста, психика девушки не была радикально изранена этой историей. Она засела в ней не глубже, чем в Аксинье воспоминание об изнасиловании собственным отцом. Две обжигающих опасности: изменить родине и изменить полу, совместившись, спалили начисто Изу, оставив от нее в памяти лишь небольшое дымное облачко, как от плохой сигареты.
16
Одно время Ларисе, упавшей на тихое дно провинциальной жизни, казалось, что и с Москвой покончено так же как с ненормальной иностранкой.
Однако, нет.
Всего через полгода Лариса уже сидела на кухне у Лиона Ивановича на Речном Вокзале, ела пиццу, и слушала рассказ хозяина дома, как готовиться пицца. Это еда итальянских бедняков, на кусок теста крошат остатки того, что завалялось в холодильнике и т. д. Тогда еще можно было, сообщая эту чушь, выглядеть продвинутым человеком, мода на эту дрянную еду еще только начиналась в стране.
Жаркий сентябрь за окном. Лариса ела очень осторожно, сильно вытягивая шею вперед, чтобы не капнуть томатным жиром на платье. Отличное белое бязевое платье — спасибо мамочкиным связям. А еще новые агрессивно изящные босоножки. Тонкие сильные загорелые руки в золотистых волосках, новая манера прищуриваться, как будто все, что попадается на глаза, оказывается ничтожнее, чем ожидалось. Лариса ела с удовольствием, с удовольствием ощущала свою подтянутую, загорелую, прохладную, несмотря на окружающую духоту, фигуру, отточенную на неманских пляжах, и с некой ледяной радостью понимала, что она сейчас непобедима. Вон даже этот старикан у плиты и тот поплыл, ему даже трудно говорить — все время сглатывает сладострастную слюну. Но, нет, теперь она не продешевит, она знает себе цену, и поставила перед собой совершенно конкретную цель.
— Итак, ты приехала… — Сказал Лион Иванович затягивая потуже узел пояса на халате, лаконично демонстрируя свою сексуальную лояльность
— Да. — Беззаботно облизывалась Лариса, промакивая салфеткой свои чуть суховатые от природы, как бы всегда слегка опаленные страстью, губы.
— А в институте?
— Восстановилась.
— Ты же не уходила в академ?
— Ну и что? Я просто поговорила с деканом… беременность, то–се, и опять студентка.
Лион Иванович звучно скрутил пробку на бутылке «мартини» — редкость в те времена еще большая, чем пицца.
— Ну, что ж, значит, моя помощь не нужна?
— Нет, дядя Ли, нужна.
Маленький хозяин ожил.
— Ну?
— Я хочу замуж.
Артист поставил бутылку на стол. Еще раз затянул пояс и к тому же поправил шелковый шейный платок. Тихо просвистел.
— Фиктивно?
— Зачем? По–настоящему. Чтобы даже может с детьми.
Наполнив бокалы Лион Иванович искоса глянул на развалившуюся в углу кухонного дивана фемину острым черным глазом.
— Но я женат.
— Ой, дядя Ли, вы, конечно, идеальный вариант…
— Понятно.
Лариса решила так — шутки в сторону, надо устраивать свою жизнь на серьезный лад, иначе можно до старости проболтаться в восторженных дурочках. Такие мысли часто приходят в девятнадцатилетние головы.
Любовь? Не смешите! Видели мы вашу любовь. Сплошная дичь и извращение. Надо ставить на настоящие, солидные ценности. Хороший дом (квартира, дача, машина), пристойный муж, пусть даже дети, через какое–то время, а там посмотрим, там, наверняка откроются какие–то новые виды.
В голове Ларисы как–то спокойно уживались две взаимоисключающие идеи: 1 — жизнь коротка, и надо торопиться, чтобы все успеть, и 2 — все еще впереди.
— Вы мне поможете, дядя Леня? Вы ведь всех в Москве знаете.
17
Встретились у ресторана «Прага». Лариса поглядела на него с другой стороны Калининского проспекта, и ресторан почему–то показался ей океанским кораблем, по ошибке заплывшим в скопище городских зданий. В самом деле, дом сужается утюгом, и как бы неуловимо движется ей навстречу. Нет, это ей просто хочется, чтобы впредь, начиная с сегодняшней встречи, все в ее жизни двигалось ей навстречу. Она в каком–то смысле, если угодно, Ассоль. И очень интересно, каков он, предстоящий капитан. Лариса иронизировала над собой, что ей было, в общем–то, не свойственно. Ситуация была настолько не романтической, что не хотелось смиряться с ней без хотя бы кривой усмешки.
Улыбнулась и нырнула в подземный переход.
Лион Иванович стоял у входа и сыто цыкал зубом.
— Так мы что, никуда не идем?
— Идем, почему ты решила…
— Но вы только что из ресторана.
— Я просто зашел поесть. Это не имеет никакого отношения к делу.
— Странно, ну, ладно. — Лариса крутнулась перед своим низкорослым кавалером, показывая обнову. — Как? Я сгоняла сегодня на «Беговую». Сто восемьдесят. На «Врангеля» денег не хватило. Ю эс топ.
Лион Иванович ощупал мелкими пальцами заклепки и швы.
— Вроде бы не самострок.
Лариса возмущенно кашлянула.
— Меня трудно обмануть в таких вещах.
Лион Иванович кивнул.
— Пошли. Тут недалеко. Староконюшенный переулок. Старая породистая московская еврейская семья. Надеюсь, ты ничего не имеешь, так сказать, против?
— Что вы имеете в виду?
— Академик Янтарев и его семья. Дочь академика, ее сын, то есть, внук академика, ее муж, которого нет, но который — зять академика. Еще Нора, это как минимум. Они могли кого–то пригласить. Я друг зятя.
— Которого нет?
— Ты очень сообразительная.
— Да. А где зять?
— Ну-у, зачем тебе?
— Значит, ушел из дома.
— Ты еще и в жизни разбираешься, не только в шмотках.
Они быстро шли по Старому Арбату, и на первом же повороте повернули налево.
— Вот еще что, Ларисочка.
— Мне не нравится, когда меня так называют.
— По легенде, ты моя девушка.
— Это и не по легенде, я ведь пришла с вами.
— Не понимаешь. Я в этом доме принят в некотором особом качестве, вернее, создал определенный образ. Я человек из артистической среды…
— А-а…
— Да, да, вокруг меня все время женские персонажи, по ним меня узнают. Так вот — ты кадр из моей новой программы, скажем, редактор.
— Какое–то противное слово, лучше я буду из кордебалета. — Она остановилась и подбросила стройную тяжелую ногу канканным движением.
Лион Иванович поморщился, напор и веселость студентки в новых джинсах ему не нравились.
— Ладно, ладно, дядя Ли, буду редактор.
— Будем считать, что это плата за своднические услуги.
— Зачем вы так?
— Пришли.
— Скажите, дядя Ли, а про евреев вы предупредили, чтобы я не удивлялась какие жадные, даже не накормят?
Лион Иванович поморщился.
— Просто у них домработница заболела. То, что они евреи, это случайность. И совсем не жадные, в том смысле, что не в этом дело — просто некому готовить.
Лариса взяла эти слова на заметку.
Квартира ее приятно ужаснула. Система темных, пыльных ущелий, доисторический паркет, протертый за века подметками, как мостовые на улицах откопанной Помпеи. Потолок теряется где–то в верхних слоях атмосферы, глупо даже тратить взгляд на его различение. Стен тоже нет, одни стеллажи, переполненные очень старыми книгами. Все вещи очень заслуженные, и немного больные — золото пообтерлось, шелк поблек, стекло помутнело. Воздух, как домашнее животное, которое никогда не выпускают на улицу, слишком здешний. Вдалеке мелькнула кухня, кафельный, со смутным рисунком пол, холодильник как в мамином госпитале в два этажа, стенные шкафы тяжело над всем этим нависают, просто таки застекленные севильские балконы.
В общем, Лариса ощущала себя неожиданной свежей новостью запущенной в голову старого маразматика.
— Нам сюда. — Сказал худой лобастый юноша, видимо внук академика, и, стало быть, тот самый, который. Лариса не почувствовала и тени волнения. Пока не смотреть в его сторону, а он пусть таращится. И тревожно промакивает свои такие ранние залысины. Одет, вообще, ничего так. Брючки серого вельвета умеренно потертые, рубашка без ворота, адидасовские кроссовки, эту информацию Лариса считала, даже не повернув головы в сторону претендента.
А вот и какая–то девица в возрасте, голова бесформенная и кудрявая, очки, тяжелая грудь в черной водолазке. Какие–то жуткие штанцы с вытянутыми по–мужски коленями, как же можно так себя запускать, милая!
— Норочка. — Запел Лион Иванович.
Она посмотрела на старичка как старшая сестра и вздохнула, ну, шали, шали.
«Норочка», усмехнулась про себя Лариса, Норочка в пещере.
— Это Лариса.
Лариса сделала иронический, как ей показалось, книксен.
— Опять я опоздала. — Вздохнула тяжелая водолазка, опять вас перехватили, когда же моя очередь? Нора шутила с таким трудом, что хотелось отвернуться. И Лариса отвернулась от этого разговора и тут встретилась взглядом с внуком. Он смотрел не отрываясь, не моргая, с выражением уже все решившего для себя человека. Это было немного комично, при его щуплой фигуре и залысинах.
— Рауль. — Сказал он.
— Кастро? — Автоматически, как в студенческой курилке пошутила Лариса, чуть–чуть жалея, что она скорей всего сантиметров на пять–семь выше него, значит туфли на каблуках под вопросом.
— Нет, я не кастрат. — Еле слышно сказал молодой человек.
— Рау–уль! — Выпятил губы Лион Иванович.
Нора снисходительно покосилась на него — каламбурщик! Лариса тоже поняла, что парень пошутил неудачно, но выразила на лице снисходительность.
— Я сейчас загляну к маман, а вы пока займите гостью. — Сказал Лион Иванович и двинулся вглубь дома.
Нора вздохнула и, не говоря ни слова, побрела в противоположном направлении, но тоже вглубь, давая понять, что не считает просьбу артиста относящейся к себе.
— Пошли на кухню. — Сказал Рауль.
Пошли. Сели к большому, накрытому когда–то роскошной клеенкой столу. Водя пальцем по длинному порезу, Лариса оглядывалась.
— А там что, дверь?
— Черный ход.
Почему–то сообщение о черном ходе ее очень развеселило. Стало совсем уж как–то все театрально, прямо баре–господа.
Рауль же продолжал поедание ее глазами, как будто она была начальство, Лариса не смотрела на него, но ощущала что–то вроде легчайшей щекотки по всему телу.
— А почему тебя так зовут, ты кубинец?
— Отец татарин. Он хотел, чтобы меня назвали Равиль. Пришли к компромиссу.
— А Нору хотели назвать Нюрой?
— Вроде того.
— Поня–ятно.
— Выпить хочешь?
Тут Лариса на него посмотрела. Ничего интересного, или хотя бы опасного в нем не ощущалось, хотя конечно видно, что господин окончательно готов.
— А что у тебя есть выпить? — Ей было абсолютно все равно, но она считала, что надо так спросить.
— Вино какой страны вы предпочитаете в это время суток?
Лариса не поняла парольной фразы, «Мастера» она еще не читала, и чуть набычилась, не понимая причину внезапного перехода собеседника на «вы».
Рауль одним движением метнулся к буфету и вернулся с красивой бутылкой и двумя фужерами.
— Ты не бойся, квартира и правда большая, а Иванычу я скажу, что ты ушла. Надоело ждать, и ушла.
Однако, темп! В принципе, она не видела никакого ужаса в том, чтобы не медлить, не притворяться, и сразу скрыться в одном из многочисленных закоулков этого пыльного лабиринта с возгоревшимся хозяйским сынком. Если бы хоть чуть–чуть потянуло к нему. Даже плевать на то, что он мог бы после этого вообразить себя неотразимым. Но ведь ничего нет кроме самого пресного спокойствия внутри. И вино, ни из какой страны, не поможет. Нет, в этой ситуации разумнее всего следовать заранее утвержденному плану. Спокойно, постепенно, с прицелом на конечный результат. Она решила выйти замуж, причем здесь эротические порывы.
В коридоре послышался непонятный звук, как будто тяжелая змея ползет по старинному паркету, почему–то подумалось Ларисе. Через секунду в дверном проеме появилось инвалидное кресло на колесах. В нем сидел прикрытый клетчатым пледом старик. Седые волосы всклокочены, наверно ему что–то приснилось, и волосы торчат как впечатления. Горло замотано. На бледном, вроде бы бессмысленном лице вдруг, при виде нового человека, проявилась симпатичная, даже умная улыбка.
Рауль воскликнул.
— Вот и он, вот наша «раковая шейка»!
Академик Янтарев поклонился, больше вбок, чем вперед. Было в его облике что–то неуловимо восточное.
В тот вечер Лариса ушла с Лионом Ивановичем, и он был в великолепном расположении духа.
— Кажется, клюнул. — Сказала Лариса.
— Да, я видел. И Элеонора меня простила.
— Что?!
— Понимаешь ли, мой друг и ее муж, я о матери Рауля говорю…
— Я поняла.
— …ушел из дома с моей девушкой, с девушкой, которую привел я, и я дал обещание, что, вроде как компенсирую…
— Так мое настоящее имя — «компенсация»?
— Не сердись.
Лариса дернула плечом, сбрасывая лапку дяди Ли.
— Только я не понимаю, вы так радуетесь, как будто очень ее боялись. Она же, Элеонора эта, просто мышь белая. А дедушка мне понравился, хоть немой, а веселый.
Лион Иванович мелко–мелко засмеялся, и сказал задумчиво.
— Элеонора Витальевна не мышь.
— Мышь, мышь, зубки мелкие, мелкие.
Сводник опять засмеялся. Потом сразу настроился на деловой лад.
— Ты с него сруби побольше, я имею в виду с Раульчика. Не очень знаю, чем он зарабатывает себе на пропитание, скорей всего просто фарцует по–среднему, но связи у него есть. Я имею в виду, пусть раскошелится. Потребуй ресторан ВТО, Мишель Жар, кажется, приезжает на днях, требуй билеты. Да, скоро в ЦДРИ «Посиделки», нехай крутится. Нечего просто так ноздри раздувать. Ты должна Москвы попробовать. Я тебе со временем еще пару пунктов подкину в список, но это уже будет все, дальше сама.
— Ладно, сама.
— Ну, вот и славно.
— Скажите, а Нора, это кто, сестра? Почему только так не похожи они с Раулем?
18
План Лиона Ивановича был выполнен во всех пунктах. Был ресторан, был концерт, и не один, были «Посиделки» в ЦДРИ. Там Ларисе понравилось больше всего. Очень много знакомых лиц. Как будто в одно помещение вытрясли весь телевизор. Удивительно приятное ощущение, что не прилагая никакого усилия, проводишь время не зря, эффект звездной тусовки. Вел вечерок маленький, щекастый человек с огромными ушами и обаятельным апломбом.
Лариса от души смеялась его предельно двусмысленным шуточкам, стараясь не смотреть в сторону Раульчика. А тот нервничал. Старался выглядеть надменным, уверенным в себе, а было ощущение, что под столом все взводит и взводит какой–нибудь кольт. Не развлекался, а пребывал на охране добычи. И было от кого охранять. Однажды, когда они зашли в ресторан, из окон которого был виден Пушкин, к ним за столик плюхнулся длинный пьяноватый актер со знакомой бородищей, знакомым голосом, только бы еще вспомнить к какой роли они относятся. Кратко здоровкнувшись с внуком академика, красавец навис над Ларисой, бормоча какой–то творческий бред. Лариса с ним кокетничала в тех рамках, что считала дозволенными. Было смешно, что Рауль так дергается. Было слишком понятно, что бородатое чудовище, в общем–то, безобидно, герой всего лишь разговорного жанра.
Спросила, когда он ушел.
— Кто это?
— Робин Гуд.
— Ой, правда. — Лариса посмотрела вслед удалявшейся фигуре с некоторым сожалением, как будто кокетничала бы с ним по–другому, зная, кто он.
В ЦДРИ состоялось пересечение с актером, имя которого она знала — с Киндиновым. Пока он перекидывался с Раулем чуть раздраженными фразами, Ларочка весело пялилась на него сквозь выпитое шампанское. Только бы не ляпнуть про то, что обожает фильм «Романс о влюбленных», такую установку дал ей Рауль, увидев, что герой–любовник приближается к их столику. Но шампанское действовало, мучительно хотелось говорить о кино, об искусстве вообще, пузырьки благодарного зрительского восторга слишком плотно скопились в лобном отделе симпатичной провинциальной головки. И она все же бросила отчаливающему, и явно недовольному (Рауль не успевал со шмоточным заказом) разговором, актеру вопрос.
— А где Леночка?
— Какая? — Покосился на нее Киндинов, и, не дожидаясь ответа, ушел.
— Какая Леночка? — Поинтересовался и Рауль.
— Ну, Коренева.
Внук академика так прыснул в стакан, что вызвал извержение освежившее весь стол. Лариса мгновенно протрезвела, и с сердитой мыслью — «ах, так!», взяла сумочку и сказала.
— Может быть, еще приду.
Рауль догнал ее у входа, повис на прохладном локте, запутался в извинениях.
— Больше не смей называть меня дурой!
— Да я же, я же ничего такого не сказал.
Она стряхнула его с локтя и удалилась в туалет. Осмотрела себя в зеркале, осталась довольна, даже губы не нужно подкрашивать, но все равно провела тюбиком по губам. Проверка боекомлекта, так мужчина удостоверяется, застегнута ли молния на брюках. Когда она вышла, он стоял на прежнем месте, только сделался еще мельче, и несчастнее, чем в тот момент, когда она его оставляла.
— Ты думаешь, я не знаю, что если любовь на экране, совсем не обязательно она есть между актерами и в жизни.
Рауль мрачно кивнул.
— Я понял, ты пошутила.
— Вот именно.
— Куда ты хочешь теперь?
— В «Дом кино».
Он изучающе посмотрел на нее.
— Ты сама этого хотела.
Они вкатили на такси с Сивцева Вражка в Староконюшенный.
— «Дом кино» не здесь. — Уверенно, но равнодушно сказала Лариса, ей вдруг стало все равно, что с нею делают. Уже не хотелось ни искусства, ни всякого такого.
— Пойдем, пойдем.
— Это же твоя квартира.
— Конечно.
— А как же дедушка?
— Ты еще маму вспомни.
— А как же мама?
— Вот тебе — дом кино.
Рауль усадил ее в кресло в полутемной комнате перед телевизором, на котором стоял большой серебристый параллелепипед. Рауль нажал на нем какую–то невидимую кнопку, ящик ожил, выставив плоскую голову с открытой пастью.
— Жрать хочешь? — Ласково спросил хозяин, запихивая внутрь что–то черное, удивительно плотно подходящее по размеру, было в этом совпадении что–то даже сексуальное.
— И что? — Спросила Лариса, начиная волноваться.
— Сейчас увидишь.
19
В тот вечер Лариса осталась ночевать в доме академика Янтарева. А утром внук академика предложил ей остаться в этом доме навсегда. Разговор происходил за завтраком в комнате с удивительным киноприбором, провинциалка сидела в старинном кресле облачившись в махровый халат, и пила кофе с молоком. Халат был ей несколько маловат, еле улавливал все ее плоти, и Ларисе это нравилось, она чувствовала себя в нем как бы на выданье, и даже не старалась придать своему наряду более пристойный вид.
Рауль стоял голыми коленями на старом сером паркете, нем была всего лишь одна ночная рубашка, трогательный рудимент милого домашнего детства. Он пожирал глазами Ларису как эклер, обалдевая от количества предполагаемого в ней крема. Предыдущей ночью он доказал, что, несмотря на субтильный вид, он большой постельный работник и умелец, и надеялся, что ему удалось заронить в душу гостьи хоть немного сексуального сочувствия.
Лариса конечно же не влюбилась. Большой половой аппетит будущего мужа не изменил ее отношения к ситуации, на первом месте у нее оставался материальный расчет. Тот факт, что Рауль любвеобилен и старателен в кровати, вполне могло бы оказаться совсем не плюсом, развейся в ней неприязнь к нему.
Кажется, все было в порядке. Трогателен, не противен, готов к подвигам в ее честь, с первого же шага повел правильную политику — предложил вселиться.
Лариса вселилась.
Для начала сориентировалась на территории.
С квартирой надо было что–то делать. Во–первых, необходимо было обозначить свое присутствие и серьезность своих намерений. Во–вторых, просто–напросто трудно было мириться с этим пыльным бардаком, ей, воспитанной в условиях истерической чистоплотности родительского дома. Там у себя в Гродно Лариса в основном была подмастерьем матери в постоянных работах по дому, здесь ей пришлось все брать в свои руки.
Для начала ванная комната. Огромное чугунное корыто с потрескавшейся эмалью, с желтыми разводами и непонятными пятнами было превращено в благоухающий свежестью бассейн всего за полдня. Вслед за этим кафель на стенах и на полу, неуверенно отражающие серый мир квартиры зеркала, краны, напоминающие размерами о римских термах. Из под днища ванны пришлось выгрести горы мусора — следы предыдущих ремонтов. Пыльные бутылки, отвертки, обломки керамической плитки, гвозди, куски наждачки и так далее и до бесконечности.
Вслед за ванной, унитазная. Опять–таки отдраила старинный стульчак, починила непрерывно сочащийся бачок, на свои деньги купила запас туалетной бумаги.
Приступила к кухне. Там самым большим ужасом была, разумеется, плита, огромная и нелепая как заброшенный крематорий. Удовлетворительно работала всего одна конфорка, обслуживая потребности семейства — кофе, яичница.
— Давно у вас не было домработницы. — Сказала Лариса Раулю. Тот кивнул.
— Давно.
Надо сказать, что господа Янтаревы молча и издалека взирали на это дружественное вторжение в свое авгиево жилище. И Нора и Элеонора Витальевна рано уходили из дому, перехватив что–нибудь на ходу, одна слушать лекции, другая их читать. Возвращались к вечеру из своих институтов, и соглашались покормиться обедом приготовленным Ларисиными руками, по маминым рецептам. Пользуясь тем, что телефон стоял и в комнате Рауля, она набирала свой гродненский номер, и подолгу советовалась с Ниной Семеновной. Та очень была рада помочь дочке блеснуть хозяйственными достоинствами. Так что получалось и разнообразно и вкусно.
Ларису хвалили. Элеонора Витальевна сдержано, Нора рассеяно, Рауль — исступленно. В среднем получалось четыре с плюсом.
Рауль тоже убегал утром. Он не читал лекций и не слушал, он «крутился», говоря его языком. Созванивался с самыми разными людьми, ругался, торговался на непонятном шифрованном языке, иногда лебезил, иногда угрожал, Лариса старалась не вникать. Денег он ей оставлял достаточно, так что хватало и на чистящие средства и на свежую вырезку с рынка.
— Послушай, а ты что не учишься нигде? — Спросил он как–то.
— На заочном. — Ответила Лариса, чтобы не вдаваться в подробности. Учеба ей и в самом деле давалась легко, несмотря на всю загруженность по дому. Она успевала посещать все нужные лекции и семинары, так что учебной части не к чему было особенно придраться. Да и не хотела она придираться после того, как Лариса выдала им душераздирающую историю о престарелом беспомощном родственнике, за которым она вынуждена ухаживать. И ведь практически не врала. Академика она уже считала грандтестем, и действительно очень много с ним возилась. Проветрила его затхлую конурку, разобралась с постелью, правдивое описание которой было бы падением в угрюмый натурализм. Следила затем, чтобы у него была чистая пижама. Академик отвечал ей активным дружелюбием, питался у нее с ложечки, делал уморительные гримасы и норовил прижаться виском к прохладному локтю.
Самое интересное начиналось вечером. К Раулю приходили друзья. С кем только он не дружил. Были среди них художники, научные вроде бы работники, тренер по теннису, банщик, фарцовщики, тут же начинавшие рассматривать Ларису с точки зрения того, как бы ее немедленно одеть во все привозное. Остальные, она чувствовала, больше думают о том, как бы ее раздеть. И она не знала, что ей нравится больше.
Главным действующим лицом салона был — видак. И каждый вечер новая кассета. Рассаживались, кто в кресла, кто прямо на ковре, благо теперь он был выдраен старинным, но старательным пылесосом. Лариса устраивалась так, чтобы иметь возможность в любой момент улететь на кухню, если оттуда донесется подозрительный запах.
Ей было приятно сознавать, что она может смотреть то, что не может смотреть подавляющее число граждан Союза. Что она на переднем крае мирового художественного прогресса. Ей, в общем–то, нравились эти ребята, несмотря на их тотальный, поголовный, неутомимый антисоветизм. Было что–то даже удивительное, для нее, выросшей в плотной идейно–выдержанной атмосфере провинциального института, и правильной советской семьи, в здешнем мире полной, даже вызывающей свободы от всего советского. Нет, анекдоты о партийных вождях она слышала и раньше, и в Гродно, и уже здесь, но они всегда подавались как что–то чуть запретное, немного шепотом, один на один, или в очень узком кругу, для своих. Вокруг каждого анекдота как бы стоял плотной стеной советский срой, самодовольно уверенный в своей незыблемости.
Как раз в разгаре ее борьбы за чистоту в квартире Янтаревых, состоялись похороны Брежнева. Ларисе очень понравилось на похоронах. Колонна их института собралась возле здания «Известий», чтобы двинуться мимо кинотеатра «Россия», по Петровке к Колонному залу для прощания с вождем.
Великолепная атмосфера царила в толпе. Много шутили, смеялись, то там, то там всплывали откупоренные бутылки портвейна. Преподаватели и не думали мешать всеобщему веселью. Леонида Ильича хоронили не как тирана, долго–долго заедавшего век своей страны, а как старого дедушку, мирно отошедшего в иную жизнь. Радость была не злорадная, не мстительная. И вместе с тем, было несомненное ощущение, что мы остаемся там же где и были, в Советском Союзе, и будет продолжаться то, что было до этого, только без Брежнева.
А в академической квартире была территория принципиально свободная от всего советского, правилом было как раз пренебрежение к строю, вождям и правилам обычной жизни. Более того, ко всему этому относились как к чему–то извращенному, неестественному, нелепому на стороне чего стоять просто глупо. Лариса не то чтобы слилась с атмосферой, просто отметила про себя, что о некоторых вещах не сможет говорить с папой и мамой, когда встретиться ними.
И Элеонора Витальевна и Нора подвизались в советских учреждениях, других просто не было, а сам академик был все же сугубо советским академиком, но в это не создавало в доме никакого двоемыслия. Советская власть нам что–то дала, да попробовала бы она не дать! После всего, что она сделала с нами! Что именно, уточнять было не принято. Само собой разумелось, что она виновата весьма.
Лариса лишь по каким–то проговоркам, косвенным замечаниям узнала про репрессированного брата академика, про мытарства, которые пришлось претерпеть семейству, прежде чем оно осело на арбатской отмели.
Она терпеливо переносила Раулеву любовь. Кстати, дома его звали Рулей. При всей своей субтильности молодой человек обладал значительными половыми потребностями. И был готов к их удовлетворению в любое время дня, и, конечно, ночи. Ларисе приходилось все время быть в готовности, она понимала, что на этом этапе их отношений приемы увиливания не годятся, никакая «голова болит» не пройдет. Не то, чтобы ей было неприятно то, что делал с нею Руля, он был старательным, даже угодливым любовником, но все равно она каждый раз скорее претерпевала близость, чем наслаждалась ею. Каких бы результатов не добивался Руля от ее тела, в сознании оставалась непроницаемая перегородка, за которой сохранялась в неприкосновенности при любых оргазмах организма некая область трезвости, она помнила, что все это «для», а не само по себе.
Рауль же был по видимости вполне счастлив. Убегая утром по неотложным делам, он с сожалеющим ноем сползал с подруги, и, натягивая джинсы, бормотал, что уже соскучился, и назначал свидание на вечер. Подбегал поцеловать напоследок и шептал, обхватывая ее за ослепительные плечи худыми и сильными как у орангутанга руками: «слонышко мое!». Уменьшительное от «слона».
Лариса не обижалась, ибо была объективно крупновата для него, расслаблено улыбалась ему, прикидывая какой участок квартиры сегодня подвергнуть своей атаке.
Рауль к Ларисе относился хорошо, этого нельзя не признать. Почти каждый день приходил домой с каким–нибудь презентиком. Очки, майка, жвачка. Когда в доме собирались его друзья, старался выставить Ларису как бы вперед, осторожно хвастаясь. Понимал, что было чем. И приятели бурно и искренне восхищались подругой друга. Лариса была нарасхват. В том смысле, что ее желал цапнуть лапой почти каждый. В коридоре, особенно, когда она пробегала по нему с блюдом в руках и была практически беззащитна, под столом, там она все время ощущала уколы чьих–то колен, и особенно на кухне, куда ей все время приходилось отлучаться к плите. Там все время дежурил, якобы вышедший покурить, дружок, и тут уж приходилось не только уворачиваться на бегу, но и жестко выставлять локоть, или двигать дюжим бедрышком.
Противнее всего были разговоры. Если бы в них были только скучные сальности, но они всегда были перемешаны с неуловимо презрительными отзывами в адрес Рули. Мол, чего ты нашла в этом паучке. Скоро стало понятно, что, несмотря на академический статус деда, Рауль считается в кругах реальной фарцы явным аутсайдером. Его скорее терпят, чем ценят. И смотрят на факт рулиного обладания Ларисой как на явную несправедливость. Они курили «мальборо», они носили джинсы «леви страус» и кожаные пиджаки, и они были явными сволочами.
«Руля меня любит», — отвечала Лариса на все приставания, даже после бутылки шампанского, и отрубала все тянущиеся к ней щупальца. И правильно делала, и с моральной точки зрения, и с точки зрения приводимого в жизнь дальнесрочного замысла. В тот момент, когда какой–нибудь приятель Рауля подкрадывался к Ларисе сзади или сбоку в хищной попытке завладеть незащищенным куском ее плоти, или вдохнуть в ухо пошлую шутку, она, технично и, главное, решительно уворачиваясь, всегда видела где–нибудь в конце коридора, в проеме приоткрытой двери задумчиво поглядывающую на нее Нору, а иной раз и улыбающуюся «раковую шейку».
В этом доме повсюду были глаза.
Надо признать, что маман, Елеонора Витальевна никогда не следила за ней. Более того, она старалась никогда с Ларисой нигде не пересекаться, старалась не знать, что она творит с интерьером и обедом. Лариса не могла бы даже сказать, что мадам ею недовольна. Та принимала все услуги со стороны Ларисы, оказываемые и дому, и ей лично, со спокойной, равнодушной благодарностью, почти не замечая их. Нет, она хвалила и борщи, и пельмени, и запеканки, но при этом оставалось впечатление, что тут же забывала ею сказанное. Лариса взяла на заметку эту манеру, считая их проявлением истинного аристократизма. Благодарить, не считая себя чем–то обязанной за сделанную тебе услугу.
Мадам выпархивала по утрам накрахмаленной бабочкой из замшелой пещеры, не неся на крыльях своих одеяний никаких признаков домашнего запустения. Надо было понимать, что ее устраивает, как Лариса стирает ее ежедневно переменяемые блузки.
Нора была упертее в этом смысле, и как будто никогда не переодевалась: непрерывные брюки и растянутые водолазки, и демонстративное пренебрежение к косметике. Лариса попыталась с ней поговорить на эту тему: мы же молодые, надо это помнить, придется же еще хомутать какого–то мужика — но натолкнулась на тако–ой взгляд, что побежала жаловаться Руле.
— Она что, считает, что у меня одна извилина, да?
— Да, нет, — ласково морщился норин брат, — просто у нее другие интересы. Не шмоточные.
— Да? А у меня, значит, шмоточные?
Рауль даже заерзал на месте.
— В том смысле, что ты красотка, а ей не дано. Очки, спецхран, неправильные латинские глаголы. А ты цветешь, тебя преступно содержать в обычном магазинном тряпье. Повторяю, ты красотка.
— Я отличница! — С вызовом сказала Лариса, что было почти правдой, она сдала сессию всего с одной четверкой.
При этом, что касается обедов, Нора не играла в глупую гордость. Лопала, что подают, и просила добавки.
Лариса между тем, по большому счету, была спокойна. Рауль не заводил разговоров о том, что неплохо бы им было оформить их отношения, но она и не настаивала. Слишком уж было ясно, до какой степени молодой фарцовщик запал, он и дня не может прожить без привычных приключений в кровати. Лариса даже жалела его, оттягивая момент такого разговора, воображая себя анакондой, уже подползшей вплотную к беззащитному кролику. Пусть пока дохрумкает последнюю морковку.
Но пыталась — очень осторожно — выяснить у Рауля, как его родственники относятся к ней. Несмотря на всю уверенность в своих ценных качествах, и в том, что Рауль прочно приторочен к ее крепкому бедру, она была снедаема тихим любопытством: как ее оценивают? Кем она кажется этим двум женщинам. Скорей всего они ведь восхищены ее чистоплотностью, и кулинарной изобретательностью. Рауль почти пропускал эти вопросы мимо сознания, стараясь показать, что все нормально, и нечего беспокоиться о таких чепуховых мелочах. Охотно соглашался признать, что «жрачка теперь у нас — во!» — он поднимал большой палец. Пару раз цитировал Нору на ее счет: «Она приехала в Москву, чтобы ее прибрать», это выглядело как шутка, вроде бы и дружелюбная, хотя и с каким–то не до конца понятным оттенком.
— Им что, не нравится, что я убираюсь?!
Руля прищуривался и выпячивал губы, как бы говоря: да ладно тебе.
— Я могу больше не брать тряпку в руки.
— Да, нет, нет, убирайся, если хочешь, и сколько хочешь.
Лариса остолбенела: все вдруг стало выглядеть так, что она борется за право бегать по квартире с веником. Не осчастливливает, а набивается. Дальнейшие разбирательства по этому поводу Руля норовил прекратить с помощью напористых поцелуев, и увлекал ее в сторону койки, где сглаживались сами собою неудобства беспробудного быта.
Однажды Лариса влетела в комнату с решительным лицом.
— Слушай Рулик, Нора какая–то совсем странная.
— А что такое?
— Я к ней, а она даже как бы и не заметила меня. Я понимаю, что я здесь никто… — Лариса решила использовать удобный плацдарм перенесенного оскорбления для атаки на стену загадочного молчания Рауля, за которой он прятал карту своих планов их общего будущего. Сегодня не отвертится!
— Оставь ее в покое.
— Ах, вот ты так со мной заговорил?!
— Лара, у Норы неприятности.
— И это повод…
Рауль закрыл глаза и медленно втянул воздух.
— Послушай, у Норы неприятности.
— Какие?
— Не может получить отзыв на свой диплом. Или реферат, я не помню.
Лариса поняла, что разговор на важную для нее тему сегодня не состоится.
— Почему не может?
Рауль хмыкнул с мрачно–иронической улыбкой.
— Еврейское счастье.
— Я не понимаю.
— Да я и сам не понимаю за что нам все это и столько лет.
Лариса продолжала на него смотреть непонимающе.
Заболел дядя Иван Иванович, никогда не болел, а тут заболел, инсульт. Невменяем. Писать отзыв должен Шамарин, зам. А он, видишь ли Ларчик, известный ксеноглот.
— Кто?
— Ну-у, жидоед. Дальше объяснять?
Лариса подумала, и сказала, да, объяснять.
Из короткой лекции Рауля ей стало известно, что все командные высоты в русской академической науке, и не только в ней, захвачены патологическими антисемитами, людьми бездарными и мстительными. Они сами не способны к шевелению мозгами, и ненавидят всех, кто к этому способен. Такому крупному авторитету, как «раковая шейка», они повредить были не очень в состоянии, хотя тоже, надо сказать, пытались, «он всегда был им слишком нужен, кто–то ведь должен был сочинять им новые бомбы и ракеты, у самих–то башки не хватает». Все время дергались — что делать с академиком Янтаревым? То посадят, то с помпой выпускают. Теперь он хворый, ушел от дел. Но гадить продолжают, теперь опосредованно, отыгрываются на родственниках.
— На тебе тоже отыгрывались?
Рауль очень внимательно посмотрел на предмет своего горячего обожания. И тихо сказал.
— Нет, я ушел из аспирантуры сам. Надоело жить на копейки.
Лариса сидела в задумчивости, мяла в руках мокрую тряпку. В душе у нее шевельнулось какое–то неприятное, мутное воспоминание. Да, эта бредовая история с белорусским национализмом. Ей казалось, что она вместе со всем прошлым закатана в асфальт надежного презрения к сварочному поэту.
Рауль по–своему истолковал ее молчание.
— Ты что, краса наивная, может быть, и про черту оседлости ничего не слыхала?
Лариса что–то, конечно, слыхала, но вдруг поняла, что ни за что не смогла бы ответить что именно. Она отрицательно покачала головой. Рауль хмыкнул и прочел ей лекцию на «эту тему».
Лариса слушала не очень внимательно, она слишком полностью доверяла словам Рауля, поэтому ей не нужно было над ними задумываться, они просто падали на дно ее сознания, запечатлеваясь там навсегда. Да, в целом–то она считала себя сильной хищницей, играющей с обреченным зверьком, но что касается поднятой темы, она сразу и полностью признала превосходство и авторитет Рули. Открылся вдруг занавес, предстала действительная панорама жизни. Наряду с этим оглушающим открытием, где–то сбоку шевелился небольшой конкретный стыд: как это ей пришло в голову донимать несчастную Нору бытовой чепухой, когда она есть жертва всемогущего антисемитского государства.
— Я пойду, извинюсь перед Норой.
Рауль грустно усмехнулся.
— Иди лучше, спасай рыбу, горит.
Возле рыбы уже дежурила Элеонора Витальевна. Она довольно грамотно перевернула куски судака, и теперь вытирала руки тряпкой. Будет говорить, поняла Лариса. И не о рыбе.
— Вы ведь студентка? — Спросила она для начала.
— Да.
— И я слышала, учитесь очень хорошо.
Ларисе было и странно, и лестно это услышать. Она поняла, что ею все–таки интересуются в этом доме, и видят не только добровольную домработницу.
— Я хотела попросить вас об услуге.
— Да ради Бога. — Небрежно ответила Лариса. Она была готова на подвиги.
Оказалось, что надо бы съездить в один подмосковный санаторий, там сейчас бережет свое здоровье после того как щарахнуло его шефа, профессор Шамарин, и забрать у него отзыв на «важную, и очень, работу» Норы.
— Съезжу. — Пожала плечами Лариса. Тоже мне. О том, почему не может поехать сама Нора, вопрос даже не вставал. Понятно, что ей ехать невозможно. — Что за санаторий?
Но дело было не в названии санатория, а в том, что процедура получения может быть сопряжена с некоторыми осложнениями, мягко, почти вкрадчиво предупредила мадам.
Лариса усмехнулась, показывая, что нет таких осложнений, с которыми бы не совладала она, настоящая отличница. Элеонора Витальевна удовлетворенно кивнула, и тут же заметила, что Лариса может, конечно, отказаться, если у нее есть какие–то сомнения.
— Нет зачем же.
Элеонора Витальевна снова удовлетворенно, почти дружелюбно кивнула, и сказала, что Шамарин не знает Нору в лицо, в этом главная интрига ситуации.
— Да-а?
— Да. Вам придется выдать себя за нее. Шамарин может задать вам несколько вопросов по теме работы…
— Я подготовлюсь. — Улыбнулась Лариса. Элеонора Витальевна улыбнулась ей в ответ. И сказала, что была рада не ошибиться в ней. И еще сказала, что будет очень, очень ей благодарна. Норина нервная система в таком состоянии…
— Моя нервная система в порядке.
20
Возвращения Ларисы ждали с огромным напряжением. Все семейство питалось растворимым кофе, и блуждало с бледно дымящимися чашками по тускло освещенным коридорам. В полном молчании, отчего происходящее было похоже на своего рода богослужение.
Рауль был особенно пасмурен. Он даже делал вид, что ни с кем не хочет разговаривать.
Элеонора Витальевна один раз даже обратилась к нему, не выдержав.
— Ты что хочешь сказать, что я поступила неправильно?
Рауль дернул плечом и ушел в свою комнату, буркнув.
— Ничего я не хочу сказать!
Наконец, щелкнул замок. Лариса вошла. Элеонора Витальевна и «раковая шейка» выкатили ей навстречу. Рауль остался стоять в дверях своей комнаты, поигрывая пустой кофейной посудой. Нора схоронилась в своем «кабинете», предоставляя другим разбираться с этой щепетильной ситуацией.
Лариса не торопясь, со вкусом разделась ни на кого не глядя. Шарф, пальто, сапоги. Понимала, что имеет на это право. Пальто помогла снять Элеонора Витальевна, элегантно улыбаясь.
Лариса надела домашние тапочки, прошла на кухню, налила себе кофе — пришлось царапать ложкой по дну почти пустой жестянки. Сделала глоток, и сказала, ни на кого специально не глядя.
— Хорошо, что Нора не поехала.
Это заявление не разрядило обстановки. Все ждали деталей. Как развивался сюжет? Но Лариса стала делиться впечатлениями о главном персонаже.
— Жуткий урод. Эта бородавка на губе, вот тут, вуглу рта, как будто сигару не докурил, бр-р. И возле носа блямба, и бровь как гроздь! — С шумом отхлебнула из чашки.
Руля стоял в дверях, жуя губы. Мать с интересом на него поглядывала.
— И по характеру — свлочь! Привык пользоваться своим положением, сразу так и выставил вперед рученки.
И тут все заметили, что девушка слегка навеселе. Элеонора Витальевна обняла ее за талию.
— Спать, спать, спа–ать.
— Нет.
— Где мое пальто?
— Зачем теперь пальто?
Опираясь на хрупкую маленькую «свекровь», Лариса вернулась в прихожую, порылась во внутреннем кармане своего пальто и вытащила оттуда сложенный вчетверо лист бумаги.
Элеонора Витальевна выдохнула с огромным облегчением, развернув его. И передала девушку с рук на руки Раулю, сопроводив передачу чрезвычайно выразительным взглядом. Лариса этот взгляд перехватила, но оценила не правильно, и попыталась объяснить:
— Если бы он жил не на втором этаже, а повыше, мне пришлось бы похуже.
Элеонора Витальевна замерла.
— Что?
— Пока он там что–то запирал, я на балкон, и в сугроб. Большой сугроб, лбом немного ударилась о древко лопаты. И удрала. Купила бутылку шампанского на станции…
Жизнь продолжалась, как будто ничего не произошло. Лариса была ровна и беззаботна, она чувствовала себя даже лучше, чем до того. У нее появилась некая заслуга перед семейством, следовательно, положение ее упрочилось, и чаемый результат выглядел еще более достижимым. Требовать немедленных вознаграждений она не стала, это было бы слишком по хабальски. Подождем с недельку.
Рауль тоже не затевал никаких объяснений, он ждал подходящего момента. А подходящим моментом была бы попытка Ларисы предъявить какие–то требования.
В остальном, все было по прежнему.
21
Тот день запомнился ей очень хорошо. Началось все еще за завтраком. «Раковая шейка» после того как Лариса покормила его ежедневным витаминизированным бульоном через трубочку, аккуратно убрала чистейшей салфеткой капли вокруг рта, академик ласково погладил ее запястье, и вдруг резко сжал его сухими, шершавыми пальцами. В глазах его было ласковое, дружелюбное выражение. Он явно что–то хотел сказать.
Но надо было бежать на лекции.
В перерыве между первой и второй, Лариса курила с подружками на ступеньках истфака, потому что в курилке красили стены, и там хозяйничал ацетон. Смеялись, шутили, Лариса сумела заработать себе и в этой компании серьезный авторитет. Отыгрываясь за свое полуподпольное состояние в квартире Янтаревых, она давила собеседниц безапелляционностью суждений, и знанием тех сторон жизни, что всем были интересны, но мало кому ведомы досконально: шмотки, косметика, аппаратура. Во–первых, она сама была экипирована на ять, во–вторых, охотно делилась полезной информацией. А источники у нее, понятно, были проверенные. И вот, когда она поправляла на февральском крыльце белую дубленку, выдыхая драгоценный дым тонкой дамской сигаретки, во двор института въехал, преднамеренно медленно, чтобы все могли рассмотреть эту процедуру как следует, самый настоящий американский «форд». То, что он бы 1963 года выпуска знала только Лариса, потому что об этом говорил Руля, за глаза посмеиваясь над Гариком Мангалом, одним из своих партнеров.
Гарик был не слишком высоким, но жгуче красивым кавказцем, полуабхазцем полуармянином, впрочем, этот факт не имеет никакого важного значения. Он движением беззаботного Бельмондо захлопнул дверь, и, улыбаясь роскошным ртом, направился к стайке оцепеневших студенток. Замшевый пиджак, золотая цепь на загорелой шее (тогда это еще не было знаком принадлежности к бандитскому сообществу), черные очки с надписью «Ягуар» почти посередине левого стекла. Стоял ослепительный, сверкающий полдень, хотя и зимний. Гарик вращался на каблуках, оглядываясь. «Клевый», как сказали бы в начале восьмидесятых, почти то же самое, что «крутой» в языке двадцать первого века. Почти то же самое, но еще и плюс море шарма.
Все топтавшиеся на крыльце студентки, сразу поняли, к кому этот визитер. Девушки попытались ретироваться. Стоять! — скомандовала им Лариса. Гарика количество свидетелей не смутило. Он вежливо и обаятельно предложил Ларисе отправиться с ним в кафе. Для разговора. Лариса сухо отказалась, точно попала окурком в урну и собралась уйти. Но он обаятельно умолял, стоически настаивал, просто рассыпался словесно, причем, не стесняясь свидетелей. Наконец, наступил момент, когда отказываться было просто невежливо. И глупо. И странно.
— Только вместе с девочками. — Поставила условие Лариса. И Гарику, и девочкам, кстати. Саша и Марина вынуждены были ее эскортировать. Последняя лекция была позабыта. Руководимые товарищескими чувствами и любопытством, студентки отправились вместе с подругой и все время пошучивающим красавцем.
— В «Метелицу»! — Велела Лариса. Это было одно из центровых мест тогдашней молодежной Москвы. Вечером попасть туда было очень трудно, вечер проведенный там не считался потерянным зря. Закатиться туда посреди учебного дня, на «форде», со свитой, показалось Ларисе шикарным. То, что Саша и Марина сильно впечатлены началом приключения, ею организованного, было ей приятно и бодрило, хотя в целом она не забывала держать себя настороже.
Мороженное, шампанское, кофе, еще раз шампанское, кофе мороженное, в полупустом, довольно–таки унылом в полуденный час заведении. И надо все время вострить ухо, и Саша и Марина время от времени порывались то ли из деликатности, то ли под воздействием намеков Гарика ускользнуть из–за стола. Приходилось их хватать за край платья и водворять в кресло, закармливать дорогущими американскими сигаретами. Нет, резвилась про себя Лариса, тебе не удастся остаться со мной наедине! Она прекрасно понимала, что нужно рулиному дружку–кобелю, только, не на ту напал, мы гродненские — гордые. И умные. После четвертой бутылки Гарик расслабился, полностью переключился на подружек Ларисы, которые не демонстрировали такой ярой недоступности как она. В конце концов, кончилось тем, что Лариса обнаружила себя, вернувшись из дамской комнаты, за столом в единственном числе, и, посмотрев в окно, не увидела на стоянке американскую машину. Испытав мгновенное облегчение, она вдруг вслед за этим, с удивлением, ощутила укол ревности. Ах, ты Саша, ах, ты Марина! Неблагодарные дряни! Увели! мужик, хоть и не нужный, но мой!
Подозвала официанта, она была убеждена, что Гарик ей отомстил, оставив один на один с громадным счетом, и она уже собиралась яростно потратить полученную сегодня стипендию, и выкатить претензию Руле по поводу наглости его друзей. Но счет оказался оплачен, и это, как ни странно, испортило ей настроение еще больше. Оказалось, что у нее отняли право на справедливый скандал на тему: твои друзья смеют так обращаться со мной, потому что мы с тобой не расписаны, они считают меня шлюхой!
Поехала злая и пьяноватая домой.
Сидеть без дела была не в силах.
Нацепила фартук и рванулась на кухню, там всегда было, чем заняться. Хотя бы вот этот сервиз из помутневшего стекла из дальнего, укромного комода забившегося в угол огромной кухни. Займемся, пока Руля не вернулся в логово со своей противозаконной добычей.
Стремительно переоделась, фартук, косынка, большая миска с горячей водой, порошок, составленный по особому маминому рецепту, с гарантией победы над любой грязью. Когда открыла шкаф, оттуда пахнуло как из лавки колониальных товаров: корицей, ванилью, кофе, но запах был как будто припорошен пылью пережитых времен. Душа дома обнаружилась в шкафу. Лариса замерла в неожиданной неуверенности с поднятыми для атаки руками. И услышала за спиной тихие всхлипы. Обернувшись, потеряла равновесие на своем стуле, пошатнулась, топча газету. Внизу были глаза «раковой шейки», огромные, разумные с непонятной просьбой в них.
— Что? — Спросила Лариса.
Академик вздохнул, выпустив горловой всхрип, и стал быстро работать правой рукой, разворачивая свою повозку. Уехал.
Лариса пожала плечами, и начала вытаскивать из пахучей емкости части большого сервиза, его предметы по своему виду были так же необычны, как и местные запахи. Но форма их мало волновала Ларису, с шампанской решительностью она потащила стопку огромных мелких тарелок в мойку. Они так слежались за предыдущие годы, что даже прилипли друг другу. Это вызвало ироническую усмешку у добровольной посудомойки. Чистюли! Они не только слиплись, они покрылись тончайшим налетом, сделавшим стекло полупрозрачным.
Ничего, мамин порошок и не с такими налетами справлялся.
Минут пять–семь прошло в тяжелом борении порошка и налета. Очень скоро Лариса поняла, что поспешила презирать неприятеля. Налет не сдавался с налета, как она сама с собой каламбурила. Пришлось приналечь, всей мощью рук, по которым тосковал большой гандбол. Взопрела, пришлось оттопыривать нижнюю губу и сдувать нависающую челку.
— Что вы делаете? — Раздался голос за спиной.
Лариса обернулась и увидела Элеонору Витальевну. Явившуюся явно по ее, ларисиному, поводу. «Раковая ищейка!» — беззлобно подумала Лариса. Донес. Обычно мадам не только не говорила прямо, но никак и не намекала Ларисе, что ее напор и решительность в обращении с интимными деталями обстановки этого дома, не слишком–то приветствуются. Но сейчас на ее лице читалось некое недовольство.
Ей не нравилось, что Лариса посягнула на данный конкретный шкаф?
Или укусила какая–то другая муха?
Тут что, заповедник?! «Не хватало, чтобы она полезла пылесосить библиотеку» — так и читалось на этом обычно мягком, вежливейшем личике.
Лариса понимала — тут присутствует тонкий момент. Да, ей прежде разрешалось сметать пыль с поверхности здешних вещей, а теперь она как–то слишком рьяно поперла внутрь здешней реальности. Элеонора боится за своих скелетов в своих шкафах? Это ведь только сервиз! Может быть, памятный, роковой, необыкновенный, но всего лишь сервиз. Разумеется, если бы не эта странная гарикова атака, не многочисленное шампанское, Лариса удержалась бы от фамильярности по отношению к этим заповедным тарелкам… Но, вот что хотите, тут есть и еще какая–то подкладка. Элеонора злиться еще почему–то.
Лариса смахнула костяшками пальцев мокрые волосы с мокрого лба.
— Да вот, сервиз…
Мадам улыбнулась с ласковой печалью в глазах.
— У вас ничего не получится.
— Да, не получается, но у меня хорошее средство, я ототру.
— У вас ничего не получится, милочка. Вам не удастся зацепиться в этом доме.
Внезапная лобовая откровенность мамам обезоружила Ларису, и она просто спросила.
— Почему?
— Вы еще не поняли?
— Не поняла.
Мамам натянуто усмехнулась. Ей не хотелось развивать тему, ей бы желалось, чтобы ее понимали с полуслова, но, кажется, в данном случае без объяснений не обойтись.
— Потому что это особенный дом, милая девушка. Тут свои традиции, своя история, здесь бывали Собинов и Агранов, если вам что–нибудь говорят эти имена.
— Это фамилии.
Мамам снисходительно кивнула.
— Гражданство этого дома нельзя получить просто через постель. Прежние здешние жители слишком много отдали ради него в свое время, страдали, и в лагерных бараках, и в партийных президиумах, которые еще хуже лагерей, если вы меня понимаете, девушка.
— Я не девушка.
— А вот в это я имею право не вникать. — Мадам на самый краткий миг вскинулась, но тут же себя осадила. И продолжила вежливое пение, — Вот я вам, собственно, все и сказала. И вы, надеюсь, все поняли.
Лариса медленно мяла в руках мокрую тряпку. Она никак не могла поверить, что ей наносят оскорбление, Она все ждала, что мадам сейчас даст какой–то сигнал, показывающий, что все это не всерьез, и круг взаимной деликатности не разорван. Лариса еще не поняла, что мир старой, уютной в общем–то, неопределенности, рухнул, и она теперь одна на холодном ветру новой реальности.
— Вы хотите сказать, что Рауль на мне не женится?
Мамам только усмехнулась и пошла к выходу.
— Но можно я хотя бы домою то, что начала? — Изо всех сил пытаясь выдавить из себя хоть каплю ехидства, спросила Лариса.
— Я же сказала — у вас ничего не получиться. Это не богемское стекло, как вы, наверно подумали, а бутанская слюда. Подарок Джевахарлала Неру. И учтите, одна такая тарелка стоит дороже, чем весь ваш гардероб.
И ушла.
Вот, сука, наконец нашла нужное слово Лариса. Слово, которое в этом доме надо было все время держать под языком. Сука улыбчивая! Сначала дубаснула обухом по голове, а напоследок добавила еще и две оплеухи. Ты, мол, милая хозяюшка, ни черта не смыслишь в приличной посуде, и ходила бы голая, если бы не подарки моего сына.
Сама доктор, и даже наук, но от рыночной хабалки отличается только умением не говорить громко.
С огромным трудом Лариса удержалась от того, чтобы не превратить драгоценный сервиз в мокрую щебенку. Не от трусости, ей было плевать на последствия, которые могли последовать вслед за таким разгромом. Она просто еще не решила, что все кончено. Она попробует отыграться. И даже не попробует, а отыграется обязательно! Вот придет Руля и мы поглядим, как все тут обернется. Поэтому, пока что надо с посудой не торопиться. Запихнем ее в мокром, намыленном виде обратно, все равно никто из «академиков» в ближайшие сто лет туда не заглянет.
А ужин готовить не стала. Когда Руля потребует «чего–нибудь в пасть», будет с чего начать разговор. Я что, кухарка здесь?!
Рауль выслушал возмущенную возлюбленную молча и угрюмо. Молча же вышел из комнаты и исчез в глубинах так до конца и не прибранного лабиринта. Лариса напряженно ждала, что до его слуха вот–вот донесется шум скандала.
Но было тихо.
Лариса, прислушиваясь, в очередной раз переживала факт огромности этого «дома», на его просторах могли бы разместиться, наверно, даже несколько скандалов, ничуть не мешая друг другу. Не то, что их блочная гродненская хрущеба.
Стало даже тревожно, когда отсутствие Рули стало затягиваться. Скандал, насколько себе представляла Лариса, вещь скоротечная. Сидеть просто так ей было трудно.
Но что же делать?
Вытащила зачем–то из под кровати свой чемодан, смахнула с него пыль. Ей вдруг стало обидно и тоскливо. Вот она, эта пыль, это единственное общее, что они накопили с Рулей за все эти месяцы.
Дверь за спиною открылась. В дверном проеме стоял Руля.
— А, собираешься. Правильно.
Лариса резко встала, отчего голова у нее закружилась.
— Что правильно?!
— Собирай вещи.
Она молчала.
— Что стоишь, мы уходим!
— Погоди.
— Чего годить. Маман наговорила тебе такого…
Лариса снова сказала.
— Погоди.
Ей трудно было все объяснить. Например, то, что чемодан она достала лишь для того, чтобы продемонстрировать глубину возникшего кризиса, а выезжать из этого пыльного дома она не желает. Если мадам возьмет свои слова обратно, если она хотя бы сделает вид, что не говорила все это, или что говорила это в шутку, Лариса готова остаться. Но как выразить в словах эту тонкую психологическую фигуру, особенно в тот момент, когда Руля в порыве справедливого, но неконструктивного гнева рвется вон.
Он стал запихивать в открытый чемодан подаренные им Ларисе тряпки.
22
По одной из застенчивых улочек, что ведут вверх от Цветного бульвара к Сретенке, поднималась парочка пешеходов, на которую обращали бы внимание многие, будь движение тут оживленнее. А так, только пара старух, и пара котов были свидетелями того, как Рауль и Лариса приблизились к месту своего нового обитания. Рауль шел впереди с недовольным выражением лица, а Лариса сзади с распухшим, как лицо от слез, чемоданом.
Они почти не разговаривали, потому что оба были недовольны тем, что произошло. Рауль был расстроен поведением матери, Лариса тем, что вынуждена была покинуть почти уже подготовленное ею для нормальной жизни жилище. Раулем двигала оскорбленная гордость — его выбор был семейством неуважен. Эта женщина была ему нужна такая, как есть. Чтобы там они про нее не плели, родственники. Сам этот выезд с вещами из дома, был для него тектоническим сдвигом в судьбе. Он не мог объяснить размер своей жертвы Ларисе, а она считала этот подвиг глупостью. Лариса никак не могла смириться тем, что для отстаивания гордости необходимо было отказаться от такого количества проделанной работы.
— Здесь. — Сказал Рауль, и они вошли в укромный четырехугольный двор, образованный стенами нескольких семиэтажных зданий, безучастно устремленных куда–то вверх. Во дворе чахли клен, куст и остов запорожца.
— Нам сюда.
Рауль указал на двухэтажную кирпичную хибарку, притулившуюся в углу двора. Вид у нее был бомжовый, как будто она скрывалась здесь от ментов.
Обошли темную, видимо вечную лужу, перед входом, Рауль достал из кармана ключ, вскрыл дверь неприязненным движением, как нарыв. Изнутри хлынуло…
— Чем это пахнет? — Спросила Лариса, недоверчиво пряча свой чемодан за спину, опасаясь за судьбу своего фирменного гардероба в этой клоаке.
— Это, ну вроде как мастерская. — Ответил Рауль, не отвечая на вопрос. — Здесь живет один шлимазл.
— Здесь никого нет. — Сказала Лариса, когда они вошли и осмотрелись.
— Здесь никого нет, но он здесь живет.
— Он художник?
— Да, нет, черт его знает, чем занимается, был археолог, что ли.
Посередине стояла толпа бутылок, припорошенных пылью. Если бы Ларисе довелось до того побывать в Китае и посмотреть на парад знаменитых терракотовых воинов, она бы заметила, что бутылочный парад его очень напоминает. Все бутылки были одинаковыми — из под вина, емкостью 0,7 литра — и стояли стройными рядами.
— Форма борьбы с хаосом. — Пояснил Рауль, поймав ее взгляд.
Вся остальная жизнь мастерской располагалась как бы на отшибе по отношению к выстроенному стеклу. В темноте под лестницей, ведущей на антресоли несколько старых, обитых железными полосами сундуков со страшными амбарными замками. Между ними медные длинногорлые кувшины, и глиняные, и полуразбитые, и пара прялок, и многочисленные вещи непонятного предназначения. У противоположной стены разложенный диван–кровать с комком окаменевшего белья посередине. Стулья, покрытые как попонами громадными пиджаками. Пол, где не был занят бутылками, был разнообразно нечист. Окна какие–то несчастные, во дворе было так мало света, что им нечего было пропускать сквозь себя. На подоконниках маленькие свалки хлама: кисти, куски грязного картона, выдавленные, истерически выгнувшиеся тюбики — может, все–таки хозяин художник?
На выгороженной в углу кухне, железная раковина в разводах масляной краски. Из крана вдруг упала капля, увесистая как официальное приветствие.
— Ларис иди сюда. — Крикнул Рауль. Крик пришел откуда–то из района диван–кровати, с тоской поняла женщина. «Он говорит, что там ручная сойка, а я‑то знаю, там изба, да койка».
Слава Богу Руле хватило ума откатить комок чуждого белья на край ложа, и постелить на продавленное ложе свою куртку.
— Ты что задумал? — Спросила Лариса, хотя чего тут уж было спрашивать.
— Прописка, Ларочка, прописка.
Ей это не понравилось. Как будто цветок их наполовину безлюбого, но все же пристойного секса грубо пересаживался из благородной почвы прежней квартиры в здешнюю помойку.
Но Руля был настойчив, там дома, они уже несколько дней по разным причинам не предавались обычной радости.
Проходя процедуру, новая обитательница мастерской по своему обыкновению, несмотря на весь напор партнера, отдавалась и приватным размышлениям.
— Здесь бардак не то, что на Староконюшенном.
— Еще бы… — Прошипел сквозь рабочее сопение внук академика. Лариса хотела сказать, что, несмотря на всю затхлость, замызганность академического быта, нашлось место еще более запущенное. Она поняла, что не понята, но промолчала. Но молчать ей было скучно, и она опять высказалась.
— А что если их сдать?
— Что, что, что? — Замельчил Рауль.
— Сдать эти бутылки, там рублей на сорок.
Рухнув на спину, чихнув от поднятой пыли, Руля сказал с расслабленным смешком.
— Если хочешь, чтобы тебя сдали в поликлинику для опытов, давай. — Это были годы популярности почтальона Печника и кота Матроскина, они заменили в некотором смысле в качестве всенародного цитатника Ильфа и Петрова.
Лариса посмотрела на стоявший у дивана стул. Он страдал под наплывом лавинообразного пиджака, карманы которого лежали горизонтально на пыльному полу.
— А когда он придет?
— А кто его знает!
Лариса почувствовала себя сказочной девочкой в сказочной берлоге. А кто сидел на моем стуле? А кто смеялся над моими бутылками? А кто трахался на моем диване?!
— Ты бы помирился с мамой.
— Когда она помирится с тобой. — Рауль прыгал на одной ноге, возвращаясь в штаны.
— Как же она со мной помириться, если мы не будем видеться?
— Приберись здесь. Хотя бы чуть–чуть. Вот возьми. Магазин в этом же доме, с другой стороны. Пару пива.
— Когда ты придешь?
— Приду, приду.
Уже через полчаса после его ухода на Ларису обрушилось понимание — он никогда не придет! Ей стало страшно и страшно тоскливо. Ей бы надо было по характеру разъяриться, но она вдруг почувствовала себя обессиленной, брошенной, забытой, как этот комок серого белья. Чья–то многократная, скомканная страсть, навсегда заброшенная. Все в прошлом! Ей вспомнилась старая картина с разлагающейся от старости старухой. Нет, комок белья был страшней.
Он не придет.
Зачем же просил прибраться? Смягчил удар. Бросание провинциалки, вот картина!
Прибраться! Здесь?!
Унылый храм хлама. Непобедимая, изначальная грязь. Здесь никогда не было чисто и светло. Любой предмет, попадая сюда, немного погибает, теряет большую часть цвета и смысла. Люди как будто тратятся невидимой молью, подумирают.
Лариса решила, что ничего она здесь делать не будет. С таким же успехом можно было бы драить двор зубною щеткой.
Лариса резко вскочила на ноги с дивана, который качнулся как лодка бедного быта.
И тут же в призрачной атмосфере мастерской нехорошо потемнело. Потемнело в глазах? Нет, хуже! Лариса с ужасом посмотрела в когда–то всего лишь пыльное окошко, и увидела там очертания огромной фигуры с огромной головой. Фигура чуть наклонилась, пытаясь рассмотреть, что происходит в мастерской. Ларисе захотелось исчезнуть, или хотя бы спрятаться. Опять вернулось — кто тосковал в моей мастерской?! Она готова была даже скрыться в прошлом, замотавшись в тот самый бельевой комок.
Не поможет!
Сейчас он войдет.
Огромная кисть грюкнула костяшками в дребезжащее стекло.
— Эй, Рыба, принимай гостей!
Гости?! Ларисе не стало легче, просто, значит, предстоит другой вид испытания.
Ввалились втроем. Двое бородатых по краям, а посреди всего лишь усатый. Бородачи лет по двадцать пять парни, а то и старше, центральный — совсем мальчишка. Если бы Лариса была в этот момент способна к ассоциативному мышлению, она бы про себя обязательно сказала, что один бородач — длинноволосый и буйнобородый, очень похож на Карла Маркса, а второй, с аккуратно подстриженными волосами на голове и лице, на Энгельса. Только зачем они поставили между собою хохляцкого парубка?
— Хозяйка грязной дыры! — Закричал Маркс, преодолев секундное смущение, и шумно продвигаясь внутрь. — А где Рыба?
Лариса не знала, что он произнес это слово с большой буквы, и осторожно пожала плечами.
— Ты кто?
Она не знала ответа на этот вопрос и опять пожала плечами.
— Тогда помогай! — Скаля отличные зубы в глубине волосатой пещеры, кричал Маркс. Энгельс и парубок вели себя скромнее, по ним было видно, что они все же в гостях.
Маркс сразу стал взбираться по лестнице на антресоли. Все пошли за ним. Там не было почти ничего, кроме икон. Самых разных. Очень старые на вид, и не очень. Чаще всего обглоданные и замусоленные временем, с окладами, и совсем не различимыми ликами. Они стояли, лежали стопками, висели. Рядом висели кадила, лампады, предметы церковного обихода, но все без порядка, как будто тут была разобранная церковь.
На это собрание уныло глядели три укромных окна, еще менее прозрачных, чем те, что на первом этаже.
Бородачи пришли в состояние мгновенной серьезности и перекрестились, ни к какому отдельному предмету специально не относясь своей верой, а уважая все пространство этажа. Лариса не успела смутиться, не успела начать относиться к гостям как к верующим людям, как все переменилось.
— Сидайте! — Скомандовал Маркс бодро, бросаясь мощным седалищем на местный диван, явно состоящий в родстве с диваном первого этажа. Энгельс и хохол стали выставлять на треугольный журнальный столик бутылки из распухшего кейса. Худые как у стиляги ножки столика скрипнули, собираясь подломиться, но устояли. Энгельс нащупал под столиком две пивные кружки и завершил сервировку. Маркс зубами сорвал поролоновую пробку, и было понятно, что этими зубами он способен сделать и не такое.
— Пей! — Скомандовал он Ларисе, суя ей на половину полную кружку.
— Зачем? — Спросила она строго. Ее неуклюжая попытка сохранить какую–то дистанцию, вызвала в зубастом взрыв хохота.
— Пей, надо же познакомиться!
Лариса хотела было сказать, что и без этого пойла готова представиться, и объяснить, что она находится тут на основании близком к законному, но вдруг сама усомнилась в этом. Рауль вырулил отсюда в неизвестном направлении, а без него она тут кто?
Вино оказалось вкусным, и быстренько побежало по жилам выживая холод образовавшийся в организме. Произошло быстрое, и приятное одухотворение. И очень скоро она поняла, что не является таким уж неуместным здесь существом. Маркс не дал рассеяться этому ощущению. Он объявил, что надо выпить еще и поцеловаться.
Держась за остатки своего недоверия, Лариса поинтересовалась, зачем это нужно? Бородач сказал, что это, может быть, ни для чего и не нужно, только без этого никак нельзя. Брудершафт. Ах, если брудершафт… Они сцепились с Марксом локтями, выпили, а потом ее лицо потонуло в бороде пахнущей и портвейном и тем, что впоследствии принято будет называть дорогим парфюмом. Поцелуй получился сочный, смачный, берущий под свою опеку. Далее бородач начал балагурить, он и до этого не помалкивал, а тут открыл все ворота. И Лариса оказалась в море иронической информации. Они, оказывается с Энгельсом, который откликался так же на имена Кит, и Никита только что вернулись из странствия по «землям русского православия». Пачаев, Валаам… Лариса давно уже рассмотрела огромные антикварные кресты в разрезах их потных рубашек, оказывается, они там размещались не только для виду. Ей еще никогда не приходилось в такой близи наблюдать людей религиозных, и она вновь начала робеть. Причем, ясно ведь было, что это не какие–нибудь старушечьи прихожане, которых она могла прежде наблюдать у скоромной белорусской церквушки. Это были церковные богатыри, изведавшие глубины скрытной монастырской жизни. Они так и сыпали именами и терминами, до такой степени густо, что невидимое масло в лампадах начало нагреваться. До этого разговора религия не занимала в жизни Ларисы никакого места, а теперь заняла. Оказалось, что Маркс и Энгельс не просто катались на катерах и автобусах по шлягерным церковным местам, они «паломничали». Бородач Маркс долго рассказывал смешную на его взгляд историю как в одном странноприимном доме, оказался вместе с ними особо ретивый дяденька, который им, уже готовым провалиться в усталый сон после прочтения положенных при подобном случае молитв, говорил: а вот еще акафист какой красивый, почитаем братья?!» И попробуй, откажись! И так раз двадцать. Глаза слипаются, а губы разлепляются. История была, очевидно, и в самом деле смешная, потому что расхохотался и постный в общем–то Энгельс — Никита. Лариса слушала с интересом, открывая для себя целый новый мир. Как глупо было считать, что все уже в этой жизни известно и понятно, и глубины нет никакой нигде. Вот просто постучал человек в окно, и какие распахнулись двери… Туда можно удалиться от прежних несчастий, и жить по–новому.
Портвейн вдруг кончился.
Маркс, которого все звали так же — Пит, вынул из нагрудного кармана черной джинсовой куртки — одет он был очень хорошо, современненько, и, наверно, ему это облаченье полагалось не за чтение акафистов, — бумажку в пятьдесят рублей и весело велел друзьям сходить в магазин. Энгельс безропотно согласился. Отношения в их паре отличались от отношений в паре подлинных основателей марксизма. Тут денежным мешком был Маркс. Энгельс взял с собой и парубка, хотя тому явно хотелось остаться и продолжать пожирать глазами Ларису. Странно, но эта совершенно бескровная победа не избавляла ее от ощущения брошенности, слегка занавешенного пленкой алкоголя. Даже наоборот.
Гонцы еще только спустились на первый этаж, сопровождаемые сладостными рассуждениями о том, чего и сколько надо взять, а Маркс — Пит уже пустил в ход руки. Это был сильный ход. Никаких лишних слов, слова остались в акафистах, и быстрая, но не грубая, не хамская последовательность опытных движений, и вот уже все продвинулось так далеко, что вернуться обратно можно только на одном транспорте — шумном, визгливом скандале. Причем, у Ларисы не было ощущения, что ее насилуют, этого она бы не допустила, с гордостью у нее все оставалось в порядке, имело место что–то вроде чуть утрированного брудершафта.
Она была уверена, что Энгельс и парубок в сговоре со своим быстрым другом и прошляются довольно долго, делая вид, что в стране трудно со снабжением, и повсюду очереди. Но они явились в самый разгар рубки. Тут Лариса закусила губу, готовясь к гневной грубости, если нога хотя бы одного их них ступит на нижнюю ступень лестницы. Пит продолжал свою дружественную агрессию, но Лариса уже большей частью натуры вывернулась из под него, оставив только телесную часть, и соучаствовала ему даже меньше, чем Руле в подобные моменты, слухом переместившись вниз. Но, нет, они остались внизу. Энгельс объявил, что он знает, где найти новые стаканы и стал греметь стеклом в кухонном закутке.
Маркс показал себя с самой лучшей стороны, и речь не о подвигах плоти. Он проявил себя в самом деле хорошим товарищем уже после всего того, что случилось. Честно говоря, Лариса побаивалась и сильно, этих минут после. Даже один на один с мгновенным любовником оставаться было бы непросто, а тут еще и дружки, которые могут черт знает что себе вообразить… Но Пит все сумел превратить в шуточное шоу. Он болтал с Ларисой как со старинным товарищем, объяснял, где в ванной у Рыбы спринцовка с разведенной марганцовкой «на всякий случай», и советовал не засиживаться «на горшке», потому что «мадера стынет». И потом, все сильно смягчалось тем, что все были сильненько пьяны.
Марксисты составили себе по матерому коктейлю, поминая поминутно слезу какой–то безымянной комсомолки. Нет, в конце концов, они сошлись на мысли, что составлять нужно «ханаанский бальзам». По сто граммов «Стрелецкой» в каждую кружку, по двести граммов мадеры, столько же «Салюта», и остальное — пиво. Осушив по полной граненой поллитровой лохани, они почти сразу же повалились навзничь на диван и захрапели, вздувая волосы бород.
Лариса полюбовалась на них немного, и спустилась на первый этаж, где парубок варил кофе.
— Будешь? — Спросил он.
— Буду.
Ларисе хотелось молча посидеть, возможно, подумать. Что–то ведь произошло. Парубку молчать было трудно. Он стал рассказывать историю сегодняшнего дня. Оказывается он тоже познакомился с бородатыми только сегодня. В доме журналистов.
— Туда пускают по студенческому. Я с журфака. — Счел он нужным объяснить. Ларисе это было все равно. Она должна была бы испытывать неудобство в данной ситуации, а испытывал его будущий журналист, ей и это было все равно. Журналист продолжал рассказывать.
Эти двое были дети известных родителей. Это Лариса поняла и сама. Пит носил фамилию Бережной, и полное его имя было — Питирим. Отец его был космонавтом. Никитин папа был заместителем министра какого–то машиностроения. Лариса хотела спросить у парубка, как он затесался в такую компанию. Но поленилась. Молодой человек сам объяснил. Просто оказались рядом за барной стойкой. В разговоре бородачей мелькнуло имя Жировицы.
— А я оттуда родом. Из Белоруссии. Они были там в монастыре. Я им сказал, что я оттуда родом. Они купили еще пива. Сказали — поехали с нами. Будешь третьим богатырем. Они считают, что Пит — Илья Муромец, Кит — Добрыня, а Алеши Поповича у них нет.
Лариса посмотрела на парня внимательно, и подумала, что все сходится. Свой вариант про Маркса — Энгельса надо отставлять, парубок нисколько не тянул на молодого Ленина.
— Целый день таскаемся по городу. Были у трех вокзалов, у трех тополей на Плющихе.
Смешно, думала Лариса, и еще думала сказать журналисту, что они земляки или нет. Слоним ведь всего в трех километрах от Жировиц. Не сказала. И даже не сумела бы объяснить почему.
— А почему у тебя нет акцента?
— А я учился в русской школе. В Жировицах была белорусская, но я ездил в Слоним.
23
Надо отсюда исчезать, думала Лариса, с трудом и без интереса поддерживая беседу с белорусским парубком.
— Ты посиди тут, я сейчас вернусь.
Она взяла свою сумочку и выскользнула под начинающийся дождь. Младший богатырь посмотрел ей вслед, думая почему–то, что он ее больше никогда не увидит. Но она собиралась всего лишь позвонить. Сначала Лиону Ивановичу… нет, сначала Раулю домой, если он уже там, то пусть скажет, что ей теперь делать в логове Рыбы. Набирала номер дважды. Подходила и убийственно ласковая маман, и замедленная сестрица. Рауль явно не было, он всегда первым хватал трубку, жил постоянно в поджидании клиента. Теперь Лион Иванович — вообще никто не подошел. Не получится свалиться как снег на голову, мол, расхлебывай, раз заварил!
Что ж, надо возвращаться.
Переночуем, раз за ночлег все равно заплачено.
Алеши Поповича в мастерской не оказалось. Всего лишь два самодовольных храпа на втором этаже. Парубок исчез, ей было наплевать на это. Нет, даже интересно, почему она до такой степени его не стесняется. Прошлась, села, тупо разглядывала строи бутылок на полу. Странно, столько вокруг уже всего произошло, и пили, и спали, а они по–прежнему в строжайшем порядке.
Вдруг зазвонил телефон. Откуда–то из угла. Кто это? Рауль? Лион Иванович?! Откопала на кресле под тряпьем потрескавшийся, грязный аппарат. Прошептала «да» в трубу, там вздохнули чужим голосом, и связь прервалась. Причем здесь, Лион Иванович, одернула себя Лариса, откуда ему знать здешний номер?! В ожидании повторного звонка свернулась в широком кресле. И Руля не при чем, сбежавшие мужчины не звонят. Все равно, надо где–то провести ночь. Только страшно засыпать. Хотя, почему страшно? С ней уже случилось все самое недопустимое, теперь–то уж чего!
Проснулась от похлопывания по плечу.
— Руля!
Он был не один.
— Зажги свет. — Скомандовал он кому–то за спиной.
— Легко сказать, зажги. — Ответил тонкий иронический голос. — Где тут выключатель?
— Где–то тут.
Свет зажегся, какой–то тусклый, несчастный, почти не электрический.
— Коня не было? — Спросил Рауль у Ларисы. Она ничего не ответила, только спустила ноги с кресла. Прислушалась, наверху не храпели.
— Кто тут был? — Тем не менее, спросил Рауль.
— Приходили…
Рауль брезгливо огляделся.
— А ты чего?
— В смысле?
— Почему не убралась, нам здесь жить, между прочим.
Лариса похлопала глазами.
— Слушай, Лара, ты так на меня смотришь, как будто тебя только что трахнули.
Она не успела ничего сказать, из туалета вышел незнакомый молодой, очень кудрявый человек и продолжил разговор, начатый, надо понимать еще вне мастерской.
— … накапливается что–то вроде статической энергии, и надо просто научиться ее использовать, понятно?
— Да, — сухо сказал Рауль, оглядываясь.
— С какого–то момента кино, даже гениальное смотреть бесполезно, ничего уже оттуда не выколупнешь. Или только лишь самые мелкие детали. Например, у нас в Протвино показывали в клубе недавно «Кавказскую пленницу»…
— Поздравляю.
— Все знают текст и видеоряд наизусть, но я смог, смо–ог. Вот скажи мне Руля, какие буквы стоят на номере машины, на которой промышляют эти трое, Бывалый, Вицин и Никулин?
— Что? — Рауль прошелся по комнате.
Кудрявый самодовольно улыбнулся, что в призрачном пыльном свете местного электричества смотрелось отвратительно — какой–то веселящийся мертвец.
— Когда Никулин наклоняется, чтобы перерезать веревку, брошенную из бочки с Шуриком, мы видим, и только на десятом просмотре, поскольку можем отвлечься от основного действия, что там написано ЮАР. Микроскопическая но идеологическая диверсия.
— Да-а? — Рауль налил себе вина из бутылки, которую достал из пузатого, старинного холодильника, — хочешь?
Кудрявый отмахнулся.
— Это Плоскина, — пояснил Рауль для Лары, но она ничего не поняла.
— Мой одноклассник и контрабандист.
Кудрявый опять отмахнулся.
— А теперь представь, что мы можем все поменять.
— Что?
— Все, Руля, все. Не пялиться в сотый раз на любимый экран, а взять бразды, и вперед. Есть такие технологии, есть. Не у нас конечно. Единственное, что у нас получается, ракеты и балеты, а тут кибернетические миры. Нам под силу взять, например, товарища Саахова и женить на комсомолке, спортсменке, красотке. Вместо суда в конце — ЗАГС, понимаешь?
— Красавице. — Сказала Лариса.
— Да, да, а красноармеец Сухов увлекается гаремом Абдуллы всерьез. Поселяется в доме Верещагина, его жены собирают добро с баркаса выброшенное на берег штормом, а? Живут в свое удовольствие. А жену Верещагина и Жену Сухова в дом престарелых.
— Чушь, какая–то, — зевнул Рауль, кино уже снято, как его можно переделать?
Плоскина азартно захохотал.
— Отсталый ты человек, Руля. Кибернетика, ЭВМ, компьютер, как они говорят.
— Компьютер? — переспросила Лариса, — какое–то наглое слово.
— Английский язык вообще наглый, язык победителей. А дело в том, что все изображение разлагается на мельчайшие цифры, и потом их можно складывать как тебе угодно.
— Это мы народ победитель. — Сказала Лариса, глядя на кудряша очень строго.
— Да, да. Это возникающий бизнес, вот что главное понять. Можно будет вмешаться в любую картину. Можно, чтобы в «Бриллиантовой руке» Никулин успел переспать с Еленой Сергеевной до того, как ввалится Мордюкова с несчастной Гребешковой, а? Чтобы Штирлиц не пялился на свою жену через весь кабак. Там целых десять минут впустую, и без увеличения метража можно дать им пообщаться в отдельном кабинете, а? Насколько лучше бы штандартенфюрер шпионил бы после оргазма!
Глаза Плоскины сверкали. Руля скучающе зевал.
— А можно, чтобы Чапаев не утонул, выплыл? — Спросила Лариса.
Плоскина просто махнул рукой в знак согласия, мол, можно.
— А в чем бизнес? — Спросил Рауль.
— Вот, я знал, что среагируешь, Руля.
— Ну, так в чем?
— А сценарии?! Сейчас эта электроника страшно дорогая, и по карману только здоровенным киностудиям, а там еще не просекли всех возможностей. Надо все запатентовать, составить банк сценарных предложений, и лет через пять озолотимся.
— А зачем Голливуду «Бриллиантовая рука»?
— А мы будем корежить «Встречу на Эльбе», например.
— То есть, встреча не состоится?
— Критиковать всегда легче.
— Наши пойдут до французского Бреста, а американцы до белорусского?
Плоскина скорчил брезгливую рожу.
— Темный ты человек, Руля.
Рауль зевнул и допил вино прямо из горлышка.
— Торгуй лучше тем, чем торгуешь, сценарист. Пойдем.
Они поднялись на второй этаж и долго рылись в собранных там церковных древностях. Лариса сначала напряглась, вдруг они там рассмотрят что–нибудь такое! Какое?! Даже если бы они застали там пузатых, спящих навзничь крестоносцев, что бы это доказывало? В общем, Лариса не желала разоблачения, но, вместе с тем, не испытывала ни малейшего чувства вины, или хотя бы морального неудобства. Когда все ЭТО случилось, она считала себя брошенной. И потом, ЭТО виделось ей чем–то настолько несущественным, что легко выносилось за скобки ситуации не изменяя формулы отношений.
— Лара!
Лариса даже не подумала откликаться на этот крик. Да, она ни до какой степени не чувствовала себя виноватой. Скорее, наоборот, оскорбленной. И считала, что Руля не должен был бы ей хамить своими грязными намеками.
Он появился на верхней ступеньке лестницы. Хотел опять что–то крикнуть, но не стал. Спустился медленно вниз, подошел вплотную, спросил негромко, почти шепотом.
— Так Конь приезжал или нет?
— Какой еще конь?!
— Здешний.
— Послушай, а ты не хочешь извиниться?
— Извини, — криво усмехнулся.
Поцеловал холодные, восковые губы.
— Ты притащил меня в эту грязную…. и я еще виновата?!
— Ты же знаешь, ТАМ оставаться было нельзя. Я не мог терпеть, чтобы тебя оскорбляли.
— Я бы потерпела.
— Ради чего?
— Тебе не понять, Руля.
— Я не могу допустить, чтобы моей женщине хамили.
Лариса выдержала короткую паузу.
— И тогда ты решил мне хамить сам!
— Извини, действительно, скотина. Просто замотался. Все неясно. И с Конем не договорился.
— Никакого Коня здесь не было.
— Да я понял.
— То есть, мы здесь на птичьих правах?
Руля вздохнул.
— Нам необходимо здесь задержаться. На некоторое время.
24
Стали жить.
Чтобы сделать существование в помещении просто переносимым, Лариса взялась за тряпку и веник. Начала же с постели. Пропылесосила диван, отыскавшейся в скрипучем шкафу «Ракетой», которая, кстати, и рычала как ракета при работе. Извлекла из чемодана комплект маминого дареного белья. Затем продолжила расширять территорию вокруг очага образцового домоводства на все домовладение. Окна и полы, порядок на подоконниках, и на лестнице на второй этаж, которая ожила и задышала чистым деревом. И опять–таки санузел. Прежде чем его прибрать, пришлось его чинить, как и на прошлом месте. Жэковский сантехник скептически хекал, что–то перевязывая старым капроновым чулком в бачке.
И, наконец, батарея бутылок. Лариса ополоснула каждую, и не просто ополоснула — добилась единообразного сверкания всех. И в тот редкий час, когда солнце, прострелив между углом жилого дома и липовой кроной, на три–четыре минуты проникало через освеженное окно внутрь мастерской, что–то даже праздничное появлялось в облике стеклянной колонны на полу.
Она умудрялась отсиживать свое и на семинарах, и на лекциях, и после семинаров и лекций успевала залететь в магазин в соседнем доме, так что замотанный Руля всегда бывал накормлен и вкусно, так что его к исходу дня обязательно тянуло на постельные подвиги. Он стал даже еще более жаден, чем прежде. В том, как он насыщался своей возлюбленной, появился даже оттенок какого–то невнятного трагизма. Видимо, из–за контраста между силой желания и убожеством обстановки.
От разговоров «о будущем», Руля уходил, и его вроде бы можно было понять — «замот, полный замот!» И он и Плоскина, и другие фарцовщики ждали Коня, который по всем расчетам уже должен был вернуться из экспедиции. «А что, — хихикал Руля, нам и здесь неплохо. Никто хотя бы глаз не колет», — когда Ларисины вопросы становились особенно настойчивы.
Когда не было Рули почему–то всегда появлялся Маркс, то есть Пит. С разными друзьями. Причем, он все время спрашивал Рыбу. Вел он себя, несмотря на любое количество выпитого, теперь очень даже цивилизованно, ни малейших поползновений в сторону юбки хозяйки. Они как–то легко и просто сделались друзья и собеседники. Пит был в отличие от Рули реально информированным человеком, в МГИМо он изучал «атомное право», неизбежно должен был стать большим экспертом в области охраны интересов СССР, но по ночам жадно слушал враждебные голоса, «Свободу», «Голос Америки». «Чтобы быть в курсе дела». Он часто соглашался с ними, но при этом неизбежно оставался при мнении, что они там все равно все «враги и гады».
Приятели Руля тоже были полностью в курсе радиотайн, но выводы делали на удивление другие. Перед Западом самым настоящим образом низкопоклонничали, и проникались все более густым отвращением к системе, в которой вынуждены были функционировать. Песни Плоскины о запредельных «тамошних возможностях» томили их невыездное воображение.
Позиция Питирима нравилась Ларисе как–то больше. В основном, потому что он относился к ней всерьез как к собеседнице, не ленился, даже загрузившись бутылкой портвейна, а то и двумя, объяснять ей детали налета израильской авиации на иракский ядерный центр, и причины нашего невмешательства в этот конфликт.
Приятели Рауля всегда кривили рыла, когда Лариса пыталась вставить свои двадцать копеек в их перманентный треп на политические темы. Это особенно обижало, потому что по ее представлениям их тряпичные разговоры, до уровня политических полетов Пита не дотягивали, фарца скользила по поверхности. «От пачки «салема» до Иерусалема».
И еще у Питирима была «духовность».
От него так приятно, успокаивающе пахло православием. Причем, православие его было не отсталого, затрапезного домашнего образца, не такое, чтобы его тихо стыдиться, пряча крестик под ладошкой.
Это было нечто очень продвинутое, «клевое», не джинсы, не сапоги на «манной каше», и даже не стереосистема «грюндиг», а что–то «об настоящем».
Особый акцент всей этой несомненной, и солидной и одновременно наимоднейшей «духовности» придавало то, что ей предавался не просто умный отпрыск влиятельных московских родителей, а сын советского космонавта, человека побывавшего в небе по–настоящему. Значит, тут наверняка что–то есть.
У Пита было очень много самых разнообразных связей и контактов, поэтому Лариса нисколько не удивилась, когда, столкнувшись во время очередного посещения мастерской с Рулей, они друг друга и узнали и даже дружелюбно поприветствовали.
Пит, достал из сумки две бутылки великолепного крымского хереса, поставил на стол, и весело предложил.
— Выпьем с гоем, где же кружка!
— Ты бы стучался, а то сорвал нам всемирный заговор, когда мы теперь соберемся. — Сказал, зевнув, Плоскина.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Пит давно и даже регулярно отоваривается по каналам Рауля, потому что привык к одежде хороших сортов, поступающей только «оттуда».
— Что Рыбу ждете? — Спросил Пит
— Да, Коня. — Кивнул Руля.
— Где скачет теперь эта Рыба?
Выпили по стакану, по второму, Лариса носилась с кухни к столу и обратно.
Когда кончился херес, Рауль достал из шкафа две литровых бутылки «рикадонны». Кстати, купленной накануне без всяких фарцовочных ужимок в «Новоарбатском» гастрономе. Когда заканчивалась вторая, вдруг со стороны двора послышались неизвестные звуки. Они нарастали, вырастали в размерах, как будто в узкий темный двор медленно вдвигался ржавый паровоз, цепляясь боками за стены.
Мужчины вскочили с мест и побежали вон из мастерской. По возгласам было понятно — явился «Он!»
Через пару минут во дворе стоял задним бортом к дверям старый грузовик, еще из тех, что назывались «Зис», рукоположенный еще самим Сталиным. И еще там стоял сильнейший снегопад. Такой пышный, «прежний», не соответствующий стилю хилых московских зим. Как будто и он тоже был доставлен сюда на допотопной машине из медвежьего угла.
Борт грузовика с грохотом отвалился, и началась суетливая разгрузка. И Руля, и Плоскина, и вдруг оказавшийся при этом усатый парубок из Жировиц, и Энгельс, и сам Пит начали сновать туда–сюда со стопками черных квадратных досок. Прибыла новая партия икон.
Командовал этим процессом неприятный гнусавый голос не входивший из под снегопада внутрь. Каждому из добровольных носильщиков доставалось в меру грубое народное ругательное определение. Многие из них Лариса слышала впервые, или в другом варианте. Очевидно, хозяин мастерской вывез с Валдая не только иконы, но и исконные слова. И тому и другому он был теперь полновластный владелец. Чему они там теперь молятся, и как ругаются, устало подумала Лариса, усаживаясь в стороне от общего радостного ажиотажа, на постель покрытую маминым покрывалом. Единственная территория, где она чувствовала себя на своем месте.
За иконами пошли паникадила, так она их называла про себя, а может, вовсе и не паникадила. Церковь с матом восставала из снегопада, и устремлялась вверх, на антресоли. Причем, все работники, не взирая на количество выпитого, двигались так, что никто ни разу не нанес даже микроскопического вреда бутылочной колонне.
Лариса прилегла, не от усталости, а просто для того, чтобы что–нибудь сделать. Когда в первый раз приоткрыла глаз, движение продолжалось, и каблуки долбили половицы. Во второй раз уже обнаружила себя в одиночестве, окруженной тишиною первого этажа. На втором горели огни, как–то отдаленно, как в мартеновских печах в Краматорске, и бродили разговоры. Делили добычу.
В центре внимания был все тот же гнусавый голос, со свитой не городских ругательств.
— Захожу, кидаю палку, и старуха готова. Редко две, если бабка совсем уж лютая.
— За палку, за одну палку? — Спрашивал Плоскина таким тоном, будто сам собирался попробовать себя на этом поприще.
— Да они рыдают, когда расстаются с ними, кто от горя, кто от благодарности. Они же по пять лет ничего такого не видели, может от самого НЭПа.
Общий, разноголосый хохот. В этом месте Ларисе вспомнился, совсем уж непонятно почему, сон Татьяны. Причем, вспомнился с отвращением, и она снова, гигиенически уснула, оставляя шабаш наяву, там, на втором этаже.
— Пошел вон! — Резко сказала она мужской руке будившей ее. Кто бы он ни был — всю рожу расцарапаю! С таким решительным решением проснулась она. — Скоты!
— Собирайся! — Громко прошептал Рауль. — И тут же убежал наверх, где гремел скандал.
Лариса села на краю дивана. В полузамерзшее окно пробивался лунный луч и рассыпался бликами по бокам валяющихся бутылок. Ей все стало понятно. Кто–то рухнул с лестницы в толпу тары. Как только она этого не услышала.
Наверху опять появился Руля.
— Собирайся! Совсем собирайся!
Она растеряно встала.
— Куда?
— А я откуда знаю?!
Она опять села.
По ссорящимся голосам определить, отчего весь сыр–бор, было невозможно.
По лестнице покряхтывая спустился Пит, проследовал в туалет, устроился там, не зажигая света, и, не закрывая двери, и долго вышивал струей по звонкому унитазу.
Вернулся, сел рядом с Ларисой, отчего диван опасно качнулся.
— Ладно, поедем.
— А Руля?
Пит крякнул и прыснул.
— Все поедем.
25
Оказалось, что за пределы Москвы.
— Малаховка. — Махнул беззаботной рукой Питирим, когда маленькая толпа выкатилась из промерзшей электрички на завьюженную платформу. Редкие железнодорожные огни разрозненно боролись с всесильной загородной тьмой. Угадывались ряды погребенных под снегом домов, кроме того — заборы и собаки. И все. В общем, Малаховка.
— Я точно не помню, где он живет, но он будет рад. — Объявил Питирим, и они двинулись цепочкой по неуверенно протоптанной тропе в сторону затаившегося поселка.
Ларисе все это не нравилось, но она понимала, что никакие ее возражения не будут приняты во внимание. Что–то отвратительно символическое виделось ей в этом акте покидания столицы, а ведь столько было вбухано сил в то, чтобы остаться внутри нее. И все, кажется, зря. Рауль и Плоскина брели поскуливая но только лишь от холода, а не от отчаянья. Пит и Энгельс бодро вертели бородами и чемоданами, и что–то бубнили как им казалось остроумное, и даже подходящее к случаю. Легко им, думала Лариса, легко им с таким количеством вермута внутри, да еще притом, что они в любой момент могут вернуться обратно.
— А кто он? — Осторожно поинтересовалась Лариса у могучей спины Пита.
— Да, скотина, в общем–то. — Сообщил он. — Мародер. Понимаешь, он закупает где–то на мясокомбинате несколько ящиков просроченной сухой колбасы и дует в какое–нибудь кислое Нечерноземье, и там у бабок за палку колбасы выменивает иконы, утварь. Пользуется голодухой. Не всегда это, конечно, такая уж ценность, но всегда вещи родовые, от дедов–прадедов. Скотство! И фамилия жуткая — Рыбоконь.
— А ты с ним пьешь! — Вдруг дернул за моральную струну Плоскина.
— А ты вообще скупщик краденого. — Вставил Энгельс.
— Какого черта я с вами потащился. — Вздохнул скупщик.
— А тебя никто не связывал и не пытал.
Плоскина потащился вслед за всеми из чувства товарищества — нас выгнали всех вместе — а теперь вдруг понял, насколько это ложное чувство. Он обернулся, взвешивая, не рвануть ли обратно, но одумался, настолько безжизненным казался окруживший их мир. Рауль, думавший, видимо, о чем–то похожем, громко шмыгнул носом, и обреченно побрел вглубь спящего поселка.
— Я не про Рыбоконя. — Сказала Лариса. — Я про нового хозяина.
Питирим поставил чемодан с имуществом переселенки, хватанул свежего снегу с сугроба и напал на него волосатой пастью. Глядя вслед слегка оторвавшимся фарцовщикам, сказал.
— Человек гостеприимный, но с прибабахом. Душа широкая, ласковая, но немножко мудак. Ладно, пошли, все равно больше некуда. Главное сейчас вообще его найти. Электрички уже не ходят.
— А ты адрес знаешь?
— Я примету знаю.
— А если ее снегом занесло?
— Тогда еще виднее будет. — Непонятно объяснил косноязычный Энгельс.
И тут же они увидели, что Рауль и Плоскина обернувшись, машут им восторженными руками.
— Нашли! — Опять непонятно, но удовлетворенно сказал Энгельс.
— Смотри! — Сказал Питирим Ларисе. Она посмотрела, куда указывалось, и на время забыла, какую терпит жизненную неудачу в настоящий момент. Над довольно высоким деревянным забором, такие обычно называют глухими, виднелись разного размера, но в основном, огромные, неподвижные фигуры. Каменные. В неаккуратно надетых белых папахах и башлыках.
— Это кто? — Вырвалось у Ларисы, хотя она его уже узнала.
— В ма–авзолее, где лежишь ты, нет сва–абодных мест… — Отвратительно коверкая ноты запел Пит, и даже попытался станцевать с чемоданами в руках.
— Сколько их?! — Восхитился Плоскина.
— Во, — ткнул в него пальцем Пит, — уже думает, кому бы загнать. Это, брат, не иконы.
— Скульптор живет. — Объяснил Энгельс Ларисе, — Заказы.
— Тринадцать Лениных, — Пит сел на чемодан, как носильщик доставивший клиента на место. — Тайная вечеря, прости господи, и это не считая обрубков, бюстов. Их там полный двор, как баранов.
— Нам сюда? — Деловито спросила Лариса.
— Нет, нам к соседям. — Энгельс показал на усадьбу стоявшую забор к забору с ленинским заповедником.
— Там еще смешнее. — Хихикнул Пит.
26
События предыдущего дня утомили Ларису, она так решительно отвергла поползновения Руля, что он чуть не расплакался. Хотя им выделили вполне изолированное помещение, она не желала больше примитивной походной любви. И дала это понять маменькиному сынку максимально понятным, хотя и суровым образом. «Пока мы не вернемся в нормальные условия, даже не мечтай».
Он скулил, скулил, а потом скрипнул зубами и ушел пить с мужиками.
Проспала она до позднего утра, и, проснувшись, никого из вчерашних своих спутников под крышей нового приюта не застала. Она бы вообще не встала, и провалялась до вечера, такое у нее было настроение. Но этому плану мешали две вещи. Во–первых, медвежья шкура, занимавшая центр их с Раулем комнатки. Она пахла. Не очень сильно, но очень неприятно. Запах был какой–то не вполне мертвый, и возникало такое ощущение, что от этой шкуры можно ждать каких–то выходок. А во–вторых, и это было намного главнее — Ларисе хотелось в туалет.
Она встала. Оделась, стараясь не наступать на шкуру, и вышла в «залу». Там имелась печь, большая, белая, русская — подумала Лариса с непонятным чувством — и длинный, деревянный стол, на стенах висели аксельбантами низки лука, чеснока, белых грибов, целебных трав. В печи уютно копошился огонь. Стены и потолок были обиты сплошь вагонкой, да еще обработанной морилкой, отчего казалось, что это не малаховская изба, а янтарная комната.
— Утро доброе! — Послышался сзади голос хозяина.
— Доброе утро.
Рослый, широкий мужик лет сорока, без бороды, и без других особенных признаков радикального народничества, в стеганых штанах, в меховой безрукавке, лицо круглое с одной вертикальной морщиной между бровей. Было понятно, что самое главное помещается там.
— Вон рукомойник, там ведро, я отвернусь. Если стесняешься, нужник во дворе.
— Я стесняюсь. — С достоинством сказала Лариса, и выскочила в сени, а из них на улицу. Вчерашний морозец спал, мир потерял жесткость, рыхлые снежинки рассеяно падали на вчерашние сугробы.
Нужник Лариса увидела сразу, и его вид ее сильно озадачил. Дорога к нему была завалена как горный перевал. Чтобы воспользоваться удобством, нужно было сначала пробиться через лавину. Квадратная деревянная лопата торчала из ближайшего Эльбруса. Работы минут на двадцать. Лариса огляделась в поисках какого–то укромного местечка, но услышала за спиной скрип сенной двери.
Ничего не оставалось, как взяться за лопату. Для крепкой и заинтересованной женщины десятиметровая просека в легком, не слежавшемся снегу, задача не неразрешимая. Многое успела передумать Лариса за эти минуты. Думала о том, как это умудрились обойтись сегодня поутру без туалета все вчерашние мужики, которые к тому же еще полночи добавляли в янтарной комнате. Думала и о том, что вот опять, оказавшись на новом месте, она как всегда работает уборщицей. Для того ли ее рожала мать, и лелеял отец?! И три сессии на отлично она разве для этого сдавала?
Я приехала в Москву, чтобы ее прибрать?!
Нет, надо что–то делать.
Сегодня, когда явится Руля, состоится скандал. Главное, начиная скандал не надо думать, чем он завершиться, тогда победишь. Но одно решение можно принять прямо сейчас. Никакой сладкой постели для фарцовщика в здешних снегах, как и было заявлено вчера.
Уже добравшись до самой заветной двери, распрямившись, отбросив лопату и влажную прядь с породистого лба, Лариса поняла, почему туалет не был освобожден утренними мужчинами. Все досталось толпе лениных, примыкавшей к штакетнику с соседской стороны.
Хозяин стоял на крыльце и добродушно улыбался, как человек, чей план удался. Лариса поняла, что антикоммунизм может быть и таким, подзаборным.
Звали хозяина Виктор Петрович, был он пенсионер, а в прежней своей жизни имел отношение к кино. Заведовал районным кинопрокатом. То есть, трудился в той самой точке, где живая жизнь сталкивается с искусством. Отчего имел особую позицию по любому вопросу. На мир искусства он смотрел как бы из недр народа, а на народную жизнь поглядывал глазами человека приобщившегося к высокому.
У него была семья, и проживала неподалеку, в пятиэтажке за две улицы от усадьбы, но никогда никто из родственников в доме с русской печью не показывался, и можно было догадаться, что тому есть причины. Семью Виктору Петровичу заменяли «караваевцы». Группа людей, собирающихся в усадьбе на свои особые радения. С хлебом, или с играми — каравай, кого хочешь, выбирай — эти собрания не были связаны. Караваев был народным целителем, профессором и учителем жизни. Виктор Петрович одним из важных его последователей, малаховским гуру.
Лариса, сказать по правде, всяких сектантов опасалась, но очень быстро поняла, что в данном случае особо волноваться не стоит. Ничем страшным или неприятным в кружке кинопрокатчика не занимались. Засиживались за обширным чаем, обстановка была душевная: абажур, самовар, разговор. В основном на медицинские темы. Профессор Караваев вывел какой–то особый бальзам, настоянный на сорока кавказских травах, его невероятные целебные свойства и являлись основной темой обсуждения. А еще много говорили о планах на будущее лето, всей бригадой собирались податься куда–то под Дербент, где было множество нужных трав, и опасных змей.
— Что у тебя болит? — Спросил Виктор Петрович.
— Ничего. — Сказала Лариса, чувствуя, что разочаровывает хозяина.
— Все равно, по виду какая–то закисленная.
По теории Караваева весь вред в организме был от лишней кислоты, и надо было всячески бороться за щелочную среду в себе. Неправильное питание, гневливость, стяжательский взгляд на вещи очень способствовал закислению. А там и до хвори недалеко. «У сволочи нет щелочи!», сказал Руля, когда Лариса вечером в постели пересказала караваевскую теорию, твердо отказав перед этим в ласках. «Ты зря над ними смеешься!» — почему–то обиделась Лариса, хотя и сама считала теорию эту скорее бредом.
Руля уже обижено спал.
Скандала не получилось. И на следующий день, и на третий. У Рули были трудные дни, он страшно уставал, и в доме Виктора Петровича чувствовал себя совсем уж на птичьих правах. Он трагически тряс очкастой головой — «как меня угораздило сюда занестись?!» Лариса заметила ему, что им просто нужно собрать чемоданы сесть в машину и вернуться в Староконюшенный переулок, и «этот дурдом» прекратиться. Ну, хорошо, пусть не сразу Староконюшенный, пусть какая–нибудь съемная хата для начала, возвращение будет не победным, постепенным.
— Слушай, я опять сегодня колола дрова и таскала воду?
Рауль раздраженно катал голову по подушке пахнущей сухими народными травами.
— Не таскай.
— Не удобно.
Питирим залетал пару раз, Виктор Петрович угощал его самогоном, по целебности не уступавшим бальзаму. «Ну, как ты тут?» — спрашивал он, и никогда не ждал ответа. Да, Лариса и не спешила откровенничать. Не с ним же было заводить разговоры о более подходящем жилье, он и так выручил. Насколько смог. И потом, если она начнет говорить с ним о квартире, она как бы узаконит тот их небрежный грешок в мастерской Рыбоконя. И тогда возникнет предательство по отношению к Руле, которое без этого как бы и не считается.
Пит объяснял, что Виктор Петрович «не такой уж и чайник», что за штука этот бальзам сказать трудно. Но кому–то помогает.
— Видела мужика, вот только что ушел, в сером пальто, в углу сидел?
— Ну?
— Генерал полковник. Комитета.
— И что?
— Одного легкого нет. Саркома. А Петрович стабилизировал процесс. Главное не закисливаться. Видела, как он, генерал, сидел? Как мышка, а как привык командовать, представляешь? А Петрович его приструнил, хочешь жить, не закисливайся. Веди себя как человек. И таких тут хватает. С чинами. Петрович — учитель.
Всю эту теорию Пит развивал, дыша веселым перегаром, и было не понятно до какой степени он во все это верит.
В тот вечер собралась компания человек из пяти. Лариса даже не пыталась запоминать людей появлявшихся под абажуром и вникнуть в принцип ротации заведенный в этой компании. Она готовилась к разговору с Рулей. Готовилась каждый день, и всякий раз оказывалось, что подготовилась недостаточно. Он являлся все позднее, и в состоянии все большей проваленности в свою прострацию. Дела у него шли хуже и хуже. Возникли какие–то долги. Причем, большие. «Понимаешь, я вложился, а оно вон как. Все эти иконы».
Лариса попыталась вытянуть из него подробности. Что иконы? Какие иконы? Ах, Рыбоконь.
— Да, он! Эта скотина обломала все контакты. Теперь Плоскина требует все назад.
— Ты же говорил, что Плоскина болтун
— Он–то болтун, но за ним такие стоят люди…
— А в чем дело то?! Из–за чего?!
Руля всхлипнул и отвернулся.
— Говори, ты что–то недоговариваешь!
— Да, эти дурацкие бутылки.
— Какие бутылки?! Ах, бутылки? Да, я их помыла. Неужели, из–за этого, это же чепуха! Просто пыльные бутылки!
— Ты смыла этикетки.
— Что?!!
Понимаешь, это у него, у Коня как память. По этим этикеткам он помнит свою убогую жизнь, понимаешь? Медитирует. Фетиш у него такой. Семьи нет, друзей настоящих нет, только бутылки дают ему внутреннюю устойчивость. Глупость, конечно, урод человеческий, но как увидел, аж взвился, за топор хвататься…
— Ты серьезно? Никто не предупреждал. Я хотела как лучше.
Рауль глухо отвечал в подушку.
— Да понимаю, понимаю все.
— Он же просто придрался.
— Понимаю, все понимаю, только я теперь без копья. А отдавать надо.
— Так ты считаешь, что я виновата?
— Нет, конечно.
— А сколько ты должен?
— Лучше не спрашивай.
— Нет, ты лучше скажи.
— Тебе–то зачем?
— Нужно.
— Если задумала продать корову — не надо. Не хватит.
— И все–таки.
Но он уже спал. Полночи Лариса прикидывала, сколько надо взять денег у родителей. Сколько это «много», по московским меркам? У нее зажиточная офицерская семья. Батьки, как говорят в Белоруссии, ударение на последнем слоге, напрягутся. Это будет полноценное приданое. Честно говоря, Лариса, думала именно это, но внутри у нее выходило как–то не так цинично. Ее финансовая помощь Руле представлялась ей скорее романтическим актом, и она виделась себе как минимум Евгенией Гранде.
На следующий день она пошла на телеграф и отстучала родителям чудовищный текст, из которого следовало, что они должны собрать все имеющиеся у них средства, в противном случае их дочь ожидает нечто ужасное.
Можно себе представить, каких размеров паника охватила Принеманье.
27
Руля отсутствовал два дня, а когда явился, был заметно худее себя обычного, и вчетверо менее общителен, чем обычно.
Из этого мог быть сделан только один вывод — ситуация ухудшилась.
Он прокрался в дом незаметно, Лариса обнаружила его в комнате только зайдя. Он лежал навзничь на кровати, одетый
Говорить с ним не имело смысла.
В тот вечер Виктор Петрович как всегда сидел на дальнем краю овального стола и гостеприимно лоснился, он был весь из округлостей — щеки, лоб, подбородок, даже пухлые кисти рук чуть светились бледным янтарным светом.
Гости пили водку и чай. На столе были сушки, карамельные конфеты, селедка и домашние соленые зеленые помидоры с толстой кожурой. Лариса как–то попробовала, чуть не сломала зуб. У них дома помидоры готовили по–другому, чтобы шкурка лопалась от прикосновения губ.
Гости в основном слушали, про Караваева, про опасность закисливания. Толстяк в железнодорожной форме даже записывал. Одной рукой все время вытирал пот с кадыка, а второй строчил в маленькой книжке. А один гость был нервный. Чувствовалось, что он привык выступать сам, с трудом терпел чужое солирование, и все время норовил вставить свои двадцать копеек, мол, мы тоже читывали книжки. Худобой был похож на ощипанного гуся, часто вскакивал и делал пробежку вокруг стола, держа руки в замке за спиной и кивая каждому своему шагу. Кривая улыбка навсегда застыла у него на губах.
Ларисе было тоскливо за этим столом. Хуже было только в комнате под лестницей рядом беззвучно рыдающим Рулей. Перемещалась туда и обратно, и там, и там помалкивая.
— Гурий Лукич, садись, милый.
Гусь присаживался на одну ягодицу, готовый взвиться при первой же неприемлемой фразе.
«Что я здесь делаю, это какой–то сон. Длинный, мутный сон с туалетом на улице».
— Может выйдет к нам? — Спросил Виктор Петрович на всякий случай, как спрашивал всегда. Лариса пошла, спросила — может выйдешь?
— Выйду. — Вдруг сказал внук академика.
Руля пришел не один, с бутылкой какого–то иностранного пойла. Бальзам «Абу симбел». Этим бальзамом, представлявшим собою что–то вроде расплавленного асфальта, и дорогим, по пять с полтиной, португальским портвейном были забиты тогда все московские магазины.
Караваевцы некоторое время недоверчиво смотрели на нагловато пузатую емкость. Смотрели на Рулю, он выглядел плохо, подавленный, растерянный человек. Но если просит выпить с ним, уважим. Выдвинули лафитнички навстречу подношенью.
Руля разлил маслянистую жидкость расслабленной, несчастной рукой.
Возьмет коровьи деньги, возьмет, подумала Лариса. Никуда он не денется от ее спасения
Караваевцы выпили.
Все сидели намертво сжав губы и выпучив глаза. И железнодорожник, и хозяин, и Гурий Лукич. Учитель Вахин вообще держал рукав пиджака прижатым ко рту. Лариса ждала, кто первый произнесет неизбежную фразу, что все это заграничное пойло дрянь, водяра все равно продирает сильнее. Аравийский бальзам пока не давал начаться патриотическому разговору.
Железнодорожник, показывая, что самый железный среди всех, взял бутылку за горлышко и поднес к глазам, загоняя свободной рукой очки на лоб.
— Откуда это? — Спросил он, вдумчиво покосившись на поникшего гостя.
Руля объяснил про совестко–арабскую дружбу.
— Сколько стоит?
— Мне подарили. А так, шесть пятьдесят.
— А-а. — Протянуло сразу несколько голосов и все с облегчением. Считай в два раза дороже водки.
— Да, недешево нам дается эта арабская солидарность. — Ввернул в своем стиле Гурий Лукич. Но тут же поправился, в том смысле, что все равно это нам необходимо в свете борьбы с израильским милитаризмом. Лариса обрадовалась этим словам, сейчас тихо обидевшийся Руля отчалит от политизирующегося стола и она сообщит ему, что спасительные финансовые фонды формируются. Она вдруг почувствовала себя способной к этому разговору, как будто сама чего–нибудь выпила.
Цапнули еще по рюмке бальзама, опять преодолевая неприязнь арийского организма к семитическому продукту. Стали наливать по третьей. Лариса перешла к решительным действиям, взяла фарцовщика за колено, и дернул в свою сторону так, что скрипнули ножки стула под ним. Мол, хватит, пошли! Он все понял и покорно поднялся.
Караваевцы с классическим мужским сочувствием во взоре поглядели на него. Что ж, хоть он и носитель чуждого бальзама, но все равно же жалко парня.
В комнатухе Рауль рухнул, опять навзничь, на застеленную кровать с таким видом, что больше от него ничего никому не добиться.
— Так, — сказала Лариса, упирая руки в боки, зажмурившись от решимости осчастливить и чувствуя, что у нее глаза жгут изнутри веки, как у Анны.
— У меня отец умер. — Простонал Рауль.
— Раковая шейка?
Руля поднял с лица свои тяжелые очки, подержал их в воздухе, как бы давая выплеснуться на волю немому отчаянью, и опять вернул на переносицу. Но не попал точно. Они лежали теперь на его лице косо, и это символизировало насколько ему не по себе.
Лариса молчала. Она была, конечно, в смятении. Но не в отчаянье. В голове шло какое–то бурное конструирование возможного будущего. Она представила себе квартиру на Староконюшенном без трагической колесницы академика. Да, сказала она себе, мне должно быть стыдно, старичок хорошо ко мне относился. Но так уж устроена голова человека. Случись ей ухаживать за ним, она бы делала бы это с последней дотошностью, но, подавая своевременное лекарство, помнила бы насколько его смерть улучшит ее жилищные условия.
Сволочь я, да? Но только ведь не в этом дело, как вы не можете этого понять?!
— А ты почему здесь?
Рауль поправил очки.
— Я к тебе приехал.
— Жид! — Донеслось из большой комнаты. Лариса дернулась, оборачиваясь.
— Ложись ко мне. — Прошептал Руля.
Вот, черт! Да, она дала себе слово, что ничего не позволит своему «муженьку», пока он не вытащит ее из этой незаслуженной ссылки. Но кто мог знать, что наступит такая ситуация — отец умер…
— Я закрою дверь плотнее. — Лариса повернулась к неплотно закрытой двери.
— Не надо. Ложись.
Он говорил слабым голосом, уверено, но в нем слышалось убеждение — его пожалеют. Лариса еще ничего не решила, она просто хотела оградить их с Рулей от доносившихся из за двери звуков.
— Жид!
Да, что они там, совсем, что ли! Лариса никак не могла решить куда ей: захлопнуть дверь, или сесть на кровать.
— Иди ко мне.
Не столько даже из жалости, сколько в возмещение душевной травмы наносимой Руле этим жгучим словом, Лариса переступила через свой запрет.
— Обними меня. Только крепко. Гандболисточка моя.
Доносившиеся из залы возгласы не имели прямого отношения к Раулю. Шел серьезный мировоззренческий разговор. Караваевцы и железнодорожник и друг его, и учитель Вахин, оттолкнувшись от факта арабского бальзама, перешли быстро к арабо–израильскому конфликту, а там уж и до всего остального было не далеко. Вгрызлись в тему по серьезному. В центре разговора был, конечно, хозяин, никто не оспаривал его высшего экспертного положения. Называли по очереди имена известных в стране людей, а Виктор Петрович, поразмышляв несколько секунд, выносил свой вердикт.
— Хазанов?
— Жид.
— Ну, ладно, а Леонид Броневой?
— Жид!
— Но он же гестаповца…
— Жид!
— А Кобзон.
— Ну, ты спросил.
— А Пугачева?
— Жид!
— Она же…
— Жид!
Виктор Петрович говорил весомо, даже с перевесом, вердиктно, и после его слова проблема казалась раз и навсегда решенной.
— А Высоцкий?
— Жид!
Гости помолчали некоторое время. Им не хотелось этой правды.
Лариса жалела, что послушалась Рауля и не закрыла дверь. Во–первых, было немного неудобно, вдруг эти там за столом поймут, что у них здесь в темноте происходит, а потом, все эти «жиды» казались ей совсем уж лишней специей в сбиваемом ими с Рулей любовном напитке. Несчастный, пьяненький сирота трудился над слиянием их тел так преувеличено, и с таким надрывом, что происходящее казалось ей переходящим в чуть ли не в извращение. Да, конечно, он мстит за то, что слышит. Евреи не любят ушами. Но она то здесь причем? Пока они лежали жалобно обнявшись, она чувствовала, что у них с неудачливым фарцовщиком есть что–то похожее на крохотную общую душу.
— Успокойся. — И погладила по голове.
— Тебе хорошо со мной?
Прежде он никогда не задавал этого вопроса, и Ларису все это время немного задевало то, что он, по всей видимости, считал, что она в непременном и постоянном восторге от него как от любовника. И, таким образом не считает предоставляемые ему сексуальные услуги таким уж драгоценным даром с ее стороны.
— А Андропов?
— Жид. — Каким–то окончательным тоном сказал Виктор Петрович.
— Бро–ось. — Сказал то–то.
И тут нашел для себя повод взвиться и Гурий Лукич.
— Фамилия его настоящая знаешь, друг ситный, какая?!
И они унеслись в глубины истории.
— Каменев? Зиновьев? Фрунзе?
— Нет, нет, нет, — кричал Гурий Лукич. Настоящая фамилия Фрунзе — Бишкеков.
— А Ленин?
Виктор Петрович сам налил себе бальзама. Медленно выпил, чмокнул слипающимися от уверенности губами.
— Жид!
Учитель Вахин схватился за голову. Гурий Лукич тоненько смеялся, тыкая в него пальцем, мол, святая простота.
Руля липко всхлипнул в большое теплое плечо подруги. В первый момент Ларисе показалось, что это иронический смешок. Хотя это мог быть и обессиленный всхлип.
Она резко и решительно встала, натянула джинсы на голые ягодицы, обрушила сверху водолазку, как бы драпируя выставку цветущей плоти, как бы объявляя траур по какому–то вдруг умершему чистому чувству.
Рауль ни единым звуком не прокомментировал происходящее.
Но Ларисе никакие его соображения в данный момент были и не важны. Она двинулась к двери, оттолкнула ее властным коленом и через секунду уже сидела за столом. Как Володя Шарапов на малине у горбатого.
— Как вам не стыдно! — Сказала она, устремив суровый взгляд на Виктора Петровича. — Что за дичь вы тут несете!
Все все поняли и без второй фразы. Русский человек, когда его застают за открытым актом зоологического антисемитизма, всегда смущается, даже в том случае, если считает себя по сути правым.
Виктор Петрович нахмурился, сдвинул брови и выдвинул нижнюю челюсть. Ему не хотелось чувствовать себя виноватым, но в данный момент он не знал, как словесно оформить свое несогласие.
Учитель Вахин тут же принялся придираться к обстоятельствам дела, что есть лучший способ уйти от сути его. Он забормотал что–то начет того, что подслушивать нехорошо.
И тогда на первый план выступил Лукич. Он медленно встал со стула и стал прохаживаться за спиною Виктора Петровича по короткой дуге, то, уходя в полумрак, то, оказываясь на свету. Он был похож на разумного гуся до такой степени, что Ларисе показалось, что ее слегка мутит.
— Конечно, конечно, я с вами согласен девушка, это нехорошо. Мы люди вообще–то культурные, не цари Ироды. Мы против, против оскорбления достоинства нации еврейского народа. Против! Это бескультурно, это средневековье… Но, неизбежное здесь встает перед нами «но», вспомните, вспомните…
— Что вспомнить? — Сурово спросила Лариса.
— Хотя бы последний «Голубой огонек».
— Зачем?!
Говорящий гусь сделал два особенно глубоких кивка всем телом.
— Я ничего, ничего не хочу сказать, повторяю, я ничего не хочу сказать, но вы же сами должны были обратить внимание. Кобзон, Хазанов….. Вы обратили внимание?
— Нет.
— И так большинство! Народ наш наивен как большой ребенок. А страна наша называется Россия.
— Страна наша называется Советский Союз. — Тихо сказала Лариса. Но гусь проигнорировал ее слова.
— И вот в этой стране России, на центральном телевидении нет ни одного русского человека. Я ничего не хочу сказать. Антисемитизм плохая вещь, скверная даже, но по чьей вине она возникает?
Ларису отчетливо мутило.
— Ответьте мне, уважаемая борец за права угнетенных выходцев сионизма.
Она встала и молча двинулась к выходу из избы. Вырвало ее на полдороге к ленинскому забору. Рот она прибрала свежим снегом, слезы лежали на щеках как слюда, звезды оказались висящими так низко, словно были заинтересованы в происходящем на этом малаховском дворе. Нет, негоже стоять по колено в снегу и хлестать желудочной жидкостью. Лариса отправилась к потайному, хозяйскому туалету, чтобы довершить процедуру очищения.
Когда она вернулась в дом, первым к ней подбежал Лукич, причем с сумбурными извинениями. Он пытался объяснить девушке, что «ни единого больше словечка по теме. Мы ни в чем тут все не виноваты. Верьте, мне верьте. Мы же думали — не слышно».
Лариса от него рассеяно отмахнулась, ей было довольно все равно, в основном хотелось лечь. Она вошла в «свою» комнату и плотно–плотно прикрыла за собой дверь. Разделась в беззвучной темноте. Первое, что поразило ее в тот момент, когда она легла, это ощущение абсолютно холодной постели.
Руля исчез.
Некоторое время Лариса лежала в темноте. Потом села. Очевидно под воздействием размышлений.
Зажгла настольную лампу, осмотрела комнату. Потом включила верхний свет и опять все осмотрела. «Жених» не захламлял «их» комнату своими вещами, поэтому она долго не могла понять, забыл он что–нибудь из них или нет. Ни сумки, ни галстука, ни рубашки. Ничего такого, что можно было бы привезти в Староконюшенный бросить ему в физиономию и сказать, что она о нем думает.
Она не знала, какими словами назвать случившееся, но зато точно знала, что он ее предал. И между ними все кончено. Было почти весело на душе. Решение принято. Хватит, эксперимент не удался, вернемся к высшему образованию. Очень не хотелось бы потерять повышенную стипендию. Это паукообразное в очках не стоит повышенной стипендии.
Лариса хищно прошлась по комнате.
Она была довольна собой, но немного недовольна ситуацией. Хотелось поставить эффектную точку. Даже необходимо было ее поставить. Невыносимо сознавать, что поганец Руля и его ненормальное семейство не знают о том, что она вынесла им окончательный приговор. Где и когда это произойдет?
Ждать сил нет!
Ждать, это пребывать в состоянии унижения, этого она больше переносить не могла. Столько месяцев переносила, а теперь не может, такой вот характер.
Господи, он ведь просто как раненая перепелка отводил ее как лисицу все дальше и дальше от дома. Чтобы «раковая шейка» умер не при ней. И у них не возникло общей беды с этим семейством, что сближает. Значит, вывозя ее в эту тундру, он уже решил для себя, что вывозит навсегда.
Не-т, она вернется.
Надо ехать и наносить последний удар прямо сейчас!
Она представила себе снежные малаховские тропы, прокаленую морозом электричку… И главное, нет аргумента, нет той перчатки, что бросают негодяю в физиономию. Жаль, что женщины не стреляются, она, офицерская дочь не промахнулась бы даже в этого мозгляка.
Чемодан!
Взгляд упал на чемодан, выглядывавший сытым углом из под свисавшей с кровати простыни, уже не хранившей никаких остатков выветрившейся страсти.
Господи! Вот что можно вернуть! Нужно вернуть! Это лучше перчатки, потому что больше. Этим можно так шарахнуть по лбу немилому лжецу. Ему будет не только стыдно, но и больно!
Но, одно но!
Чемоданы забиты породистым тряпьем. Жалко?! Стыдно признаться, но очень жалко!
Да, это грязные вещи, полученные в оплату за определенного вида услуги. Лариса посмотрела на простыню и передернулась вся. Ей уже трудно было представить, что все творившейся на этом куске нечистой ткани имело какое–то отношение к ней.
Единственный способ зачеркнуть всю эту грязь, и начать с чистого листа, это избавиться от этих «гонораров».
Лариса вытащила оба из под кровати, и большой и поменьше. Положила рядом, распахнула, еще не представляя, для чего это делает. Полюбоваться напоследок?
Не будем сходить с ума!
Без нескольких вещей из этой кучи грязных тряпок, она уже не представляла себе своего дальнейшего существования. Без ангорского свитера, без кожаных брючек… переберем содержимое как картошку в слонимском погребе. Через минуту чемоданы были уже пусты. Ни с одним из подарков она расстаться не могла. Кроме вот этой зеленой с черными вставками юбки, которая так толстит, и летних туфель зверски дерущих пятки. Но столько вернуть — явно мало! Имеет ли право униженный человек совершать неловкие поступки?
Нет, надо добавить.
Начнем с другой стороны! От совершенно не нужных, ко все более ценным.
Через полчаса борьбы между желанием быть гордой и не остаться голой, Лариса нашла какую–то середину. Резко вышла в общую комнату и грозно спросила.
— Который час?
Оказалось, что время детское, около восьми. Темнота за окном, это еще не настоящая ночь.
Гости Виктора Петровича собирались между тем расходиться. Медленно, будто двигаясь как растворе более плотном, чем воздух.
— Кто проводит меня до станции? — Караваевцы испугались. Они сознавали, что задолжали в каком–то смысле этой молодке, но у них не было в наличие валюты, которая бы сгодилась бы данном случае.
— С вещами. — Пояснила Лариса, придавая требованию не только моральный, но и практический аспект.
Повисла пауза, ей было на чем повисеть в пропитанном тяжелыми парами оранжевом абажурном воздухе. И тут раздался спасительный звук снаружи.
Учитель Вахин схватил Лукича за плечо, и толкнул в направлении звука.
— Пусть Васька.
Оказалось, сынок Лукича прикатил на «запорожце» для развоза заседателей.
Виктор Петрович очень медленно, почти беззвучно ударил кулаком по столу, мол, быть по сему.
По дороге Лариса скомандовала водителю, мелкому, востороносому, очень гусеобразному как и его отец пареньку, чтобы остановился.
— Есть две копейки?
Сунулась в автомат с навсегда отворенной, погрязшей в снегу дверью. Сам прибор выглядел страшно, в черных расцарапах, с примерзшей гречневой кашей в районе впускной щели для монет, с диском, двигающимся только под конвоем невынимаемого пальца, с проводом голым как почти полинявшая змея. Зато связь оказалась на высочайшем…
— Здрасьте дядя Ли, а я к вам. — Чтобы не успел отбояриться.
— Я ухожу Лара, я…
— Ключ под коврик!
— Нет! — Взвизгнул обычно жантильный конферансье, видимо имел основания не доверять коврикам. — У соседа будет, в семнадцатой. Я еду в аэропорт, за…
А это нам дядечька Лион Иванович «до лампады», как говорят в каком–то водевиле.
Вот он мрачный дом, где разрушаются браки, задуманные в Теплом Стане.
Только подойдя к парадному теперь ненавистного строения, Лариса вспомнила о смерти академика.
Все–таки, неловко как–то!
Хотя, не я же его убила, сказала она себе, понимая, что эта фраза из арсенала плохого человека. Но оскорбленной женщине позволено больше моральной свободы, чем принято думать, и простить ей придется больше, чем от нее соглашались ждать.
Консьержка, переименованная сердитым сознанием Ларисы в кочерыжку, растеряно ей улыбнулась. Не пустить не могла, хотя и не могла не знать, что высшей властью шестой квартиры девушка отлучена. Лучше прикрыться вязанием.
— Здрасссьте! — Просвитела Ларочка, накручивая себя против безропотной консьержки, чтобы было легче при наезде на Рулю. Лифт повел себя солидно, грюкнул, крякнул, доставил.
Встав перед проклятой дверью, Лариса сплюнула всю вертевшуюся в голове гневную словесную шелуху, больно надавила на звонок.
Довольно долго дверь не открывалась, уже почти наступил момент для повторного удара, когда открылась.
Навстречу из полумрака прихожей сверкнула тихая, безумная, и главное, очень знакомая улыбка.
Академик глядел вполоборота, он подъехал к замку боком, чтобы легче было дотянуться. Он был явно рад визиту Ларисы, даже сделал несколько знаков, показывающих это.
Пауза затягивалась.
Из глубины отмытой Ларисой квартиры донеслись чьи–то шаги и еще из–за шагов, совсем с другого края этого запущенного материка и голоса.
Тут Лариса поняла, что для разговора в такой ситуации она не готова, все наработки быстрых болезненных оскорблений сделанные во время путешествия из Малаховки, пришли разом в негодность, для вытачивания новых не было времени, да и не вызревают ядовитые колкости в атмосфере столь сильного удивления, в котором пребывала сейчас Ларочка.
Шаги были уже за ближайшим поворотом.
Поставила чемоданы внутрь квартиры, слегка толкнув колесное кресло, так что академик обратился взглядом во тьму внутреннюю своего идиотского дома.
Захлопнула дверь.
Вниз отправилась ногами. Как бы убеждаясь при каждом шаге, что сохранилась как личность.
На секунду вспыхнуло желание вернуться, и все же наскандалить.
Пожалела о чемоданах, как о зря потраченной причине для визита.
И тут же какое–то бессилие.
Укатали–таки сивку московские горки.
Лучшая, хоть и меньшая часть богатства была сдана по дороге в отдельной сумке в камеру хранения на Ленинградском вокзале.
Да о чем жалеть, сюда она ни ногой.
Хватит!
Хватит!
Навсегда хватит!
Консьержка закрыла форточку своей клетушки, чтобы не видеть, как она будет уходить.
Выйдя на крыльцо, Лариса пожалела, что не курит. Сейчас бы сигарету, и пощелкать зажигалкой, прищурив глаз.
Ладно, просто постоим, вдыхая мощный морозный воздух. На нем выращивают настоящих снежных королев. Унять дрожь в ногах.
В арке скрипнули тормоза, двор вспыхнул. Хлопнула дверь. Двор погас. Кто–то мелко хрустя снежком приблизился к крыльцу.
Лариса уже владела собой.
— Здравствуй, Руля.
Он был расслаблен, видимо сильно выпил в честь смерти своего дедушки. Прикрывал грудь прямоугольным свертком. Другой рукой искал на лице очки.
— А я пришла посочувствовать твоему горю.
— Врешь. — Сказал внук. — Ты всегда мне врала.
Лариса отставила по своему обыкновению крепкую ногу и расправила плечи, почувствовала, как похолодело у носа место гандбольной травмы.
— Ты всегда мне врала. Ты никогда меня не любила.
Что ответить на «врала» Лариса знала, но это «не любила», ее столкнуло с абсолютно выигрышной позиции. Этот мозгляк с очередной краденой иконой на впалой груди говорил ведь сущую правду. Она никогда его не любила, она хотела выйти за него замуж. Она была бы гарантировано верная жена, и родила бы отличных детей. Но не введешь же в спор эти аргументы, они могли бы стать реальностью лет через десять совместной жизни.
Еще не зная, что сказать, Лариса сделала шаг вперед, и тогда Руля вдруг заплакал, и сказал, отходя:
— Оставь, пожалуйста, в покое нашу семью.
Вот оно что. Он, оказывается, условно убил своего дедушку, чтобы перейти в состояние тех, кого надо пожалеть, и на этой слезной смазке ускользнуть.
Сзади хлопнула дверь, и раздался голос, который Лариса слышала не часто.
— Уходи.
Лариса обернулась.
Сестрица Нора своей неодетой персоной. Она держала в руках два тех самых чемодана. Лариса, чувствуя, что ее положение из изначально победительного превращается в положение изгоняемой со двора суки, попыталась пойти в контратаку. Не бежать же, поджав хвост. По Нору ей ударить было нечем, поэтому, получай Руля!
— Он сказал мне, что дед умер и лежит в морге.
Задумчивая женщина улыбнулась.
— Это я ему посоветовала.
— Зачем?
— Мы не знали, как от тебя отделаться. Рауль пожаловался мне. Мы давно не спим вместе, но остались родными людьми.
У Ларисы свело челюсти, она старалась смотреть одновременно на одного и на другого, у нее это не получалось, и это ее пугало, она боялась, что упускает самое главное.
Рауль не плакал, но лучше бы плакал. Такой абсолютной несчастности видеть Ларисе прежде не приходилось. Нога ее поехала по накатанному снегу, и она сделал тем самым приставной шаг в его направлении, он инстинктивно закрылся свертком, и прошептал.
— Не бей меня.
— Иди сюда. — Тихо, твердо, успокаивающе сказала ему Нора.
Он поднялся на крыльцо, она взяла его под руку, другой открыла дверь, и, входя в подъезд толкнула один из чемоданов, он покачался, повалился, и изобразил принцип домино повалив второй.
— Забери это, — сказала, не оборачиваясь, Нора, — я такого не ношу.
Лариса понимала пока только одно — все не так, как она себе раньше думала. Вон какие неожиданные измерения открываются и так внезапно. Чувствуя, что в этом новом мире, она пока только ученик, она решила следовать даваемым советам. Послушно взяла чемоданы, и отправилась к подворотне. Вышла на безрадостно яркий Арбат, и медленно пошла в сторону ресторана «Прага».
Да, старые московские семьи, это сильно, это по глубокому, это с одного разу не переплюнешь.
У афиши «Художественного» на Ларочку накатило какое–то на время отставленное чувство, она вдруг замерла, подняла чемоданы и брезгливо разжала пальцы.
— Я такого не ношу!!! — Крикнула она, и никто из окружающих не понял, что это цитата. Чемоданы лежали в черной, липкой, соленой московской грязи, люди чертыхаясь переступали через них, а Ларису трясло, она выпучившись смотрела на них, и работала ртом собираясь с возможностями для плевка.
Вот это московская, столичная, старая семья, у них братья спят с сестрами, а она кристальная Ларочка оплевана за предпочитаемый ею фасон одежды.
— В чем дело?!
Слава Богу рядом оказалась власть. Милиционер постучал по козырьку антенной большой рации, назвал какой–то позывной. Лариса закивала, подхватила чемоданы, которые она ни за что в жизни не принесет больше в эти места и помчалась в метро.
28
Приехала в Теплый Стан. Дядя Ли шутил в стиле своего вечного конферанса, что это не название городского района, а «легкого эротического романа». Она не думала об этом, подходя к девятиэтажному кирпичному дому, она думала только об одном: забраться под горячий душ, а после этого переодеться, рухнуть в какое–нибудь кресло и там заснуть до возвращения эстрадного дяди, а еще лучше до возвращения способности смотреть на окружающую жизнь без содрогания.
Она помнила номер квартиры. Поставила чемоданы на площадку у дверей конферансье, подошла к соседской двери — номер семнадцать — и нажала звонок. Нажала и начала рассматривать зрачок глазка, встроенного в дверь как раз напротив ее глаз. Через несколько секунд ей показалось, что там внутри зрачка что–то зародилось. Да что вы там… она опять протянула руку к звонку. В этот момент дверь бесшумно распахнулась, какой–то абсолютно молчаливый мужчина, схватил ее за протянутую руку и одним рывком втащил в квартиру.
Дверь захлопнулась.
Лариса могла издавать только нечленораздельные звуки, и не могла собраться для сопротивления. Ее решительно и с какой–то опасной умелостью увлекли внутрь квартиры, и вот она уже сидит на роскошной кухне за столом, приходя в себя.
Напротив нее сидит господин Шамарин и отвратительно улыбается и его отвратительная «сигара» торчит в углу рта. Поскольку он все в этой жизни делает отвратительно, чего же ждать в дальнейшем?
— Что вам надо? — Глухо спросила Лариса.
— Ты же знаешь.
Настроение у него было великолепное. У Ларисы оно сделалось просто кромешным, она вдруг подумала, что это специальная против нее ловушка. Дядя Ли в сговоре с этим бородавчатым садистом?! Какая низость и грязь!
Умом Лариса понимала до какой степени пакостно поступил с нею друг семьи, но у нее совершенно не было сил для активного возмущения. Бессилие смешанное с отвращением.
Шамарин достал из холодильника бутылку кипрского муската «лоэль» и початую коробку конфет.
— У вас все равно ничего не получится.
Он положил свою пятнистую лапу на ее скомканную в бессильный кулачек руку.
— У меня всегда все получается. Иногда не с первого раза.
Да, тогда, в первый раз Лариса его красиво, даже элегантно обдурила, вырвавшись с отзывом неблагодарной Норы, из обустроенного для разврата номера. Ушла красиво и легко. Господи, всего лишь прыжок с невысокого второго этажа в сугроб. Если женщина не хочет, то она не хочет.
Шамарин встал, повернулся к стенному шкафу. Шкаф был дорогой темного, заморского дерева. Достал бокалы, Лариса резко и, как ей казалось, бесшумно встала, и ринулась к двери. Не глядя в ее сторону, другой лапой, еще более пятнистой Шамарин поймал ее за предплечье и вернул на место.
Снова сел напротив улыбаясь всеми своими бородавками на всех губах и бровях.
— Я ведь и жениться могу.
Лариса чувствовала, что предательство дяди Ли проделало какую–то особенно большую пробоину в системе ее независимости, все силы, вся ирония, способность визжать и царапаться, и прочие полезные способности утекают в пробоину, и их неоткуда возобновить.
Но надо что–то придумать. Не может быть, чтобы не было выхода. Что, он ее изнасилует что ли? Подумав это, она краем глаза увидела сквозь дверной проем и коридор открытую дверь в спальню, спинку белой ампирной кровати, и ей стало совсем тошно. Тошно и свободно. Она встала, прошла на негнущихся ногах к сияющей чистотою мойке и хлестнула туда мутной водицей, остатками аравийского бальзама. Стоя нагнувшись над раковиной, она поняла, что у Шамарина к сожалению все сегодня получится. Она блюет ему в кухонную раковину как будто уже мстит за то надругательство, которое наверняка совершится.
Профессор спокойно разливал вино.
— Ничего страшного, возьму с ребенком.
Благородный, подумала Лариса, но подумала с отвращением. Вытерла рот затейливо вышитым кухонным полотенцем и, усевшись на место, сказала.
— А вас не смущает, что ребеночек будет еврейский.
Шамарин отхлебнул вина, и улыбнулся.
— Ты уверена?
Лариса громко гоготнула.
— Вы что не видели Рулика.
— Так ты гарантируешь?
Лариса глянула на него недоверчиво, чего это дяденька придуривается?
— Гарантирую.
— Ну, тогда у меня есть дополнительный повод для восхищения тобою.
— Не поняла.
Лариса взяла стакан и много отпила. Было вкусно, и это было жаль, хотелось в этот момент чего–то неприятного, грубого по отношению к себе со стороны окружающего мира.
— Дорогая, получается, что все те месяцы, что я тебя добиваюсь, у тебя был всего лишь один мужчина. Да ты, собственно, можешь идти под венец в фате.
— Да. — Сказала Лариса, и подумала — нет! А сын космонавта? То есть, ребеночек может быть не еврейский, а космический.
— А потом, — Шамарин улыбнулся, — я не антисемит. Только в данном случае это мое достоинство ни к чему.
По лицу Ларисы было видно, что ей трудно что либо понимать, но предстоящий насильник продолжил.
— Там на все семейство один еврей, «раковая шейка», а все остальные приемные, полуприемные, полуармяне, как Элеонора, полунезнаю кто. Первая жена академика помре, а сын, который привел Элеонору, где–то в бегах вне пределов с какой–то Варенькой, короче, такая тюря. Не забивай себе голову.
— А Нора?
— Что Нора? Ах, Нора, она жена Рауля. Они что, тебе не рассказали?
— Жена?
— Да.
— То есть, не сестра?
— Не сестра.
Шамарин откровенно веселился, время от времени трогая правую свою «сигару».
Ларисе стало значительно легче от этого известия. Хотя вопросы оставались.
— Но…
— Ну, они, как говорится, давно уже не живут с Раулем, но Нора–то успела стать членом семьи. Не выгонять же ее.
— Так не бывает.
— Бывает, Лара, это же Москва.
— Это мерзость.
— Это жизнь.
Шамарин говорил тихо и ласково. Он склонял девушку к неизбежному очень мягко, никакого насилия. Она ему нравилась. Сначала в нем говорил азарт успешного соблазнителя, который ни одной юбки не пропускает, и его очень злил ее прыжок из окна. Теперь желание навести порядок в сексуальных делах, наказать ослушницу, отступило на второй план. Девушка ему нравилась.
Было видно, что она не просто выпила и расслабилась. Ей чисто по–человечески стало как–то легче.
Она уже в сомнении — что делать дальше? Попробовать отбиваться, вырываться?
Нет, правда, сил, тихо начала она оправдываться перед собой.
Или все–таки опять обдурить урода, вырваться в чем мать родила на улицу, в темную, страшную ночь. Или хотя бы на площадку, орать, вопить…
А может просто закрыть морду подушкой и пусть шурует.
Кстати, а чемоданы?!
Она посмотрела на хозяина квартиры, он опять ей улыбнулся, как бы мысленно перебирая свои бородавки у себя на бровях и на губах. Он был совершенно недвусмыслен. Весь его облик говорил — пора. Сама же знаешь, — пора! В нем не было даже самодовольства, что отталкивало бы больше физической отвратности.
— А мои чемоданы?
— Что?
И тут раздался звонок в дверь. Лариса прыснула, ей показалось, что это многострадальные шмотки пришли ее спасать.
Вот тут лицо Шамарина сделалось ужасно. Гнев, а потом сразу же, через унизительно краткий промежуток — ужас. Он вышел в прихожую. Послышался второй звонок, и тон его получился значительно более тревожный, чем у первого. Хозяин одним глазом косился в сторону двери, другим в сторону залетной птахи, которую, кажется, придется выпустить. Что за несчастье!
Третьего звонка не было, сразу пошли кулаки в дверь и женский возмущенный крик — «Откройте!»
Шамарин глянул в глазок, он видимо не принимал серьезных решений без визуального осмотра. Лариса подошла к двери и сказала через спину хозяина.
— Бабушка, не надо, сейчас я открою!
Потом когда уже сидели на кухне у Лиона Ивановича, и опять пили сладкое вино, вермут «Чо–чо–сан», расслабленная Лариса (принявшая душ, переодевшаяся) задала несколько вопросов хозяину, все увиливавшему от нее взглядом. И от нее и от бабушки. Дамы пару раз иронически переглянулись, сообщая друг другу, что понимают неуютность его состояния.
— Скажите дядя Ли, а не жалко вам было меня отдать этому?
Он отреагировал мгновенно, даже быстрее.
— Случайность. Хочешь Ларочка верь, хочешь — не верь. Просто сосед. Я не знал, что он уже давно над тобою нависает. Мы, понимаешь ли, из одного кооператива. Всего лишь.
— Понимаю.
— Да ничего ты не понимаешь. И если бы он мне проговорился, хоть словечком, я бы, — сухонькая фигурка даже чуть подпрыгнула на шахматном кафельном полу, — никогда бы не оставил ему ключ. Дождался бы, не знаю уж, что бы я придумал в отношении Виктории Владимировны, — он церемонно поцеловал бабушке ручку.
— Так он непросто урод, он…
Илья Иванович сел на краешек табурета и приложил палец к губам.
— Законченный подлец. Двоих моих хороших знакомых закопал, диссертацию Сурена Игоревича… Причем, берет, берет, но никто не может поймать. Что же я, изувер? Я знаю людей. А уж в своем кооперативе… Я всегда очень взвешиваю, кого с кем познакомить.
— Врешь ты все Лион, мне–то сказки не рассказывай. — Сказала бабушка.
На эти слова хозяин не обратил внимания.
— Взвешиваю, много раз думаю умом, Ларочка. А потом думаю сердцем. Это ведь я познакомил Рауля и Нору.
Лариса поперхнулась вермутом.
— Ничего себе, а почему вы меня не предупредили?!
— Думал, все само собой образуется, разведется, не хотелось никого обижать. Нора, она славная, только несчастная совсем. Ей надо было наконец порвать с Рулей.
— Так все было ради нее подстроено?!
— Нет, Лара, нет, ради тебя, ты получала то, что хотела, а она…
Лариса вздохнула.
— Да ну вас всех. Москва, Москва. Клоака. И я за все должна отвечать. Лион Иванович развел руками.
Виктория Владимировна погладила внучку по голове. Та вскинулась.
— Бабуля, а ты как здесь?
— Ты такую телеграмму мне прислала, что стало понятно — тебя надо, дочка, спасать. Для чего тебе деньги, и столько?
Лариса вздохнула.
Зазвонил телефон, Лион Иванович поднял трубку. Вздохнул, выпятил губы.
— Академик Янтарев умер.
часть 2
1
В последний раз поводив ладонью параллельно стеклу, Лариса отвернулась от окна. Родственники пропали из движущегося кадра. Теперь там проплывали высоченные окна главного вокзального здания, потом камера хранения, что–то водонапорное в окружении сиреней и жасмина… Поезд покинул город Гродно.
Три попутчика.
Два молодых офицера, крупные, смешливые парни с красными полосами поперек лба, это от фуражки. Толком даже не распаковавшись, зашвырнули одинаковые чемоданы на вторую полку и решительно, с предвкушающими комментариями, удалились. Даже не получив белья, и не испробовав вагонного чая.
Третий попутчик, очень приличного вида пожилой мужчина с солидной сединой, тщательно выбритый, в светлом костюме, в галстуке, и даже уголком платочка в нагрудном кармане. На губах приятная, не вульгарная улыбка, все время находится в позе — я к вашим услугам. И поза не обманула. Был всячески любезен. Предложил свои услуги в доставке белья. Принес чай в горячих подстаканниках, вынул плитку дорогого шоколада. Когда Лариса встала, чтобы сходить покурить, тут же выхватил из кармана пачку «БТ», и извинился, что ничем лучшим не располагает. Лариса улыбнулась, сказала, что у нее у самой болгарские, «Стюардесса», и отправилась в тамбур.
Плохое настроение рассеивалось. Что ж, обязательная программа на этот год выполнена, семейство навещено, целая неделя отпуска ухнута на это дело, но зато теперь совесть чиста, а то все как–то не совсем по–людски. Интересно, что это за «дедушка» с манерами метрдотеля? Такое ощущение, что когда–то виделись. Мельком, где–то… Оказалось, что она попала в точку первым же предположением. И когда он напомнил ей, мгновенно восстановила в памяти эпизод. Ресторанный буфетчик, пан Кохановский, ею некогда опощеченный. Приятная встреча. Рассыпался в любезностях, сообщил, что «и тогда» был рад обслужить пани ах, Ларису, очень «преемно», и сейчас к ее услугам всеполнейше.
Воспитанный, даже учтивый провинциал, вояжирует всего лишь до Минска, более дальних целей у него нет, хотя раньше были. Осторожно так, мягко намекнул, что в молодые годы хлебнул с родственниками и сибирских морозов и несправедливости. Тему развивать не стал, видя полнейшее отсутствие к ней интереса у пани спутницы. Чтобы завладеть вниманием дамы, лучше всего вести речь о самой даме. И Лариса кое что поведала пану Кохановскому. Из семьи офицеров. Училась когда–то в Гродно, а потом в Москве. В одном пединституте. Он уважительно поджал губы. И вот уже четыре года работает в ЦБПЗ. О, сказал он, я даже не рискну спросить, как это расшифровывается. Лариса засмеялась — не бойтесь, это не военная организация: Центральное Бюро Пропаганды Знаний. Пан Кохановский опять уважительно поджал губы. Трудная работа? Да, нет. Несем знания в массы. Большая система лекторского обслуживания. Заводы разные, фабрики, студенческие аудитории, иногда даже сельские клубы, полевые станы. Воинские части? Да, и воинские. Самый широкий спектр тем. Естественные науки, медицина, философия, да, да, не улыбайтесь. Биология, очень много натуралистов, о зверушках рассказывают редких. Техника, «у нас договор с «Молодежной техникой» подписан». Новые модели, мотоциклы, дельтопланы. Ну, и конечно, самый большой интерес — запрещенные виды знаний. А что это? Экстрасенсы, летающие тарелки, инопланетяне. У нас есть инопланетяне? Нет, пока только пробиваем. Еще астрология, гороскопы. Пока еще считается, что это антинаука, но народу хочется.
Через пару часов явились офицеры, пьяные абсолютно, но в тисках особой офицерской деликатности, их все время шатало, и они все время церемонно извинялись.
— Пойдемте, поужинаем. — Предложил пан Кохановский. Вагон–ресторан оказался в двух шагах от их вагона. Пожилой ухажер все устроил по высшему разряду. Зная тайный официантский язык, он заставил ресторанную обслугу озабочено вертеться вокруг их столика. Началось все с чистой скатерти и так далее по полной программе, вплоть до мороженного и пожеланий счастливого пути.
— Приятно оказаться в обществе такого обходительного человека. — Несколько раз повторила за вечер Лариса, вовсю раскуривая болгарские сигареты пана Кохановского. Он отвечал ей комплиментом на комплимент. Он сказал ей, что она относится к тому редкому сейчас виду дам, которым приятно услужить. Совершая ради нее маленькие бытовые подвиги, чувствуешь свою мужскую уместность, и время не проходит зря. Он еще тогда в буфете обратил на нее внимание, и залюбовался, в самом невинном смысле пани Лара, так утомляет общение с женщинами лишенными подлинного женского обаяния. Как хорошо, что за эти годы вы не изменились, пани Лара, наоборот, этот шик, этот милый женский апломб стал только отчетливее.
— Я вернулась. — Сказала Лариса, допивая уже теплое шампанское.
— Я не понял.
— Да я и сама не понимаю, что это было.
Она не стала рассказывать про себя в валенках и с лопатой посреди заваленного снегом подмосковного двора, про грязные бутылки жуткого Рыбоконя, стреляющие клубами старинного дыма ковры из берлоги «раковой шейки».
— Я была не я, а теперь я снова я.
— Понимаю! — Сказал пан Кохановский с мудрой улыбкой.
2
Это здание как будто сослали в гущу реальной жизни. Стеклянно–алюминиевый параллелепипед поставленный вертикально, смотрелся как–то обнаженно и беззащитно в окружении угрюмых заводских корпусов с частично выбитыми или закопченными окнами, кирпичных, забытых в небе, никогда не дымящих труб, маневрирующих по обтекающим рельсовым путям железнодорожных тягачей и истеричных электричек. Многочисленным сотрудникам заведения, занимавшего большую часть двадцатиэтажного оффиса, приходилось опасливо озираться на деревянной переправе через железную реку. Так что появление на работе можно было приравнять к небольшому подвигу.
В кабинетах этого здания производилась на регулярной основе питательная научно–пропагандистская продукция для трансляции ее в народно–хозяйственные массы. Тут же попутно ковались кадры для этого. Кадрам этим, заседавшим в высоченном здании, как бы предлагалось время от времени окидывать взором промышленный пейзаж, подумать о народной жизни, чтобы не забывалось ради кого они трудятся.
Кабинет директора находился на десятом этаже, что шло несколько против логики этого замысла, потому что с двадцатого увидеть можно было бы больше. Впрочем, может быть те, кто планировал рассадку, думали о том, что двадцатый этаж уже слишком оторван от плоскости народной жизни. Так что десятый в самый раз, и достаточно высоко, но все же не в эмпиреях.
Каждому «направлению» полагался этаж, в правом торце, если смотреть от лифта, за непрозрачной стеклянной дверью, таились под солидной обивкой обширные кабинеты для заведующего и его заместителя, между кабинетами сидела секретарша, и все это называлось главной дирекцией. От стеклянной двери шел широкий коридор, направо и налево двери, за которыми располагались рабочие места ведущих специалистов. Каждый из которых вел свой отдел, в помощь ему полагалось два–три рядовых специалиста. Напротив лифтовой площадки обычно находилось машбюро, трещавшее как сильно увеличенный муравейник, зубодробительными трелями многочисленных электрических «ятраней». Так что каждый посетитель сразу же из лифтовой кабины нырял в самое пекло, и проникался уважением к темпу и масштабу здешней работы.
На противоположном конце коридора, опять–таки за дверью из непрозрачного стекла была предусмотрена какая–нибудь полезная для общего блага здешних работников служба. Буфет, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, просто врачебный кабинет, еще один буфет… в общем здание напоминало океанский лайнер, готовый к длительному автономному плаванию. Только установленный вертикально.
Учреждение было плодом совместного творчества Академии Наук и ЦК ВЛКСМ, что сказалось на внутреннем его устройстве. Академия дала в общий котел какое–то количество своих традиционных дисциплин, комсомол — без счета активной молодежи и немалые финансовые фонды. Должен был получиться сплав точности и порыва, сплав знания и энтузиазма, таков был замысел высшей власти. Как он был реализован? Все поле работы было разбито, как уже упоминалось, на основные «направления»:
«Молодежный коммунизм», «молодежная техника», «молодежь на селе», «молодежь в армии», «молодежь и физика», «молодежь и химия», «молодежь и природа», «молодежь и история», «молодежь и путешествия», «молодежь и искусство», «молодежная музыка», «студенческие горизонты», «молодежь и строительство»… В обиходном употреблении слово «молодежь» обычно опускалось, и упоминалась только «физика», «музыка» и т. д. Конечно, сферы деятельности разных направлений пересекались до некоторой степени. Но это лишь способствовало творческому взаимообмену и плодотворным спорам коллег. Например, постоянно шли дискуссии, до какой степени молодежная музыка является искусством. Или о том, как оставить молодежь на селе, в то время как некому служить в армии.
Работа специалистов требовала сочетания двух разнонаправленных дарований. С одной стороны специалист должен был по–настоящему разбираться в той области знаний, что была за ним закреплена, с другой стороны обладать организаторским даром, уметь привлечь к работе активных людей, для ведения пропагандистской лекторской работы в данной области. Дело в том, что когда в чем–то начинаешь разбираться как следует, не остается времени для организационных усилий, а когда занимаешь организацией нет времени во что бы то ни было вникать глубоко.
Люди для работы в ЦБПЗ требовались особенные, но как это всегда бывает, таких не хватало, и поэтому на работу брали разных людей. Кто–то приходил из журналистики, кто–то сбегал из конструкторских бюро, обнаружив у себя отсутствие конструкторских способностей, хватало бывших учителей, из числа тех, что ненавидели детей. Бывшие комсомольские работники среднего звена заполняли половину руководящих должностей во всех «направлениях». Настоящие большие ученые трудились большей частью в ЦБПЗ по совместительству, присовокупляя здешнюю зарплату, к жалованью заведующего кафедры и главного редактора специального журнала. Таких начальников любили подчиненные, потому что видели их редко, и за то, что они разумно не давали себе труда вникнуть в систему склок и подсиживаний, которые неизбежно зарождались в любом долго функционирующем коллективе.
Второй важнейшей частью рабочего состава были лекторы–пропагандисты. Те, кому надлежало «зомбировать» в духе последних постановлений партии молодежные массы, с помощью специально подобранных специальных знаний во всех уголках огромной страны.
Как можно догадаться, солидные, успешные и даже просто перспективные ученые на эту мелкую работу шли редко. Вокруг соответствующих отделов группировались разного рода расстриги от академической науки, изобретатели энтузиасты так и не нашедшие применения своим изобретениям «из–за интриг». Активисты из пограничных областей. Паранормальщики, почувствовавшие на каком–то участке слабину в обороне традиционной науки, слетались в учреждение, как осы на сырую говядину. Были и ископаемые экземпляры, читавшие свои лекционные курсы о жизни на Марсе еще во времена «Карнавальной ночи», и их было немало, удивительно живучий класс. Их терпели, потому что подлинно молодежной спецуры не хватало.
Устанавливались в каждом отделе длительные, полуродственные отношения, чаи по целым дням с болтовней, и коньяком к вечеру. Вечные требования начальства о повышении «реального научного уровня» работы, и смягчение этих требований ввиду невозможности выполнения плана иными методами, кроме сложившихся.
Не всегда лекторы сами приходили к специалистам ЦПБЗ, часто специалисты выезжали на места, где краткосрочно, но насыщенно руководили лекторскими семинарами. Потом обученные, подружившиеся провинциалы сваливались в Москву с омулями и опять–таки коньяками, и взаимопонимание выходило на новые уровни.
Одним словом, работа «специалиста» ЦБПЗ была значительной и интересной. Лариса по складу характера подходила для нее как нельзя лучше, но попала в штат учреждения не поэтому. Сразу несколько человек считали, что случилось это благодаря их участию. Мама Рули, якобы, замолвила словечко важным людям в аппарате Академии Наук, «ведь девочка, в конце концов, нам не чужая». Сын космонавта имел одноклассника, наоборот, подвизавшегося в аппарате ЦК ВЛКСМ, и как–то выпил с ним хересу и упомянул об одной толковой выпускнице одного педа. Лариса имела основания полагать, что все случилось само собой: пришла, написала заявление, через два дня получила положительный ответ.
Как всегда, в коллектив влилась легко, сделалась одним из заметных персонажей, хотя должность была из вполне заурядных. Как–то само собой сложилось, что Лариса оказалась ответственной за всю разъездную работу отдела. Другие специалисты охотно предоставили ей всю власть в этой области. Отдел попался в основном по характеру оседлый.
Самое время сказать, что это «направление» называлось — «История». Молодежь и история понятия далековато друг от друга отстоящие, тем интереснее моменты их сближения, любил говорить руководитель Михаил Михайлович Александров, огромный, очень пожилой, и очень уважаемый мужчина, фронтовик, доктор наук, в недалеком прошлом работник ЦК, причем не комсомольского, а «большого». Он был так броваст, словно после смерти Брежнева к нему перешло право на пользование его растительностью. Он был корректен с подчиненными, лично порядочен, без блеска, чуть тугодумно компетентен, заседал в целом ряде комиссий, даже и международных. Фронтовик из подлинных, капитан морской пехоты, герой и красавец. Мотаясь по заграницам, завел себе щегольский, со вкусом подобранный гардероб, и редкое хобби — коллекционировал банки с растворимым кофе. К моменту появления Ларочки в пределах исторического «направления», ему было шестьдесят с чем–то лет и у него было семьдесят с чем–то кофейных банок. Последнее время он более всего занят уже не работой, а открывшейся мерцательной аритмией. Это объясняет ослабление управленческих вожжей, допущенное им, и приведшее к гомерической скандальной ситуации, что вскоре разыграется на подвластной ему территории.
Михаил Михайлович охотно признал право Ларочки на манипулирование разъездной политикой направления. Она взяла на себя все неприятные моменты, связанные с ее формированием. Она безжалостно и решительно урезала список желающих прокатиться на семинар в Таллин, и умела выкрутить руки нужному количеству занятых и хворых, чтобы сформировать полноценную делегацию в Нижний Тагил.
Спустя примерно девять месяцев работы Лариса пришла к Михаилу Михайловичу, и твердо глядя ему в глаза, сказала, что роль простого, то есть, рядового консультанта как–то ей не пристала, раз она уже так давно, и столь успешно ведет явно руководящую работу. Надо помнить, что это был 1987 год, стояла на дворе еще густая советская власть. Такие американские способы продвижения себя были не приняты. Карьеры делались по–другому.
Фронтовик смутился.
Вздохнул, философски отмечая про себя, что, избегая одного вида хлопот, обязательно получишь со временем другой. Закрыл тему командировок, получи другую тему.
Отказать Ларочке он не смог. Он попытался схитрить, сыграть на косности штатного расписания. «Да я бы для вас что угодно, Ларочка, но у меня нет свободной должности завотделом».
— А и не надо, с меня хватит и старшего консультанта.
Лариса улыбнулась шефу, и он понял, что попал в собственную ловушку. Он сам признал, что она достойна номенклатурного поста, так что нет никаких оснований отказывать ей в посте промежуточном, тем более что он имеется в наличии. И прямо в том самом отделе «Истории Великой Отечественной Войны» в котором трудилась просительница. Закавыка была в том, что должность эту он обещал тихому, предпенсионному человеку Валериану Борисовичу Воробьеву, и как раз для того, чтобы тот мог заработать себе достойный пенсион. За Воробьева ходатайствовал и заведующий отделом Иван Иванович Голубев. Этих людей связывала очень длительная, трогательная дружба, и работники они были спокойные, кроткие и исполнительные. Мечта начальника. Их отдел был самым беспроблемным до появления там Ларисы.
Михаил Михайлович понимал, что он не только имеет право отказать чуть зарвавшейся активистке, но даже и обязан, но не мог. Нужно было пойти на конфликт, выплеснуть порцию адреналина из старых надпочечников, но как раз этого делать было и нельзя. Так говорили ему врачи, а с возрастом начинаешь им верить.
— Я подумаю. — Сказал он и интеллигентно улыбнулся. Он поклялся себе, что ни за что не даст этой девчонке протаранить его пусть и ослабленную болезнью, но все же живую нравственную изгородь. Придется схитрить по слабости стариковской натуры, например, уходя в отпуск, подписать приказ о назначении Воробьева, а по возвращении сослаться на забывчивость.
Всю серьезность положения он осознал, когда в течение дня к нему в кабинет забрели по разным поводам все заведующие отделами, и все, в сущности, с одним и тем же разговором. Первым, как ни странно миляга Тойво Ираклиевич Нери со своей разумной трубкой, мягкой усмешкой, и бесконечной лысиной. Человек, интеллигентно игравший в независимость, в том же примерно стиле, что и вся тогдашняя Прибалтика. Далее — обожатель начальства, доходящий в своей любви иногда до яростных форм Карапет Карапетович Бабуян. Явился, разумеется, и красавец Милован Раскадровский, полусерб, полуполяк, кандидат наук, и кандидат на свободное место в каждой женской кровати. Все они пели разными голосами, но про одно — Ларочка, Ларочка, Ларочка, как же ей при ее нагрузках, и представительских хлопотах быть в рядовых. А Воробьев вообще странный, его никто не любит, всех достоинств–то — хороший работник.
Ладно, подумал Михаил Михайлович, делая вид, что не слышит этого пения: сразу после отпуска надо было ехать в Братиславу, а я думал отказываться (у него уже был в коллекции словацкий кофе), а теперь передумаю. А из Братиславы на больничный. Что это еще такое, кто в доме хозяин!?
Тем более, просит это Миловаша. Человек занимается Смутным временем, будучи частично поляком, и при этом лезет с советами. Но больше, чем национальность Милована Игоревича шефа раздражало внеслужебное поведение специалиста. Как всякий руководитель Михаил Михайлович не любил бабников. Лучше уж пусть будет алкоголик, это меньшее зло. Алкоголик может всего лишь подвести по работе, бабник может нанести душевную рану. Может покуситься на принадлежащее хозяину. У Михаила Михайловича давно уж длился весьма спорадический, почти что неотследимый роман с замужней секретаршей Галочкой. Как–то, под новый год, еще до обнаружения аритмии, в порыве какого–то непонятного воодушевления, оказавшись в располагающей обстановке, он неожиданно обнаружил себя в возбужденном состоянии, а рядом легкомысленно хихикающую, языкастую Галку, и кратко, по–стариковски согрешил, удивляясь своему неуместному молодечеству. Потом нечто подобное, со значительно меньшим успехом и удовольствием повторилось. Ему–то казалось, что никто не догадывается об этой его тайной, бурной жизни. Будучи человеком действительно порядочным, он свернул свою активность на этом направлении. Но при этом, сохранил светлое, чувство в адрес Галки, всегда смущался, изредка встречая ее мужа на корпоративных вечеринках. Что–то в высшей степени не офицерское виделось ему в своем поведении, несмотря на свое холостячество. Несмотря на завершение романа, он считал своим долгом морально опекать машинисточку несмотря на ее почти сорокалетний возраст, и ему было крайне неприятно узнать, что какой–то молодой сексуально всеядный исторический кандидат походя, не по чувству, а по похоти воспользовался пьяной безаботностью Галочки. Кстати, сообщила шефу об этом Тамила Максимовна, секретарь редакции, пожилая (кличка — Тортила), замедленная в движениях плохо грамотная (она писала вместо Алма — Ата — Алмата), но все секущая старушка. Ее уволят впоследствии, придравшись к прогулу, совершенному по причине посещения похорон Молотова, ее личного друга. Из–за чего она называла себя потом последней жертвой культа личности.
Тамила Максимовна проскрипела на ухо бывшему морпеху эту новость, и он содрогнулся сразу от двух неприятных мыслей? Господи, Галка, зачем!? И второй мысли, что Тортила сообщила ему эту новость не случайно — нашла способ тонко намекнуть начальнику, что его главная тайна, для нее не тайна совсем. Какая мерзость, и что теперь делать?!
Итак, ситуация в «Истории» зависла в состоянии опасного равновесия. Все ждали, когда шеф надумает, и что. А тут недра комсомольского ЦК извергли еще одного деятеля среднего звена. «Может ли быть душа у менеджера среднего звена?» — спросит лет через двадцать после описываемых событий один философ–прикладник. И это будет всего лишь повторением мысли о том, является ли человеком в подлинном смысле слова комсомольский аппаратчик умеренного ранга. Так думали почти все специалисты и консультанты ЦБПЗ, не имевшие отношения к номенклатуре.
3
Надо сказать, что Лариса начала знакомство со своим новым коллективом с буфета, где оказалась за одним длинным кофейным столом сразу с пятью или шестью специалистами. Они покуривали, жевали сосиски с горошком, пельмешки и всяческими способами иронизировали в адрес своего прямого начальства, в адрес начальства комсомольского, доходили и до верховного руководства. Доставалось и Горбачеву, а особенно Лигачеву, щадили Яковлева, и ждали больших перемен. По самому советскому строю, за время этого не слишком продолжительного буфетного заседания, было нанесено несколько острых анекдотных ударов. «Иностранца, посетившего Союз спрашивают, что ему у нас понравилось? Дети, отвечает. Почему дети? Потому что все, что вы делаете руками…» Рассказывал их бородач с кривым носом липкой на вид лысиной. «Кто это?» — спросила Лариса кого–то из своих. «А, Саша Белов из «Молодого коммуниста. Он часто заходит в наш корпус».
Сначала, Лариса подумала, что она просто попала в такую особенную небольшую компанию свободных умов, презирателей бездарного режима. Но через неделю, поняла, что подобным образом настроены абсолютно все. Не только работники «Истории», но и те, кто трудится в «Физике», «Химии», «Технике» и «Искусстве». Впрочем, ничего особенно нового она не услышала в этом буфете, в сравнении с тем, что ей приходилось слышать в Рулиной компании, или Питиримовой.
Но что–то новое, однако, было.
Если фарцовщики и крестоносцы все же имели какие–то основания для неприязни к строю, он мешал им торговать джинсами и путешествовать по монастырям, и они ненавидели его как бы за свой счет, то работники ЦБПЗ поносили строй, у которого брали деньги на жизнь, и достаточно много, и очень охотно.
Впрочем, отмечая это, Лариса не вспыхивала порицательным пафосом, и не проникалась презрением. Это была сфера само собой разумеющегося. Так было принято.
Галкин муж, слушатель ВПШ, закатившись как–то на корпоративные посиделки в «Историю», рассказывает сотрудникам тот же самый анекдот, что и Саша Белов. Никому не приходит в голову, что это слишком для слушателя такого заведения, только Воробьев встал, виновато улыбаясь, и вышел из помещения.
Свалившийся в «Историю» новый зам Михаила Михайловича, некто Николай Николаевич Пызин, попытался показать, что не собирается совсем уж безропотно плыть по течению вредных общественных настроений.
Перестройка?
Ладно, пусть перестройка, но не все же позиции сдавать сразу и безропотно. Власть у нас в стране пока еще советская, и ЦБПЗ есть один из опорных ее камней.
Закручивание гаек началось с усиления антиалкогольной кампании, в то время, когда в целом по стране шло ее ослабление. Пить на работе стало менее комфортно, хотя пить меньше, конечно, не стали. Пызин заработал на этом деле первые отрицательные баллы.
Потом — режим. Он исконно был либеральным. Все, кроме Тамилы Максимовны, которой все равно не спалось, являлись в присуствие к двенадцати часам. Пызин потребовал, чтобы каждом отделе хотя бы один человек дежурил с десяти. Бред! Зачем?! От поверхностных гаек перешел к гайкам внутри творческого механизма «Истории».
Ударить по всем сразу, было трудно, надо было выбрать наиболее уязвимую фигуру. И, конечно, выбрали армянина. Карапет Бабуян попал под удар, очень мало этого заслуживая.
Это был человек сосредоточенный, коротконогий, в тяжелых очках, и ко всему относившийся серьезно. Он руководил отделом 19 века, никогда ни в малейшей степени не позволял себе никаких идеологических вылазок против партийного курса в своей области, всячески демонстрировал свою преданность шефу. С самым серьезным видом на общих собраниях говорил, что считает главным счастьем своей жизни факт работы под началом такого заслуженного и авторитетного человека — Михаила Михайлович Александрова. Михаил Михалойвич морщился, вяло одергивал льстеца, чем только возбуждал его, вызывал новые валы еще более откровенных похвал, и высказанных уже почти с надрывом. На все дни рождения шефа Карапет Карапетович привозил целую кастрюлю долма, приготовленную мамой специально ради такого события, а так же бастурму, коньяк и т. п. В общем, казалось — позиции этого завотделом незыблемы. Но Пызин разведал, что Карапет Карапетович слишком по–особенному формирует штат своих лекторов. Там оказались сплошь армяне, или женатые на армянках, или армянские друзья. Причем для всех для них был организована специально продуманная схема задействования, которая предполагала минимум трудозатрат, и максимальные ставки оплаты. В общем, трудно сказать, так ли оно обстояло на самом деле, но захотевший придраться, придерется.
Когда Пызин пришел с этим, никому не нужным компроматом к шефу, тот опять сильно заскучал. Ссориться с армянским лобби ему не хотелось, но ссориться с властью, которую в данном варианте представлял дурак Пызин хотелось еще меньше.
— Чего же ты хочешь? — Устало и иронично спросил Михаил Михайлович. Комсомолец не понял иронии, и потребовал, чтобы большая часть армян, была заменена.
На кого?
Есть кандидатуры. Пызин имел большие связи в кадровых структурах ЦК, и ему не составило труда подобрать подходящих людей, выраженных неармян, для соответствующей работы.
До этого момента его звали просто «онанист», намекая на героя известной повести Алешковского, на рукаблудное качество его приказов и бессмысленную возню вокруг режима работы. Теперь же он заслужил прозвище Ататюрк, хотя информированные историки, из числа лекторов говорили, что прозвище не совсем справедливое, ведь упомянутый персонаж армян не резал, да и тюрком, вроде как был не вполне, но кому дело до таких тонкостей.
На жизни Ларисы пызинское руководство отражалось мало, она легко обходя новые подводные камни. Как раз в это время она развернула обработку общественного мнения в нужном для себя направлении. Тойво был нейтрализован хорошо продуманными похвалами в адрес «молодой эстонской прозы». Она даже исхитрилась и удачно скаламбурила в нужный момент. Назвала Карапета во время одного из совместных походов буфет «Императорским безумцем», намекая на его неумеренно восторженное отношение к шефу и на то, что ей нравится роман Яана Кросса, и Тойво окончательно растаял. Его независимая позиция в редакционном раскладе, формулировавшаяся как «один на льдине», в память о сидевшем за сталинской проволокой отце, дала трещину. Он, как уже сообщалось, пошел лоббировать Лару в кабинет Михаила Михайловича.
Пан Милован в обработке и не нуждался, ему достаточно было узнать желание дамы, и он вскакивал, прижимая обе ладони к сердцу. «Серб и молот», — называл его Питирим. Да, этот мужчина всегда был готов к услугам, но для для надежного закрепления этой позиции во время одного из веселых выездов на Галкину квартиру Ларочка отвела рыцаря в комнату отсутствующего сына хозяев, и там они совершили очень быстрый деловитый грех, даже не прекращая сплетничать, как бы обменялись подписями на договоре о взаимной поддержке.
Саму влиятельную Галку Лара тоже успокоила. Для этого хватило всего лишь одной грубоватой фразы о том, что она для достижения заветного кресла не пойдет банальным женским путем, и не потому, что не интересуется антиквариатом. Она так не поступит из жесточайшей женской солидарности, ибо не хочет претендовать на то, что уже принадлежит другим. Галка поняла, что на ее особое положение в коллективе Лариса претендовать не будет, хотя и могла бы, учитывая выгодную для нее разницу в возрасте. Сорокалетняя машинистка оценила жест доброй воли, ей действительно не хотелось терять своего статуса, при котором она по умолчанию причислялась к творческим работникам, и имела возможность являться на работу не к десяти, а к двенадцати, плюс и ряд других маленьких, но приятных исключений.
Провинциалов в «Истории» было двое, оба совсем недавно приняты на работу, и оба попали под власть Ларочки, хотя и числились по другим отделам. Оба были совсем недавними выпускниками одного истфака, только разных потоков. Одного звали Прокопенко, хохол из Нежина, третий сын в большом, сытом, крепком семействе своего добротного, деревенского батьки, и сам уже к моменту вступления в должность в «Истории» отец двойни и приймак в номенклатурном семействе с Кузузовского проспекта. Он отвечал за Древнюю Русь, отвечал спокойно, по большей части помалкивая, и приятно улыбался в ответ и на похвалы, и на критику. Про таких говорят, что с них как с гуся вода, где сядешь, там и слезешь. Ларочку он интересовал мало, и слегка раздражал своей кажущейся неуязвимостью и полнейшим благополучием. Затащить такого в койку не представлялось возможным, а каким другим образом можно было сформировать в нем чувство вины. Она давно уже поняла эту главную женскую истину. Хочешь управлять мужчиной, найди в нем ту кнопку, которой включается чувство вины. Не у всех она расположена в одном и том же месте. Часто очень хорошо замаскирована, но есть всегда. Женщина не управляет только теми мужчинами, которых она не потрудилась исследовать на этот предмет.
Но немного на этом участке Лариса все же поработала.
Сначала она попробовала вменить Прокопенке его хохляцкость. Мол, народ–предатель, украинские полицаи сожгли Хатынь (это она знала по должности, как сотрудник отдела Великой Отечественной), вечное мазепство украинской души и так далее. Но Петро только похохатывал, и ласково улыбался большим, добрым лицом, и поглаживал сдобные, залысины. А на общих распивочных заседаниях красиво, тихо пел «нич яка мисячна», и всем было понятно, что он в полнейшем умилении от своего хохляцства.
Второй наезд была произведен по факту его приймачества. Мол, приспособленец, схватился за бабий подол, который был приделан к московской прописке, и это подло. В ответ Петро демонстрировал фотки своих дочек–куколок, а однажды в редакцию заехала его супруга, и всем стало ясно, особенно Ларочке, что брак–то по страсти.
Пришлось отступать, и чтобы это не выглядело как полное поражение, Лариса вела арьергардные бои на тему невыносимого самодовольного благополучия Прокопенки. Видите ли, у него все хорошо, и дети, и жинка, и все родители со всех сторон живы, и работа ему нравиться. Нет никакого повода даже для легкого душевного свербления. Стыдно быть таким сыром в таком масле.
Второй новичок был для Ларисы, собственно, и не новичок. Мир все же тесен. Алеша Попович, дружок Маркса и Энгельса, белорусский подросток из поселка при Жировицком монастыре. При таких встречах кричат «Ба!», и Лариса крикнула, паренек съежился, как будто его сейчас накажут. Он стал еще суше, чем был, и как–то почернел, стал болезненнее, как будто насквозь пророс нервами, его очень легко было вывести из себя, смутить. Фамилия у него была звучная Волчок, но как выяснилась, досталась от полесского отчима, и не была им любима. Он специализировался в области античной истории, и попал под начало к эстонцу, отвечавшему за все Европы разом. С Волчком Лариса могла бы организовать белорусское землячество, но почему–то ей это даже не пришло в голову. Она не чувствовала никакой связи с этим затюканным парнем, как будто они происходили родом из разных Белоруссий.
Лариса только увидев его сразу поняла, что победа одержана. Тут даже не надо было ничего формировать, заноза вины сидела уже давно в заднем уме этого Волчка, с того самого вечера в иконосборнике Рыбоконя. Он так много слышал, он так много знает, что пусть только попробует не смущаться, и не отводить глаза при разговоре с пани будущим старшим консультантом.
Лариса не порвала свои связи с прошлым. Найдя свое место в учреждении, она наподобие магнита, стала стягивать к себе множество разного прежнего народа. В той или иной степени были привлечены к работе и общению и сын космонавта, и Энгельс, и девчонки из пединститута и Саша и Марина, и другие. Все или читали лекции, там куда пошлют, или подбирали материалы по заданным темам, или хотя бы приезжали товарищески пьянствовать, когда покличут. Так что вес Лары в конторе обеспечивался еще и наличием разноцветного человеческого шлейфа, тянущегося за ней. Ее знакомые были ввинчены в работу почти всех отделов в том или ином качестве, что обеспечивало хорошую остойчивость кораблю ее карьеры.
Кабинет истории Великой Отечественной был самым большим, что понятно. Лариса так расположила шкафы, столы и прочую мебель положенную отделу по штату, что выгородился уютный и обширный анклав, обладающий правами почти полного суверенитета. Ни начальник Голубев, ни тихий претендент Воробьев не рисковали проникать за ограду, уставленную по верху горшками с редкими кактусами, увитую гирляндами невероятных висячих растений. Все это были подарки от направления «Природа», с которым Ларочка сдружилась во время какой–то совместной командировки, и теперь частенько приглашала к себе на посиделки. Поводов для их устроения всегда было более чем достаточно. Бережной защитил диссертацию «Гуманитарные аспекты русского освоения Антарктиды»; Энгельс опубликовал статью о Ниле Сорском в «Вестнике Ростовского университета»; прилетели забайкальские супруги–лекторы, Яромир и Василиса, он чех, она бурятка, с набором таежных бальзамов.
Явился однажды, в это трудно поверить, неудачливый ухажер Гарик. Прошли годы после того памятного похода в «Метелицу» и за все это время он никак не сигнализировал о себе. Лариса столкнулась с ним всего месяц назад, случайно, буквально в метро, и пригласила «на свою территорию».
И он пришел.
Все главное при нем все же осталось: рост, стать, успешность, судя по двум огромным кулькам набитым бутылками и банками из «березки», к тому времени еще сохранявшей свое значение. Но многое и изменилось. Отпала начисто пошлая кличка Мангал. Он стал как хорошая машина очищенная от наглого тюнинга. Просто очень видный, качественный мужчина.
Хозяйка отворила створки шкафа, достала оттуда поднос с чисто вымытой с прошлого раза посудой — стоическая провинциальная чистоплотность не покинула ее за прошедшие московские годы, — и стала накрывать на стол, с которого решительно смела рабочие бумаги.
Гарик сел в углу, осторожно улыбаясь.
— Ну, как ты, что ты? — Искоса поглядывала на мужчину Лара. — Тебе не кажется, что это судьба, — встретились в метро!
Она сказала это как бы в шутку.
Гарик пожал плечами. Он испытвал сложные чувства. Можно сказать, что он жалел о своем приходе, но одновременно считал его в каком–то смысле своим долгом. Опять–таки, дело было в «Метелице». Ему не нравилась его роль в той ситуации. Ему хотелось обьясниться–извиниться, хотя он не был уверен, что у него хватит смелости начать такой разговор. Он не знал, до какой степени Лариса в курсе подоплеки тогдашней гулянки. Он смутился, увидев ее в метро, но и обрадовался, получив приглашение. Было бы преувеличением сказать, что его томило воспоминание о той истории. Но все же ему хотелось полностью зачистить эту страницу прошлого.
Был доволен, что не отвергнуты его кульки, ибо, чем ближе он приближался к ЦБПЗ, тем почему–то они казались ему выглядящими все более самодовольно. Да, там, на «Театральной», Лариса приглашала его легко, как бы без подтекста, но это могло быть приемом особенно тщательной маскировки. Надо быть начеку.
— Ты, знаешь, действительно судьба.
— Да-а, так ты согласен? Осторожнее, молодой негодяй.
Он решил не задумываться над тем, что может означать этот «негодяй».
— Да, ты знаешь, Лара, я ведь практически годами не езжу в метро, а тут крыло помял…
Лариса выпрямилась, сдувая с носа кокетливо выбившийся волос.
— Ах, даже так. Мы оторвались от народа, мы глухи к ропотам. Мы гуляем по облакам.
Гарик сдержано улыбался. Ему было трудно, он сказал правду, и не собирался произвести то впечатление, которое произвел.
— Смотри Энгельс, вот он, наконец, перед нами во всей своей… он, он, обиратель вдов и сирот.
Сидевший в углу Энгельс перестал рыскать шариковой ручкой за ухом, взял с тарелки кусок сервелата и стал жевать.
Вошел с бумажкой в руках Прокопенко, и тут же был атакован.
— Смотри, Прокопенко, вот таким ты будешь через пару лет. На чужом несчастье, свое счастье не построишь, Прокопенко, ты меня понял?!
Тот набычился.
— Ладно, садись.
Прокопенко сел.
— Чего уселся? Сходи за сербской фракцией, полакомиться насчет клубнички. — Сказала Лариса вываливая на блюдо роскошные, пахучие ягоды, принесенные Гариком.
— Попользоваться. — Поправил ее Энгельс, славившийся дотошностью.
— Что? — Обернулась к нему Лариса с вызовом.
— Гоголь. — Виновато сказал он.
— Моголь! — Был ему ответ. — Могоголь! Ты, еще здесь, Прокопенко, и нашему античному белорусу скажи.
Первым явился незванный и страшно расстроенный Карапет Карапетович. Не поздоровался, сел, развалив на стуле коротенькие толстенькие ноги.
— Что случилось?
— Добрался до Григола Ашотовича.
— Вот сволочь! — Продолжая автоматически что–то нарезать, ответила Лариса.
— Ну, почему, почему, объясните мне, армянин не может читать лекции о Куликовской битве?!
Гарик, к которому, почему–то, был обращен вопрос, пожал плечами. Он почти не был армянином, у него здесь было свое дело, и не во что больше он вмешиваться не хотел.
— А что он говорит?
— Он говорит, Ларочка, что Куликовское поле, поле русской боевой славы…
— И это правильно. — Веско заметила Лариса.
— Так Григол Ашотович говорит то же самое!
— Поле, русское по–оле… — пропела, входя, Галка. Увидев незнакомого, да еще «упакованного» мужика, она добавила к «сопрано» еще и покачивание бедер.
— Дорогая, сходи за сольцой. — Тут же осекла ее хозяйка праздника. Та, глядя на пачку «Экстры» на краю стола, понимающе улыбнулась, и стала закуривать, ища взглядом свободный стул.
— А что касается полей, Карапетушка, то вот, посмотрите на него.
Все посмотрели на вошедшего Волчка, и он невольно потемнел под взглядами.
— … утверждает, что на, допустим, Бородинском поле мы не победили, а проиграли. Поте–ери у нас были больше, позицию мы бросили после всего, столи–ицу оставили, мол, военная наука все это зовет поражением. Но всем же понятно, что это ерунда собачья. Великая победа, есть великая победа.
— Причем здесь Григол Ашотович? — Тихо проныл Карапет
Волчок развернулся и вышел вон.
— Захвати там соль. — Крикнула Галка сквозь клуб выдыхаемого дыма.
— Он не вернется. — Сказала Лариса. — Придется тебе сходить самой.
— О, Милок сходит. — Вывернулась машинистка, показывая на вошедшего серба. Ей хотелось задать какой–нибудь затравочный для знакомства вопрос незнакомцу в дорогом костюме, но Лариса с помощью мелких, но непрерывных манипуляций уводила ее с удобной позиции.
— А что это мы тянем? — Спросил Милован, вертя в руках бутылку джина «гордон».
— Без соли, Слава, нельзя.
— Это текилу пьют с солью, Галочка.
— Вы любите текилу? — Наконец прорвалась машинистка, но в ответ на этот вопрос Гарик тоже отделался пожатием плеч.
— Он просто меня выживает. — Почти бесшумно вздохнул Карапет.
— Пусть идет ко мне. — Сказала Лариса, увидев, что в комнату вернулся Волчок с тарелочкой соли. — Пусть твой Григол идет ко мне. Будет читать про Прохоровское поле.
Волчок поставил блюдце и снова вышел. Прокопенко вздохнул ему вслед, ему хотелось уйти, но не было повода. Энгельс положил в рот еще один кусок сервелата. Это он был пособником травли Волчка. Причем, без всякого злого умысла, просто в силу энциклопедического склада ума. Волчок, чувствуя, где располагается в конторе интеллектуально–моральный центр, разумеется, потянулся к нему, будучи человеком страшно в себе неуверенным. Выросши полусиротой при сильной матери, впадал в панику, когда его не гладила по головке успокаивающая женская рука. Он хотел попасть в ларочкин круг, но войти в него желал на правах не желторотого паренька, желал, чтобы его приняли, как носителя независимого, критического ума. Поэтому он все время лез с ехидными комментариями, особенно, когда его об этом не просили. Заявил, что битву при Бородино мы проиграли, «ведь Клаузевиц…». И Энгельс устроил ему форменную, детальную, исчерпывающую порку тем самым Клаузевицем наотмаш. Парень был повержен и как мыслитель и как патриот.
Лариса гордо улыбалась ему в несчастное лицо, гордясь своим Энгельсом. Тот равнодушно вздыхал. Человеку, знающему истину, всегда кого–нибудь жалко.
— А, правда, что текилу делают из кактусов? — Наклонилась Галка к гостю.
— Ага, — кивнул много попивший и повидавший Милован, — а джин из можжевельника.
Энгельс попытался приступить к своему обычному занятию.
— Не совсем из кактусов, это голубая агава…
— Молчи, энциклопедия, молчи как грусть. — Оборвала его Лариса. — Я хочу поднять тост. За те встречи, что иногда происходят в метро.
Все выпили, даже Карапет Карапетович. Но вместо закуски, он наклонился к хозяйке и спросил.
— А вы, правда, можете взять Григола Ашотовича к себе?
— Я вас когда–нибудь бросала в беде, Карапет?!
— Наша главная беда случилась в пятнадцататом году, и тогда нас бросили все.
Но никто не услышал этих слов.
После джина стали пить коньяк. Кто–то уходил, кто–то приходил, разговор становился все громче. Галка ткнула немым пальцем в шкаф, подразумевая остальную часть комнаты, мол, а как они, Голубь с Воробьем?
— А я сейчас растормошу эту голубую агаву! — Лариса решительно встала, и вышла на сопредельную территорию. Вместе с рюмкой коньяку.
— Мы вам не мешаем?
Птичьи люди синхронно замотали головами, нет, нет, нисколько.
— Тогда, может быть, вы к нам присоединитесь, у меня такое событие.
Снова синхронное качание голов, нет, нет, спасибо.
Лариса вернулась к себе, встреченная восхищенными взглядами, и прысканьем зажатых ртов. Уже через несколько минут, с сопредельной территории началась тихая эвакуация. Благо, до окончания рабочего дня оставалось совсем немного времени.
Гарик, до сего момента сидевший почти молча, встал, и сказал Ларисе, что хотел бы сказать ей несколько слов. Галка вздохнула, как бы признавая поражение. Милован стал откупоривать последнюю бутылку, какой–то вискарик.
Лариса, держа пальцами правой руки сигарету, пальцами правой рюмку, проследовала за ограду. Гарик смущался. Она смотрела на него победоносно, уверенная, что в ее силах прекратить его мучения, какими бы они ни были.
— Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить.
— Лучше не здесь, пойдем в коридор.
В коридоре было довольно темно, но Гарик продолжал смущаться. Что, по мнению Ларисы, было странно для владельца кооперативного кафе. Эту информацию вытянула из него Галка, и Лариса была довольна, что ей не пришлось это делать самой.
— Не вздыхай, говори.
Из дверей «главной реакции» вышел Карапет Карапетович, вид у него, даже в полумраке коридора был страшный. В голосе был трагический трепет.
— Он говорит, что и Офелия Дерениковна должна уйти.
Лариса закатила глаза, просигнализировала Гарику сигаретой, и повела за собой на площадку к лифтам. В огромное окно рвался сильный, звучный ливень, как бы призывая участников разговора не скрывать своих сильных чувств.
Лариса поощрительно и снисходительно взирала на собеседника. Да, была тогда дура, ради непонятной верности Руле (кстати, надо спросить, что с ним) оттолкнула, может быть, реальный вариант. Однако, надо что–то сказать:
— Тогда была «Метелица», а сейчас дождище.
Гарик кивнул, он все понимал.
Послышались шаги по коридору. К лифтам вышагнула огромная фигура шефа, даже дождь за окном как бы немного смутился, и снизил напор, признавая важность этого человека.
— До свидания. — Сказал Михаил Михайлович, имея в виду, да пошли вы все к чертовой матери, и погрузился в подошедшую кабину.
— До свидания. — Лариса скорчила ему рожу вслед и повернулась к Гарику.
— Знаешь, здесь нам не дадут поговорить.
— Почему? Вообще–то все хорошо, я так рад все так как–то само собой, я ведь слегка, и даже не слегка перед тобой виноват. Я думал, что ты догадываешься, ну, что я не сам, что меня, как бы это сказать, попросили. Тогда.
Лариса хлопнула его по плечу рукой, державшей сигарету, и осыпала рукав пеплом.
— Да, ладно тебе, все я давно поняла. Эти тетки, Элеонора и вторая, хотели от меня избавиться, и одновременно хотели использовать, по принципу — с паршивой овцы хоть шерсти клок. И изящно так подкладывали под полезных старичков, вернее пытались. А ты даже не старичок.
Гарик стоял, потупив глаза, в позе совсем не характерной для бравого кооператора, и осторожно отряхивал рукав, и это могло выглядеть как просьба: не надо мне ваших откровений. Прямолинейная откровенность собеседницы, его смущала. Он уже по–настоящему жалел, что поддался тонкому движению своей дюжей души — приехал заглаживать такую старую неловкость. Ну, пригласил чужую девушку выпить шампанского с мороженым. Ведь можно и так рассудить, что он хуже сделал Элеоноре Витальевне, а не Ларе.
Лариса отхлебнула из принесенного с собой стакана, сделала задумчивую холостую затяжку, бросила в урну потухшую сигарету.
— Ты знаешь, поехали к тебе, там все и обсудим. У тебя там есть еще что выпить?
— Что?
— Что выпить есть?
— Вообще, поехали, конечно, — забормотал Гарик тусклея, — Мариша будет рада с тобой увидеться.
— Какая Мариша? — Спросила Лариса, уже отлично понимая, о ком идет речь.
Значит, он тогда уехал из «Метелицы» не один. Ну, да. И не втроем.
— Поженились? — Она снова достала сигарету? Гарик угодливо поднес огонь.
— Не сразу.
— Понимаю, что не сразу. А что же я ничего не узнала.
Гарик снова щелкнул зажигалкой, потому что сигарета с первого раза не зажглась.
— Не хотели меня расстраивать, голубки?!
— Марина все собиралась тебе сказать.
— Она уже почти год тут работает, на восьмом этаже.
— Все собиралась, собиралась… — Гарик был очень смущен.
4
Консультант Волчок сидел один в кабинете, сегодня была его очередь дежурить с утра, и листал толстый том в солидном переплете. Листал правой рукой, левую бросил на взъерошивание своей короткой прически. Носился взглядом по страницам, предвкушающе привставал, нащупав что–то в тексте, и плюхался обратно на стул, если блестка информации его разочаровывала при тщательном рассмотрении. Волчок готовился к сегодняшнему заседанию отдела. Тойво пригласил двух новых кандидатов в лекторскую группу, и в половине первого должно было состояться собеседование. Волчок хорошо понимал двусмысленность своего положения в отделе, его взяли на работу не в полном соответствии с планами эстонца. Тот, будучи человеком умным и хорошо воспитанным, все время давал это понять своему новому сотруднику, но в такой форме, что открыто обижаться было бы нелепо.
Оставался один путь самоутверждения — доказать, что принят по праву, что является самостоятельной интеллектуальной фигурой. Он давно уже, с ранних институтских пор вывел для себя, что все свои выходы, даже самые мелкие надо тщательно готовить. Полагаться на общий образовательный уровень глупо, а на свою сообразительность, еще глупее. Каждый раз, отправляясь в какую–нибудь смешанную компанию, он зазубривал несколько редких и точных сведений из любой области человеческого знания. Например, что на острове Сулавеси основным видом вероисповедания является протестантизм. Для достижения успеха в беседе, нужно было всего лишь подвести общий разговор к ситуации, в которой выступление с этой информацией выглядело бы естественно.
А для подтверждения своего интеллектуального класса, в ответ на удивленный вопрос кого–нибудь из сомневающихся: а почему это простестантизм? Следовал не менее подготовленный ответ: потому что это бывшая голландская колония.
Очень хорошо себя показывало предварительное чтение Даля и Фасмера. Там Волчок обязательно накапывал пару тройку изюмин и терпеливо сидел в уголке, ожидая случая, когда можно будет выставить локоть и выйти в первый ряд.
Его институте скорее не любили, но в общем–то отдавали должное. Не будучи ни талантом, ни отличником, он все же заработал титул человечка себе на уме. Антипатия, плюс уважение. На самом деле, не так мало.
Случай с Бородинским полем не скомпрометировал окончательно его старый метод, а лишь явился сигналом того, что впредь вылазки следует готовить тщательнее.
Вот!
Консультант хлопнул ладонями по распахнутым страницам. Почти что эврика!
«По эдикту императора Каракаллы от 212 года н. э. всем жителям империи было даровано римское гражданство».
Один из сегодняшних визитеров эстонца специалист по муниципальному устройству Римской империи. Он, тихий консультант Волчок сядет сегодня тихонько рядышком со столом Тойво, и станет терпеливо ждать момента, когда можно будет уместно выступить с этой интеллектуальной репризой. Второй гость — собаку съел на гуситах. Молодой сотрудник вздохнул — придется слазить и в этот печатный колодец.
И тут раздался телефонный звонок.
— Ну, здравствуй.
Сердце консультанта засуетилось.
— Ладно, ты не являешься патриотом своего отечества, но, по крайней мере, патриотом своего родного коллектива ты должен быть.
В принципе консультант понимал, что Лариса шутит, но шутка эта парализовала его волю, и он стал сморщиваться, как бы стараясь хоть в уменьшенном виде выскользнуть из под внезапного морального пресса.
— Так ты не ответил, ты готов искупить вину?!
Это тоже была шутка, но требовавшая самого серьезного ответа.
— У меня заседание отдела.
Лариса даже не дослушала до конца.
— Ты сейчас пойдешь к Тортиле, возьмешь у нее пятнадцать рублей, потом возьмешь две бутылки шампанского и такси, и записывай адрес.
Волчок взял ручку, и стал записывать, отлично понимая, что он не в состоянии выполнить это задание. Однако же и не в состоянии не выполнить.
— Все. В крайнем случае, можешь взять четыре бутылки «ркацители». И даже лучше. И не томи. Тут погибает добрая половина доблестного экипажа. Пока еще добрая. Не превращайся во врага народа.
Волчок несколько минут сидел на своем месте, поигрывая трубкой, боясь положить ее на место. Чем дальше, тем отчетливей становилось — ехать придется.
Но деньги?!
Он и так был должен Тамиле Ивановне двенадцать рублей в общак. Просто, возьмет и не даст. Тем более столько. Да еще посмотрит со всей черепашьей мудростью поверх очков.
Но побрел в предбанник. Сел на стул рядом со столом секретарши, она посмотрела на него, приопустив очки, но ничего не сказала. Консультант кое–как собрал в голове конструкцию из слов, которую можно было попытаться предъявить Тамиле Ивановне, но в этот момент распахнулась дверь в кабинет Пызина, и оттуда вылетел, как выплюнутый Змеем Горынычем, Карапет Карапетович. Он и не подумал здороваться с Волчком и тут же нырнул в кабинет шефа.
Тамила Ивановна многозначительно выпятила губы и подняла брови, мол, бог знает, что происходит, все приперлись в такую рань и чудят.
В кабинете шефа Карапет Карапетович пробыл совсем недолго, вышел оттуда медленно и задумчиво. Постоял у стола Тамилы Ивановны мелко тарабаня по нему толстыми пальцами.
— Ну, что, Карапетик? — Спросила секретарша.
Он ничего не ответил, и пошел прочь из главной дирекции. Тамила Ивановна бросилась было за ним, «Карапетик, Карапетик!», но при ее черепашьих скоростях, это было бесполезно. Вернулась, вздыхая, села и стала протирать очки.
— А вам что — Шура?
Появился зам, и решительно, победоносно прошествовал к шефу. Кажется, у него что–то вроде улыбки играло на тонких губах.
— Идите отсюда Шура, а то…
— Десять рублей.
Тамила Ивановна открыла коричневый железный сейф, достала из мятого конверта две пятерки. Дорогу на квартиру Галки Перешивиной консультант знал хорошо, и неплохо представлял себе, какую картину он там застанет.
На выходе лифта встретил приехавшего на работу, явно хорошо позавтракавшего Прокопенко, тот улыбчиво поинтересовался — куда ты? Борясь с гримасой охватывавшей лицо, Волчок проскользнул в кабину. Ему было неприятно сравнивать себя с ним. И, правда, какой незаслуженно благополучный человек. И выпил вчера в меру, и отправился домой, а не в Галкин вертеп. И никому не придет в голову назначить его алкогольным курьером.
5
Понедельник следующей недели, казалось, не предвещал никаких особенных событий. Без трех минут двенадцать публика стала подтягиваться к кабинету шефа. Прошли внутрь печальной парой Голубев с Воробьевым, пронес свою трубу Тойво. Волчок и Прокопенко явились прежде всех и ждали в предбаннике, чтобы не вламываться первыми. За свою деликатность получили по шпильке от Ларисы, тоже задержавшейся в предбаннике, чтобы докурить сигаретку. Прокопенке досталось за то, что сбежал прошлый раз совсем не как товарищ, не проводив дам «хотя бы до авто». Семейный очаг это, конечно, хорошо, но у человека есть и другие обязанности. Вот, господин Волчонок исправляется.
— Волчок. — Поправил молодой человек, но так, словно ему было неудобно за свою несговорчивость.
— Только очень медленно исправляется. Все глаза проглядели, пока дождались твоего муската.
— Я же уже объяснял, метро…
— Тебе было сказано — бери такси!
Открыл свою дверь квадратно улыбающийся Пызин, и растопырил руки как бредни, побуждая толпящихся войти в кабинет.
— Прошу, прошу.
Лариса забычковала сигаретку в пепрельницу на столе Тамилы Ивановны и открыла парад.
В коридоре показалась пара — Милован и Карапет. Милован что–то рассказывал низкорослому коллеге, угрюмо смотревшему в пол. Их обогнала Галка, как шеф машбюро и профорг, она тоже обязана была присутствовать на творческих летучках.
Пызин поглядел на Карапета, дождался, когда последний сотрудник войдет, подвигал квадратной челюстью, как перед боем, раздул ноздри и шагнул на территорию Михаила Михайловича.
Летучка шла, в общем, обычным порядком. Шеф одних похвалил, других пожурил, сказал свое обычное, что обязанности по поддержанию строгой идеологической дисциплины никто ни с кого не снимал. Партия, да, развивает перестройку, но это не предполагает бардака на местах. Обольщаться не надо, если гайки в настоящий момент не закручивают, это не значит, что их вообще нет.
Тойво как всегда прозондировал почву насчет Набокова. Вон еженедельник «Шахматы» уже дал подборку его стихотворений, может и нам, например, «Машеньку» включить в список…
— Нет. Одно дело шахматы, другое дело — история. — Сказал Пызин. Все посмотрели на шефа, он угрюмо кивнул. Но всем было понятно: запрет скоро рухнет и лектора порвут «Машеньку» на цитаты.
Галка сообщила, что взносы будет принимать у себя сразу после летучки.
— Ну, что ж, — сказал главный, — если ни у кого…
Но тут вскочил Карапет.
— Что у вас? — Неприязненно спросил Михаил Михайлович.
Карапет Карапетович несколько секунд борол волнение, потом сказал:
— У меня вопрос.
— Может быть потом, в рабочем, так сказать, порядке. — Дергая щекой попытался увильнуть шеф.
— Нет, нет, — бодро возразил Пызин, — если Карапет Карапетович хочет спросить, мы всегда можем ответить.
Михаил Михайлович сделал согласный жест руками, пожалуйста, товарищ заместитель, сражайтесь. Пызин встал. Но оскорбленный армянин смотрел не на него.
— Я хочу у вас спросить Михаил Михайлович.
— У меня? — С некоторым даже наивом в голосе поинтересовался шеф. Мол, я то тут причем?
— Я хочу спросить у вас, почему вы гоните меня как собаку, когда этому человеку позволяете все?
Главный насупился, ему все это было неприятно, но, вместе с тем, он и успокоился. Карапет явно выходил за рамки приличий, и его можно было одергивать, не обсуждая сути дела.
— Держите себя в руках, Карапет Карапетович.
— Что, если этого человека прислали сверху, то он может топтать людей и издеваться над ними как ему угодно, да Михаил Михайлович!?
— Ведите себя подобающе Карапет Карапетович!
Пызин сиял — соперник сорвался. Никто не любит скандалов и скандалистов, а Михаил Михайлович Александров, Пызин это уже понял, особенно сильно не любит. Заместителю можно было уже ничего не говорить, коротышка топил себя сам.
— Вы не ответили мне Михайлович Михайлович?!
— В таком тоне беседу я вести не намерен. Заседание окончено.
Волчок сидел у самого выхода из кабинета. Он охотно покинул летучку, на рабочее место не поспешил. У него было крохотное дельце к Тамиле Ивановне, он хотел просить отсрочки по платежам в общак.
Внутри там в кабинете еще что–то негромко кипело. Полностью ушли только Голубев с Воробьевым о чем–то очень конфиденциально переговариваясь, очевидно прикидывая, не последует вслед за антиармянским гонением, атака на гомосексуалистов.
Остальные толпились в предбаннике.
Лариса курила и перешептывалась с хитро улыбающимся Милованом, Галка делала большие глазищи за большими очками, как будто что–то предчувствуя. Мудрая Тамила Ивановна делала вид, что роется в сейфе, а сама одним глазом незаметно рылась в толпе сослуживцев.
Вышел, наконец, беззвучный, сосредоточенный, весь обрушившийся в себя Карапет. Все сочувственно, но молча на него косились. Он ни на кого не смотрел, он сопел и истекал потом. Было понятно, что лезть к нему с разговорами не стоит.
Прокопенко молча развернулся и пошел к себе.
Волчок глубже вжался в стул.
В этот момент открылась дверь кабинета, и на пороге появился Пызин с видом плодотворно потрудившегося человека. Он только что еще раз объяснил Михаилу Михайловичу, и даже доказал с цифрами в руках, что никакого национального подтекста в его деятельности на посту зама нет, никакими даже отдаленно политическими выводами данная ситуация не чревата. Компетентные люди, из числа тех, что сидят выше, в курсе. Просто им, новым замом, тихо и грамотно ликвидирована многолетня группка граждан, присосавшаяся к гонорарной ведомости «Истории». Карапет Карапетович человек с большим сердцем, и не может отказать дорогим ему людям. И не только армяне в списке. Вот Инга Вячеславовна Шмит, или Семен Антонович Тенин, они были отсеяны в первую очередь, уж потом дело дошло до всяких Гайков и Вегенов.
Михаил Михайлович мрачно молчал. Несмотря на бодрость зама, дело выглядело погано. Но, в конце концов, Карапет виноват по большому счету сам. Должно быть чувство меры, и не надо подставлять людей, которые хорошо к тебе относились. Главный отлично знал главное аппаратное правило — чтобы тихо! Можно почти все, но чтобы без скандала. Это тебе не фронт.
Пызин, выйдя в предбанник, увидел перед собой сопящего коротышку и сдвинул брови — это еще что такое?!
Карапет не стал отвечать на этот немой вопрос и правой рукой нанес по левой щеке победителя сильный удар. Пызина бросило к косяку, и он отступил внутрь кабинета, уронив папку и прижимая руку к скуле.
— Карапет, Карапет, Карапет! — на разные голоса заговорил предбанник. Мститель еще несколько раз свирепо выдохнул, сделал несколько быстрых приставных шагов вправо, как балетный, покидающий сцену после удачно выполненного номера, и выскочил вон из главной редакции.
6
Михаил Михайлович вызвал к себе Ларису. Усадил в кресло. Предложил курить. Лариса чувствовала, что сейчас этот большой мужчина ей доверится, и ей было приятно сознавать, что ему в данной ситуации не к кому больше обратиться.
Выяснилось, что Николай Николаевич «встал на формальный путь». То есть, сняты побои, диагностировано сотрясение мозга, написано заявление в милицию, в прокуратуру, ЦК ВЛКСМ поставлен на ноги.
— У нас пока что еще советская власть. — Развел сильными и несчастными руками шеф, и по его тону было трудно понять, какой смысл он вкладывает в свое заявление.
Лариса кивнула, прищурившись выпустила аккуратный клуб дыма из своих совершенно здоровых легких. И сообщила шефу, что вся Москва гудит, со всех этажей к Карапету идут делегации со словами поддержки, московские армяне готовят какое–то заявление.
Щеки шефа все более обвисали после каждого слова. Опускались углы рта, и края бровей.
— Боюсь, что до суда дойдет. Я пытался воззвать, но Пызин закусил удила. Его тоже надо понять. Кто, говорит, власть, мы или они.
— Кто «они», армяне?
Михаил Михайлович мощно поморщился.
— Какие армяне, вообще — они!
— Либералы?
— Ну-у…
— Диссиденты?
— Послушайте…
— Евреи?
Михаил Михайлович поднял со стола широченные ладони.
— Пусть уж лучше армяне.
И тут же смутился, ему было неприятно, что из его уст прозвучала эта фраза. Он боялся за свою стерильную в этом отношении репутацию.
Лариса снова выпустила клуб дыма, как бы уже пропитанный какими–то предварительными мыслями, сообщив своему прищуру немного комиссарский оттенок.
— Вы считаете, что суда не избежать?
— Нет, закусил удила, мы или они! — И очень тихо добавил. — Кретин!
— Но Михаил Михайлович, если Карапета осудят…
— Два года колонии, я наводил справки.
— … если его осудят, я вам гарантирую все, вплоть до «Голоса Америки», даже и справки наводить не надо.
Шеф навалился на стол, максимально приблизив огромное, рыхлое лицо к собеседнице.
— Скажите вашему правдолюбцу, что он бил Пызина не кулаком, что он дал ему пощечину открытой ладонью. Это был не хулиганский мордобой на рабочем месте, а творческий спор внезапно перешедший на язык символически оскорбительных жестов. У нас здесь символизм был, а не реализм, черт побери!
Лариса дала понять шефу, что она все поняла.
— Хорошо, Михаил Михайлович, я попытаюсь, сделать все возможное.
Трудней всего, как ни странно, пришлось с самим Карапетом. Он хотел пострадать.
— Да, я дал ему по морде, да, на рабочем месте, да, кулаком! Вот этим кулаком. Пускай судят, я хочу, чтобы на меня надели наручники. Я хочу в тюрьму. Все приличные русские люди сидели в тюрьме.
Тойво с Милованом иронически переглядывались, Галка и Тамила Ивановна причитали, восхищенно и озабочено, разве что не по–армянски.
Как тени промелькнули Голубев и Воробьев. Один мгновенно пожал предплечье Карапету, другой запястье — держись, борец!
Лариса вела допрос свидетелей.
— Где вы были в тот самый момент?
— Я уже ушел. — Спокойно ответил Прокопенко.
— Ну, да, я забыла, у тебя как всегда все в порядке. Человека посадят, а у тебя все в порядке.
— Я хочу, чтобы меня посадили! — Коротко вскинулся Карапет, уговаривающие руки Галки и Тамилы Ивановны усаживали его обратно, поили кофе, гладили по неровной голове.
Прокопенко встал и вышел. Лариса повернулась к Волчку.
— А ты?
— Я?
— Ты?
Волчок видел все, видел пухлый, отчаянный кулак Карапета, видел его соприкосновение с челюстью Пызина. Пожалуй, от такого удара и челюсть может треснуть. Но сказать правду, не то что на суде, но даже здесь, перед лицом возбужденного коллектива, было нереально.
— Что ты молчишь?
— Я ничего не видел.
— Как подсмотреть какую–нибудь гадость, ты всегда тут как тут, а когда нужно спасти человека, ты глазенки в пол, понятно!
Молодой человек страдал невыносимо, тем более, что обвинение Ларисы было построено таким образом, что било сразу по двум болевым точкам в уязвимой совести молодого консультанта. Она могла намекать и на его невольное свидетельство ее давнего грехопадения, и на антипатриотический прокол недавних дней. Скорее, второе. Конечно, второе. Хотел блеснуть свободомыслием, а просто выпростал предательский волчий хвост.
— Но я ничего не видел!
— Да ладно, слепец, только ты не Гомер, ты Паниковский.
Молодой человек наклонил голову, когда идут прямые грубые оскорбления, становится немного легче, чем в те моменты, когда изящно пытают совесть.
— Я ничего не видел.
— Ну и что? А просто выйти и сказать — была пощечина, граждане судьи!
Карапет опять рванулся, как Прометей со скалы, но оковы женских рук вернули его обратно.
— Это лжесвидетельство, я не хочу, чтобы меня защищали такими методами. Не соглашайтесь Шура. Я отсижу свои три, или даже девять лет, отсижу, но я буду знать, что наказал подлеца.
— По хорошему, тебе бы надо было бы дать по морде шефу, а ты побоялся. — Сказал Тойво негромко и в трубку.
— Что? — Удивились некоторые.
— Что ты сказал? — Повернулся к нему Карапет.
— Как вам не стыдно Тойво, а еще интеллигентный такой человек. — Бросились на длинного Галка и Тамила Ивановна.
— Что он сказал?! — Повернулся к ним Карапет.
— Да ничего, он не сказал. — Успокаивала его машинистка.
— Что ты сказал?
Тойво достал трубку изо рта и отрицательно помахал ею в воздухе.
— Это так, мысли вообще. И в сторону.
— Ты куда? — Спросила Лариса у Волчка.
— Я ничего не видел.
— Не важно, постой.
— Я хочу в туалет.
Лариса опять прищурилась.
— Ах, приспичило? Ну, иди, иди.
Молодой человек вышел в коридор на ватных ногах. Он был бы счастлив услужить Ларисе, он бы многое был готов отдать ради этого, но суд!!!
Лариса смотрела ему вслед презрительно, она ничуть не считала, что потерпела поражение в этой атаке. Парня додавим. Отлично было видно, как он вздрагивает, когда ему под нежный розовый ноготь втыкают иголку обвинения в нелюбви к отечеству. Сказать по правде, в это время в Ларисе в самой происходили сложные и противоречивые психологические процессы.
Она то с особой силой ощущала себя дочерью русского офицера, и в ней кипело обжигающее «за державу обидно», вместе с не умирающей детской надеждой, что Чапаев доплывет; то вдруг обнаруживала, что ей хочется вызволением нелепого Карапета либерально, почти по–диссидентски щелкнуть по носу тупоумную, мягкотелую нынешнюю партийную диктатуру. Она была одновременно и за родимую родину, и за всеобщую свободу. И от невозможности остановиться в какой–то одной точке неосознанно и непрерывно злилась. Карапет был не такой уж светоч и борец, но его бесчеловечно было бросить без подмоги. Но Карапет, вместе с тем, был бывший приспособленец, поэтому, противно и нелепо было бы защищать его своей собственной грудью. Вот за Николая Гумилева она бестрепетно бы подставила под пули свою любимую водолазку. И если бы во имя большой государственной пользы надо было растоптать того прежнего, ничтожного, лизоблюдного Карапета, она бы позволила его растоптать.
Ей хотелось быть хорошо оцененной в свободомыслящих кругах. Все связанное напрямую с властью казалось безнадежно тухлым, заслуживающим только иронического презрения.
Параллельно с этим, она неожиданно забавлялась тем, до какой степени, оказывается, это действенный инструмент — обвинение в непатриотизме. Удивлялась как маленькая девочка, которая в груде мусора нашла скальпель и наслаждается возможностью полоснуть любого подвернувшегося.
А ведь и, правда, смешно. Все такие свободные. Высмеивают советские дороги, пустые магазины, пьянство, нищету, тупейшую власть, туалетную грязь, дикость нравов, все, все, все у нас сущее дерьмо, что ни сравни с западным, все говно, но стоит вот так прямо ткнуть пальцем — ты предатель! с человеком что–то делается. Быть антисоветчиком как–то даже уже и естественно, но когда называют власовцем, страшно.
7
— Твоя фамилия не от белорусского волка, а от какого–то более мелкого зверя. Значительно более мелкого. Суетливого, как хорьковая белка. Даже нет, ты вообще не из фауны, ты вот эта игрушка, которая крутится со звоном. — Говорила Лариса медленно и задумчиво Волчку, и он невольно схватился за бока, чтобы проверить, не находиться ли и в самом деле в состоянии вращательного движения.
Лариса забычковала сигарету, вздохнула с какой–то окончательной разочарованностью в человеке.
— Береги честь смолоду, волчок–дружок.
Лариса удалилась в свой кабинет, а молодой консультант погрузился в кресло как в сосуд с расплавленным свинцом. Удалившаяся Лариса была уверена, что осталось сделать всего несколько уколов в эту ничтожную совесть, чтобы обладатель ее с воплями кинулся давать любые показания, если надо, то и на самого себя.
А дело, между тем, раскручивалось. На настоящий политический уровень оно не тянуло, хотя зам и старался. Но было ясно, что это и не простой производственный конфликт. Скоро уже все были в курсе, что Карапету маячит вполне реальная зона. Дядьку надо было спасать.
Волчка пригласили к настоящему следователю, и хотя он сразу же, с первого слова заявил, что ничего не видел, потому что рассматривал пятно на брюках, его мурыжили почти два часа. Одновременно настырный и вкрадчивый капитан подъезжал и так и эдак. Пытался выявить в консультанте советскую сознательность, но быстро оставил попытки, намекал и на социальное происхождение, ты мол, парень из сирот, на кухаркины деньги выучился, а эти москвичи тут жируют, в огромных однокомнатных квартирах на улице 1905 года, и лупят по морде хороших комсомольских парней, раскрывших по сути шайку расхитителей честных советских гонораров. И это не сработало. Молодой консультант стоял насмерть — брюки, пятно.
Ничего не видел?
А, может, слышал?
Был ведь звук удара? На что он был похож, на удар кулаком, или открытой ладонью? Молодой человек запаниковал, понимая — попался. Забормотал что–то про среднее ухо, которое раньше все время воспалялось, а потом и про средний от этого слух, мол, даже собственная тетя не брала его в хор, которым руководила, даже по знакомству не брала. И вообще, пятно.
Тогда капитан перекинулся на инородческую траекторию, мол, понаехали в столицу разные, колотят по мордасам честных замредакторов, разве не должен поучаствовать в пресечении этого безобразия честный русский парень, армеец и ученый.
Волчок заметил несоответствие в построениях капитана. Карапет был у него то зажравшийся, то понаехавший, но молодой специалист по Бородинскому сражению решил не вылезать с этим наблюдением.
Поэтому промолчал. Уклонился, отмазался.
Дав подписать ему каждый лист протокола, капитан, с отвращением подмахивая пропуск, сказал.
— Эх, ты, пятно! Я понимаю, запугали тебя.
— Кто?
Капитан уже не смотрел на него.
— Иди, только знай, что это лжесвидетельство. Такое чистоплюйское — ничего не видел, ничего не знаю, есть чистейшее лжесвидетельство.
Волчок с удовольствием не пошел бы на работу, но у него назначены были три важнейшие встречи. Одна как раз со специалистом по муниципальному устройству Римской Империи.
Он сидел за своим столом, когда раздались шаги по коридору. Не шаги специалиста, консультант вжался в кресло. Лариса вошла, туманя свой облик дорогими табачными дымами, облако дорогого косметического запаха так же ощущалось на расстоянии.
— Ну, ты ничего не хочешь мне сказать, патриот–надомник?
Всю ночь консультант не спал. На судьбу боевого армянина ему было плевать. Он был занят решением теоремы: как отбиться от Ларисы. Она явно наметила его в герои этого процесса, какова будет ее месть, если он откажется, ему было настолько жутко думать, что он не думал. Но и капитанских щупалец официального закона он тоже боялся страшно. Как быть?! Отвлекал себя боковыми мыслями: гад Прокопенко, вовремя слинял, всегда знает, когда скрыться у себя в семействе. Права Лара, что–то нечисто с его чистым счастьем!
— Ну что, Волчок?
— Что?
— А ты не перечислишь ли мне императоров династии Клавдиев.
— Зачем?
— Что–то мне очень захотелось послушать.
Это было конечно издевательство, но одновременно и оттяжка времени. Может быть, придет за время перечисления спасительная мысль, какой–то способ выскользнуть из под удара.
— Калигула.
— Ну!
— Нерон.
— Ну!
— Ну, Клавдий.
— Ну!
В этот момент появился радостно улыбающийся специалист по муниципальному устройству Римской Империи. Ему было очень приятно, что в данном заведении начало рабочего дня начинается уммственной гимнастикой именно такого рода.
Лариса бросила на несвоевременного латиноида свой взгляд, и удалилась, потребовав, чтобы «товарищ консультант» навестил ее минут через пятнадцать.
— Здравствуйте, товарищ Волчок.
Римский гость сразу понял, что молодому работнику не до него. Парень с трудом подбирает нужные слова, и при всей очевидности дела, все время соскальзывает сознанием с линии разговора. А с каким преувеличенным раздражением посмотрел он на телефонный аппарат, вдруг решивший зазвонить.
Звонила, разумеется, Лариса.
— Можешь не спешить. Опоздал. Можешь вообще здесь не появляться.
Молодой Консультант вскочил так резко, что побледнел — отлила кровь. Тут же сел, боясь потерять сознание.
— Я оставил тут и анкету, и автобиографию, до свидания. — Сказал приветливо римлянин. Ему хотелось задать еще несколько вопросов, обсудить не только династию Клавдиев, но, может быть, и Антонинов, но было понятно, что спрашивать он будет зря.
Волчок выждал минут пятнадцать, надеясь на еще один, может статься, смягчающий, звонок с территории отдела Великой Отечественной Войны. Не было такого. На шатающихся ногах отправился к дверям известного кабинета.
Постоял с минуту у запертой двери.
Он не знал, какие именно слова скажет, но, вместе с тем, уже считал себя решившимся. Только вот на что? Главное снять этот, сиюсекундный кошмар, а там будет видно, ведь суд не завтра, с ним может случиться горячка, пожар или другое, столь же радостное событие.
Главное, чтобы она была там одна.
Лариса, Галка, Милован сидели за столом и пили кофе–чай. Вместе с ними сидел, как ни странно, Прокопенко. Вроде бы отвергнутый за нежелание включиться в движение спасателей Карапета. Он был в легком подпитии, что–то говорил, размахивая маленькими острыми ладонями. Чувствовалось, что он в центре внимания.
Волчок замер в дверях.
Пару секунд ему пришлось гореть на медленном огне общего, испепеляющего внимания.
Наконец Лариса презрительно выцедила.
— Сади–ись.
По крайней мере не сказано: «уходи».
Сел, взял чашку, стоявшую на краю.
— Это моя, сказал Прокопенко.
Других свободных чашек не было, пришлось сидеть с пустыми руками.
— Ну что, Волчок, тебе не стыдно?
— Что? — Волчок решил — все, сейчас он объявит, он согласен! Только сглотнет слюну, и объявит.
Тем временем шла за столом шла общая беседа. Центром разговора, как ни странно упорно продолжал оставаться Прокопенко, и не только центром, но и просто каким–то главным героем. Постепенно до сознания Молодого консультанта стало доходить: счастливый семьянин решил принести большую общественную жертву. На предстоящем суде он покажет, что Карапет нанес удар Пызину совершенно открытой ладонью. Была пощечина, и ничего больше.
Волчок осторожно встал, и побрел к себе. Ждал окрика в спину, но пронесло. В коридоре столкнулся с Карапетом. Поклонился ему чуть ли не в пояс, и пробормотал одними губами: «здравствуйте». Он испытывал чувство вины перед демагогическим драчуном и ничего не мог с этим поделать, хотя уже знал, что тому уже не придется страдать за свой поступок. Чувство вины даже слегка марало чувство облегчения, на которое он имел право, после того, как выяснилось, что наследником Александра Матросова быть не ему.
8
Суд состоялся вскоре в здании районного суда.
Шел дождь. Явились все «историки», пришло много народу и из других «направлений» — «Биология» и «Искусство» в основном. Они толпились в темном, дворе под подъездными козырьками, капли лупили в глубокие полные грязной воды асфальтовые выбоины, изъязвлявшие здешний асфальт. Михаил Михайлович Александров стоял под липой и под зонтом, показывая, что ему горестна данная ситуация, и что он в стороне от всего этого. Он и был на полторы головы выше любого из собравшихся, а при своем зонте вообще казался башней.
Явились тихим табором армяне, среди которых армян было не большинство. Было слышно, что они все тихо, но страстно болеют за Карапета. Незадолго до этого уволенного.
Пызин стоял в сторонке и один. Он никому из близких не позволил придти, хотя по слухам, никто особо и не порывался. Все же отстаивать честь битой физиономии через судебную тяжбу не рыцарство.
До того момента как всех должны были пригласить внутрь, в тесные помещения районного суда, оставалось еще несколько минут. Карапет Карапетович достал из кармана какой–то журнал, долго листал, оказывается, искал нужную страницу. Ему сунули в руку ручку, он что–то стал писать на открытой странице. Поднял голову в огромных очках, нашел фигуру бывшего шефа и вдруг побежал к нему через опасный для передвижения двор, напоминавший бывшее минное поле, прямо так, с открытым журналом, ловя на него безжалостные капли.
Стараниями друзей, считавших Карапета безусловной жертвой, была срочно напечатала в журнале «Работница» статья его о княгине Ольге, доказывающая, что Карапет Карапетович был все же хорошим специалистом по истории Древней Руси, с которым напрасно расстались из–за наглого комсомольского номенклатурщика.
Михаил Михайлович не сразу понял, чего от него хотят. В первый момент ему даже показалось, что его заставляют подписать какое–то письмо, или расписаться в книге каких–нибудь почетных друзей армянского народа. Когда понял в чем дело, выставил вперед ладонь, отказываясь от подарка. К чему все это?! Не надо!
Но не отступать же было Карапету. Раз уж он решил показать, что не смотря ни на что видит в своем бывшем шефе человека заслуживающего уважения, то он сделает это. Сообразив, что в раскрытом варианте журнал вручить не удастся, он захлопнул его, бросив внутрь и ручку, и сунул подмышку той руки шефа, что держала зонт. И быстро ретировался, слаломируя между кипящими от капель дырами в дне двора.
Суд прошел по предполагавшемуся сценарию.
Все сошлось на допросе Прокопенко. С него уже слетел хмель решимости, весь мед страдания за други своя, он уже сжевал в предыдущие дни, и теперь ему было тошновато. Бледнел, насильственно улыбался шуткам болельщиков из своей команды. Но все сделал исчерпывающе.
Да, ладонь.
Да, открытая.
Вот так открытая. Показал пятерню, картинно отведя, даже немного дурачясь, с трудом удерживаясь от улыбочки. Вот этим движением, по щеке. На абсолютную серьезность моральных сил не хватало. Русский человек (пусть и по фамилии Прокопенко), преступая закон, невольно начинает куражиться, потому что иначе не может преодолеть стыд перед собой, а потому со стороны выглядит особенно нехорошо.
Срок получился условный.
Пызин, проходя мимо Прокопенко, сделал ему под ноги сухой плевок. Воздушный поцелуй в негативном смысле. Отчего все болельщики стали Прокопенку обнимать, пожимать.
Тойво мудро посасывал трубку в сторонке.
Милован откупоривал бутылку шампанского, извлеченную как будто прямо из дождя.
Галка верещала.
К Михаилу Михайловичу подошел маленький худой армянин и потребовал у него свою ручку. Тот ничего не понял, он уже стоял у своей машины, уже считал дело закрытым, а тут… «Какую еще ручку?!» «Карапет Карапетович отдал вам мою ручку, где она?» «Какая еще ручка?!» «Ручка очень ценная, с изображением Арарата, ею подписывался журнал». «Какой еще журнал?!» «Вам подарили журнал «Работница». «Зачем мне журнал «Работница»! Я не знаю, где журнал!» «Извините, пожалуйста, но верните мою ручку».
Михаил Михайлович потянулся рукой к проходившему мимо герою процесса, тоже всячески обнимаемому дружескими руками.
— Карапет…
— Что?
— Тут какая–то ручка, журнал какой–то, я не понимаю…
— У меня есть не только имя уважаемый Михаил Михайлович, но и отчество.
Шеф выпучился каким–то безумным взглядом на бывшего клеврета.
Совместными усилиями ручка отыскалась.
Окончание неловкой истории тонуло в немного нервном веселье.
Вся команда поехала к Ларисе. Энгельс, Бережной, Лион Иванович, все, кто был настоятельно приглашен поболеть за нужный результат.
Без шефа, уехавшего с начинавшимся сердечным приступом.
И без серого Прокопенко, он отпросился к жене, и ему было позволено удалиться. Хохол сделал свое дело.
Волчок тоже был взят, даже не приглашен, а пришпилен к основному составу. Он знал, что заслуживает презрения со стороны истинных борцов с озверевшими номенклатурщиками, но помимо него (презрения) в улыбке и тоне Ларисиной речи обращаемой время от времени к нему, было и еще что–то. Какое–то властно–снисходительное дружелюбие, и оно, скорее пугало, чем успокаивало. Волчок бродил внутри общей победно–праздничной суеты — поимка такси, выбор парной свинины на рынке — и все глубже проваливался в понимание — попался! Как антилопа, которая еще внутри стада, но уже запримечена львицей.
Прежде неоднократно ему случалось оказываться вместе с Ларисой в ситуациях, которые можно было бы назвать двусмысленными, но всякий раз ему удавалось выскользнуть из них, не нанеся даме никакой явной обиды.
Кажется, сегодня не выскользнуть.
Не надо думать, что Волчок не видел, что госпожа (теперь уже старший консультант) весьма привлекательная женщина, хоть и заметно старше его годами. Отпугивало то, что он чувствовал себя при ней существом более слабого пола. Она одновременно пол и сильный, и прекрасный, а он просто приспособление с дипломом о высшем образовании, которое вынимают из тумбочки, когда сочтут нужным. Например, после победы в судебном процессе.
Он тускло тосковал, в то время, когда все очень радовались. Всем приятно было ощущать себя такими либеральными, такими антисоветскими и одновременно добившимися официального успеха. Наступали те самые времена, когда противостояние режиму приносило не лагерь или хотя бы вышвыривание с работы, а всеобщее уважение, значительность, общественный вес. Все–таки неправда, что русскому человеку главное пострадать, претерпеть за правду, отправиться по этапу за независимый образ мысли. Ему не меньше нравится, что суд на его стороне, что все на его стороне, а противник жалок, растоптан, утирает побитую морду бесполезной апелляцией.
Подкатили на двух машинах к обиталищу главной конструкторши сегодняшнего успеха. Лариса занимала большую комнату в маленькой коммунальной квартире. В соседях у нее была тихая семья из трех человек, родители и дочка. Несмотря на трехкратное численное превосходство, Каблуковы претендовали на значительно меньшую половину жилищных браг. Старались не занимать ванную комнату без особой необходимости, оправлялись очень рано и стремительно, и на кухне не качали права, всем своим поведением понимая, что соседка у них творческий работник. Такое положение вещей Лариса поддерживала добродушной надменностью в общении с соседями, но не только. Пару раз, когда, кажется, дочурке соседей понадобилась срочная, очень редкая, очень квалифицированная помощь, на получение которой по обычным каналам не было никаких шансов, Лариса помогла, приложив немалые телефонные силы. Даже письмо какое–то составила. В общем, она занимала в своей квартире положение госпожи, к которой как во времена военного коммунизма подселили семейство ее бывших крепостных.
Когда веселая толпа с пакетами и бутылками вошла во двор, со скамейки под липами занимавшими середину темноватого двора, поднялись с разной скоростью две фигуры. Быстро встал пожилой человек бравого вида, замедленно — полный мальчик. Было понятно, что это ларисины гости. Но они не бросились вперед, не зная как себя вести при стольких чужих людях.
Гости тоже остановились.
Лариса сделала по инерции несколько шагов вперед, и окаменела. В голове у нее наступала неприятная ясность, в душе брезжило раздражение. Что за идиотская провинциальная привычка: приезжать без предупреждения. То есть, если ты написал две недели назад, что будешь в два часа четырнадцатого, и приехал в два часа четырнадцатого через две недели, это все равно, что без предупреждения! Можно же было хотя бы позавчера позвонить!
Две группы молчаливых людей стояли по разным берегам мелкой, прозрачной лужи.
Этот эффект Лариса испытывала неоднократно при встрече с гродненскими родственниками, уже на протяжении нескольких последних лет. И сейчас у нее, как и всегда, было полное ощущение, что отец приехал вместе с Перковым, этой жирной, подлой, бездарной скотиной. Только почему–то сильно уменьшившейся в росте. И с каждым годом ощущение будет усиливаться — сынок будет подрастать, уже сейчас он капитану до плеча.
— Здравствуй папа, здравствуй сын.
Лион Иванович на правах старого друга семьи на пятках форсировал лужу и занялся суматошными рукопожатиями, и объятиями.
— Молодцы, какие молодцы!
— Мы писали. — Сказал капитан через его плечо, обращаясь к публике, которой, как он чувствовал, ломает кайф.
— Знаю, — сказала Лариса, — я очень рада.
— Может быть, мы в следующий раз? — Шепнула ей Галка на ухо.
— Ни в коем случае!
— Правда, правда, Ларис, сын, Ларис, отец. — Забормотала толпа гостей, понимающе вздыхая.
— Да вы что, такой день!
Подавив всеобщую неловкость своею бодрой волей, Лариса погнала всех в подъезд. Когда входили в лифт, обняла сына за плечо.
— Ну, как доехали?
— Хорошо.
— Как в школе? А, поняла, лето.
— Лето. — Согласился сын.
— Как мама?
— Шпоры. Тоже хотела приехать.
— Вы насколько? — Это уже отцу, капитану Коневу.
— Насколько скажешь.
Несмотря на огромные усилия, приложенные хозяйкой для организации веселого, беззаботного застолья, ничего путного не получилось. Хотя отец охотно поднимал рюмки и чокался то с Милованом, то с Бережным, а сын Егор тихо сидел на кухне и беседовал с Мусей, соседской кошкой, разгон банкету не дался. Это стало ясно в тот момент, когда Лариса потребовала завести песню «на границе тучи ходят хмуро», и попробовала солировать
— Папа, ты же танкист! — Укоризненно и подзуживающе крикнула она отцу.
— Я пенсионер.
— На границе танки ходят хмуро. — Скаламбурил сын космонавта и не заслужил поощрительного взгляда хозяйки, хотя обычно верткий, пошловатый юмор его ей нравился.
Галка выбежала на кухню подрезать колбаски. Сын сидел на стуле, глядя в окно на вновь начинающийся дождь. Короткие ноги в белых сандалях висели не по–детски неподвижно.
— А ты чего здесь?
Он пожал плечами.
Галка, вернувшись, наклонилась к уху триумфаторши, которая в этот момент пыталась раскрутить новую ухарскую победную песню «Любо братцы, любо, любо братцы жить!»
— А чего это Егор на кухне сидит?
Лариса отбрила ее убийственным взглядом, лидер машбюро поняла, что лезет немного не в свое дело. Лариса тут же попыталась вернуться в течение песни, но та уже успела как–то просесть без ее непрерывного напора, и теперь разваливалась. Лариса вышла на кухню, где отделочница Кабукова предлагала Егору компоту, но он благоразумно отказывался, понимая, что это будет воспринято его матерью как предательство, был уже достаточно взросл для этого.
Соседка выбежала вон с каменным лицом.
— Ты что это здесь сидишь?
Егор и тут показал себя с лучшей стороны. Не стал маме напоминать, как она охотно согласилась, когда он сказал ей что пойдет на кухню. Когда они вошли в комнату, все уже стояли — пора расходиться.
— Нет, нет, нет. — Закричала хозяйка, хотя уже и ей было понятно, что гостей обратно за столы уж не впихнуть. Было очень досадно, и главное — некого было обвинить в саботаже. Отец, ради компании, отвечал на все вопросы касательно новейшей танковой техники, возможно даже заходи за грань военной тайны. Сын, готов был сидеть в подполе, пока не разрешат появиться на свет.
И все же Лариса была в ярости. Единственное, чем она могла гордиться, что ей эту ярость удается сдерживать.
— Тогда стременную! — Скомандовала она.
Выпили и по «стременной» и по «закурганной», и уж под самый конец сын космонавта выкинул свой обычный, но всегда пользующийся успехом номер.
— А теперь — «шапошная».
Загорелый, седой капитан Конев поинтересовался, что это за новость, он ведь, кажется, все эти застольные приемчики знает наизусть.
— А это, — пояснил Бережной, — когда после всех других именных выпиваешь, шапку с головы долой и хрясть об пол — а не поеду я никуда!
Капитан засмеялся. Засмеялись даже некоторые из тех, кто отлично знал эту репризу. В глазах у Ларисы блеснуло живым светом «споемте друзья», «молодые капитаны поведут наш караван».
— Поведут… — пыхтел Энгельс завязывая шнурки.
— Поведут, но по домам. — Кричал сын космонавта.
Волчок проскользнул за спинами на свободу.
— Эх вы! — Устало и разбито вдруг вздохнула вдохновительница сегодняшней победы. — Ну, тогда выметайтесь.
Она обняла за плечи двух приехавших к ней мужчин, так что было отчетливо видно, что она старше не только сына, но и капитана.
Лион Иванович, уже целуясь в дверях, шепнул Ларисе:
— Завтра же ко мне, устроим парню туда–сюда культурную программку. Зоопарк, планетарий…
— Да, дядя Ли, займись уж. Сам говорил — они же тебе как родные.
9
Но не одна лишь борьба за освобождение Карапета Карапетовича от уголовной ответственности занимала Ларису в эти дни. Развивалась в ней невидимая духовная жажда, и она искала случая ее утолить.
Однажды, после обычной штабной пьянки в отделе Питирим и Энгельс предложили ей, «а поехали с нами». «Куда?». Оказалось, что в очень хороший дом. В районе старого Арбата, Буквально в двух шагах от Староконюшенного. Лариса всегда с большой легкостью откликалась на предложения «продолжить», а тут еще и интригующая география. По разговорам в такси Лариса поняла, что предстоит не рядовая попойка, человек, которым с ней хотят поделиться, важный и идейно, в хорошем смысле, влиятельный. Питирим рассуждал о нем, как и всегда обо всех запростецки, но это не могло скрыть запрятанного в глубине пиетета. Энгельс, так тот просто сыпал дифирамбами. Было понятно, что ее угощают редким московским блюдом.
Обычно, если преамбула так пышна, то сам спектакль разочаровывает. Но не в этом случае. Венедикт Дмитриевич Поляновский произвел на Ларису огромное впечатление. Огромный, худой, седой, улыбчивый старик в пристойно поношенном халате, шелковой свежей рубашке. Он приветливо принял молодых гостей. Они привычно протопали на кухню. Хозяина абсолютно не смутило появление винных бутылок из торбы Энгельса. Для себя он поставил чай. Впоследствии выяснилось, что он никогда не был пристрастен к вину, и спокойно переносил распивание его другими в своем присутствии. Как–то сам собой, еще в процессе откупоривания, завязался очень существенный разговор прямо с выходом на самые главные темы, как будто в этом доме всегда поддерживалась, как огонь в печи, необходимая умственная атмосфера. Стоило гостю переступить порог, и его охватывало — а в чем смысл жизни?
Лариса была как губка, даже отключила автопилот кокетничанья, и просто внимала. С первого раза в голове осталось мало, хотя голова и старалась. Русский путь, историческая роль православия, монархия и модерн, третий Рим или новый Иерусалим? Самым сильным моментом, кульминацией вечера было превосходное чтение пушкинского стихотворения «На взятие Варшавы», с посвящением — «русскому либералу».
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Как молния ударила в приподнятый винным парением разум.
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь,
и гибло знамя нашей чести.
— «Чистый» лик — это вы ведь от себя, да? Там ведь квадратные скобки вообще–то. — Влез Энгельс, но Лариса так на него посмотрела, что ему стало стыдно за свою назойливую энциклопедичность.
Лариса прекрасно знала Пушкина, «Евгения Онегина» огромными кусками наизусть, даже лексически рискованную его лирику, но чтобы такое… Она засомневалась, спросить, или стыдно — где это напечатано. Но хозяин невольно пришел ей на помощь, рассказал, что после напечатания этого текста в сентябре 1831 года, у него была сложнейшая судьба. Какие гонения приходится претерпевать, при попытке заново предъявить его публике.
Лариса была поражена и восхищена. Она увидела, и глубочайше осознала — вот оно! Ничего не было удивительного в такой мгновенной реакции. Все последние годы ее бездумного, позорного бултыхания в жидком растворе мелкодиссидентсвующей жизни, в ней шло накопление нужных питательных элементов, они оседали на дне емкой души, и при попадания на это дно настоящего духовного семени, произошел резкий всход. Лариса ощутила что–то вроде тихой, просветляющей эйфории. Так далеко и глубоко стало видно, такая ясность соображения наступила, столько неразрешимых вопросов распутались сами собой.
Был и еще один момент, дополнительно очаровывавший ее как бывшую «упрямую дщерь самиздата»: Поляновскому удалось самого Александра Сергеевича сделать запрещенным автором. Еще со студенческих пор ее приучали к мысли — читать имеет смысл только то, что гонимо властями. Гонимость была свидетельством подлинности. Поляновский добившись такого свидетельства именно для этого пушкинского стихотворения, светом благородной подлинности осветил все начинающееся от него движение ума и души.
Она стала бывать у Венедикта Дмитриевича, сначала с Питиримом, явным любимцем хозяина, а затем и одна. И очень скоро эта сторона жизни сделалась для нее куда более важна, чем процесс Карапета. А стоило ему завершиться успехом, как она и вовсе забыла о существовании этого человека.
Был подписан приказ о назначении Ларисы Николаевны Коневой на должность старшего консультанта. Через час после этого приказа последовало два заявления от Голубева и Воробьева об увольнении по собственному желанию.
Михаил Михайлович безрадостно подписывая их поинтересовался, куда же пойдут его не самые худшие сотрудники.
— А вам не все равно? — Дерзко спросил всегда покорный Воробьев.
Шеф стерпел этот тон и даже попытался сохранить интеллигентность, и сказал, что нет, не все равно, ему приятно вспоминать годы совместной работы, и ему хотелось бы, чтобы такие хорошие работники, такие порядочные люди нашли себе достойное место и смогли…
— Успокойтесь, — Презрительно выпятив губу, сказал Голубев, — мы уже давно поняли к чему тут идет, и, конечно, подумали о запасном аэродроме.
— А, так вам давно уже здесь… — Михаил Михайлович щелкнул большими плоскими пальцами, подбирая слово.
— Нам не хватало вашего мужского поведения. — Закончил Воробьев, который, несмотря на более низкую должность, был лидером в данной паре. Они гордо ушли.
Михаил Михайлович остался сидеть в полуразрушенном состоянии, пытаясь настроить себя против этой парочки.
— Мужское поведение епть, сдурели!
В разговоре с Милованом и Ларисой, который состоялся вечером того же дня, шеф довольно иронично отозвался о паре «летчиков». Ему, разумеется, утешительно было истолковать дело так, что не он их выдавил, а они сами изначально поглядывали на сторону. В глубине души, если бы кто–то навел резкость его зрения на эту проблему, старый морпех признал бы что переставляет причины и следствия местами, но ему не хотелось в глубины души, хотелось просто пристойного завершения этого месячного кошмара. О том, что Пызин тоже уходит, ему звонили из отдела кадров ЦК ВЛКСМ. И таким образом дело закрывалось. О том же, что зам заявил своим корешам в ЦК, что не желает работать с этим старым козлом–провокатором и антисоветчиком, Михаилу Михайловичу не сказали, щадя его возраст, и он сам ни единой мыслью не касался этой темы.
В своей раздумчивой медленной, мудрой по виду речи, обращенной к своим ближайшим соратникам по «направлению» Михаил Михайлович долго и тщательно расставлял точки над и. Показывал умытые руки. «Они», мол, сами, и «голубые» братья с их высматриванием запасных аэродромов, и Пызин с его искаженным пониманием способов проведения национальной политики в органах культуры и науки, сами виноваты.
Милован и Лара очень обрадовались услышанным фактам, тут же дали понять шефу, что он видится им фигурой мощной, твердой, государственной, практически «ледоколом» нового идейного курса. К тому же, и в высшей степени порядочным человеком, что им лестно трудится под его руководством.
Сначала бывший аппаратчик Александров осторожно прищурился — что, мол, имеете в виду. Что за «новый курс»? И тут вдруг, неожиданно даже для Милована, считавшего себя более продвинутым в данной теме, Лариса взяла инициативу.
— «Новый курс» предполагает постепенное расставание со старой, партсоветской номенклатурной мишурой, сбрасывание ортодоксальной идеологической шкуры, плюс полный и тотальный отказ от низкопоклонного заигрывания с лево–либеральными, постеврокоммунистическими, и передрастическими, нонконформистскими и другими заграничными групостями; отказ от публичной критики нынешнего режима с позиций «Голоса Америки», а значит ЦРУ, переход к его молчаливому патриотическому перевариванию. Никакого социализма с человеческим лицом Горбачева. Россия как высшая ценность. Новая государственность.
Михаил Михайлович откинулся на спинку кресла своей плоской, мощной фигурой, сдвинул брови на переносице. Милован искоса, с удивленной улыбочкой поглядывал на соратницу. Он тоже бывал у Венедикта Дмитриевича и знал происхождение этих формулировок.
— Вы понимаете, сейчас в обществе представлены всего две масштабных силы. Агонизирующий, скомпрометированный, высмеянный, вырастивший в своей среде пять пятых колонн партаппарат. Партаппарат еще силен, в нем гигантская инерция, средства, человеческий ресурс, но все это тает, тает, тает, скоро будет утрачена возможность адекватного управления всем этим монстром — СССР.
— А вторая сила? — Спросил движением брови шеф.
— И огромный орден, класс, подвид, страта людей выбирающих для себя тотально безсоветскую жизнь. Этих людей не устраивает все, не только сегодняшнее государственное здание, но и сама идея независимой русской цивилизационной роли. В очередной раз нам грозит разрушение до основания, и никто не хочет думать над тем, что будет затем.
— И как быть? — Михаил Михайлович смотрел на Ларису с таким искренним недоумением, что та даже чуть победоносно улыбнулась.
— Нам мыслится промежуточный проект. Капитальный ремонт. Обессовечивание глобальной государственной постройки и наполнение новой, подлинно народной русской жизнью.
— Народ! — кивнул Милован, которому больше ничего не оставалось. — Правильно и вовремя опознанная воля природного русского большинства.
— А если конкретно, то новое общественное движение могло бы называться просто и понятно: «Братья и сестры!!» — Заключила Лариса.
— Это же какой–то сталинизм! — С сомнением выдохнул Михаил Михайлович, у которого голова неприятно кружилась в виду открывшейся картины.
— Придется по капле выдавить из себя шестидесятника. — Было тут же сказано ему, и с таким пылом, что он закашлялся. — Только две идеи остаются не скомпрометированными на настоящий момент: православный крест и русский меч.
Михаил Михайлович разумно кивал. Он сделал для себя успокаивающий вывод, что молодые люди, это как всегда торопящиеся люди. Ему немного льстило, что его считают достойным подобных откровений, не сбросили еще на свалку перестройки, и очень приятно было осознавать, что его поведение в недавней истории расценивают как подвиг выдержанности и принципиальности, а не как–нибудь иначе. Не как результат слабости и изворотливости.
А что касается конкретных дел, движений «Братья и сестры», «Дяди и тети», все это маячило в такой безопасной отдаленности… Он не стал спорить с молодыми друзьями, пусть думают, что он медленно дрейфует в направлении их берега
Когда это еще дойдет до конкретных дел.
Очень скоро!
Лариса не дала завязнуть разговору в области абстрактных понятий и перевела разговор в практическую плоскость.
— Так что, должность Голубева теперь свободна?
Михаил Михайлович кинул, и тут же помрачнел
— И вы еще никому ее не предложили?
— Я не считал возможным вести переговоры за спиной живого заведующего отделом.
Как все же приятно иметь дело с порядочным человеком.
— А приказ о моем назначении старшим консультантом вы еще не отправили в отдел кадров?
Тут Михаил Михайлович все понял, и понял, что понял поздно.
10
Для товарища Александрова эта история неожиданно закончилась повышением. Видимо, кто–то наверху решил, что он с большим искусством вышел из истории с мордобоем на летучке, и его назначили главным управляющим ЦБПЗ. Теперь под его началом была не только «История», но и Физика», «Химия», Искусство», и даже «Сельское хозяйство».
Он пытался отказываться, но, будучи существом номенклатурным понимал, что это бесполезно, только тяжелая болезнь может ему позволить увильнуть от нового назначения. В его положении были возможны только два варианта, или наверх, или на пенсию. Да, кроме того, говоря спокойно, сам факт повышения отвращения у него не вызывал. Некоторую тоску рождало предвкушение новых обязанностей, что помешает, обязательно помешает полнее отдаться давно задуманной работе — книге мемуаров о войне и послевоенном строительстве. Разумеется, включат еще в полдюжины комиссий и коллегий. Но тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь крупных начальников. «Попробуем работать по утрам», решил он, понимая, что даже не попробует.
Так или иначе, место товарища Александрова в «Истории» освободилось. Комсомольские кураторы долго тянули с назначением, скорей всего потому, что место начальника «направления» в ЦПБЗ потеряло привлекательность и трудно было найти желающих. И Ларисе пришла в голову превосходная административная идея — почему бы не выдвинуть в начальники своего. «Кого?» — спросил Милован. «А того подполковника». «Реброва?». «Ну, да».
У Венедикта Дмитриевича подвизался один отставник симпатичный, молодой отставник очень тянущийся к истинно историческому знанию. Автор простых, честных статей о русско–турецких войнах, печатавшихся от «Военно–исторического журнала» до «Москвы». У Поляновского он получал редкие знания, а главное новые идеи, и был за это истово благодарен. С открытым ртом смотрел своему герою в рот. Наверно, седому гиганту это надоело, и он как–то в разговоре проскользнул фразой о том, что подполковника неплохо бы приладить к какому–нибудь полезному месту. Лариса вспомнила об этом. Выяснила, что подполковник член КПСС, что было номенклатурно необходимо, и повела его вместе с Милованом к шефу.
При первом свидании он Михаилу Михайловичу даже понравился. Армейская выправка всегда идет мужчине, и в отношении мужчины интеллектуального труда создает впечатление, что, что он способен мыслить четко и конкретно. Иногда ложное. Чуть–чуть расстраивала слишком уж конкретная окраска репутации товарища Реброва, но тут ничего, кажется, не поделаешь. Михаилу Михайловичу, конечно, хотелось бы оставаться совсем уж над схваткой, но все же без принесения каких–то жертв тут не обойтись. Хочешь пользоваться абсолютной и восхищенной поддержкой своего коллектива, (а это так приятно, быть живой легендой), изволь слегка подыгрывать обожателям. Тем более что с этим молодым подполковником они придумали хорошо: «А, давайте Михаил Михайлович вы сами выйдете с его кандидатурой, не дожидаясь пока там комсомолята в ЦК созреют с собственной кандидатурой. Причем, не запросите, а заявите: вот взял работника. У них там голова идет кругом, все перебегают из комсомола в ССОД, там будут крутиться главные деньги, а мы под шумок… Бумагу от Академии наук, что она как всегда на все согласна, в три секунды организуем».
— Это что, получается, я бунтую против комсомола?
— Да, нет, вы показываете, кто в доме хозяин. Больше уважать будут. Все так делают.
Александров навел справки, выяснил, что подобные движения кое–где происходят. Старые ориентиры вроде бы никто официально не отменял, но между ними появились большие промоины, где шныряют с успехом для себя, те, кто «понимает ситуацию». Михаил Михайлович ситуацию до конца не понимал, поэтому решил поддерживать репутацию широкого человека. Давая волю «молодым ретроградам» у себя в «Истории», давал волю и «пламенным ниспровергателям» в «Музыке», которая теперь так же была к под ним. Там сидел худой, очень больной, абсолютно неуправляемый поклонник ленинградского рока. Михаил Михайлович во–первых, ничего не понимал ни в ленинградском, ни в каком–то другом роке, во–вторых сразу же почувствовал, что любая попытка вмешательства в деятельность «музыкантов» закончиться чем–нибудь вроде самосожжения, поэтому сделал барственный вид — делайте, что хотите. Оставалось только продемонстрировать, что свобода идет не от слабости начальства, а, наоборот, от его мудрости. Попросил внучку Аленку, солистку какого–то полудетского ансамбля, проконсультировать его по роковой части, так, чтобы в разговоре обнаруживалось достаточное знакомство старого морпеха с предметом.
Внучка посоветовала
«А похвали деда, Мамонова». «Кто такой?» «А-а, такой, ревет про цветочки». «Понятно, а что на Западе?» «Ну, что — «Битлз». Они все равно не поверят, что знаешь, что–то другое. Ринго Стар. Пошути, что тебе с войны нравятся тупые барабанщики».
Заканчивая заседания редсовета «Музыки», на котором он в процессе не произнес ни одного звука, Михаил Михайлович произнес короткую речь. Начиналась она фразой: «Ну, вернемся к нашим барабанам, как сказал бы Ринго Стар». Заканчивалась: «И вообще хотелось бы почаще слышать о «Звуках Му–му».
И покинул заседание. Все поняли — занятость!
Кое–кто, конечно, решил, что дедушка бредил, большая же часть скорее склонна была думать, что отставной генерал не так прост, как кажется.
11
Пока Михаил Михайлович нарабатывал себе авторитет на других этажах в «Истории» продолжалась жизнь.
Милован опять развелся, ночевал по друзьям, пил, и от политических дел отлип. Ребров попал под полное влияние Ларисы, что и понятно, две его попытки сыграть в какую–то административную самостоятельность она коварно скомпрометировала, используя свое знание психологического ландшафта, и знание мужчин.
Вместо Воробьева взяли мальчика после университета, хорошо одетого, неплохо образованного, улыбчивого, и на все готового. Он очень хорошо знал, что ему нужно. Он хотел должность консультанта в отделе, которым теперь руководила Лариса, и прямо взялся за дело. В отличие от ничтожного Волчка, непонятно, чем озабоченного, и чего боящегося, он не видел ничего особенного в том, чтобы завести роман с привлекательной тридцатидвухлетней начальницей. Он настолько открыто перешел к ней в личное услужение, вплоть до того, что носил за ней портфель, что это даже не вызвало сплетен. О чем судачить, если все и так видно. Бабич, такая у него была фамилия, постепенно брал на себя все внеслужебные дела начальницы: заплатить за квартиру, встретить родителей на вокзале, сходить в магазин за продуктами, или в химчистку. Он часто бывал в жилище Ларисы, часто ночевал, но так до конца и не переселился. И обоих, кажется, устраивала некая незавершенность в отношениях. Разумеется, что при такой большой загруженности бытовыми проблемами начальницы, на работе Бабич ничего не делал. Более того, никому бы и в голову не пришло этому удивляться.
Лариса относилась к нему как к своего рода комнатной собачке, иногда даже не удерживаясь даже от внешних проявлений этого отношения, но Бабич терпел. Была в этом положении своя выгода. Когда заболевает ваша собака, вы оставляете все дела и занимаетесь ее лечением. Однажды случилось так, что Бабич заугрюмел. Настолько явно, что даже Лариса заметила. В чем дело? Да, ладно. Говори, в чем дело? Брат. Какой брат?
Брат Вася. На предъявленной фотографии изображен был худой, пятидесятивосьмикилограммовый мальчик, с несчастной бритой головой, и затравленным взглядом.
Его надо было спасать.
Его забрили в армию. Он проходит курс молодого бойца. Их там муштруют. Заставляют раздеваться и одеваться, подъем–отбой, пока не сгорит спичка в руках сержанта. Так вот Вася научился раздеваться за восемь секунд — разболтанные петли, самослетающие сапоги, а вот одеваться… Почти двадцать секунд, сказывается общая нескладность фигуры. А ведь он не просто так, он астроном… И его жизнь невыносима. Погибнет мальчонка.
Лариса вдруг прониклась этой ничтожнейшей темой, и решила вмешаться, несмотря на то, что была, как никогда, занята.
Ни одной свободной минуты.
Питирим и Энгельс, окрестив на квартире Поляновского Ларису в правильную идейную веру, впустили ее в свой, до этого лишь угадывавшийся сквозь их поведение в ЦБПЗ, мир. Они таскали ее по довольно многочисленным компаниям, где собиралась «молодые капитаны» патриотизма. Это могли быть и кандидаты наук, борцы с норманнской теорией, и притесняемые в своих музеях рублевоведы, заведующие редакциями больших издательств, и обозреватели газет и агентств, кинодокументалисты только что прибывшие с Соловков или Валаамас поразительными пленками. Попадались деятельные сыновья больших людей, тех, что почти что из поднебесных слоев, дети членов большого ЦК, а то и кандидатов в члены политбюро. Они вольнодумствовали против заявленного интернационального курса, проводимого отцами, отклонялись в чисто патриотическую сторону, вплоть до написания диссертаций о «Выбранных местах». Отцы их могли и не знать имен Ивана Киреевского, Шевырева и Леонтьева, они были снисходительно понимаемы детьми в их «ролевом поведении». Тут никогда не доходило до решительного размежевания на отцов и детей. К тому же большие отцы своим отдаленным присутствием, как снежные памирские вершины придавали определенный статус интеллектуальным играм «молодых капитанов».
Это уже была, конечно, не богема, люди типа Питирима, несмотря на всю свою яркость и интеллектуальную оснастку там не правили. Там требовались немного иные качества, деловитость что ли, умение стать плечом к плечу, взять на себя какую–то будущую, еще не вполне определенную ответственность. Бережной, Энгельс, несмотря на очень высокий уровень происхождения сильно вредили своему образу каким–то излишним культурологическим трепом, поминанием к месту и не к месту Розановым, портвейном, а то и совершенно неуместным эстетством. Отказывались вместе со всеми плеваться осетриной при упоминании имени Набокова.
Да, да, и осетринка, и свининка с рынка, сборища «молодых капитанов» происходили обычно не постно, а вполне наоборот. Много выпивалось. В разговорах и песнях заходили очень даже далеко, вплоть до Лавра Корнилова, да с таким общим воодушевлением, что иной член ЦК, прибредя к столу с другого конца квартиры, только самую малость морщился, но протестовать не решался, боясь показаться ретроградом.
Лариса до страсти любила эти сборища. Ей всякий раз казалось, что вот–вот, прямо сейчас сложится какой–то решительный, окончательный комплот, и пойдет настоящее делание новой жизни. Она обычно подсаживалась к какому–нибудь самому чиновному из стариков (если дело происходило в номенклатурной квартире и хозяин снисходил до молодежного застолья), и заводила что–нибудь про фронт, да с таким жаром, как будто только что сама прибыла с последними сведениями из медсанбата. Вот только умылась и спрыснулась французскими духами, и хлебнула трофейного «Наполеона».
— Вот, — говорила она какому–нибудь заму председателя ВЦСПС, вот неужели вы не понимаете, что сейчас опять у нас не страна, а сплошное Прохоровское поле?
Профсоюзный генерал ласково гладил ее по атлетической коленке, а назавтра говорил своему сыну, или племяннику, что Лариса славная девушка, таких теперь уже не бывает. Какое горение, и как разбирается!
Так получилось, что Ларису, конечно, почти всегда приглашали на такие сборища растущих и перспективных, но при этом, она с усугублявшейся досадой осознавала две вещи. Во–первых, вся эта патриотическая пластинка ходит все по одному и тому же кругу, а во–вторых, и это было особенно обидно, ее, в общем–то, принимая, даже обласкивая, принимают не совсем всерьез. Не числится она на твердом счету среди членов невидимого тайного комитета начинателей нового общенародного порыва. Роль ее и заметная, и сомнительная. Сколько раз она намекала, что готова рвануть грудью вперед на любые вражеские редуты, но ей чуть поморщившись, намекали — пока рановато.
Сломала голову, но додуматься не могла.
Но поставила себе целью, что поймет, а, поняв, добьется, и еще заставит сомневающихся делать перед ней книксены, или как это там называется у мужчин.
Может быть, дело в том, что она тыкается в высшие ряды без боевого приданого. У каждого там, то дядя в верхах, то научный некоторый авторитет, то редакционное кресло, а у нее что?
И осознала через несколько месяцев: надо сколачивать свою стаю.
Выяснилось, что желающих вцепиться в хвост этой комете хватает. Конечно же, и само собой, все ребята с работы. За исключением Тойво. Да и черт с ним, чего можно хотеть от эстонского курильщика! Если разобраться, то он, несмотря на частную свою симпатичность, потенциальный враг. И фамилия его отца Ираклия вообще на «швили».
Собственно, на мысль о «стае» натолкнул ее своим решительным переходом по ее руку новичок, кудрявый Бабич. Сразу дал понять и решительно, что он и оруженосец, и клеврет, и нукер. Оказалось в нем сразу две пользы: хороший «комнатный» мужчина, и орел на посылках. Надо только о брате Васе позаботиться, это будет такая плата за верность.
Оказался вдруг ведомым и остроумный, независимый Милован — такая выдалась полоса, один за другим произошли три сбоя с женщинами, с женой, с любовницей, с докторантурой, тут поневоле захочешь прибиться к какому–то берегу.
Прокопенко. Ну, тут все понятно, единожды сломанный, ломаем до бесконечности. У него был старенький «москвич» полученный в подарок от тестя. Так вот эта машина теперь обслуживала по большей части заведующую отделом Великой Отечественной Войны. И что характерно и сам Прокопенко, и его тесть, участник той самой войны, не видели в этом ничего особенного.
Волчок держался неподалеку просто от общей бесхребетности, уж лучше быть в привычной сфере влияния, а‑то окажешься вообще черт знает где.
Большим достижением была полная адаптация Реброва. Теперь ни одно решение в пределах «Истории» не принималось без консультации с нею, даже если инициатива исходила от самого Михаила Михайловича.
Да, в числе свитских конечно же должны быть упомянуты и Питирим с Энгельсом. Пьяницы, конечно, особенно первый, посему плохо управляемы. Пит вообще старался себя вести покровительственно, видя в Ларисе «хорошую бабу», а не идеолога, но она соглашалась пока терпеть. Тем более, что она все же «росла», а он потихоньку маргинализировался.
Этот пышный и веселый двор жил по своим законам, представители его отпускались на время в семьи, на свои рабочие места, в командировки, в разврат, в запой, но главной своей частью они подвизались подле Лары.
Ярким моментом этого процесса явился «праздник меомы».
Ларисе пришлось решиться на операцию. То, как и кто ее организовывал, можно было бы рассказать, это интересно, но долго. Разумеется, что врач делавший операцию по редчайшей по тому времени технологии, стал личным и бесплатным лекарем Ларисы, это можно было бы не говорить. Великолепен был сам первый выход победившей болезнь Ларисы в большое фойе хирургического центра. Да, она слегка сдала в выправке и осанке, но, сколько прибавила во внутренней силе, и проницательности взгляда.
Десятки машин у подъезда.
Десятки букетов внутри фойе.
Распорядительски реющий над всем этим Бабич.
Шампанское.
Аплодисменты.
Полное ощущение, что произошло рождение наследника в правящем семействе. Никакого значения не имело, что произошло действие абсолютно противоположное родам. Человек, попробовавший на эту тему шутить получил бы, пожалуй, и по физиономии.
Были все, кроме Тойво и Галки из–за отсоветовавшего мужа. Приехал на секунду и сам Михаил Михайлович.
Сила Ларисы была в том, что она не только умела принимать поклонение и подношения, она могла и рвануть на защиту, привлекая все силы и средства. Едва «встав на ноги» после операции.
Как раз выяснилось, что дела Васи Бабича стали совсем плохи. Выйдя из карантина, попал в очень плохую роту, где над ним форменным образом издеваются вот уже второй месяц. Как капитанская дочь Лариса имела иммунитет к нытью, доносящемуся обычно из–за забора воинской части. Да, гоняют, через день на ремень, через два на кухню; да, ничего кроме холодной перловки и куска рыбы, похожей на кусок оторванный от мумии на ужин; да, могут заставить бегать с зелеными веточками за окном, изображая для господина дембеля, прибалдевшего в казарме на втором ярусе раскачиваемой кровати, дембельский поезд, но ведь — не битва в окружении!!!
Но Бабич утверждал, что тут случай особый, какие–то нацмены сбились в шайку, и навязывают свой шариат нашему уставу.
В одну секунду Лариса приняла решение.
Спустилась на два этажа вниз в «Армию». Там как раз сидел и очень интересно рассказывал про современный ракетный крейсер уже тогда известный писатель Порханов. В течение трех бутылок коньяка составилась компания по спасению чести простого русского солдата из под сапога плохих кавказцев.
Порханов спросил, где это?
Выяснилось, в суперсовременной танковой части. То есть, в обмен на свое авторитетное участие он мог получить официальное право пощупать и погладить эти новые дивные машины.
Через Александрова запаслись всеми нужными бумагами, получили в сопровождающие подполковника из ПУРа и на «рафике» со спецномерами рванули прямо в расположение соответствующего штаба в Подмосковье.
Некоторые служилые люди выражали сомнение в полезности этой акции, тем более проводимой с такой помпой. Мол, при встрече тамошние офицеры, конечно, пообещают помочь и разобраться, но когда общественная комиссия убудет, для младшего Бабича начнутся по–настоящему черные времена. Есть масса совершенно легальных сержантских способов просто сгноить человека, не отступая ни на шаг от буквы строевого устава.
Лариса приняла эти сомнения как вызов, и скомандовала — вперед!
Военных раздражают проверки, они не любят гостей. А тут еще баба, а тут еще писатель, и товарищ из политуправления. Было много церемоний.
Принимал командир полка. Уже седой, предпенсионный офицер. Отутюженный, настороженный. И его замполит
Гостям показали казарму, и койку младшего Бабича, сам он был в наряде, так было сказано. А все же можно на него поглядеть, жив ли, попросил въедливый старший брат. Привели. Худой, испуганный мальчик в белом колпаке и чуть замызганном фартуке.
— Действительно в наряде! — Сказала Лариса. — Ему идет!
Она не заметила ужас, мелькнувший в глазах парня. Ибо не было ничего страшнее, чем наряд рабочим на полковую кухню. Из всех филиалов ада на земле это был самый, самый.
До того была прогулка вдоль секретных капониров. Новые машины осмотреть не дали, но дали послушать, как они ревут на холостом ходу. Писатель потом так долго говорил о них, как будто не только слушал, но и форсировал на одном из них Ла — Манш.
Обед накрыли в столовой, и тут Лариса сделала первый шаг к растапливанию льда в общении. Из своей изящной дамской сумочки она достала бутылку французского коньяка, заставила старшего Бабича выпить компот из его и из своего стакана, и плеснула сразу граммов по сто пятьдесят.
Комполка и замполит стали оглядываться. Дивизия гвардейская, обстановка служебная.
Лариса отпила чуть, одними кокетливыми губами, потом протянула остальное майору.
— Ну, что, дядь Лень, за наш гарнизон!
Что выяснилось? — полковник был сослуживцем капитана Конева по слонимскому танковому полку, бегал у него в ротных. А теперь взлет, столица, гвардия. Да, он вспомнил шуструю девчонку–третьеклассницу.
Выпили, конечно.
Лариса и до этого случая замечала свой талант привлекать людей, и не вообще людей, а самых нужных, и в самое нужное время. Но чтоб такое попадание…
Вторую бутылку от своих щедрот выставил замполит (разговор продолжился в более укромном месте — красном уголке), он всем своим видом намекал на происхождение из «прежних», говорил «да-с», и подробно критиковал Тухачевского за его мечту превратить все трактора СССР в танки.
В какой–то момент медленно, как бы с уважением открылась дверь, и вошел генерал. В фуражке с высоченной (тогда так еще не носили в советской армии) тульей, под которой горели глубоко посаженые глаза, поблескивали мужественные скулы и орлиный нос.
Офицеры косо вскочили. Но «он» милостиво сняв фуражку, обнажая прическу в виде стоящего бритвенного помазка и представился — генерал Белугин.
Орел! — восхищенно подумала Лариса, а может, даже и произнесла вслух.
По правде говоря, генерал пришел не к ней, он услышал о визите писателя Порханова. Он разделял его идеи «тайного вещества войны», «технологического язычества» и «сакрального контрудара», и хотел увидеть мыслителя живьем.
Знакомство состоялось.
Генерал практически не пил.
Слушал снисходительно, но внимательно.
Не сказал ни одной банальности, которая как бы полагалась ему по чину.
Не смотря на то, что с угнетаемым бойцом все решилось отлично — «если ему нравится эта форма (имелось в виду белое) пусть носит, хлеборез», сказал дядя Леня. Лариса убывала из гвардейской дивизии в отвратительном расположении духа.
Генерал не обратил на нее никакого внимания. Хотя она была в отличной форме, и знала это.
12
Конечно, «так», «это» оставить было нельзя.
Лариса снова нырнула в «Армию» к Полине Агапеевой, чрезвычайно деятельной и информированной тетке, которая и помогла ей с поездкой в гвардейскую дивизию.
Кто такой Белугин?
Полина — бывая из бывалых — закатила глаза, мол, о, подруга куда ты хватила. Ничего у тебя не выйдет, дорогуша. Верный муж и верный зам начальника генштаба в недалеком будущем.
Рассказывай, рассказывай!
Выпивать девушки начали еще семнадцатого августа. Бабича, мечтавшего зависнуть у нее в жилище, Лариса сурово отослала, чтобы не травмировать его своим интересом к другому мужчине.
Рассказывай.
Полина была горда тем, что переспала почти со всеми командующими всех военных округов за последние двадцать лет. И с заместителями по политработе. Лариса считала, что это обычное юбочное хвастовство, но подыгрывала подруге, зная, что похваляясь, люди легче всего проговариваются. По роду службы — она побывала и референтом у одного из замов министра — Полине пришлось объехать десятки воинских частей, ее любили за свойский характер, и ценили за связи. Скольким она помогла выбраться из медвежьих углов на столичный паркет! Поговаривали, что у нее выход есть прямо в приемную министра, она эти слухи не опровергала, хотя и не поддерживала.
— Так что с Белугиным?
— Говорю тебе, нет! Кремень. Наполеон. И в смысле Жозефины — обожает жену, и метит уж больно высоко.
— Но ведь орел.
Полина кивала, в общем–то, да, многие увлекались, и даже, по слухам, кое кто из заслуженных артисток Северо — Осетинской АССР…
Когда у Ларисы вся выпивка кончилась, Полина предложила катнуться к ней. На Можайку, пусть и не близко, но есть же такси.
Квартира у Полины оказалась четырехкомнатная «упакованная», просто хрустальная ваза завернутая в ковер; раздвижные стеклянные двери, двухэтажный холодильник. Лариса даже стала думать, что история про командующих округами не такое уж вранье.
— А дети?
— Дети сами уже отцы. Разлетелись. Мне же сорок семь, баба ягодка совсем.
— И ты одна?
— Да ты что?! — Хохотнула Полина. Выяснилось, что мужик ее, где–то спит в глубине квартиры, и боятся его не надо, он даже если и выйдет, то отопьет немного и в разговор не полезет.
Потом выяснилось, что его вообще нет дома. Он позвонил и сообщил, что внезапно вызван к месту службы. Выслушав это вранье, Полина повертела горлышком бутылки у виска — какая у него может быть служба!? Восемнадцатого августа.
В общем, до конца дня они вырабатывали план атаки на Белугина, причем Полина все больше пьянела, и становилась, как бы сегодня сказали, все более креативна, а Лариса трезвела, и непрерывно мыла посуду, это всегда помогало ей сосредоточиться.
— Вот, а моего полкаша никогда не заставишь. — Вздыхала Полина. — Так и сидим в дерьме.
Перед отходом ко сну Лариса имела внутри себя целый архив на горделивого генерала.
Ранним утром следующего дня, выстоявшаяся под душем, спрыснутая чем–то вызывающе французским, сдобренная чашечкой очень хорошего и крепкого кофе руководительница отдела ВОВ ЦБПЗ, схватила такси у дворца спорта «Сетунь» и велела — «в центр». Водитель долго мялся, но почувствовал, что такой клиентке не откажешь. Скоро стало понятно поведение таксиста. Параллельно его «жигуленку» катилась по Можайскому шоссе в ту же сторону центра колонна бронетранспортеров. Командиры машин торчали из люков, и была в их позах какая–то неуверенность.
— В чем дело? — Спросила Лариса водителя. У Полины радио было отключено: «Чтоб не било утром по голове гимном».
Тот объяснил — путч. ГКЧП. Горбач к клетке в Крыму. Ларисе показалось, что к ее волосам снова поднесли тот финский фен, которым она только что превращала в феерию свою прическу в роскошной ванной боевой подружки.
Дыхание истории. Не каждый способен его учуять. Не каждый учуявший, может правильно использовать.
— Гони! — Скомандовала она водителю.
— Куда гони! Светофор!
— Какой еще тут может быть светофор!?
Она, и в самом деле, уже полностью мыслила поверх всех светофоров. Мысль неслась к пока неизвестным штабам, главное было успеть, промедленье подобно позору. Секунда растерянности в решающий момент и остаток жизни — догнивание в арьергарде.
Но водитель был прав — светофор!
Остановился не только он, но и автобус, из которого сверху вниз пялилось прямо на ни них неприятное бородатое лицо — Иван Грозный с тяжкого похмелья. Остановилась и колонна бронетранспортеров.
Внутри у Ларисы вдруг стало как–то тускло: колонна военной техники пропускает хлебовоз и рафик?!
Нет, обозналась, не ветер истории. Придется еще разбираться что это за такое.
Хорошо, что хоть причесалась!
13
Михаил Михайлович сумел никак не проявить себя в период трехдневного правления ГКЧП, поэтому у власти удержался. В чем–то его поведение напоминало поведение Горбачева в Форосе, но поблизости не оказалось своего Ельцина, чтобы его наказать за политическую невнятность. Все либеральные активисты ЦБПЗ были фигурами мелковатыми, буфетными ораторами вроде Саши Белова, а руководитель «Музыки», единственный, кто обладал тем, что впоследствии станут называть харизмой, слег как раз с сильнейшим диабетическим ударом.
Позиции Ларисы в «Истории» пошатнулись, образовалась группа демактивистов, почувствовавших, что пришло их время, и не скрывавших, что они этому рады. Тойво, Галка, причем, со всем составом машбюро и отдела писем, и, главное, вдруг — Ребров! Его можно было понять, ему захотелось своего шанса, вокруг кипела жизнь, возникали какие–то банки и банды, на волне антикоммунистической демагогии можно было сделать рывок вперед. При этом он утверждал, что ни в коем случае не предавал «дело Поляновского», но, правда, встречаться очно с Венедиктом Дмитриевичем не стремился. Глаза были все время встревожены, Ребров жил как на бегах. На кого ставить?! Он с блеском вышел из КПСС, не с таким, конечно, как Марк Захаров, но все же эффектно. Таких людей было много, сумевших срок своего пребывания в партии засчитать себе как политзаключение. Особенным красавцем показал себя муж Галки, он сумел свою аспирантуру в ВПШ конвертировать в приятельские отношения с самим Бурбулисом. Если, конечно, машинистка не преувеличивала. Галка стала себе позволять покровительственные жесты в адрес заведующей отделом ВОВ.
Тамила Ивановна перестала заходить к ней со сводкой неофициальных событий на территории «Истории», хотя, общий дружелюбный тон сохранила.
Ребров вызывал Ларису к себе «посоветоваться», и идея у него была все время одна: как бы побудить «старика», то есть Михаила Михайловича. к какому–нибудь более решительному проявлению положительных чувств в адрес новой власти.
Да, ГКЧП он вроде бы не поддержал, но осудил все же чуть поздновато, когда это был просто голос в общем хоре. Сейчас бы надо не скрывать своих передовых настроений.
— Ты же можешь на него повлиять.
— В смысле?
Ребров вскочил, прошелся по кабинету. Лариса презрительно следила за ним тяжелым взглядом.
— Ну, хотя бы из партии, он мог бы… ты понимаешь?
— Нет.
Ребров рухнул в кресло свернулся в нем личинкой, но тут же выпорхнул серой бабочкой.
— Ты пойми…
— И ты пойми, он боевой офицер, ветеран войны, он вступал в эту партию на фронте. — Лариса не знала этого наверняка, но считала, что имеет право на такое полемическое преувеличение.
— Да это все конечно. — Кривлялся зам. — Но только его осознанный, такой демократический жест…
Лариса мрачно покачала головой и вышла вон, не скрывая возникающей неприязни к собеседнику.
— Что–то надо делать с этой сукой! — Жаловался Ребров в тот же вечер одному из понимающих комсомольских менеджеров средней руки. Он наладил свои тропы в дом на Маросейке.
Тот отмахивался и вздыхал.
— Лучше не связывайся, само отомрет. Как и твой Михалыч. Это уже близкие дела. Лучше наливай.
Ребров и сам чувствовал, что за Ларисой что–то клубиться. Да, все эти специалисты по Михаилу Тверскому и любители Лавра Корнилова пока тихо попрятались в поры старой жизни в виду новейших политических мод, но погасли ли они окончательно? Он искренне, со всем вятским коварством ненавидел эту старомосковскую снобь, и даже хотел бы отомстить за то, что вынужден был перед нею в свое время пресмыкаться, но трусил. Его звали на хорошее место в новый ловкий банк, а он боялся расстаться со своим здешним мелким, но прочным местом.
Сердце разрывалось меж двух карьер.
14
У Ларисы было такое впечатление, что крутнули гигантский калейдоскоп, и теперь она с удивлением рассматривает новый глобальный рисунок жизни. Прежде у нее было ощущение, что она один из самых все понимающих и решительно действующих людей, и ей было неприятно осознавать, до какой степени почти все остальные оказались больше готовы к «переменам», чем она.
Впрочем, не все.
С некоторым даже интересом она обнаружила, что у ее ног по–прежнему толчется стайка щенят мужского пола. Они не разбежались, когда распались бразды ее прежнего правления. Им легче пережидать смуту поблизости, в надежде, что она придумает, что и как делать дальше.
Ну, с Бабичем у них был медленно мерцающий брак, даже произошло какое–то сближение с семейством. Отец «супруга», молодой еще крепкий, нахрапистый мужик, директор мясокомбината, очень к ней благоволил, и даже вроде как шутливо ухаживал. Все понимал: «поматросишь ты моего парнишку и бросишь». Лариса и не скрывала, никакого по–настоящему прочного союза, она себе здесь не планирует. «Тогда, отрежь и отринь». Лариса честно пробовала, несколько раз заводила разговор о том, чтобы Бабич–младший поискал себе настоящую жену. Все это делалось спокойно, без всякого надрыва. Так герцогиня заставляет жениться своего любовника–конюха на камеристке.
Прокопенко и Волчок держались на некотором расстоянии, но не потому что отказались от старшей подруги, а просто не знали как себя вести. И стоило прозвучать первому ее конкретному окрику, тут же встали позу прежнего подчинения.
Прежде Лариса их гнобила и шпыняла, обвиняя в самодовольстве и предательстве, теперь отложила кнут. «Настоящее достоинство это достоинство сохраненное в поражении». — Такая у нее теперь была формула.
Молодые люди, как подавляющее большинство жителей страны были жителями политического болота. Им противно было задрав штаны бежать за Собчаками, но и свинцовые мерзости старых партийных порядков, были отвратны. «Открытая часть закрытого партсобрания». «Да здравствует братство республик сестер!» Такое, конечно, хотелось забыть. Но и новое не восхищало. Они просто кивали напористому телевизору, да, да, победа, но не обнаруживали внутри источника истинного ликования.
Противно и тяжело быть никем.
А тут вдруг оказалось, что они не просто так, не мусор в щелях истории, а носители подлинного, обиженного благородства. Они что–то вроде партии временно отошедшей с передовых позиций. Бинты на ранах после совместного поражения связывают крепче, чем флаги общей победы.
Таким образом, влияние Ларисы в «Истории» стало с одной стороны слабее, но с другой как бы и сильнее. Если раньше сбежать из под ее колпака было делом почти желанным, то теперь, представлялось практически немыслимым. Все равно, что бросить раненого друга.
Разумеется, и Милован, получивший страшный печатный нагоняй за несвоевременную статью про своего кормильца Булгарина, кажется, в «Московских новостях», тянулся туда же. Причем, как и все очень образованные люди, считал, что именно он является и мозгом кружка, даже не представляя до какой степени это не так.
Бережной и Энгельс также стали залетать на огонек все чаще. Причем, с ними присоединилась еще одна мощная линия. В «Историю» стали заглядывать священники. В прежние времена привлечь к работе ЦБПЗ священнослужителя, тем более официальным порядком, было невозможно. Бережной с Энгельсом хотели, но терпели. Теперь же — свобода!
Физики и химики потащили экстрасенсов, инопланетян, гадалок, свидетелей падения Тунгусского метеорита.
Армейцы: бывших офицеров Иностранного легиона.
Историки — священников.
Теперь каждое застолье было освящено, и рядом с Че Геварой (подарок позабытой лесбиянки) появилась икона.
15
Единственным мужчиной, с которым у Ларисы отношения не складывались, ну ни в какой степени был ее сын. Конечно, виновата она была сама, и даже готова была признать, что виновата. Мать не рядом с ребенком, на что она может претендовать? Вечная червоточина в сердце — я скверная мать!
Неприятные приступы трезвости — а как можно устроить по–другому?
Ребенок в коммуналке под опекой Каблуковых?!
Потом Ларисе неожиданно дали однокомнатную квартиру, и неплохую в новом доме строившемся для сотрудников ЦБПЗ последние лет двенадцать, и вдруг победоносно достроенном прямо среди развалин СССР.
Но улучшение жилищных условий, только усложнило жизненную ситуацию. Ларисе теперь намного труднее было представить сына в одном с собою жилище.
Кто и как будет за ним смотреть при ее графике и режиме жизни?!
Этим вопросом она обычно заканчивала свои сетования о том, что разлучена с ребенком.
С ней никто не спорил, даже из числа тех, кто искренне не видел ничего особенного в ее жизненной комбинации. Если кто–то пытался заикнуться в том смысле, а что тут такого? Лариса смотрела на этого человека как на идиота, и так безапелляционно, что он сам себе начинал таким казаться. И в самом деле, как это мать тридцати трех лет может жить в одной квартире с сыном–пятиклассником?
Ларисе сочувствовали, входили в ее положение, у нее было даже что–то вроде негласного звания матери–героини, в том смысле, что вынужденной жить без своего дитяти!
Сына Лариса не любила, и до такой степени, что даже иногда признавалась себе в этом. Он был виноват перед нею, и не делал ничего, чтобы исправиться. Ну, зачем он до такой степени подробно и полностью повторяет черты и повадки своего папаши?! Кстати, пропавшего напрочь со всех горизонтов. Он вспоминался Ларисе уже каким–то сгинувшим, как бы из под земли, и это ее устраивало.
Мальчик, между тем, не видя матери, рос в полноценной семье, при моложавых, крепеньких бабушке и дедушке. Они возились с ним именно по–родительски, а не по–стариковски. Заботились, но не тряслись.
Тихий, укромный ребенок, хорошист, на периферии учительского внимания. Не отличник, чтобы с ним носиться, не двоечник–хулиган, чтобы о нем беспокоиться.
Капитан запаса Конев охотно ходил на родительские собрания, хотя и совершенно зря. Имя ученика Конева почти никогда на них не звучало. Поэтому, когда дочь справлялась в своем дежурном московском звонке «как он?», капитан честно отвечал, «в штатном режиме».
Деда радовал. В комнате, доставшейся ему по наследству от матери устроил свой мальчиковый мир. Центром его сделался лобзик. Мальчик был фанатом выпиливания. Его одно время пытались приторочить к баяну в доме офицеров, но после того как он сыграл «Дунай, Дунай, а ну узнай» Лиону Ивановичу во время одного своего приезда в Москву, по совету опытного деятеля сцены, от него отстали. «Пусть пилит», сказал Лион Ларисе, и она кивнула, решив, видимо, что Егор с баяна перейдет на скрипку.
Мальчик выпиливал и клеил и все сплошь модели советской военной техники. То есть, действительно радовал деда. Капитан видел во внуке счастливое совмещение двух основным семейных традиций: художественной и военной. Пусть даже в такой неожиданной форме. Вряд ли мальчик так уж любил советскую военную технику, скоре он любил деда, и таким образом стремился ему угодить. Дед и бабка его за это хвалили, и ему было это приятно.
Друзья у него были.
Хорошие ребята, кто–то из класса, кто–то из кружка в доме офицеров. Он дружил с ними, но как–то не полностью, на три четверти. У него был огромный недостаток — его нельзя было ни в каком виде использовать в футбольной команде. Даже в качестве вратаря. Он «стоял» так, что лучше было играть при пустых воротах.
Использовался только в качестве болельщика.
Кстати, много болел.
Порода — выносил про себя вердикт капитан, сидя в очередной раз с температурящим в мокрой кровати внуком.
Однажды капитан Конев, зайдя в комнату мальчика, обнаружил, что у него из под кровати торчит угол какой–то коробки. Вытащил. Оказалось, что это не просто коробка.
Кремлевская стена! Из фанеры.
И уже выпиленные заготовки для башен. И даже покрашенная золотой краской луковка для соборной колокольни.
Не дожидаясь, пока внук явится из школы, капитан позвонил дочери, почти с надрывом объяснил, в чем дело. Мальчик грезит столицей, тем местом, где обретается мать. Вслух не жалуется, а тихо пилит фанеру, и прячет тоску под кровать.
Да, я отвратительная мать, признала Лариса. Но неужели непонятно, почему все так происходит?! Может это жизнь нынешняя настолько отвратительна, что матери вынуждены, так относится к своим детям.
Капитан, в общем и целом, разделял взгляд столичной дочери на ситуацию в стране (на дворе был конец сентября 93 года, уже назревала беззаконная расправа над парламентом), и он очень ценил, что его Ларочка, где–то там, близко к горнилу, знает, чем смазываются рычаги ворочающие историческим курсом великой родины. Он извинился, положил трубку и закурил.
Мы все должны ей помогать!
16
Михаил Михайлович опять усидел. И это удалось ему даже проще, чем во времена ГКЧП. С одной стороны, сказался специфический опыт: умение не брякнуть ничего лишнего, не выскочить в первые ряды с ненужным знаменем; с другой — бесповоротно изменилась структура реальности. На поверхности кипела битва прогрессистов и консерваторов, патриотов и западников, но реальные дела делались под поверхностью — ползучий, непрерывный, повсеместный передел государственных имуществ.
Ельцинские танки лупили по вертикально дымящемуся парламенту, операторы СНН снимали это прямой наводкой с соседних крыш, а в кабинете на десятом этаже ЦБПЗ бродили идеи акционирования научно–общественного гиганта.
Лариса сидела в предбаннике шефа, держа в папке на коленях проект устава общественно–политической организации «Братья и сестры». Все то время, пока шла дебильная осада Белого Дома, она разрабатывала устав, сплачивала актив. Шансы на успех не взвешивала. Все или ничего. И она не боялась этого «ничего». Она побывала в осажденном здании. Навестила знакомых, прочно засевших там, готовых на все. Она глотнула тамошней неповторимой атмосферы. Какой–то из порывов ветра истории несомненно залетел туда, это тревожило ее и возбуждало. По–хорошему, надо было бы примкнуть, остаться с единомышленниками, но, она сразу поняла, что не в состоянии вынести гигиенический режим этой политической крепости. Страшно не то, что страшно, а то, что холодно, и плохи туалеты.
Но она была готова сразиться на своем привычном участке фронта. Да, она выбрала не лучший момент для своего визита к товарищу шефу. Или наоборот, лучший! Пиковый! Пусть старый морпех покажет себя, кто он таков на самом деле.
В предбаннике работал телевизор, обычно выключенный, как раз шла трансляция исторического расстрела.
Напротив Ларисы располагались три молодых человека, каждый так же с папкой на коленях. Интересно, думала она неприязненно и подозрительно, в какие политические секты хотят втянуть шефа эти молодчики. Явно, не в общество «Память». Впрочем, сползания в эту сторону от товарища Александрова ждать не следовало. Помимо того, что трус, он еще и старомодно интеллигентный человек, слишком дорожит тем, что считает своей репутацией. А что такое репутация, как не палка, которую если нужно вставляешь в колесо вражеской идеологической телеги?
Кто же такие эти трое?!
Кажется, они не знакомы между собой. Или слишком хорошо знакомы и между ними заранее все обговорено и им не нужно перемигиваться. Делают вид, что дымящееся здание российского парламентаризма не имеет к ним никакого отношения.
Волхвы какого–то нового порядка?
Откуда? Из администрации президента? Из префектуры?
Не глядят ни на красивую сердитую женщину, ни на экран. Глаза или полуприкрыты, или направлены в сторону окна.
Уверены, что уже победили?!
Лариса решила, что если это откровенная демшиза, она встанет грудью.
Что будет делать конкретно?
А черт его знает, закатит истерику, драку, будет кусаться, вопить!
И вообще, почему она здесь сидит, когда там, в самом центре столицы унижается достоинство ее родины! Белотелый парламент избивается артиллерийскими розгами. В этот момент в ее сознании всплыло самое страшное для нее место в русской литературе: голую капитаншу Миронову тащат по грязи…
Лариса встала, секретарша, испуганная мышка Сашенька, робко подняла на нее глаза.
— Кто там у него?! — Спросила Лариса. Сашенька тоже встала, хотя не смогла бы объяснить, почему это делает. Наверно, от ужаса. Ей было строжайше велено, чтобы никого! пока идет совещание. Но она понимала, что если эта страшная женщина рванет в кабинет, ее нельзя будет остановить.
— Никого. — Прошептала секретарша.
Ситуация разрешилась сама собой. Дверь отворилась, и в коридор выглянул Михаил Михайлович. Лицо его, изготовившееся для деловой улыбки, исказилось при виде Ларисы. Он не знал, что сказать.
Три молчаливых гостя в одинаковых костюмах последовательно встали, как делают болельщики на стадионе, когда запускают волну, и, поправляя галстуки, проследовали в кабинет.
Даже не глянув на конкурентку.
Лариса развернулась, и тупо вбивая каблуки в пол, двинулась вон из приемной. Такой разворот событий не устраивал Михаила Михайловича. Он, хотя и ощущал нечто вроде — баба с возу — но не мог, не мог до конца и сразу разорвать с этой… Эта буря чувств выразилась в полувопросе.
— Лариса, куда…
— Отнесу Руцкому пирожков.
Первой мыслью было — уйду!
Пусть радуются, мразь!
Одна, совсем одна!
В этом ощущении обнаружилась какая–то неожиданная, и сильная сладость. Пусть эти пигмеи Галки, эти космополитические эстонские курильщики шныряют по этажам, от них все равно никто ничего не ждал. Аплодирующая падаль!
Но свои–то!
Бабич, как всегда смертельно занят, оперируют четырехлетнюю племянницу, а он ей донорствует, отдает квадратный дециметр кожи, как будто этим спасешь отечество! Прокопенко в отпуске! Как, скажите, пожалуйста, отпуск мог так точнехонько совпасть с разгромом парламента?!
Белорус? Ну, это совсем уж анекдот. Осторожно забежал, выбрав видимо момент, когда никто не смотрит в сторону Великой Отечественной, посидел на краешке стула.
— Что ты делаешь, Лариса?
— Не видишь, что ли!
Из журнала «Огонек» была выдрана большая фотография Лии Ахеджаковой, и ей черным фломастером пририсовывались жуткие, отвратительные рога. Усы безобразили нижнюю часть лица. Лариса злорадно сверкала глазом.
— Красотка!
Волчок двигал губами так, будто усы были намалеваны на его верхней губе.
— Найди мне фотографию, как его, который про картошку
— А, Черниченко, сейчас. — Волчок с огромным облегчением упорхнул, радуясь ничтожности полученного задания.
17
— Да брось ты! — Обрушился на нее подвыпивший, отвратительно оптимистический Питирим, застав Ларису за написанием заявления об уходе. — Ой, прямо «уйду от вас звери!» Кстати, мне всегда казалось, что это не Лев должен был говорить, а как раз наоборот, дрессировщик.
— Перестань паясничать.
— Да я то перестану, но и ты перестань делать явную глупость.
— Противно!
— Скажи еще, что за державу обидно!
— Обидно!
И Лариса рассказала ему про свое видение в приемной у шефа. Жуткая, голая, вопящая от стыда и боли капитанша Миронова — это наша родина в данный момент!
Сын космонавта всплеснул руками.
— Ой, прямо: рвите тело белое!
— Пошел вон!
— Ла–арочка. Не ко всему на свете нужно относиться так вот уж серьезно.
Лариса закурила, выпустила дым в физиономию Ахеджаковой.
— Не ко всему… а ты мне скажи милый друг, а где был твой патриарх, когда из пушек расстреливали Россию?!
Бородатая физиономия из беззаботно–глумливой, сделалась какой–то другой. Надо сказать, что уже несколько месяцев Питирим с Энгельсом уверенно вели Ларису по дорожке к храму. В свое время политически зрелые родители не крестили дочку. До последнего времени она не придавала этому никакого значения, все церкви, а так же костелы и дацаны стояли за границами сферы ее жизненных интересов. Но с некоторых пор оставаться в прежнем качестве было уже неудобно. Патриотическая мысль в тех местах, где она к ней припадала, была слишком плотно переплетена с православием. Теперь за любым столом — будь–то банкет или конференция — обязательно солидно присутствовал священник. Ларисе было подарено пять или шесть крестиков разными добрыми русскими людьми, один даже кипарисовый, полежавший на Гробе Господнем, и ей было приятно, тем самым, она как бы даже выделена в церковном смысле. Странно при таком наборе обстоятельств оставаться не крещенной. И неделю назад она известила Питирима и Энгельса — готова!
И вот — бунт! Еще не войдя в монастырь, объявляет о каком–то своем уставе.
Сын космонавта даже протрезвел, что в последнее время у него редко получалось. Лариса бросила ему в сильно удивленные глаза:
— Да, да, я именно это хочу сказать. Он мог просто на своем членовозе приехать на мост, постучать крестом по броне, и все бы стихло, они бы не посмели дальше стрелять.
Бережной спрыгнул с подоконника на котором сидел.
— И что? Победили бы эти тупые упыри?! Ты же их видела! Это что надежда русского народа? Это под ними ты хотела бы ходить, есть, пить, существовать?! Вторая серия все того же комунякского дурдома.
— Но ты…
— Я то я, а святейшего не надо впутывать. Сцепились две бешеные большевистские собаки, почему это его дело лезть их разнимать?! Слишком много чести для этой мрази!
— Так получается, что твои церкви только для попов? Наели себе рясы! Все же знают, что они спиртом и сигаретами торгуют. Но ведь трясины стонут! А Бог…
Питирима аж скорчило.
— Вот только не надо о Боге, Ларис, не надо!!
Она встала, свирепо дергая щекой.
— Это почему?! Это, что еще за Бог такой, о котором мне, нормальному русскому человеку и говорить нельзя!
— Да ты в него веришь только тогда, когда он на твоей стороне. Если тебе будет надо, то ты дверь иконой подопрешь, тебе же польза всего лишь нужна!
Он схватил свою сумку и с оскорбленным видом вышел вон.
Лариса села. Закурила. Сделав несколько затяжек, вдруг неожиданно показала язык лысому черту Черниченке, хотя зла сейчас была не на него.
Эти благополучные советские барчуки с полупудовыми крестами и ветхозаветными космами, забыли с чьей мозолистой руки вскормлены. Им легко сейчас брезгливо оттопыривать губу на все советское, как будто без их молитвенного бормотания жизнь в стране не шла, хлеб не родился, великая песня не пелась, и Гагарин вышел на орбиту прямо со двора Троице — Сергиевой лавры под поощрительный звон колоколов.
Она была уверена, что с сыном космонавта они поссорились навсегда. Но всего через две недели их тихо помирил вдумчивый и ласковый Энгельс.
Открылась дверь в кабинет, и на пороге появился Михаил Михайлович. Он был невероятно велик в своем просторном двубортном костюме, с зачесанной назад гривой полуседых волос. Лариса сделала вид, что страшно занята заявлением.
Михаил Михайлович подошел сбоку к столу, не садясь окинул саркастический иконостас, устроенный Ларисой на стене.
— А Ахеджакова ведь хорошая актриса.
— Вот пусть бы и играла, а не давила гадину.
Шеф вздохнул. В течение сегодняшнего дня он дважды просил Сашеньку, чтобы она передала Ларисе просьбу подняться в дирекцию для разговора. Когда узнал, что она пишет заявление об уходе, направился к лифту. Понимал, что поступает неправильно, хвост не должен вертеть собакой, но понимал, что по–другому поступить нельзя. Лариса бросит бумажку секретарше и исчезнет. А он будет терзаться. Для сбережения сердечной мышцы это делается, объяснил он себе, а не по слабости характера.
— Вот! — Лариса протянула шефу заявление. Он медленно порвал его длинными бледными пальцами.
— Это были арендаторы. — Сказал он, как будто читал Ларисины мысли во время ее сидения в предбаннике. — Мы будем сдавать часть площадей. Нам урезали бюджет.
Положив обрывки бумаги в карман, он удалился.
18
Кризис разрешился тем, что Лариса осталась на работе и крестилась. После того разговора в кабинете с Бережным, ушла прежняя задушевность и непосредственность из их отношений, хотя внешне они и продолжали ее демонстрировать, скрепляя вином и добродушным участием Энгельса.
Обращение Ларисы превратилось в большое общественное событие. И по пути к нему было много всякого: не одна неделя, не одна пара застолий. И когда был назначен конкретный день — все вздохнули с облегчением, и нешуточно обрадовались. Для всех этих людей — И Поляновского, и Милована, например, было реально важно, что Лариса крестится. Они были искренне рады за нее, и им было приятно, что их товарищ как бы выздоравливает, «ополноценивается».
Верила ли она в Бога?
Глупый, неприличный вопрос.
Как это можно знать досконально даже о самом себе, не то, что о посторонней женщине.
Важен тут был один момент, который она умело скрывала от окружающих, и в котором даже себе не любила признаваться — она не могла быть одна. Нет, она гордилась тем, что в ситуации с расстрелом Белого Дома оказалась в гордом одиночестве в «Истории», и этой честью не спешила и не хотела делиться с кем либо. Всех, кто с течением времени стал подползать к ней со словами возмущения в адрес «ельцинской банды», она воспринимала как примазавшихся, и быстро ставила на место. Рядом с собою, но одной моральной ступенькой ниже. Да, ей важно и желательно было быть первой, но существовать в полностью отдельном единственном числе, было невыносимо. Ей надо было быть членом чего–то, партии, команды, но ни в коем случае не рядовым, а как минимум, членом штаба.
Она сумела сделать так, что православные друзья процесс ее воцерковления обставили со всей возможной пышностью. В крестные отцы уговорили одного престарелого народного художника СССР. Дело устроил, разумеется, Питирим. Впрямую Лариса, конечно, не формулировала, что ей бы желалось иметь в этом качестве человека незаурядного, но он проник своей легкой алкогольной интуицией в суть ситуации. Нет, он не чувствовал вины перед нею за тот разговор, ибо чувством вины в данном случае признал бы и вину церкви, но по христиански и товарищески хотел угодить ларисиному капризу. Хочет генерала, да будет ей генерал!
Художник был другом отца Энгельса. Дружбу унаследовал и сын, а, значит, и друг сына, обожавший колоритных монстров и умевший с ними дружить. Аристарх Платонович был «кремлевским» живописцем. Его перу принадлежали портреты почти всех кремлей сохранившихся на территории России. Нижегородского, Казанского, Тульского, Астраханского, даже Тобольского. Чуть ли не пешком обошел молодой тогда автор свою родину с мольбертом через плечо. Теперь пожинал плоды. В последнее время почти не покидал своей мастерской на улице Герцена, она постепенно сделалась центром притяжения для многих интересных людей. А в последние годы и многих важных.
Питирим и Энгельс залетели как–то в гости к веселому умному старику с посылкой от хворавшего генерала, Энгельса старшего. Сели за стол. Аристарх Платонович был не только хорошим художником, но и хорошим хозяином: соленья, копченья, квашенья, грибы, водка особого, своего изготовления. Завязался интересный разговор про «отцы и дети» и как понимать эту проблему сейчас. И тут Питирим, подчиняясь чистейшему наитию, брякнул — а не хотите ли удочерить интересную девушку?
Трудно сказать, как понял это предложение шестидесятидевятилетний творец, но вдруг загорелся.
В нужный день прибыл в нужное место.
Храм выбрали не простой, хоть и скромный, с дружественным настоятелем, старинным приятелем тех же Энгельса и Бережного. Само событие отмечали там же при храме, в трапезной. Обстоятельно и с размахом.
Очень хорошо говорили, отец Александр был человек умный, образованный, остаточно светский, как и многие московские батюшки. В церковь он пришел из архитекторов и старое образование нет, нет, да сказывалось. Он был хороший священник, но вместе с тем в его сердце оставалось место для лестного ощущения, что есть среди его прихожан такие как сын космонавта, сын большого генерала, а теперь вот такая незаурядная женщина как Лариса.
Та была очень вдохновлена, и всем видом демонстрировала, что понимает значение момента. Одним лишь была недовольна — вода в купели была слишком комфортной температуры, как в каком–нибудь светском бассейне, а Ларисе хотелось пройти все же через что–то похожее на испытание.
Она спросила у отца Александра, как он относится к легенде, будто бы в 1941 году, в декабре на самолете возили вокруг Москвы икону Владимирской Божьей матери, и это помогло отразить фашиста. Отец Александр сказал, что это не легенда, так оно и было. Высшая сила поступила патриотично, и даровала родине не что–то, а именно военную победоносность. Ответ отца Александра обрадовал Ларису. Исчезли последние переживания по поводу того, что она, вступая под сень креста, в каком–то смысле предает пятиконечную отцовскую правду. Теперь окончательно устанавливалось — защитник отечества может быть и атеистом.
После совершения таинства, у нее стало спокойнее и как–то стройнее на душе. Она очень ощущала, что поступила хорошо, и ей это было приятно, что она такой молодец. Как будто она свободу своей совести разместила как ценный вклад в самой надежной из возможных инстанций.
Кроме этого душевного равновесия, Лариса получила с обращением и нечто еще. Дополнительную, как бы особо для нее санкционированную уверенность в своих особых моральных правах. Неофитский апломб свойствен почти всем новообратившимся. Но тут был особый случай. Лариса очень натурально ощущала за собой авторитет силы, с которой только что слилась. Всякий неверующий, всякий неправославный русский воспринимался ею как обязанный слушаться и подчиняться ввиду явного своего неразумия.
Обычно такой настрой спадает со временем, у Ларисы спал, но одновременно и как бы кристаллизовался в особом отделе души, и в любой момент она готова была предъявить свою православность как никогда не ржавеющий аргумент. Она очень хорошо отличала моменты, когда это было уместно.
Сомнение — удел сомневающихся.
Она стала бывать в мастерской художника. Крестному отцу очень понравилось быть крестным отцом. Он весьма вдохновился своей новой ролью, и начались зазывания Ларисы «на огонек».
Мастерская представляла собой расселенную коммунальную квартиру из пяти с чем–то комнат. Там было интересно и разнообразно. Конечно подрамники, подсвечники, офортный станок с огромным колесом, старинная, но очень разнокалиберная мебель, горы книг и рукописей — они вываливались из переполненных шкафов замедленными водопадами. Чем именно занимается хозяин, определить было нельзя, да и как–то неловко было лезть с уточнениями.
Главенствовали — рыбы. Коллекция. Керамические, деревянные, стеклянные, железные, огромные, уродливые, невиданные, придуманные. На подставках, на магнитных присосках, подвешенные к потолку.
Нет, все художники люди с каким–то бзиком, сказала себе Лариса, пробираясь по анфиладному аквариуму.
На кухне висел абажур, совсем как у Виктора Петровича, распивались чаи, только состав чаевничающих солиднее. Это был некий политический клубешник, но только не для подрастающего поколения, не запасная дорожка, как в прежних компаниях дружков Бережного. Тут были действующие фигуры, хотя, конечно, совсем не первого ряда. Несколько депутатов расстрелянного верховного совета, священники, генералы, космонавт, дважды, между прочим, герой союза. Несомненный шаг вперед по сравнению с сыном космонавта подумала как–то Лариса.
Она охотно принимала приглашения Аристарха Платоновича.
Она не стремилась рассуждать о живописи, чем очень нравилась хозяину, и еще тем, что не спрашивала у него не тот ли он Аристарх Платонович, что выведен в «Театральном романе». Хозяина куда больше изобразительного искусства занимала политика.
Ее роль при Аристархе Ивановиче определялась постепенно, и была комбинированной. Формально, она подрядилась обработать мемуары народного художника. Четыре папки довольно бессвязных, хотя местами и весьма любопытных воспоминаний. Встречи с Кориным, Аленом Гинсбергом, Георгием Свиридовым, Кастро, Львом Яшиным, не говоря уж о фигурах менее известных.
Считалось так же, что она берет на себя какие–то секретарские обязанности. Естественно, никаких воспоминаний она обрабатывать не стала, сбросила рукопись Прокопенке с туманным обещанием, что ему в конце концов что–то будет заплачено. Тем более смешно было ожидать от нее выполнения обязанностей секретаря. Она иногда заставляла Волчка или Бабича смотаться по бытовым делам старика, и всякий раз выдавала это за свой огромный подвиг. «Я поставила на службу вам целую организацию».
Аристарх Платонович соглашался, что обихожен просто в невероятной степени.
Супруга его лежала в Соловьевке, а сын учился за границей. Супругу требовалось навещать, и это тоже делала «организация» Ларисы. Она даже не спрашивала у своих молодых «историков» удобно им это, просто называла время и говорила, что купить нервной бабушке.
Бабич терся в мастерской почти постоянно, (что устраивало начавшего тихо отлынивать Волчка). И все больше вживался в роль парня на посылках. Только в этом качестве у него был шанс видеться с Ларисой регулярно. Кажется, он даже ревновал свою начальницу к старику, тихо ненавидя его бодрость, человеческую и гражданскую успешность. Он знал, что она мало ценит простую телесную молодость, и мечтает о какой–то крупной личности.
Бабич знал, что его будут терпеть, только если он будет незаменив. Через него поддерживались «политические» контакты маэстро. Он не ленился позвонить, напомнить кому это было надо о дне и часе встречи, отредактировать письмо и отправить его, сбегать за сушками в ближайшую булочную и включить электрический самовар.
Он был очень полезен, но и, в свою очередь, отвратителен Аристарху Платоновичу, потому что в виду своей почти мгновенной исполнительности, не позволял ему остаться наедине с крестной дочкой. Только не надо думать ничего такого.
«Я способен только на платонические чувства» — любил говаривать маэстро. Но про себя проговаривал, что и в платонической любви третий — лишний. Ему было неприятно, что при всех актах этого чисто словесного романа присутствует этот вечно унылый хмырь. Почти наверняка физический любовник Ларисы. «Зятек», — хмыкал Аристарх Платонович.
Лариса сумела поставить себя так, что скоро заняла положение какой–то обобщенной музы для постоянной компании этого политического клуба. Образованный Питирим как–то пошутил, что ее надо называть Лара не потому что полное имя ее — Лариса, а потому что были такие римские боги домашнего очага — Лары и Пенаты. Трудно понять почему, но римская ассоциация ее задела.
Да, она разливала чай, но делала это так, что все, даже дважды герои воспринимали это как одолжение, а не как обязанность.
Кроме всего прочего, она была связующим звеном между двумя колоннами одного движения. Стариковской и молодежной. Но одновременно и фильтром. Постепенно пришло к тому, что она стала решать, кого допустить, а кого не допускать в тот или иной день в мастерскую. Делалось это тонко, так что и бунтовать против такого порядка вещей было бы как–то странно, даже тому же Бережному. Он был в прекрасных и давних отношениях со стариком, но с какого–то момента ощутил, что прежней простоты и ясности уже нет. Стоило задать прямой вопрос — а почему то–то и то? Следовал уклончивый, ноющий стариковский ответ — спроси у Ларисы.
В конце концов, все устраивалось, сын космонавта являлся к другу Кастро и пил портвейн за его столом, сыпал сведениями из скрытой светской хроники, но не мог избавиться от ощущения, что ему всего лишь «позволено» здесь находиться.
На Ларису он обижался, но тихо, потому что сразу понял — любая высказанная в ее адрес претензия, это плевок против сильного ветра.
19
А времена были непростые.
Ельцин разгромил оппозицию, но тут же стал судорожно варганить что–то на нее похожее, ибо как выяснилось, так принято в приличных странах. А ему как раз хотелось числиться среди приличных.
Присмиревшие на время в своих убежищах белодомовцы, начали осторожно высовывать головы наружу, принюхиваться, перезваниваться, сбиваться в укромные пока компании. Некоторое время трудно было сообразить, в чем сейчас фишка момента. Потом самые чуткие сообразили в чем, они учуяли мощный призыв зияющих политических пустот — придите, вселитесь в нас!
Где–то в укромном месте судорожно клепалась усатеньким Шахраем новая конституция, и судорожно расхватывались другими соратниками места в сияющих огнями успеха кабинетах правящей пирамиды. И туда рвануло большинство трехцветников, с визгом и надрывом напоминая о своих заслугах. Места в главном корпусе власти на всех не хватало, возникло много обид и возражений.
В это же время начало выясняться, что немалые возможности были и на неосвещенных этажах здания власти, и даже в отдельно стоящих флигелях.
Лариса разливала чай в одном из таких флигелей.
А под абажуром менялись и менялись персонажи.
Бывали люди известные, такие как депутат Алкснис, депутат Бабурин, чаще фигуры помельче.
Говорили много, многозначительно, всегда оставалось впечатление, что все знают больше, чем произносят вслух и рассчитывают на большее, чем сейчас имеют. Главное полагалось додумывать самостоятельно. И оно, главное, ожидалось вот–вот, уже очень скоро оно проступит, заколоситься. Главным правящим общим настроением было: надо готовиться к большим делам. Будет дан бой, и шансы растут. Вон на том важном месте и вон на том уселись свои люди. Почти все командующие округами и директора больших заводов против режима, только никто пока не считает нужным публично об этом кричать. Большие дела будут. Обязательно и, может быть, даже скоро.
Лариса в полной мере ощутила сладость оппозиционного существования. Прелесть теневого состояния власти. Похоже чем–то на купание в ночном море.
С каждым днем она все лучше ориентировалась в обстановке, в сочетании сил, в отношениях между действующими фигурами. И ей уже не мнилось ничего сакрального и таинственного в функционировании политического механизма. Она узнала так много, и такого уничижительного, мелкобытового обо всех этих Полтораниных, Старовойтовых, Немцовых, Шумейках, Боровых, Гайдарах, Чубайсах, что они стали для нее, чем–то вроде институтских однокашников, своих, по–сути, ребят, просто из чуть–чуть иной компании.
Однажды к Аристарху явились коммунисты. Московский, кажется, обком.
Впрочем, коммунистами в прошлом были практически все, потому что без членства в партии в СССР… и т. д. Но это были не открестившиеся, а реальные коммунисты, сберегшие партбилеты, зюгановцы. Они давили на то, что все патриотическое движение должно без всяких глупостей подлечь под КПРФ, чтобы избежать дробления сил.
Они очень сильно напирали, и тут Лариса впервые перешла из разряда слушателей, в разряд говорителей. Она села за стол, закурила, и, пустив под абажур легкий дымок, спросила у особо настырного гостя.
— А где была ваша партия, когда стреляли прямой наводкой по Белому дому? Почему Россия защищалась от этой деммрази в одиночку. И где была партия в 91 году? Да если бы одни только тетки из ваших районных бухгалтерий вышли со счетами в руках они бы треском костяшек распугали кучку демократов. Почему не последовало такой команды от вашего политбюро?! А теперь вы, отсидевшись, учите тут всех как жить!
Она сидела как раз под огромным резным распятием, мастерская Аристарха Платоновича была очень оформлена в православном смысле. Лариса знала, что если этот лысый зюгановец спросит — а где была ваша церковь в 93‑ем? Почему молчал в тряпочку ваш патриарх? она не будет знать, что ей ответить. Объяснение Питирима не стало ее убеждением.
Но зюгановец промолчал.
Явно сбитый с толку энергией ее напора. И суровым блеском красивых зеленых глаз.
Лариса навсегда перестала разливать чай.
Бабич охотно сменил ее в этой роли.
Постоянные посетители мастерской приняли Ларису в свой круг. Сначала некоторых смущал ее слишком резкий, безапелляционный стиль. Потом они даже разглядели в этом особую привлекательность, иной раз, при появлении нового и не вполне внятного или не очень приятного человека, выдвигали ее вперед, и откровенно развлекались, глядя, как она рвет его в клочья изящными ручками.
Если с кем–то надо было испортить политические отношения, не портя при этом свои личные, выдвигали Ларису. Постепенно она стала чем–то вроде полевого командира в собрании кабинетных стратегов.
Бабич пытался ее бережно окорачивать, льстиво вразумлять, когда они оставались один на один. Не зарывайся. Она внимательно слушала его советы, понимала, что советы–то правильные, но слишком уж не всегда им следовала.
От нее господам оппозиционерам была и практическая польза. По стране формировались местные отделения всяческих политических сил, и Лариса открыла свою записную книжку, набитую самыми различными телефонами еще с тех времен, когда она была богиней командировок в «Истории». Интересно, что почти никто из старинных знакомых не отказал в подмоге, несмотря на густой демократический озноб охвативший страну. Столичные эмиссары оппозиционного флигеля получили поддержку от ларисиных «историков» в полутора десятках городов. Их поселили, накормили, связали с нужными людьми в администрациях, пробили им рекламные полосы в местной прессе, и даже кое где пятиминутку на телевидении. Оказалось, что организация «Братья и сестры» не плод всего лишь ее политически воспаленного воображения. Потом, когда в это русло хлынули по–настоящему большие деньги от патриотического бизнеса, нужда в этих мелких помощах отпала, но первоначальное плечо поддержки многие отметили. Тем более, что Лариса и не думала скромничать, по несколько раз озвучивала факт своего полезного участия в общем процессе.
Аристарх Платонович удовлетворенно улыбался, теребя то правый, то левый ус, то эспаньолку, он все больше походил внешне на Дон — Кихота как его принято изображать на иллюстрациях, ему нравилось, что его крестная дочка так серьезно углубилась в эту политическую чащу. Он представлял ее себе как личную щуку, брошенную им в эту реку. Кроме того, это заставляло ее все чаще бывать у него в гостях.
Как–то само собой стало считаться с какого–то момента, что Лариса «включена в список». Краем уха услышавший такой разговор Бабич бросился к ней с радостным известием, она лишь едва заметно усмехнулась, выпуская облачко сигаретного дыма. Не переспросила что за «список», и выразилась в том смысле, что попробовали бы они поступить как–нибудь иначе.
Депутатское кресло забрезжило в несложном, почти разгаданном лабиринте ближайшего будущего. Бабич тоже быстро освоился с мыслью — если не Лариса проходит в Думу, то кто же тогда?
Но оставались волнения — как это будет?
Она не бросилась просовывать туфлю в наметившуюся щелку, решила, что будет сохранять достоинство. Она, разумеется, знала какая телефонная истерия царит в предвыборных коридорах. Какое ползание на брюхе перед теми, кто решает, какие обещания ноги мыть и воду пить, но себя она ставила заведомо выше. Никого, ни о чем она не будет просить. Принесут мандат на блюдечке.
Конечно, предстоят мелкие и многочисленные технические вопросы. Какие–то ведь нужны бумажки? Куда бежать? Что заполнять?
Один из друзей Аристарха, дважды герой Советского Союза и член совета директоров солидного банка, пригласил к себе Ларису в офис на Остоженке. Он регулярно бывал у художника и ему ничего не стоило переговорить с нею прямо во флигеле, в одном из его творчески захламленных уголков, но он счел необходимым пригласить ее в официальный интерьер, дабы исключить всякую двусмысленность ситуации, снять с обсуждаемого вопроса всякий домашний, приватный оттенок. Сразу заговорил о деле. Он посоветовал самым срочным образом оформить деятельность ее организации «Братья и сестры» официально. И объяснил, как это делается.
Учредительный съезд, пакет документов и т. д. Обещал юриста в помощь.
— А к кому обратиться со всеми этими бумажками в минюсте, я вам потом скажу.
— Спасибо Сергей Иванович.
— Ну, что вы, Ларочка, одно дело делаем. Вы примкнете к сельхозникам, пойдете по их списку.
— Какой я сельхозник, Сергей Иванович, у меня даже дачи нет.
— Намек ваш понял, и вы поймите мой.
— Сельхозники, это ведь практически коммунисты.
Дважды герой спокойно кивнул.
— Я же говорил, одно дело делаем.
— Я столько раз нападала на Зюганова, а теперь…
— А теперь не будете нападать.
— А что я скажу своим… ну, резкая же перемена курса.
Дважды герой посмотрел на нее с таким удивленьем во взоре, что стало понятно, насколько глупый вопрос она задала.
20
Предвыборный процесс вошел в свою официальную фазу.
Лариса подготовила все нужные бумаги.
В загородном пансионате за большим круглым столом, в присутствии телекамер Ларисе предстояло в самое ближайшее время поставить свою подпись от имени организации «Братья и сестры» за вступление в блок «Городские аграрии», который в свою очередь должен был влиться в партию, которой гарантировалось прохождение в парламент. Когда ее иной раз иронически спрашивали (например, ехидный Милован, или тот же Бережной), как же так, где же твой столь яростный еще совсем недавно антибольшевизм? Ведь «сельхозы» это просто запасной отряд КПРФ. Она отвечала, что она баллотируется не от Зюганова и компании, а от народа и земли. И в ее тоне звучало что–то такое, что остроумцы предпочитали больше на эту тему не заговаривать.
Чтобы раз и навсегда закрыть тему в своем окружении, она сама во время одной из теперь уже редких совместных пьянок, наехала на Прокопенко и Волчка: что, считаете меня такой–то и такой–то? Те в ужасе стали оправдываться, за этим занятием и провели весь вечер. И Лариса не мешала их изобретательности по этой части. Отношение и прочих сотрудников к ней также стало более пиететным. Все очень старались никак ее не задеть. Тойво церемонно раскланивался, Галка несколько раз забегала поболтать, и удалялась, делая вид, что не заметила, что ее фактически выпроводили.
Служебное положение Ларисы было редкостным. Она продолжала сохранять ореол гонимости, что сообщало особый тон всем ее движениям, но при этом всем было известно, что она набирает значительную официальную силу, и скоро совсем взорлит.
Ребров демонстративно не замечал, что она давно уже ввела свой собственный график работы, и появляется в кабинете тогда, когда ей это нужно. Не пикнув принял план работ ее отдела, где на первом месте был курс лекций «Поля русской славы» — Куликовское, Бородинское, Прохоровское. Никаких россказней о прелестях лендлиза, о десятках тысяч заокеанских студебеккеров и виллисов, груженых тушенкой, якобы поступивших на подмогу Красной Армии с помощью непотопляемых английских конвоев. Сверху рекомендовалось напирать как раз на такие темы, чтобы угодить новым западным товарищам. А она вишь ли, поля! Ребров молчал, но бесился.
Ну и чего она выеживается! Попытался пустить шутку по «Истории», что в следующем плане Лариса заявит курс «Водоемы русской славы» — Черное море, Балтийское море, Чудское озеро. Как только шутка дошла до Ларисы, она села за свою «Ятрань», и настрочила добавление к плану, как раз включавшее в себя ту самую «водяную» идею. Увидев перед собой этот лист бумаги, Ребров хрипло сообщил, что вынужден будет доложить об изменении планов наверх, самому Михаилу Михайловичу.
Вызванная на десятый этаж, Лариса молча выслушала вялую проповедь–отповедь шефа, и в ответ сообщила ему, что на будущей неделе ей понадобиться актовый зал ЦБПЗ для проведения учредительного съезда.
Шеф начал медленно открывать свой большой рот, было понятно, что он еще не знает, что скажет. Лариса быстро вставила.
— Я бы хотела, чтобы вы тоже присутствовали, Михаил Михайлович.
Шеф захрапел как испуганная лошадь.
— Зачем?
— Мы собираемся избрать вас председателем организации.
Послышался мелкий кашель, перемешанный с нервными смешками.
— Почетным председателем.
— Для чего вам это нужно? Для чего вам эта чепуха, и околесица?
Главная цель была достигнута. Даже две: Ребров нейтрализован, зал получен, теперь можно было говорить, что угодно.
— Как вы не понимаете, Михаил Михайлович, баба во главе такой организации — это, по меньшей мере, нескромно. Вы фронтовик, офицер, авторитетный человек…
— Прекратите!
— Вы даже не знаете наших лозунгов, а уже…
— Знаю я ваши лозунги!
— И после этого так брезгливо отклоняете эту честь. «Братья и сестры», родина и свобода! народ и процветание! С каких это пор признаваться в любви к своему отечеству стало постыдно?! Вы офицер…
— Да, я офицер, а вы Лариса — демагог.
— Я не демагог, я дочь офицера.
— Я знаю — вы любите военные марши!
— И военные марши тоже, этот звук мне, по крайней мере, приятней, чем дребезг тридцати серебрянников.
Михаил Михайлович мощно вскинулся, опираясь широченными как ласты ладонями о столешницу.
— Я хочу сказать, что лучшего лидера, чем вы, нам не найти. Мы же знаем вас, знаем, как болит у вас сердце за все, что творят с нашей страной, только интеллигентность и сдержанность не позволяют вам ударить кулаком по столу.
Он медленно сел.
— Михаил Михайлович…
— У меня действительно болит сердце.
— Я позову Сашу.
Он отрицательно помахал рукой и достал из ящика стола коробочку с лекарством.
— Я знаю, Михаил Михайлович, вы с нами, поэтому и предлагаю вам…
— Идите, Лариса, идите.
Выйдя в предбанник заведующая отделом Великой Отечественной Войны сказала.
— Так, Сашенька, запишите. Четверг. Подготовить актовый зал.
— В смысле?
— В смысле микрофоны, столы для президиума, минеральную воду, и все как полагается. С шефом я договорилась.
21
В то утро Лариса была в мастерской одна.
Аристарх Платонович уехал накануне в больницу навестить свою вечно недомогающую супругу.
Лариса сидела перед главным аквариумом, глядя, как разноцветные рыбы снуют между цепочками воздушных пузырей и неподвижными водорослями. Она была сосредоточена и немного опустошена. Цепочка выигранных мелких сражений осталась позади. Съезд, старческое кокетство шефа, который чуть было все не сорвал, все спас приступ подскочившего давления. Страх за свое здоровье пересилил ужас политического выбора.
Ребята Сергея Ивановича показали класс конторской квалификации — Бабич умчался в правительственные коридоры с чемоданом вполне исправных бумаг.
Если повезет, печать шлепнут уже сегодня.
В худшем случае — послезавтра.
Думала ли Лариса в этот момент о чем–то конкретном? Нет, она расслабилась, представляла себе, как, наверное, хорошо иной раз побыть просто вот такой рыбкой. Именно беззаботной аквариумной, среди подобраных заведомо безобидных соседей, не покушающихся тебя сожрать, как какие–нибудь дикие речные рыбы.
К стенке аквариума был приклеен листок бумаги со стихами. Написанными в строчку.
«Даже рыбке в море тесно, даже ей нужна беда. Нужно, чтобы небо гасло, лодка ластилась к воде, чтобы закипало масло нежно на сковороде».
Аристарх Платонович собирал не только рыб, но и всевозможные высказывания о рыбах.
«Философ» — усмехнулась Лариса.
Зазвонил телефон.
— Папа?!
Откуда он знает номер этого телефона? Впрочем, сама ведь дала, на предвыборных неделях она почти что поселилась в мастерской.
— Нам надо поговорить? Срочно? О чем?
Сын? Он же выпиливает кремлевские башни! Ах, уже не только это. Что–то серьезное? В милицию попал? Клей нюхает? Украл чего–нибудь?
— Попал в плохую компанию?
— Не то чтобы плохую.
— Пап, ты знаешь, я сейчас в цейтноте. Многое решается. Все решается. По горло занята. Да ты не извиняйся. Как только немного тут разгребу — к вам. Сейчас извини — жду важнейшего звонка. Целую, целую, целую.
Не обманула отца — как только положила трубку, раздался звонок от Бабича.
— Ты что там задыхаешься, гонец?
— Не понятно.
— Что непонятно.
— Они отказались.
— Ты все правильно там сказал?
— Да. Меня узнали.
— И что?
— Ничего.
— Что это такое — ничего!?
Оказалось, что вместо зеленой улицы стопроцентный отлуп. Как будто Бабич не оговоренный заранее человек, а дурак с мороза.
— Ты еще раз попробуй, может, что–нибудь ляпнул, может, перепутал, может…
— Я трижды заходил.
— Ладно, езжай сюда, я тут наберу кое кому.
Через двадцать минут выяснилось, что она ни до кого не может дозвониться. Ни до кого из «соратников». Стена из невидимых секретарш и глухих телефонов. Сергей Иванович, Андрей Станиславович, Георгий Игоревич!!!
Позвонила на работу Миловану, при всей своей безалаберности он иногда обладал редкой информацией. Дома уже нет, на работе еще нет.
Набрала Бережному, перекинулась парой вежливых фраз с дочкой дошкольницей. Мама в ванной. Змея, все равно ничего не скажет, даже если что–то знает.
Энгельс! Занято. Наглухо занято.
Снова круг высоких звонков, с тем же результатом.
Ладно, еще раз к Энгельсу. Теперь никто не берет.
Посмотрела на аквариум. Как себя чувствует рыбка, оставшись в аквариуме одна?
Откинулась в кресле, поглаживая трубкой гандбольный след на щеке.
Далеко, далеко в рыбьей тишине флигеля раздался механический звук, щелкнул замок входной двери.
Бабич уже вернулся? Слишком быстро. Может быть, он никуда не ездил, просидел в песочнице в соседнем дворе?
Не его шаги!
Женские?!
Лариса повернулась в крутящемся кресле навстречу открывающейся двери.
Появилась высокая тонкая женщина лет сорока с узким лицом, в сером костюме с черным галстуком. Волосы стянуты на затылке в узел. Очки, за которыми выражения глаз не рассмотреть.
— Вы кто? — Спросила она
Лариса сразу почувствовала, что поставлена этим вопросом в обороняющееся положение. Причем в позиции, которую трудно защитить.
— Что вы здесь делаете?
Лариса все еще держала в руках трубку телефона, и это выглядело как улика. Положить ее на рычаг сразу было равносильно признанию своей виновности.
— Я… — Попробуй тут в двух словах все изложить.
— Что вы делаете в моем доме?!
Ах, вот оно что! Уж не водевиль ли здесь? Большой художник говорит, что поехал к жене, а на самом деле… Но уже пора что–то предпринять навстречу этому прокурорскому напору.
— А где Аристарх Платонович? — После этого Лариса, наконец, вернула телефонную трубку на место, та словно бы только этого и ждала.
Женщина резко протянула руку, подняла ее двумя пальцами, брезгуя чужим теплом, и быстро сказала.
— Он умер.
— Как умер?
— Не ваше дело.
Хозяйка набрала две цифры на диске.
— Это милиция?
22
Лариса почти спокойно перенесла унижение сборов своего барахла — а его скопилось в мастерской неожиданно немало. Причем, эти сборы происходили под неотвратимым наблюдением неприятных очков.
— Вы что, боитесь, я что–то украду?! — Пыталась иронизировать Лариса.
— Я не дам вам ничего украсть. — Отбрила хозяйка.
Чтобы уйти с чувством хотя бы остатков собственного достоинства, нужно было затеять скандал. Но не было сил. Большая часть мыслей была занята разрешением головоломки с казуистическими приключениями Бабича в минюсте. Это было главнее, чем хорошая мина здесь во флигеле. Лариса еще в тот момент не поняла, что эти вещи связаны самым прямым образом.
Весь прошлый вечер, едва отправив труп скоропостижно скончавшегося мужа в морг, Галина Агеевна просидела на телефоне, внедряя в общественное сознание нужную ей версию события. Лариса функционировала в этих разговорах как «жуткая баба», доведшая «великого художника» до инфаркта. Змея, пригретая на груди, уже захваченной грудной жабой. В своем неврологическом убежище Галина Агеевна собрала за последние месяцы целое досье на соперницу, ни одной секунды она не верила в кристально платонические отношения между Ларисой и Аристархом. Кстати, и никто не верил. Ну, хочет старик притворяться, называть это все «творческой дружбой», «высшим отцовством», «душевным родством», пусть. Но просто вся предыдущая его жизнь говорила за то, что такое с ним вряд ли может случиться. Сама Галина была всего семь лет назад превращена из гостиничного администратора в молодую супругу именно с помощью бурной постели.
Главного Галина Агеевна добилась — открыла приятелям Аристарха глаза, на эту бабу–танк. Наличие «не остывшего еще тела», заставляло к предупреждениям отнестись всерьез.
Она опасна!
Собственно, и действительно опасна, угробила ведь мужика.
Она пойдет по трупам!
Пожалуй что, и пойдет.
Словно пелена упала с глаз, как выразился тот самый Сергей Иванович.
Он мыслил притчами, и к данной истории у него нашлась подходящая.
«Ехали мы как–то в Средней Азии, вдруг перед нами — отара. Медленно стали пересекать. Вдруг один из наших говорит — давай одну овцу тихо встащим в салон, потом шашлык–плов сделаем. Втащили. Первую, что попалась. Оказалась — овчарка! Перекусала всех».
Одним словом, решено было Ларису не втаскивать в салон, раз вовремя разглядели какие у нее зубищи.
И никакого не имело значения то, что умер Аристарх как раз при жене, а не при «овчарке».
Галина Агеевна не нацеливалась в Думу. Ей хватало того, что завещание народного художника было написано в ее пользу.
23
Все, что ни делает Бог, он делает к лучшему. Отец Александр двадцатью разными способами доводил до сведения Ларисы эту широко известную мысль, добиваясь того, чтобы она душевно приняла ее. Лариса кивала. Переворачивала вишни в вазочке с вареньем, грела пальцы другой руки о чашку с успокоительно ароматным чаем.
Отец Александр брал в крепкую руку сушку, и с тихим хрустом разламывал на четыре части, как бы сокрушая таким образом очередную горесть гостьи.
Лариса была тиха и покорна.
Как хорошо, что догадалась придти сюда. От отца Александра исходило именно то, что было ей необходимо сейчас. Умственно трезвый и подлинно добрый, как все настоящие священники человек. Ларисе было стыдно за свое прежнее к нему отношение, за то невольное кокетство, что фонтанировало из нее при прежних встречах. Она видела в отце Александре прежде всего большого, импозантного мужчину, а потом уж священника. Нет, ни до каких, даже микроскопических пошлостей не дошло, никаких двусмысленных шуточек, но про себя то она что–то воображала, самоуверенная мерзавка! Перед собой же стыдобно. Бабское, слишком бабское свойственно ей было всегда, и втаскивалось вслед за ней следом сюда, в святое место!
Да, да, кивала она, политика грязное дело, чтобы не говорили люди занимающиеся политикой. Надо радоваться, что ее отвело от этой помойки. Попавшие в это болото погибают навсегда. Ей, Ларисе, повезло. Жест судьбы полностью понятен, она манипулирует своим жезлом как регулировщик на берлинском перекрестке в сорок пятом. Да, да я слишком долго не слушала нашептывания судьбы, подошла в своем ослеплении слишком близко к пропасти, поэтому судьбе пришлось буквально хватать за плечо, применяя спасительную грубость. Все так, все так. Но как смирить эту морозящую ненависть к поддельной невротичке Гале. Для чего судьбе понадобилось облекаться именно в эту отвратительную одежку, почему операцию на ее биографии решено было делать именно этим скальпелем?!
Тот, кто посылает весть, выбирает и гонца, отвечал отец Александр.
Лариса припомнила давнишнее выражение бабушки Виктории, сказанное по какому–то забытому поводу: только сука может покусать суку! Только Галя могла столкнуть Ларису, ни одному мужику это было не под силу.
Отец Александр мягко улыбнулся. Он не собирался спорить по пустякам. Это всего лишь грубоватое народное наблюдение, божий промысел же осуществляется при любых комментариях свидетелей его действия.
Что есть схватка сук на фоне движения судеб?!
— Я наверно вас задерживаю? — Несколько раз спрашивала Лариса, потому что отняла, конечно же, уйму времени, но отец Александр успокаивал ее, мол, у него всегда хватит времени, чтобы помочь человеку.
Уходила практически умиротворенная, потратила кучу денег на самые толстые свечи, искренне крестилась и старательно поправляла сползающий платок.
Медленно шла вдоль церковной ограды, глядя только себе под ноги. Рассеянный снегопад населял воздух вокруг, оказывая какое–то смягчающее действие на все еще чуть воспаленные чувства Лары. И даже на звуки, издаваемые городом.
Рядом затормозила машина, аккуратно, почти что застенчиво, что очень контрастировало с ее сияющим, самодовольным обликом. Лариса удивленно остановилась, на секунду мелькнула смешная мысль, что этот «мерседес» ведет себя так робко, потому что явился на исповедь. Перед Богом все равны.
Из дорого кожаного нутра выгрузился соответственно одетый человек.
Сергей Иванович!
Он не сразу увидел Ларису, а когда увидел, нахмурился. Ему была неприятна эта встреча. Ему было неприятно, оттого что ему не удастся пройти в церковь, минуя эту живую статую горького укора.
Сергей Иванович испытывал сложные чувства. Ему было неловко, как всякому мужчине, который соблазнил женщину и бросил, пусть хотя бы только в политическом отношении.
Он, к тому же, помнил, что был активистом среди внезапно взбрыкнувших, среди тех, кто активно настаивал на прекращении ларисиной карьеры: «Баба–танк», «она еще всем покажет!», «неуправляемая», «человек–скандал», «железная Лара». Как–то все сразу заволновались, что могут оказаться под влиянием ее характера, если ей удастся просочиться достаточно высоко.
«Вы хотите повторить судьбу Аристарха!?»
Галина Агеевна ударила в десятку.
Перепугала всех, разом и сильно.
Она потребовала, чтобы «этой аферистки» ни в коем случае не было на прощании и поминках. «Она превратит все в позорный балаган». Никто не хотел позорного балагана на поминках. Галина Агеевна стращала — «если она явится, я за себя не отвечаю!»
Теперь–то было понятно: боялись одной бой–бабы, попали под каблук другой. Нервная Галя устроила из поминок что–то отвратное.
Оскорбленная Лариса даже не попыталась проникнуть на церемонию.
Теперь вот перед нею неловко.
И зачем было сегодня ехать в церковь?! Вот так всегда, только тронешься в сторону Бога, как тебя хвать за совесть и пытать.
Сергей Иванович, вздыхая, подошел к все еще неподвижной Ларисе. Надо было что–то говорить.
— Понимаешь, она как с цепи сорвалась. И многие струхнули. Я как мог пытался смягчить (Сергей Иванович верил в этот момент в то, что говорил), но это как снежный ком. Раз уж покатился… — Сергей Иванович несколько раз тяжело вздохнул, ему было жарко в дубленке.
Лариса смотрела на него холодно и спокойно. Она продолжала оставаться просветленной и примиренной с судьбой. Она сказала:
— Но теперь–то вы понимаете, что все это ерунда, вспышка психопатки.
Сергей Иванович глубоко кивнул.
— Что же теперь мешает все вернуть обратно?! Документы готовы, вам достаточно сделать несколько звонков.
Душевное равновесие было непоколеблено, работала лишь голова, инстинктивное движение интеллектуальных извилин. Политика — грязь, это оставалось ясным. Речь могла идти только о чисто гипотетической возможности восстановления технической справедливости.
Сергей Иванович сделал скорбное лицо.
— Вы хотите сказать, что поезд ушел?
Он кивнул и вздохнул.
— Но ведь еще целых полтора дня до… Я бы успела зарегистрироваться, и все что надо подписать. — Уже немного вспыхивая, начала Лариса.
— Другие люди. Понимаешь, пришел другой человек, с ним не договоришься. По крайней мере, мне с ним не договориться.
— Кто же меняет чиновников в такой момент?
— Почечная колика. На место Самвела Арамовича сел зам.
Лариса дернула щекой.
— Поезд еще не ушел, а вы уже перепродали мой билет.
— Лариса… Правда, глушняк, я бы со всей душой, но с Шамариным мы даже не здороваемся. Он мне противен.
Она сделала стойку.
— Шамарин? Какой Шамарин?
Сергей Иванович рассказал.
— Ты его знаешь?
Лариса кивнула.
— Знаю. Мне он тоже противен.
— Ну, вот видишь!
Снег вдруг повалил густо–густо.
— Сергей Иванович, вы меня подвезете, где я тут машину поймаю?
Он сделал неуверенный жест, мол, я же в церковь собирался. Лариса не дала ему даже рта раскрыть.
— Поверьте, к Богу вы всегда успеете, а у меня всего полтора дня осталось. И потом, это ведь из–за вас все так затянулось.
Человеку, который решил заняться спасением души, всегда трудно возражать человеку, у которого срочное дело. Как–то неловко, в самом деле, Бог–то ведь действительно никуда не денется. К тому же вспомнилось безобразное поведение Галины Агеевны во время тех же поминок, обвиняя Ларису в том, что она может устроить бесчинство, она сама…
— Ладно, поехали.
В голове у Ларисы уже созрел рисунок маршрута. Сначала — к Бабичу, все бумажки у него. В те времена пробки еще не стали подлинным бедствием. К тому же шофер Сергея Ивановича был несомненным артистом своего дела, так что до Палихи долетели пулей.
— Ну, я свободен, Ларисочка? — Сергей Иванович был единственный, кто называл ее именно так.
— Вы же знаете, что я не люблю, когда меня так зовут.
Он вздохнул.
— Ну, вот я все время перед тобой виноват.
Конечно, можно было бы заставить его сидеть тут и ждать, пока она поднимется за своим нукером, но это уже попахивает перебором. Он уже отработал большую часть своего предательства, нагибать дальше вредно, можно перегнуть. Но и отпускать просто так…
— Можете ехать, дальше я сама знаю, что мне делать.
Сергей Иванович выдохнул с облегчением.
— Только от вас — один звонок. Пажитнюку. Какая подходящая фамилия для агрария, правда?
— Да, но…
— Вы ведь не успели дать полный обратный ход с «Братьями и сестрами».
— Специально, конечно, нет, только у него я думаю все сверстано, они уже собирались.
— А вы позвоните, и подверстайте. Техническая неувязочка, мол. Обо мне он слышал, и одобрял, я знаю. Чего вы так дышите?
— Понимаешь, Ларисочка, ой, извини…
— Да черт с ним.
— Он ведь старинный друг Аристарха, ему будет трудно… откажется, его и за неделю не уломать. А время же… И Галину Агеевну он знает. Свидетелем был на свадьбе.
Схема получалась отвратительная. Сергей Иванович осторожно погладил Лару по плечу.
— Да, брось ты это. Что за гонка, не последние выборы, будут еще…
— Я для него как красная тряпка, для Пажитнюка?
— Вроде того.
— Убираем красную тряпку. Без баб!
— Что?
— Первым пойдет Михаил Михайлович.
— Какой? Ах, этот?
— Да. Он формально у нас почпред, по документам проведен. Пажитнюк его знает?
— Черт его знает.
— Так вот вы и позвоните. Меня мол, отодвинули, наказали, с кашей съели.
Сергей Иванович набычился, слишком много крутых виражей за последние деньки, ему не нравился такой несолидный стиль.
— Ладно, доеду, обмозгую.
— Нет, нет, вот у вас тут телефончик стоит, снимайте трубочку, снимайте. Ну, что вы, Сергей Иванович, один разговор, последний. Остальное я сама.
Когда она входила в квартиру Бабича, то даже что–то напевала, что–то чардашное, частичка черта в нас живет в суровый час. Открыл дверь Никита Семенович, отец Бабича, директор мясокомбината. Ларису он обожал, и хотя все знал об отношениях своего сына с «царицей», как он ее называл, при всякой встрече полушутливо предлагал ей бросить этого «мозгляка» и «махнуть в Дагомыс».
— О, мой колбасный король! — На автомате пела Лариса, давая возможность мусолить левую руку толстым губам директора, а сама параллельно командовала своему помощнику немедленный сбор–поход.
— Как уже?! И даже буженинки свеженькой с нами не разрежете?!
— Никита Семенович дело государственной важности! Бабич, иди лови машину.
— Но тогда, хотя бы сухим пайком. Вот, это подарочный комплект, называется «12 месяцев».
— Что за название? Бабич, я уже спускаюсь, соглашайся, сколько бы не просили!
Никита Семенович протянул ей квадратную, роскошно украшенную как бы конфетную коробку.
— Двенадцать палочек сухих колбас, вот в эту целофановую амбразурочку вы можете видеть этих красавиц. Посмотрите, их как будто сам Фаберже ваял.
— Спасибо, спасибо, сервелатный рыцарь мой.
— Умоляю, умоляю вас об одном, не переходите в вегетарианство, иначе моя жизнь потеряет всякий смысл.
— Обещаю. — Крикнула Лариса, ныряя в лифт.
24
— А где он?!
Секретарша пожала плечами.
— Пятница.
— Еще полтора часа до окончания рабочего дня. И как можно в такой день вообще уходить с рабочего места?!
Она рассчитывала увидеть здесь толпы возбужденного народу, в последний момент прорывающегося к окошку, чтобы всунуть туда свои бумажки. Она готовилась прорываться, протискиваться, подкупать, и скандалить, льстить и хамить. А тут — пустыня. Уборщица со старинным пылесосом идет куда–то вдаль по унылой ковровой дорожке.
— Да все уже закончилось, девушка. Все кому надо оформились. А у Антона Петровича, у Шамарина сегодня юбилей.
— Да, какой может быть… Юбилей? Где? Где он живет? Хотя, где он живет, я знаю.
Секретарша улыбнулась, и просто из чувства превосходства над этой недотепистой теткой, сообщила.
— Зачем дома, он отмечает во дворце «Магистраль». Только вам туда не пройти. По приглашению.
— У вас остались лишние? Обычно всегда остаются лишние.
Та, вдруг почувствовав, что позволила себе слишком много, резко замкнулась, опустила глаза.
— А где он хотя бы этот дворец, «Магистраль»? Вы что оглохли?!
Бабич осторожно потянул Ларису за локоть, шепча, что он знает куда ехать.
Помчались по Ярославке мимо ВДНХ, уже было почти темно, ноябрьские ранние сумерки. Лариса любила смотреть на знаменитую ракету с изогнутым выхлопом, и сейчас, когда они пролетали мимо освещенной прожекторами скульптуры, она почему–то подумала, что ее судьба чем–то напоминает эту ракету, и ее порыв и ее изогнутую струю.
К главному ходу, конечно, не пошли, рванули через служебный. Лариса держала наготове целую стопку различных корочек и удостоверений, пока было неясно, какие именно могут сыграть в данном месте.
Оказалось, никакие.
Никакой стиль не действовал, ни нахрап, ни втирание очков. При попытке повысить голос, ее вообще взяли под локоть. Бабича, попытавшегося вмешаться, тоже взяли и вывели аккуратно и равнодушно на мороз.
— Надо было цветы купить. — Сказал Бабич.
— Так, сейчас ты отвлечешь внимание.
— Как?
— Думай. Толкайся, кричи, что кошелек украли, изобрази сердечный приступ.
Бабич снова засопел. Ему не хотелось вступать в конфликт со здешними властями, но не откажешься же. Ларисе было плевать на его настроение. Она вообще не привыкла думать о нем пристально. Полная безотказность, вот в чем его ценность.
Двинулись опять к входу. Но ничего разыгрывать не пришлось.
— Дядя Ли! Вы как здесь!
Маленькая замотанная шарфом фигурка уже прошла в предбанник, Лариса увидела его через частично запотевшее стекло, и кинулась следом — «у него мои билеты».
Лион Иванович был ошарашен встречей, и еще больше тем требованием, что было на него тут же обрушено. Он неловко представил Ларисе молоденькую, и малопривлекательную девушку — «Наташа», давая понять, что пришел с дамой, дабы ее как–то развлечь. «Мы Антоном соседи».
— Я это знаю. — Звенящим шепотом заявила Лариса, и потребовала у него пригласительный.
— То есть?! — сухое лицо конферансье чуть исказилось. Их со всех сторон толкали втягивающиеся в вестибюль гости.
— Давай, давай, дело жизни и смерти. — Проявляя чудеса лаконизма, она сумела в трех словах втолковать старику, насколько ей важнее оказаться в зале, чем ему. У нее реальная политика, а у него всего лишь развлекаловка.
Лион Иванович искал причины для отказа.
— Антоша обидится.
— Да он и не заметит, что тебя нет.
— А как же Наташа?
— Она, если хочет, может пойти со мной.
Наташа явно не хотела, она тоже уже поняла, что с пригласительным придется расстаться.
— А вы попьете пива с Бабичем. Вон он за стеклом.
Бабич не подвел, оказался там, куда показал палец Ларисы.
— Мне нельзя пива, печень. — Сослался на здоровье ветеран сцены, хотя оскорблен был морально.
— Пойдемте в кино? — Прошептала ему на ухо некрасивая Наташа. Лариса прочла по губам как спецагент.
— Гениально! Вы умница. Давай мне оба пригласительных. Бабич мне еще может понадобиться.
Лион Иванович, раздувая бледные нервные ноздри, полез во внутренний карман пиджака. Ему было неприятно, что его так бесцеремонно… но совершенно не представлял, что тут можно сделать.
Лариса протянула руку к букету гвоздик, которые приобрел не слишком щедрый конферансье для своей спутницы.
— В кино вам они не понадобятся. — Улыбнулась она на все готовой Наташе.
Места были неудобные, отдаленные, под нависшей тушей балкона. Можно было понять, что господин Шамарин не слишком–то ценил свои соседские связи с усыхающим конферансье.
Сцена была оформлена обычным юбилейным набором: увеличенный, и решительно заретушированный портрет, так что Шамарин смотрелся просто Аленом Делоном. Неужели пластика, подумалось Ларисе, или чудовище с возрастом похорошело. Так же имелся в левой стороне сцены небольшой диванчик и журнальный столик с вазой набитой фруктами. Диванчик предполагал двоих седоков. Во–первых, конечно, виновник торжества, во–вторых — молодая, элегантная дама с великолепно поставленным голосом, хозяйка вечера.
Как только Шамарин появился на сцене под нарастающий гром аплодисментов, Лариса поняла, что фотография на сцене — ложь. Все прежние бородавки юбиляра были на месте. Во всех прочих отношениях шестидесятилетний мужчина смотрелся великолепно: умеренное пузцо, кривоватые ноги, все это скрадывалось отличным французским костюмом. Он улыбался и кланялся, делая вид, что раз всем, кто явился.
Ты еще не знаешь, что тебя ждет, билась у Ларисы в голове хищная мысль.
Впрочем, она и сама еще не знала, чего опасаться бородавочнику во французском костюме.
Надо было осмотреться.
Сюжет мероприятия был прост. Один за другим на сцену из кулисы противоположной столику, появлялись известные, и не очень люди с огромными букетами и коробками. Предварительно объявленные бежевой красавицей, они бормотали в микрофон, кто громче, кто тише приличествующие случаю глупости, и освобождали место для новых говорунов.
Кое–кто пел. Русскую народную «Степь широкая», Лариса никогда бы не подумала, что это любимое произведение Шамарина, как было объявлено.
Читали стихи, любительские, слепленные на случай, и профессиональные, которые были почему–то отвратительнее самодеятельных.
Так, так.
Лариса осматривалась. Она уже поняла, что «Магистраль» это стандартный дворец, типовой, и ей уже приходилось бывать в таком во время командировки, кажется… забыла! Не все ли равно? Нет, надо вспомнить, почему–то это важно. Вон там справа в стене двустворчатая дверь, она выводит на лестницу, по которой можно пройти на второй этаж, там мимо репетиционных классов в помещение над сценой, откуда легко спуститься в накопитель за правой кулисой. Откуда она знала такие технические детали? Спасибо Юрочке Пташуку, главрежу молодежного театра… Да, Лариса аж подпрыгнула в кресле, испугав соседа.
Братск!
От этого открытия, настроение подскочило, и во всех членах зазвенела уверенность в своих силах.
— Как я выгляжу? — Спросила она шепотом у Бабича. Впрочем, его детализированный ответ ей был не нужен, влюблен, дурень, и этим сыт, и одновременно полезен. Однако форма одежды не та, ох, не та. Ведь никуда кроме церкви в этой черной водолазке и коричневой юбке она больше заходить не собиралась. А эти сапожищи, вон дамочка на сцене издевательски гарцует на концертных шпильках. Но за неимением гербовой пишут на простой.
— Дай мне эту коробку.
Бабич еще не понял, что задумала его герцогиня, но сердце у него заколотилось. Он заразился от нее боевой энергией, он понял, что ему не удастся остаться в стороне, и был тревожно рад этому.
В тот самый момент, какой–то смутно знакомый по телеэкрану политик обнимал юбиляра, и всучивал ему огромную, полувынутую из ножен саблю, Лариса в два шага, пересекла полумрак, отделявший ее от двери, и открыла ее.
Итак, все началось с удачи.
Дверь вполне могла бы оказаться и закрытой.
Понемногу везло и дальше. На лестнице никого не было, на одной из лестничных площадок дежурила только переполненная окурками пепельница. Караул устал.
А вот и второй этаж. Слева двери трех классов, как в Братске, справа высоченные, в тяжких гардинах окна, за которыми снегопад. Как в Братске.
Было темно.
Паркет почти не хрустел. Когда впереди замаячили чьи–то шаги, легко нырнула за штору. Переждала три мужских походки, проследовавшие справа налево.
Комната над сценой. Захламлена, стулья, одежда на них, осветительная техника кучей, штативы, пластиковые бутылки. Лестница вниз за кулисы, вот она.
Через минуту Лариса уже смешалась с тем, кто ждал своей очереди, лениво или взволнованно. Покуривая, переговариваясь, любопытно поглядывая из кулисы на сцену. Не все были друг с другом знакомы, поэтому на новенькую никто внимания не обратил.
Лариса осмотрелась, и сделала несколько неблагоприятных для себя выводов. Ну, то, что она смотрится по меньшей мере убого со своими тремя гвоздичками на фоне этих корзин с невиданными цветами, громадными подарочными чеканками, портретами в полный рост, коробками с редкой бытовой техникой, это ладно. Хуже было другое — на сцену пускали по списку. И самого выхода на сцену стояла худая мымрочка с двумя вздорными косичками схваченными на затылке резинками, и в толстенных очках, в руках она держала список, в который тыкала острием карандаша. К ней подходили, назывались, она сверялась по написанному, и строго кивала — вы следующий.
Понятно, что никакой организации «Братья и сестры» в этом списке быть не могло.
Какую следовало избрать тактику?
Можно было дождаться самого конца церемонии, и тогда, в атмосфере ослабленной внимательности…
Чепуха! Нервы выгорят от ожидания. Надо идти напролом. Да, прямо сейчас. Вон какой–то генерал вывалил в руки Шамарина гору лилий и, улыбаясь, отваливает.
Вперед.
— Вы кто? — Тихо, но требовательно спросила очкастая.
— Гольяновский мясокомбинат.
Расчет был на то, что пока та будет рыться в списке, удастся прошмыгнуть. Но перед нею была профессионалка.
— Вас нет в списке!
— Вы внимательнее посмотрите.
— Я посмотрела.
Острые когти впились в локоть, Лариса чуть не выронила гвоздики.
Генерал приближался. Сцена вот–вот освободиться. Сзади дышал кто–то с цветочной корзиной, явно указанный в списке.
— Отпусти! — Прошипела Лариса.
Профессионалка все глубже впивалась ногтями в локоть нарушительницы. Тогда Лариса неожиданным для себя движением, но очень точно рассчитанным, краем колбасной коробки сбила очки ретивой распорядительницы, и та сразу же разжала пальцы, оказавшись в новом для себя мире.
Лариса растягивая улыбку шагнула на сияющую сцену.
Какой он маленький, была следующая мысль. Она относилась к господину Шамарину, выжидающе развернувшемуся в ее сторону там, вдалеке, посреди сцены.
Лариса приближалась, с трудом удерживая на лице улыбку, и скользкую колбасную коробку во вспотевших от волнения пальцах.
Она приближалась к герою торжества, а он все не становился больше, господинчик, оказывается, такого небольшого роста, или это внутренняя решимость возносит ее над поверхностью сцены?
Из–за плеча Шамарина выглянуло красивое и обескураженное лицо ведущей дамы, она замедленно водила шишаком микрофона в районе губ, как распухшим тюбиком помады.
Только не останавливаться, не терять инициативы!
Лариса наклонилась к непреднамеренно протянутому ей микрофону и объявила, что Гольяновский мясокомбинат, считает своим долгом присоединиться и так далее. Мол, пища духовная, это хорошо, но без «кусочека колбаски» (цитата из тогдашнего шлягера), тоже не уйдешь по жизни слишком далеко. И еще немного бреда в том же духе.
Шамарин гостью узнал, но никак себя не проявлял. Бежевая красотка тоже не знала, как себя вести, и не получая никаких сигналов от юбиляра, не могла решить, пора ли ей брать какую–то инициативу на себя. Наконец, очнувшись, судорожно дернула конечностью, лишила авантюристку микрофона. Но было поздно.
Лариса наклонилась к плечу юбиляра, всучила чахлые гвоздики от Лиона Ивановича, приобняла освободившейся рукой и прошептала на ухо: не только Гольяновский мясокомбинат, но и мощное народно–патриотическое движение «Братья и сестры» участвует в этом приветствии, и ждет, что соответствующая официальная помощь будет ему оказана. И не стоит даже начинать песню, про то, что уже поздно, выходные…
Прошипев всю эту неотразимую информацию в волосатое ухо, Лариса впилась сильным товарищеским поцелуем в губу Шамарина, как раз в том месте, где у него находился «сигарный окурок». Впилась страстно, искренне, так надобно целовать чудо–юдо, чтобы оно превратилось в Финиста Ясного Сокола.
И ушла за кулисы.
В конце был, само собой, банкет.
Их усадили с Бабичем довольно далеко от юбиляра, но таким образом, что ей было удобно сверлить его взглядом. Шамарин делал вид, что не смотрит в ее сторону, и это было понятно, рядом вились какие–то другие дамы, желающие видимо также припасть к его бородавкам. Его придется перехватить еще раз, надо назначить час официального свидания.
Юбиляр, видимо понимая, что чего–то подобного не избежать, взял инициативу на себя. В тот момент, когда тот конец стола, где сидели Лариса с Бабичем подразгрузился, ушли на воздух курильщики, сам подошел к ним с бокалом красного вина. Сел напротив. Было видно, что он чувствует себя превосходно. Неожиданность ларисиного появления полностью переварена.
— Так чего ты там хочешь?
Она повторила. Он кивнул.
— Да, правда, я теперь работаю и по субботам.
— Я не сомневалась.
— Но в принципе, это будет должностное преступление.
— Ну, хватит.
Он вдумчиво отхлебнул из своего фужера.
— Нет, не хватит.
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду, что одного страстного поцелуя за такую услугу мало.
Лариса помедлила всего одну секунду. Она–то думала, что хватит. Что можно будет ограничиться маленьким сексуальным подвигом на публике. Но отступать было нельзя. Преодолела судорогу в горле:
— Ну и?
Шамарин опять отхлебнул и отвратительно усмехнулся. Лариса почувствовала, что Бабич оторвался от жульена и смотрит искоса в ее сторону. Но снявши голову…
— Ну, говори. Юбиляр.
— Вон за той дверью начинается коридор. По правой стороне кабинет. Номер четыре.
— А…
— А твоего мальчика я завтра жду к девяти. — Шамарин внимательно посмотрел на сидящего все в той же позе, ударенного молнией ужасного понимания Бабича.
Лариса поняла смысл этого взгляда, но ей было не до этого, она вела торопливые вычисления в голове. Девять — хватает времени и отвезти на подпись шефу, и к Пажитному, и все окончательно оформить.
Она решительно встала. И даже попыталась юмором снять напряжение.
— Ты сам этого хотел.
Шамарин улыбнулся.
— Не спеши. Минут через десять.
Это были нелегкие десять минут. Они с Бабичем друг на друга не смотрели. Чтобы еще и не молчать в такой ситуации, Лариса медленно повторяла ему план его завтрашних действий. Старалась, чтобы речь звучала спокойно, даже обыденно. Дело, есть дело, и нечего сюда подмешивать, что–то другое. Хотя жаль, конечно, что Бабич не курит. Он бы только сейчас вернулся сейчас с другими гостями из курилки, и ничего ему не надо было бы объяснять. Впрочем, эта бородавчатая тварь специально подползла, когда парнишка был рядом. Не может отказать, так хочет наказать!
Поглубже втоптать.
Она в третий раз прокрутила пластинку с инструкциями.
Бабич глухо сказал.
— Десять минут прошло.
Лариса встала посмотрела в сторону Шамарина. Он взглядом с ней не встретился, но ей было понятно, что он в курсе — она уже готова. Теперь, главное не глянуть в собачьи глаза Бабича. Вообще, кто бы мог подумать, что он возымеет такие права на ее самоощущение. Радовался бы, что вообще допущен…
Взгляды их все–таки встретились.
Он смотрел еще несчастнее, чем она могла представить. Больная, брошенная, голодная собака.
— Мне тебя подождать?
Лариса резко развернулась и резко пошла в сторону от стола. Тихо шептала про себя «скотина». На Бабича она была сейчас более зла, чем на Шамарина.
Четвертый кабинет не был специально подготовленным будуаром, как ей представлялось. Канцелярский стол, кресло на винте, два стула у стены, карта СССР, шкаф с картонными папками. Конечно, какой–нибудь разврат можно развернуть на любой территории, но все же хотелось бы… а, юбиляр принимал решение в состоянии цейтнота.
Лариса села в кресло. Огляделась. Ключ в двери есть. Ну, хоть что–то.
Прислушалась.
Пока никаких шагов по коридору.
Вдруг по телу пробежала сильная нервная искра и разразилась сильным смешком. Она вспомнила гродненское общежитие. Сиди, и жди. Отдалась, так отдалась. Повторная потеря девственности. Тогда физической, теперь… как бы это назвать? Впервые она сойдется с мужчиной без малейшего и мимолетнейшего влечения. Исключительно, по делу! По важнейшему, для очень многих людей важному делу. Сколько она сможет сделать полезного, когда и если… Если бы сейчас здесь на стене висел портрет Ленина, он бы имел полнейше право крикнуть ей — политическая проститутка! Эта мысль не уязвила ее, а как бы пихнула в бок веселым локтем. Чего, мол, сидишь, еще дел пять полных куч.
Телефон.
Лариса набрала номер шефа. Услышала его разрушенный как Брестская крепость голос.
— Михаил Михайлович, завтра в одиннадцать я у вас с машиной.
— Лариса…
— Все, можете считать себя депутатом. Главные глыбы отвалены, осталась мелкая, хотя, признаться, и не очень приятная работенка.
— Лариса…
— Больше я не отнимаю у вас времени, отдыхайте перед завтрашним. Хотя там что, одна подпись, короткая беседа с одним человеком.
Михаил Михайлович вздохнул так, будто у него было не две, а как минимум шестнадцать ноздрей.
Лариса положила трубку. Положила ладони на полировку стола. Так. И снова прислушалась.
Шагов все еще не было.
Невозможно было ни о чем не думать. Более того, невозможно было не думать об отвратительности предстоящего любовника. Переживания всех дев, насильственно выданных по расчету родителей, зашевелились в ней. Все «Неравные браки», все «Анны на шее», «я в торги не вступаю». Школьное образование, как эскалатор в метро выдавало из под сознания новые ассоциации. Зоя, Космодемьянская Зоя. Умри, но ничего не дай без любви!
Нервно, некрасиво гыгыкнула, в ответ на непреднамеренный каламбур, зажала рукою рот.
Может, удастся все обратить в шутку? Но она понимала, что ничего в шутку обратить не удастся.
Бородавчатый столоначальник не менее неумолим, чем тот зоин фашист. Обречена!
Почему–то ощущать себя жертвой было переносимее, чем героиней. Что делать, когда ничего нельзя поделать?! Смиряешься, и почти сладко в том месте, где предполагается наличие гордости.
Да, где же он?!
Скорее бы отстреляться. Унижение было уже пережито многими способами, оставалась одна лишь физиологическая грязь.
Сколько прошло времени?
Такова всегдашняя женская доля — ждать.
Мужа с работы, сына с фронта, насильника и того приходится ждать от валтасарова стола.
А, может быть, на радостях налакается. Шестьдесят лет шакалу. Какие из них насильники в такие годы, да еще налитые коньяком!
А вдруг вообще не придет?
А вот с этой стороны ситуацию, мы не рассматривали.
Даже мороз по коже.
Да, нет, десять лет добивался, а теперь соскочит? И ведь не жениться же ему тут надо. Всего–то сорвать цветок. Опять из горла вырвался грубый смешок.
Да, нет, и в самом деле, сколько можно ждать.
Поглядела на часы.
Однако!
Возмутиться или испугаться не успела.
Шаги.
Кто–то приближался.
Лариса села в кресло, быстро закурила, чтобы добавить себе ощущения независимости. Табачный дым как бы драпирует откровенность ситуации.
Шаги были осторожные, можно даже сказать, неуверенные. Юбиляр боится, что его заметят? Кста–ати, ведь и в голову не пришло — а может, он тут с какой–то своей постоянной самкой?! Жена, любовница, секретарша! Пусть, тварь, выворачивается! Тем лучше, все пройдет максимально быстро.
Остановился у самой двери. Наверно, оглядывается, не подсматривает ли кто.
Дверь отворилась, и внутрь заглянул Бабич. Лариса аж подскочила на месте.
— Тебе чего?! — Страшно прошипела она. Ей сейчас было ну совсем не до страданий юнца.
— Все уехали.
Она резко вскочила. Первая мысль была — в погоню! Конечно, в следующую секунду осеклась.
— Я стоял у входа, видел как он садился в машину.
В коридоре снова послышались шаги — уборщица звякает ведром.
— Нам тоже пора.
Из дому позвонила юбиляру.
— Вы испугались монсеньер, или просто обстоятельства оказались сильнее вас?
— А-а, — донесся пьяноватый и приязненный возглас. Очевидно, державшийся за банкетным столом чин, теперь догонялся в безопасных домашних условиях. Такие не любят светиться на публике. Этот факт очень работал на ту ларисину идею, что бородавочник просто струсил там в клубе. Чиновник поборол в нем мужчину.
— Как бы там ни было, я своего человека завтра присылаю. В девять!
— Само собо–ой!
— И без фокусов.
И она положила трубку.
25
Назавтра, на месте условленной встречи с Бабичем, после его посещения шамаринского кабинета, она застала его отца, директора мясокомбината. Все же он очень сильно отличался внешне от своего сына, не то, что Перков от Егора. Квадратный, веселый, напористый, с золотыми зубами в далекой глубине рта, в распахнутой дубленке, и букетом цветов.
— Где он? — Спросила свирепо Лариса у немного развязно подкатившего к ней колбасника. У нее были основания пребывать в бешенстве, утро отвратительно комкалось.
— Он просил меня передать вам эти бумажки… А это от меня.
Огромный, нестерпимо нелепый в данной ситуации и в это время дня букет.
— На словах он просил передать…
— Обойдемся без него. — Сказала глухо Лариса. Бабича она еще накажет, ревнивец хренов! Колбасника эта мысль обрадовала
— Обойдемся? Так поехали. Подано!
Она сомнамбулически погрузилась на переднее сиденье черной «волги», букет мешал, колбасник помогал с ним справиться.
— Документики наши важные положим на переднее сиденье.
— Можете выкинуть в канаву.
— Не понял.
— Еще час назад, это были документы государственной важности, а теперь это плохая туалетная бумага.
Лариса откинулась на сиденье.
— У вас курят?
— С этого момента да.
После нескольких затяжек:
— Я никогда не видела человека в такой истерике. Сначала он даже не хотел меня видеть. Даже хуже, он сделал вид, что при смерти, видите ли, у него инфаркт.
Колбасники потер переносицу горлышком бутылки от шампанского, которую собирался откупоривать.
— У кого инфаркт?
— У Александрова, моего шефа! Только у него нет инфаркта.
Вопрос колбасника сыграла роль искры, и опять все воспламенилось.
— Ведь все было оговорено, и все время одни кивки в ответ. Только доехать до Старой площади и поставить подпись. И тут его невестка мымра нарисовывается — у дяденьки сердечный приступ. Я почти сразу начала хохотать.
Бабич–старший уже обирал фольгу с горлышка.
— Но мне то видно, как он бегает по галерее, руками размахивает, то есть, спорит со мной. Глаза в глаза не может, а вот так, заочно, театрально, со всякими словами, это ему только дай. Да еще, видать, воображает себя чуть ли не в белых одеждах, какой он кристальный. «Он хочет остаться порядочным человеком, — говорит сука–невестка, — он не подаст руки людям, к которым я его заманиваю». Заманиваю, представляете?!
Колбасник сдвинул брови, ах, ты, боже мой, какие страсти!
— Ну, объясните, почему, если кто–то хочет остаться порядочным человеком, другой из–за этого должен греметь под фанфары?
В ответ хлопнула шампанская пробка. Причем, так удачно, что облила только кавалера.
Лариса несколько секунд сидела в ступоре, а потом вдруг расхохоталась. Как бы перепрыгнув из одной ситуации в другую. И в знак прощания с прежними заботами крикнула, перед тем, как приложить горлышко бутылки к губам.
— Да он просто, трусливое чмо, а не морская пехота. Так опозорить нашу такую армию.
— А, не захотел в депутаты? — Сообразил наконец–то Бабич–старший.
Лариса отхлебнула, найдя в шампанском новую энергию для возмущения.
— Ну, не могла же я просто так уйти. Рушится целая пирамида, сорок человек подогнаны один к одному по единственной схеме, и все должно пойти к черту, из–за старого неврастеника из морской пехоты. Я сказала, что уйду, только после того, как поговорю с ним. А она, невестка, мне говорит, что если вы поговорите с ним, то убьете его. Мол, вы любите гулять по трупам, так я вам этого не позволю. Это я‑то по трупам? Аристарх умер в объятиях жены, и ничего ничегошеньки у нас не было, спросите хоть у сынка вашего.
— Чего у него спрашивать, у дурака.
— Нет, все–таки, думаю надо что–то предпринимать, но в этот момент из дверей появляется еще и внучка. Ссыкуха, певичка, шестнадцать лет, два аборта. И говорит прямым текстом: а не пошла бы ты вон отсюда кагэбешная профура!
— Профура это что–то церковное? — Вдумчиво поинтересовался Бабич.
На секунду Лариса пресеклась, а потом прыснула. Чувствовалось, что она уже до шампанского приняла коньячку.
— Нет, это не церковное, это кагэбешное.
— Так надо было дать ему по морде.
— Так я обалдела. Вот они, оказывается, кем меня все эти годы числили. Помалкивали. А устами младенца заговорили. Я ее к таким докторам устраивала, и она мне!..
— Поехали! — Скомандовал колбасник шоферу. — Куда? — Наклонился он тут же к даме.
— В славянский бардак.
— Базар, может быть?
— Да теперь уже все равно, и давно. — Лариса расслабленно закрыла глаза, но через секунду вскинулась.
— А если напролом. Бумаги все со мной? Пажитный меня ненавидит, я его не знаю. Минус на икс может ведь дать плюс. Давай, как тебя там, Васятка, разворачивайся, на Старую площадь.
Бабич старший мягко взял ее за руку.
— Не получится.
— А вдруг получится?!
— Шамарин ничего не подписал.
— Что-о?!
Она опять обмякла.
— После всего, что он со мной сделал! — Прошептала она, медленно и обреченно отваливаясь на спинку сиденья.
Колбасник возбужденно раздул ноздри. Посмотрел на бесчувственное лицо Ларисы, вынул сигарету и так уже полувывалившуюся из ее рта, стряхнул пепел в одну из роз, и дал команду.
— В бардак, Васяка.
26
— Девятое апреля. Английская бит–группа МУД, построенная гением продюссера Чиниа и композитора Чепмена, по типу таких групп как «Смоки», «Свит».
Лариса перевернула лист альбома.
— Двадцать третье августа. Рик Спрингфилд. Является автралийцем по происхождению. Всю сознательную и творческую жизнь провел в Америке, куда приехал в юности сделать операцию на глазах, и где остался…
Еще один лист.
— Двенадцатое октября. Статус Кво. Очень старая английская команда. Заслуженные, умелые мастера прозрачного рок–н–ролла и бодрого, попсового ритм–н–блюза…
Закрыв альбом, Лариса прочла на обложке.
— «Рок–календарь». Что это, папа?
Капитан Конев хмыкнул.
— Это еще что. Пойдем покажу. Только набрось пальтишко.
Выйдя из подъезда, капитан бодро и вместе с тем как–то обреченно зашагал вдоль дома, завернул на угол, между двумя облетевшими липами, распугивая воробьев прыгавших возле заснеженной мусорки, вывел дочь к чугунной ограде городского парка. В ограде была, естественно выломана дыра каким–то былым силачом.
— Пошли, пошли.
Лариса поправила пальто на плечиках аккуратно, с достоинством нырнула в проем, оставив клуб сигаретного дыма снаружи.
— Вот!
Тут была еще одна мусорка, но поменьше. Куча обожженной фанеры, некогда, видимо представлявшая собой какие–то микроскопические конструкции. Как будто спалили макет некого города. Да нет, не просто города.
Николай Николаевич присел, поднял мизинцем грязный фанерный фрагмент.
— Узнаешь?
Лариса, прищурившись, затянулась. Это явно был кусок Кремлевской стены.
— То есть, с Москвой покончено, и сын подался на Запад.
Капитан отшвырнул обломок, вытер руку о бушлат.
— Я ж тебе и писал и звонил. С парнем творится. Он вдумчивый, себе все тихо в голову думает. Не хамит. Альбом с музыкальными картинками стал клеить года полтора назад.
— Откуда он все эти сведения наковырял? — Усмехнулась Лариса.
Отец пожал плечами.
— Да у нас тут и польское телебаченне, и все что хочешь. Только это уже прошлая напасть.
— Что?
— На альбом ему уже давно плевать, иначе бы я его не добыл у него. Теперь хуже.
— Да-а? Рассказывай, рассказывай.
Капитан вздохнул.
— Теперь он тутэйший.
— Что это?
Капитан развел руками, поясняюще встряхнул ими, потом, наконец, придумал слово.
— Здешние, значит, по–белорусски. Тутэйшие. Мода у нас теперь такая. Доказывают, что истинная православная Русь была здесь, а там у вас какая–то Московия дикая. Есть знатоки
Лариса усмехнулась, тихо, почти про себя.
— Символично как все. Прощай Москва, прощай родина, прощай мать.
Капитан осуждающе кивнул.
— Вот именно, мать. Где ты — мать?! Я же тебе звонил, писал, прогадили парнишку. Ходит на какие–то сходки, они там изучают, что царь все подавил, а потом Сталин все подавил, а белорусы всегда как трава под колесами истории.
Последние слова, явно были не собственного капитанского производства, а по–магнитофонному запомненные из чьей–то более сознательной речи.
Лариса опять полезла в карман за своей плоской сигаретной пачечкой.
— У нас в Москве повторять: как у вас тут все запущено!
— Запущено, опущено, что делать, скажи?
— Что делать? Уносить ноги.
Капитан не понял.
— Я давно уже об этом подумывала, а теперь вижу — больше ждать нельзя. Будем тебе организовывать перевод в Подмосковье.
— Как это, я же в запасе!
— Есть такие программы для военных пенсионеров. И если они не для моего отца, то для чего они вообще нужны!?
Капитан глядел на дочь с сомнением во взгляде, как–то все слишком решительно, и сразу. Лариса кивнула, подтверждая, что говорит абсолютно всерьез.
27
Лариса смотрела в треснувшее зеркало. Синяки под левым и правым глазом были на удивление симметричны. И в цветовом и в геометрическом отношении. На теле синяков хватило бы на леопардовую шкуру. Они были получены, когда она каталась по полу, а он лупил ее ногами.
Одно слово — мясник!
Лариса распахнула полы халата. Какая отвратительная и непонятная равномерность. Это можно было истолковать так, что избиение было не только жестоким, но и расчетливым, циничным. Именно так и отметил привезенный Бережным доктор. Именно это и вписал в протокол следователь, привезенный Энгельсом.
Из этого отвратительного бытового события, Лариса создала общественно значимый факт, как, впрочем, и всегда. И собиралась извлечь из него какую–то серьезную пользу. Пока правда, не успела оформить все в конкретные желания. Силен не тот, кто не падает, а тот, кто поднимается. Эта восточная мудрость не совсем вроде бы подходила к данной ситуации, но Лариса считала, что подходит. И часто мысленно повторяла.
Последнее крупное политическое «падение» закончилось для нее хоть и не полновесной, но значительной сатисфакцией. Устыдившийся «предатель» Михаил Михайлович сделал ее заместительницей. Специально вытребовал и организовал эту должность, хотя, строго говоря, в ней не было никакой необходимости. Долго извинялся за то, что сорвал Ларисе ее политический взлет. Что–то смутное бормотал про невозможность для себя вхождения в «клоаку политики», а то, что это именно клоака для него стало ясно хотя бы из того, кто стоял как контролер у входа — Пажитный. Растлитель малолетних, содержатель подпольного борделя еще советских времен, личность грязнейшая. Михаил Михайлович отлично помнил тот скандал и разбор его «на Краснопресненском райкоме», членом которого бывший морской пехотинец в те годы состоял. И если, чтобы вползти в депутатское кресло надо поклониться такому человеку, то не надо никакого кресла!
Лариса только пожимала плечами и попыхивала сигареткой. И не спешила успокаивать шефа, мол, ничего страшного, я все понимаю. Хотя успокоить могла бы. Ибо довольно скоро выяснилось, что благородно–трусливая выходка старика ничего не значила. Шамарин и не думал идти на должностное преступление и визировать бумаги, который ему должен был привезти Бабич–младший, он даже не появился в здании. Более того, выяснилось, что не появился в здании и уже упомянутый Бабич–младший, с которым произошла запоздалая истерика ревности. Он напился, долго сидел в ванной перебирая лезвия для безопасной бритвы, пока не остыла вода. Так что, даже если бы Шамарин занес над головой нужную печать, шлепнуть бы ее было не на что. А Пажитный вообще отсутствовал в то утро в городе, специально предупрежденный добрейшим Сергеем Ивановичем. Лариса об этой последней подлости так и не узнала, так что у нее сохранились со стариком превосходные отношения. И он всячески помогал ей по мелочам, осознавая свое по отношению к ней предательство, как своего рода удочерение. Проникся к ней искренним теплым отеческим чувством.
Сердце ее не разорвалось, она не чувствовала себя на дне вселенной, меж стенами подлости и предательства. Картина тотальной ничтожности мужского населения и так уже была знакома ее зрению. Все известное просто подтвердилось.
В результате, вместо депутатского мандата, Ларисе досталась высокая, но странноватая должность зама директора ЦБПЗ по связям с общественностью, и роман с отцом неудавшегося самоубийцы. Образовался какой–то зыбкий якобы любовный треугольник. Ларису забавляло ее положение. От младшего Бабича она отдалилась в силу хотя бы того, что переехала на десятый этаж. «Отношения» у них прекратились, но вместе с тем, и в какой–то степени сохранились. Формального выяснения кто они теперь друг другу не было, потому, что и раньше это не было никак оговорено. Про не примененную бритву Лариса знала, но делала вид, что не знает. Лариса иногда, как бы по забывчивости, награждала его каким–нибудь ничтожным поручением. И он с каменным лицом его выполнял. Лариса говорила Агапеевой, с которой они вновь сошлась на почве переселения своих предков в Подмосковье, «я и не представляла себе до какой степени там все было так всерьез». Под покровом вялотекущего, производственного по сути романчика, оказывается, копились и гудели подлинные страсти.
Забавно.
Воображение Ларисы не воспламенялось от этого открытия.
Старший Бабич в отличие от сына был бодр, щедр, эпизодичен, это все плюсы, и единственное в чем они были сыном похожи: ревнив. Но ревность у него была совсем не того рода, что у сына. Она не скапливалась как яд, чтобы вспухнуть одним нарывом в конце истории, она бурлила периодически, как гейзер. Старший был толстокож во всех отношениях, кроме этого. Тут он был утонченнейший мазохист. Он постоянно выяснял у Ларисы, в какой бы компании они не оказались, было ли у нее что–то с кем–нибудь из присутствующих мужчин. Лариса считала ниже своего достоинства притворяться, и спокойно, если даже не охотно, излагала своему брутальному ухажеру детали отношений со своими прежними.
Он бледнел, шел пятнами, хрустел деревом подлокотников, грыз соперников глазами. До настоящего скандала никогда не доходило — был предупрежден, что это не будет потерплено. Мясник страдал, но крепился. Все те мужчины, по которых Ларисе нечего было рассказать в связи с собой, напрочь переставали его интересовать.
Она чувствовала, что ходит вроде как бы по краю пропасти, Бабич иной раз наливался кровью так, что казалось мог бы просто лопнуть, или ткнуть вилкой в глаз, добродушно подмигивающего Милована, даже не подозревающего какой силы ненависть он возбуждает в этом человеке, и, главное, в связи с чем?
Лариса и сама не знала, зачем именно так ведет себя с мясником. Щекотала себе нервы? Виделась себе Настасьей Филипповной всего ЦБПЗ?
Впрочем, со временем ревнивые взрывы становились все больше рутиной жизни. Если гранаты, залетающие в ваш окоп, все как одна не взрываются, перестаешь их бояться. Но иной раз и обезвреженный боеприпас бабахает.
Лариса не отдавала себе отчета, по какой причине ее мясник поколбасившись, всегда скисает. А был один компонент в ее поведении, игравший роль реактива нейтрализующего ярость ревности. И впервые она (абсолютно неосознанно) применила его в самый первый день в «Славянском базаре», когда, как казалось ей, она прощается со своей неудавшейся политической карьерой (черт с ней, дрянью!), и начинает свой «чистый понедельник». В конце концов, у нее есть сын, интересная и нужная (она даже в это начала верить) работа, живые родители — первый признак счастья по Аристотелю, как любил повторять античный Тойво. Как смешно и ничтожно было ее суетливое копошение в попытках прыгнуть на грязную, скользкую подножку политического трамвайчика. Втереться в толпу тупых, подлых, ничтожных людишек. Именно в этот момент, после трех рюмок коньяка, и подкатил к ней Бабич–старший с вопросом о Бабиче–младшем. Ой, сколько смешного выяснилось тут же. Оказывается, отец был совершенно не в курсе подлинных отношений Ларисы с ее верным оруженосцем.
Да, конечно, спали, когда–то, несколько раз, не помню, и как–то не в этом было дело.
Дальше она очень остроумно, до колик смешно описала младшего как любовника. Считается, что смешнее всего человек выглядит в рассказах своего камердинера или водителя. Нет, злее всего бывшие сожители. Лариса смеясь прощалась со своим прошлым, директор мясокомбината с трудом пережевывал в своем сознании эту жесткую новость «конечно спали», и только под смеховым соусом она не отравила его окончательно.
С тех пор так и повелось. Лариса легко и свободно признавалась в том, как и с кем жила, и ей было наплевать на чувства золотозубого плебея, как матроне разоблачающейся своих термах перед банным рабом. И добродушно, в сущности, посмеивалась над постельным героизмом своих партнеров. Почти никогда смех ее не был злым и уничижающим, она вспоминала не позорные, а забавные повороты. Но такова уж природа смеха, что он уничтожает эрос. Никогда не шутите в постели. Секс дело серьезное.
А раз нет эроса, но и нет ревноса.
И так продолжалось не один месяц. Они не жили вместе, потому что у Бабича–старшего была семья. Но даже если бы у него не было семьи, они все равно не жили бы вместе.
Младший обо всем догадывался. Лариса иногда думала, что может быть, он подумывает, как бы ему зарезать отца. Но даже такие мысли ее особо не развлекали.
Кроме того, у Ларисы тоже теперь была семья. Она вырвала из трясины белорусского национализма своего аутичного сына, и поселила у Лиона Ивановича, согласившегося взять над ним руководство. Причин было две — большая квартира и полное стариковское одиночество. Лариса после этого всем говорила, что она теперь живет с сыном, не уточняя точных очертаний этой ситуации.
Так из–за чего же тогда случился этот чудовищный мордобой, с разгромленной квартирой, запятнанной гематомами фигурой?
Во всем оказался виноват один мифологический персонаж. Рыбаконь.
Зашел разговор, во время одного из визитов Бабича о какой–то чепухе, сейчас уже и не упомнить. Разговор выбрел на Сретенку, затормозил у «мастерской» черного копателя Рыбаконя. И в этом месте мясник побледнел как куриное филе.
— Ты его знала?!
— В том–то и дело, что нет.
— Но ты же сейчас рассказывала про его дыру. Очень похоже. Бутылки, иконы.
— Так я же тебе и говорю…
— То есть, как же можно было, бывать в доме, и не раз, и не увидеть хозяина?
— Бывает, я же тебе говорю.
Бабич знал Рыбаконя, и с самой отвратительной стороны. Даже для мясника и колбасника, пошляка и снохача, этот человек представлялся чудовищем. «Ни одной юбки», «дважды привлекался за изнасилование, но отвертелся».
Лариса со смехом продолжала утверждать, то, что утверждала — даже не виделись. Жила в его доме, пила, спала, но Рыбаконя не видела.
Было, очевидно, между Бабичем и гробокопателем еще что–то, что он не мог обнародовать, но оно грызло его, поэтому факт сожительства Ларисы с этим «ублюдком» разрывал ему внутренности. А то, что факт был, он не сомневался.
К тому же — зачем врет?!
Что за новая подлая манера — врать?!
Поскольку Лариса и в самом деле не видела даже этого Рыбаконя, она не знала его сексуальных привычек, и не могла, соответственно, их высмеять.
Разговор получился отвратительно серьезным.
Лариса оторвалась от зеркала и прошлась по разгромленной комнате. Все же, как это предусмотрительно, что сына она поселила у Лиона, каково было бы ранимому юноше стать свидетелем этой колбасной истерики.
Все навещавшие хозяйку, старались по мере сил навести порядок в этом хаосе. Но следы побоища были слишком заметны. Стулья стояли покосившись, стол вообще не валялся только потому что был прислонен к стене. Дверь в ванную висела на одной петле. Телефон треснул не хуже зеркала, но работал.
Да, все необходимые шаги по жестокому и законному отмщению ревнивому кретину сделаны, в местах не столь отдаленных уже готовят для него нары.
Первые шаги с целью загладить ситуацию безумный Бабич сделал уже через несколько часов после побоища. Твердил то, что в такой ситуации и полагается твердить: любовь, ревность, ослепление, какие хочешь извинения, сатисфакции, валяние в ногах. «Можешь пропустить меня через мясорубку, если хочешь». Явная невыполнимость рецепта выглядела издевательством, а от навязчивого мясного акцента просто тошнило. И это побуждало Ларису к активным юридическим действиям.
Бабич позвонил утром следующего дня и сообщил, что если она хочет, он сегодня же начинает процедуру развода и жениться на ней. Швырнув трубку на треснувший корпус, Лариса хрипло рассмеялась. В предложении мясника был какой–то самоудваивающийся бред. Во–первых, выяснялось, что он был все это время убежден: она мечтает выйти за него замуж, и, во–вторых, надо понимать, он считал, что с помощью оказанных намедни физических «ласк» он это ее желание сильно увеличил.
Не–ет, таких надо сажать!
Благодаря вмешательству Энгельса, дело раскручивалось стремительно.
Получив грозную повестку, Бабич, позвонил с предложением денег. Больших денег. И все время повышал ставки. Готов был опустошить свои счета, и посадить семейство на голодный паек. Откопать кубышки, зарытые в дачном погребе.
Лариса развлекалась этими телефонными торгами.
И вот опять зазвонил треснувший прибор.
Это была Агапеева.
— Ну, что одну девушку можно сильно поздравить.
Лариса даже вскрикнула.
— Неужели?!
— Приказ подписан, и у нас есть все основания для чего?
— Отметим, отметим, да еще как.
— Я вызов отправлю прямо сегодня. Твой отец сможет приехать уже на это неделе? Еще три дня осталось?
Лариса открыла было рот, но вдруг как–то вся осеклась, ударенная изнутри неожиданной мыслью.
— Послушай, а нельзя погодить?
— Ты что, рехнулась?!
Благодаря невероятным и разнообразнейшим связям Агапеевой стало все–таки возможно великое переселение семейства Коневых из Белоруссии поближе к Москве. Сколько было выпито водки и съедено шашлыков на разных дачах, сколько… и вот теперь какой–то выверт!
— Не обижайся, сама все поймешь, приезжай!
Каприз Ларисы объяснялся просто — она не могла допустить, чтобы отец увидел ее в этом пятнистом обличье. Знала, что такого стыда не перенесет. Всем своим свитским она демонстрировала синяки и ссадины с некоторой даже гордостью страдалицы, это было как бы материальное воплощение ее морального превосходства мученицы над ними всеми такими обыкновенными, обоснование ее возвышенного над ними положения.
Отец, совсем другое дело. Остатки провинциального воспитания? Да!
Нет, нет, минимум на две недели необходимо отложить его визит. Вызов из ГУКа пойдет к нему, когда синяки совершенно побледнеют.
Телефон зазвонил опять.
Интересно, что на этот раз предложит перепуганный колбасник? Кстати, шевельнулось в голове: Рыбаконь, сухая колбаса, директор мясокомбината Бабич… Она не успела больше ничего подумать, сбил с мысли голос в трубке.
Младший Бабич.
— Ну, говори.
— Нам надо поговорить.
— Я и говорю — говори!
Мучительное, сбивчивое дыхание.
— Не так.
— А, хочешь приехать? На экскурсию, взглянуть на дело рук и ног папаши своего? Картина живописная. Может, ты и сам мечтал о чем–нибудь в том же духе, а?
Бабич несколько раз тяжело и вдруг шумно вздохнул.
— Какая же ты все–таки дрянь!
И положил трубку. Лариса даже не успела вкрикнуть в нее уже вырвавшееся разъяренное: «что?!»
Ах ты, мозгляк, тля, мразь мелкая… Честно говоря, она была почему–то очень уязвлена этим жалким выкриком. Она считала младшего Бабича все же, как бы там ни было, состоящим при себе, в состоянии некой военизированной приданности, и человеческой преданности, чувствовала человеком, который должен был бы непрерывно ощущать облагодетельствованность ею. Радоваться праву находиться в ее жизненном поле. А тут! Более уместной была бы с его стороны истерика другого знака, например — я убью его! Желалось немного надрывной мелодрамы. А тут тупой сбой. Какие они все–таки… Бабичи!
Но быстро успокоилась мыслью — приползет! Лариса прищурила окруженный черным кругом глаз, отчего получилось очень грозный вид, дохнула дымком. Приползет, возможность для самой изощренной сатисфакции представится не более чем через пару недель.
Опять звонок, и теперь уже в дверь.
Гапа.
Только распахнув уже дверь, Лариса поняла, что та явилась не одна. В следующую секунду она поняла, с кем именно явилась гостья.
Реакция была мгновенной — спустя две секунды Лариса сидела на краю ванны в своей ванной комнате и беззвучно материлась. Агапеева бродила по квартире, присвистывая.
— Да, иногда женщины не кокетничают, предупреждая, что у них неубрано!
Когда она заглянула в ванну, Лариса набросилась на нее — ты, мол, что с ума сошла, как же было можно, с незнакомым генералом, когда у меня под каждым глазом по такой блямбе!
Агапеева искренне разводила руками, ну не знала, подруга, ты бы хоть намекнула.
— Кто это?
— А он сказал, что вы знакомы?
— Белугин?
— Ну, да, как узнал, что я к тебе еду, напросился. Шампанского купил, коньяка.
— Как его?
— Как Пушкина.
Лариса бросила сигарету в унитаз, и перешла с шепота на повышенный тон.
— Здравствуйте Александр Сергеевич, я так рада, что Гапе удалось уговорить вас заглянуть ко мне в гости.
Генерал подошел к ванной двери деликатно хрустнув паркетом.
— Что вы, я сам напросился, жаль только, что так не вовремя, прошу, так сказать, извинения.
— Бросьте, бросьте, совершенно непредвиденные обстоятельства, залетела в форточку шаровая молния и взорвалась минут за сорок до вашего появления, можете себе представить, что я пострадала еще сильнее, чем моя квартира.
— Может быть — в госпиталь?
— Врач был, был, осмотр, то се, велел пока сидеть в темноте.
— А-а. — Сочувственно произнес Белугин. — То есть, своим визитом, мы заставили вас…
— Ничего, ничего.
Агапеева наклонилась к уху Ларисы.
— Че ты все слова по два раза повторяешь?
— Волнуюсь.
— Ну, тогда, мы, значит, не будем мешать лечению. Пойдем. Я кой какие сувениры оставлю на столе, в кухне.
— А зачем пойдем? Наоборот. Мне тут скучно одной, представьте, сидеть в темноте в ванной.
Белугин молчал, не зная, что сказать в этой ситуации, и не понимая, каких действий от него сейчас ждут.
— Может, мы и правда поедем? — Шепнула Агапеева?
— Ни за что!
— Тогда что?
— Александр Сергеевич?
— Слушаю.
— Вот сейчас Гапа вам поможет, вы перетащите маленький стол с кухни, сюда к дверям ванной. Накроете его. Колбаска сырок, все наискосок. Соберете целые бокалы, откроете шампанское, и мы выпьем.
— За что?
— Ну, за здоровье, конечно. За мое здоровье, и за мою удачу.
— Удачу? — Спросил генерал, и по голосу его можно было понять, что хозяйка считает удачей его к ней внезапный визит. Лариса оскалилась в темноте.
— Конечно, не каждый день к вам залетает в дом шаровая молния, и вы остаетесь живы после встречи с ней.
Белугин снял фуражку, довольно долго оглядывался, выбирая место, которое было бы достойно ее. Полочка для телефона. Устроил. В профиль фуражка была похожа на черепаху, попытавшуюся встать на дыбы.
— Стреляйте.
— Давайте, Александр Сергеевич. — Сказала Агапеева, нарезавшая хлеб, и Ларисе понравилось, что она отнеслась к генералу официально.
Шампанское грохнуло громко как салют, Лариса выставила за дверь изящную руку, таким образом, чтобы не было видно ни одного синяка. Вообще, руками своими она была довольна, вот талия почти погибла, но пока не об этом.
Шампанское в хрустальном фужере искрилось и светилось в неполном мраке ванной комнаты, холодновато теплилось как некая надежда. Лариса приложила хрусталь ко лбу, а потом поцеловала.
После шампанского пили коньяк.
Белугин снял китель и ослабил узел галстука, Агапеева подрезала колбаски, открывала банки с домашними огурцами, подарками от Нины Семеновны.
Лариса из–за двери собщила свое коронное, что она дочь офицера и любит военные марши. И они втроем постарались изобразить «Прощание славянки», на что Агапеева, вообще–то не блиставшая остроумием, заявила, что у них скорее получилось «Лечение славянки». Еще не закончили смеяться, как раздался звонок в дверь.
— Гапа, посмотри.
Гапа вернулась сообщением, что там какой–то молодой, «несчастный» человек в полосатом пальто.
— Гони его, Гапа. Не пускай в дом и гони.
— Может быть, я? — Предложил свои услуги Александр Сергеевич.
— Это слишком для него. — Сказала Лариса. — Гапа, скажи ему, пусть уходит, не о чем нам с ним говорить.
Агапеева вернулась с интересной новостью.
— Он сказал, что, мол, жениться пришел, хочет на тебе жениться.
— Но я же «дрянь!», это в смысле он так недавно сказал.
— Может я все–таки…
— Сидеть, генерал!
— Я понял.
Агапеева продолжала свою челночную дипломатию.
— Он сказал, что он убьет и покалечит отца, даже уйдет из дому, но просит, чтобы ты его не сажала.
— Это почему? Он мне тут… шаровую молнию, а сидеть не желает?!
— Он говорит, что мать не переживет, очень–очень больная мать.
— Он что, жене все рассказал, динозавр?
— Я не знаю, Лара, только он говорит, что совсем сильно она больная. Не переживет суда.
— Меньше надо мяса жрать!
— Что? — Не недопоняла Агапеева.
— Я не мать собираюсь сажать, я мясника собираюсь сажать.
Лариса вдруг остановилась, приподняла фужер на дне которого плескалась небольшая лужица коньку.
— Он сказал, что если надо, она сама приедет, и в ноги кинется.
— Мать?
— Мать, мать.
— Блядь. — Тихо сказала Лариса и выпила. А потом добавила громко.
— Гапа, скажи ему, что не надо мне в ноги никакой матери. Пусть успокоится этот колбас–барабас. Прощаю и презираю. Вернее наоборот, презираю и поэтому прощаю.
Агапеева сгоняла опять в прихожую.
— Он спрашивает, что и заявление заберешь?
— О, Господи!
— Он сказал, что если заберешь, то страшно, страшно до смерти благодарен, и он и отец. Отца, такую мразь, конечно надо бы и убить даже. А он, все равно согласен жениться. Готов, и согласен.
Лариса шарахнула фужер о закрытую дверь.
— Давайте, споем!
— Так точно, споем. — Поспешил откликнуться генерал.
— «Не для меня взойдет заря, не для меня Дон разолье–отся, и в небе жаворонок залье–отся с восторгом чувств не для меня».
В нестройном хоре голосов, доносившихся из–за двери нет, нет да и проступало тонкое благодарное вранье бабичева дисканта, впущенного по доброте душевной в прихожую.
28
Лион Иванович совсем усох, заменил очки на контактные линзы, отчего сделался еще более похож на иностранного пенсионера. Завел трость, и было пока непонятно из соображений стиля или здоровья. Потыкивая концом трости в недавно отциклеванные и отлакированные паркетины пола в комнате Ларисы, он передвигался от окна до дивана. Врач сказал ему недавно, что для него жизнь это движение, и он поверил врачу.
— Я повторяю, Лара, он должен переехать к тебе. Поверь, ты теряешь мальчика.
Лариса сидела в кресле, курила, стряхивала пепел в безвкусную пепельницу, изображавшую разрезанную артиллерийскую гильзу. Подарок Белугина, как, впрочем, и паркет, и новый унитаз.
— Пойми, мне не то что не трудно, чтобы, ну, чтобы он жил по прежнему у меня, мне лучше, веселей, он совершенно интеллигентный мальчик, и друзья все тихие, но я же вижу, вижу, Лара, ты его теряешь. Того, что ты ему уделяешь — я не про деньги — мало. Родная кровь должна жить рядом с родной кровью.
Ларисе было трудно говорить с Лионом Ивановичем. Она отлично знала, что он прав, но еще отчетливее она знала, что хотела бы жить с генералом Белугиным. Более того, она сильно догадывалась, что, в конце концов, она будет с ним жить, пусть и после преодоления каких–то трудностей. Появление же в этой квартире семнадцатилетнего парня с замкнутым, странным характером, не поможет решению этой задачи.
— Я старик, понимаешь! А вдруг наркотики, у них теперь это просто. Хорошо, если только компьютер. Ящик меня не пугает. И то, что нет девиц вокруг, это меня не волнует. Временно.
— Да, с девушками ему будет трудновато.
— Не говори глупостей, Лара. Я вон был вообще сорок килограмм, картавый очкарик, и это ничему не помешало.
— Да уж.
— Егор не красавец. Но он интеллигентный, серьезны мальчик.
— Да уж.
— И потом, подумай о себе. Надо, чтобы на старости лет была рядом хоть одна родная душа.
Лариса посмотрела на Лиона Ивановича удивленно. Старость? Все живы, здоровы, вплоть до бабули. Что–то старикан надумывает и врет. Родная кро–овь, душевно недодаешь. А мало ли сделано для него!? Лион Иванович начал загибать пальцы, как будто уловил беззвучный вопрос.
— Да, ты пару раз была с ним в Третьяковке, и Пушкинском, а до этого зоопарк, планетарий. Ездила с ним в Спасское — Лутовиново, в Шахматово…
Про ту поездку в Шахматово Лариса вспоминать не любила. Все «историки» перепились сильнее, чем обычно. Мальчик получил не те сведения об образе жизни матери, которые она бы хотела ему сообщить. Нет, о «жить вместе», не может быть и речи. Я плохая мать?! Но почему же, если я сделала и делаю все, чтобы мальчику было максимально хорошо, насколько это возможно в такой ненормальной семье, и в таком ненормальном мире. А то, что лопочет дядя Ли, это всего лишь старческие бредни, выдумки. Просто, устал, надоело.
— Я очень к нему привязан, но…
— Ты забыл главное — я крестила его.
Все было обставлено тихо, скромно, но с достоинством и чувством. Отец Александр был великолепен. Великолепен был и генерал. Церемония носила несомненный, благородный, даже аристократический оттенок. Как будто проходила не в Кузьминках, а Бог знает где.
Признаться, Лариса подумывала о том, чтобы перенести ее в какой–то другой приход. Надо сказать, что отец Александр стал вызывать у нее сомнения своими некоторыми высказываниями. Ляпнул как–то однажды во время важнейшего разговора о судьбах Отечества, что «вот мол, Лариса Николаевна, вы лично можете войти в Царствие Небесное, и какой–нибудь Иван Петрович Сидоров может, а Россия не может войти в царствие небесное». Из этого, что же выходит, что спасение души, может войти, при каких–то, конечно, чрезвычайных обстоятельствах, в противоречие со спасением России? Она пожаловалась Питириму. Бережной поморщился, но кивнул, да остается видать, в отце Александре старая интеллигентская отрыжка. Архите–ектор, мать его. Не обращай, Лара внимания, мужик–то в целом свой. В общем, разговора не получилось, Пит был пьяноват, и не первую неделю. Конечно, его мощная духовная оптика оставалась в целом в сохранности, но бытовое общение с ним было затруднено.
— А еще он иной раз задается вопросами совсем странными. Например, что Родина может потребовать у человека? Жизнь? Пожалуйста, бери, Родина. А вот честь? Может ли Родина потребовать у человека честь? И Родина ли она после этого? Жизнь положить «за други своя» почетно. Но до конца ВСЕ претерпеть? Тут вопрос. Хочется знать прейскурант, что входит в это «ВСЕ», прежде, чем объявлять согласие. И это русский священник?!
— Н-да.
— Какая–то гнилая мысль, согласись? — Тормошила товарища Лариса.
Питирим морщился и отмахивался, и норовил задремать.
Лион Иванович уныло кивнул, про крещение он вообще не считал возможным говорить.
— В общем так, дядя Ли, сейчас я взять Егора не могу, хотя все, что ты сказал приняла к сведению. Для его же пользы не могу. Он тебе про Шахматово не рассказывал? Я не могу уйти с работы.
Старик вздохнул.
— Я понимаю.
— Вот видишь, сам видишь.
— И Виктория хворает. — Сказал он тихо.
— Что с ней?
— Все то же — старость. А так же ноги, давление и далее по списку.
В Ларисе поднялась волна раздражения: старик, что намекает, что я и бабулю должна взять к себе для ухода? Или — в груди неприятно екнуло — дело намного хуже. Он собирается взять ее к себе, тогда сын, вытесненный оттуда, просто «силою вещей» вселяется сюда, в квартиру, в которую уже минут через пятнадцать во всем своем великолепии ввалится довольно молодой генерал, пока, правда, еще не совсем свободный.
Ситуация еще, оказывается, хуже, чем казалась в начале разговора.
— Но, подожди, но там же был этот офицер… Стебельков. Правда, она его выгнала.
— Она его много раз выгоняла, и однажды он больше уже не пришел. Так бывает. Но этой истории, уже лет семь.
— А я думала, что все так и крутится, даже интересоваться перестала.
— Да, вот как время летит.
Лариса с жалостью посмотрела на Лиона Ивановича, ему так не шло говорить такие явные банальности, он сразу становился каким–то обреченным.
— Ну, хотя бы сделай самое простое.
— Что?
— Сделай так, чтобы его не забрали в армию.
— Пусть поступает в институт. Ты сам говорил — интеллигентный мальчик, много читает.
Лион Иванович развел руками.
— Не хочет.
— Что значит, не хочет?
— Ну, такая теперь молодежь. Все им по барабану. Специально влезут в дерьмо, чтобы обратить на себя внимание. Пойду, говорит, торговать в Лужники видеокассетами с порнухой.
— Что?
— Вот то! Почему я к тебе прибежал.
Лариса посмотрела на часы.
— Ладно, я поняла. Сейчас я не могу. Я поняла, поняла. Не знаю, что делать, но придумаю что делать.
— Ему нельзя в армию, Лара.
— Его и так не возьмут по зрению.
— Да нормальное у него зрение, очки он носит с простыми стеклами без диоптрий. Тоже заноза характера.
— Пороть его надо!
— Поздно.
— Пороть никого не поздно…
— И никого не нужно.
— Вот, вот, дядя Ли, ты происходишь от слова — либерализм. До чего довел мальчишку!
— Я?!
— А кто, я?! У кого он жил все эти годы?!
— Лара!
Она не могла сказать Лиону Ивановичу, что он ввергает ее в чудовищное положение с помощью своих морально неотразимых проповедей. Да, сын, есть сын, но она то впервые в жизни встретила человека, рядом с которым сделала удивительное открытие, впервые — ничего нельзя поделать с этим ослепительным ощущением — почувствовала себя женщиной. Настоящей женщиной, женщиной, которую любят, о которой думают, заботятся, ради которой готовы на многое (она хотела верить, что на все). Она боялась лишний раз мысленно вздохнуть, чтобы не спугнуть облачко счастья, окутавшего тот обожженный клубок нервов, что остался от ее души. А тут ты, справедливый дедушка с мучительными напоминаниями. Но если вдуматься, что она мало сделала для семьи? Да, мало, но почему? Разве не потому, что все же пахала как лошадь, добиваясь чего–то важного, растрачивала себя на полезное для всех. Для… она не произнесла даже мысленно слово «родина», хотя отчетливо ощущала присутствие этого огромного, безмолвного смысла где–то вблизи.
Но за столько лет тяжелейшей, пускай почти бесплодной борьбы во имя общего блага, разве не имеет она права на кусочек своего, личного, персонального женского счастья. Кстати, еще даже и не совсем завоеванного.
— Ты страшный человек, дядя Ли.
— Что ты говоришь, Ларочка, Господи!
— Я знаю, что я говорю.
29
Генерал Белугин был всем хорош. Не высокий ростом, сухощавый, с вертикальными цезарскими морщинами на щеках (это Волчок, увидавший его как–то, заметил, будто генерал похож на Цезаря с известного бюста, чтобы бесплатно сделать приятное Ларисе); сдержанный, проявляющий себя почти исключительно поступками. Присланные им бойцы быстро и качественно отремонтировали квартиру Ларисы. По ее первому требованию к ее подъезду подавался автомобиль с шофером и букетом. Говорил он редко и веско, замедленно рокочущий, как дорогой мотоцикл на холостом ходу, голос произносил короткие, и, как правило, простые мысли. Как бы брезгуя ввязываться в интеллигентскую словесную путаницу. Генерал выгодно смотрелся со своим авторитетным молчанием на берегу какой–нибудь жаркой, почти всегда пьяноватой, завиральной говорильни ларисиных коллег. Никогда не было ощущения, что он не понимает сути разговора, наоборот, часто выяснялось, что он знает путь наикратчайшей формулировки через болота болтовни, в которых все тонет. Он был полезен Ларисе и, так сказать, производственно. С его помощью она наладила тотальный контроль не только над «Историей», но и над «Армией». Белугин обеспечил тамошним списанным из войск подполковникам возможность расширения круга их просветительских, хорошо оплачиваемых экскурсий, и они знали, кому обязаны этим. Авторитет искусственной заместительницы становился все более весомым и натуральным.
Самое интересное начиналось, когда любовники сидя в кровати покуривали и потягивали шампанское после всего. У генерала была одна слабость, а может, это и не так называется, но, в общем, в тот момент, когда его прекрасная подруга открывала рот и начинала речь, он брал с прикроватной тумбочки фуражку и надевал, так, чтобы козырек почти касался носа. И это означало, что он пришел в нужное состояние и готов к вниманию. Кстати, он никогда не оставлял фуражку в прихожей, а всегда брал с собой в комнату. Лариса попыталась как–то ласково высмеять эту его привычку, но уже после первой фразы почувствовала, что высмеивать ее не надо.
Так вот, поглядывая искоса на эту фуражку, она начинала самую важную для себя часть встречи. Тихое, осторожное расследование на тему: кто вы, генерал Белугин? С кем вы? Простой ли вы обаятельный солдафон, гуляющий от страшненькой женки, или ищущий, болеющий за родину душой русский офицер. Если так, то неизбежно же вы должны понять, какое это чудо, что они вот так встретились, такие два незаурядных человека. И у них не просто пошлый роман, а «душ трагических сплетенье во имя русского орла».
Генерал слушал внимательно, но в ответ все больше помалкивал, не спешил выплеснуться со встречными откровениями, мол, мне тоже за державу так обидно, так обидно! Но чувствовалось, что слова Ларисы доходят до его каких–то скрытых, может быть, очень глубоко струн, и порой колеблют их. Чувствовалось, что постельные проповеди не пропадают зря.
Разумеется, все выглядело не так постно и пошло, как в данном описании. Лариса играла роль офицерской дочери изобретательно, не только топором правды врубалась, но и рапирой иронии ранила. Она чувствовала, что эти просветительские спектакли генералу нравились. Одно смущало, слишком медленным было его движение ей навстречу, что там за скрытые тормоза? От общей ли неразвитости, или от пороков характера задержка. Короче говоря, глуп он или труслив? Не хотелось ни того, ни другого, и еще как не хотелось.
Однажды, они встретились, как пару раз уж бывало, у входа в ресторан «Кормило». Ларисе он нравился не только из–за каламбуристического названия, но и ввиду хорошей русской кухни. Белугин был не в форме, что ей очень нравилось, а в дорогом гражданском костюме. И без букета. И сидел за рулем сам.
Сердце дамы дернулось.
Избавился от водителя, как от свидетеля?
Свидетеля чего?
Сам вышел и распахнул переднюю дверцу.
— Едем.
— Куда? — Удивилась Лариса, выразительно оглядываясь на дверь ресторана.
— Ты будешь довольна. — Улыбнулся он, слегка дернув цезарской щекой.
Оказалось, все рядом. Попетляв по переулкам в районе Остоженки, приткнулись у неприметного, но шикарно отремонтированного дома, с задрапированными изнутри окнами. Стоянка ломилась от дорогих машин.
— Что это?
— Сейчас поймешь.
Она действительно поняла очень быстро, уже в прихожей наткнувшись на подполковника Терехова, того самого, председателя русского офицерского собрания. Он был в штатском. Там все были в штатском. Но, вместе с тем, очень ощущалось, что в этих дорогих костюмах спрятано очень много военных: взрывы бодрого, хоть и приглушенного смеха в углах, то и дело непреднамеренно щелкающие каблуки, характерные прически. Но имелись и почтенные бороды с тростями. Дам — близко к нулю. Лариса специально просканировала залу. Никакой Гапы, несмотря на ее новую должность в Минобороны. Это было приятно. Теперь надо было определить тип и тон собрания. Нет, это не чьи–то беззаботные именины. Не спуск со стапелей какого–нибудь грабительского для страны проекта.
Стали проходить в следующую залу. Там было устроен презентационный зал. Мест на шестьдесят. Белугин усадил спутницу, а сам отправился в президиум. Там рядом с ним уселись еще три человека с неистребимыми признаками солидности в движениях. Такие генералы, что даже в бане будут опознаны. Лариса с чуть волнующим удивлением обнаружила, что всех трех знает. По телеэкрану. Вот это да!
Очень скоро выяснилось, что цель встречи — презентация книги одного из солидных господ из президиума. Называлась она «Глобальные стратегии и выбор России». О них и пошла речь. Главный выступающий говорил научно, длинными фразами, но все равно было легко понять, что главная его мысль проста — наступает критический момент!
Надо что–то делать!
По залу пролетел слушок — ждут Громова. Лариса приосанилась, она тоже была рада ждать Громова.
Несколько раз встречались взглядом с Белугиным, Лариса укоризненно кивала головой, что ж ты, негодник, притворялся дубиной стоеросовой, а сам вон в какие дела вхож! Он едва заметно и весьма покровительственно улыбался ей. И она прощала ему такой оттенок отношения к ней. Мужчина, способный на мужской поступок, имеет право и не на такое. Белугин только что доказал, что он мужчина, то есть человек поступка. Это ее дело болтать, зудеть, проталкиваться по–мелкому, а подлинные генералы отламывают от пирога жизни большими ломтями.
Лариса победно огляделась. И справа, и слева тоже хватало знакомых. Вон тебе и известный писатель Порханов, и Сергей Иванович, душка–гад, добрый вредитель, оба вежливейше раскланиваются. Видели, с кем она пришла. Там дальше еще какая–то депутатская мелкота.
В конце выступления виновник презентации с особой благодарностью отнесся в адрес Белугина, назвав его проникновенно по имени отчеству. Подразумевалось, что без Белугина такая существенная книга могла и не появится на свет. Генерал сделал такое движение плечами, которое расшифровывалось как: да, пустяки, общее дело делаем.
Выступило еще несколько человек. Речи их были и обтекаемы и многозначительны. Лариса поняла так, что за словами подразумеваются настолько судьбоносные моменты и детали положения в отечественной политике, что суета конкретных имен, дат, цифр, просто неуместна.
Когда было предложено задавать вопросы из публики, то вопросы оказались по своей солидности почти равны выступлениям. Никаких журналистских подколок–подковырок. Сидящие в зале также понимали, о насколько важных вещах идет речь.
В мнении, что нечто важнейшее должно произойти в ближайшее время, сходились абсолютно все. И это важнейшее всеми явно подразумевалось, как какая–то новая судьба для страны. Верхи дозрели до понимания своей полной беспомощности и ничтожности, низы примут любое изменение как благо. Верхи трясутся, трясины народных пространств тускло стонут, и разрешить все может только энергичный, ответственный, бестрепетный патриотический инструмент.
Кажется, расхождение было лишь в оценке сроков, темпов и тому подобного.
Лариса взволновано томилась в ожидании моменты, когда можно будет разведать детали.
Во время последовавшего фуршета это сделать было невозможно. Белугин был все время в центре внимания. Депутаты и переодетые военные торопились с ним чокнуться и перекинуться парой слов. И в машине по дороге к ларисиной квартире он отмалчивался, улыбаясь в ответ на восторженно укоризненные наскоки спутницы. И даже в голом виде не стал доступнее.
На все у него был один ответ — пока еще не о чем говорить, пока еще рано говорить и т. д.
Само собой разумеется, такая скромность действует подобно бензину на костер женского воображения.
— Так вы готовы взять власть?
В ответ только вздох и ироническая улыбка.
— А в войсках у вас есть серьезная опора?
Смущенное покашливание.
— А в ФСБ тоже свои люди?
В общем, допрос прекращался печатным поцелуем в говорящие губы.
— Нет, ты все–таки скажи…
И так далее.
В конце концов, Лариса сообразила — не идиотка — что ворота на секретную территорию прямолинейным напором любопытства не распахнешь. Наоборот, можно только раздражить человека, он и так приоткрыл для нее немало.
— Ладно, не злись. У меня ведь не бабское любопытство. Я дочь офицера…
— Ты любишь военные фильмы, и в детстве мечтала, чтобы Чапаев доплыл, а не утонул.
— Разве я тебе об этом говорила?
— Да. Еще, когда вы с Порхановым приезжали навещать какого–то мальчонку в дивизии…
— А-а.
— Я еще тогда запомнил, мне еще тогда понравилось. Я тоже болел за Чапаева. Когда был маленький. В кино в деревне.
Лариса легла на спину закрыла глаза.
— Да, это не оригинально. Я читала где–то, что многие дети… И плевать, что не оригинально. И плевать, что ты не оригинальный, не артистичный.
— Да, я не артистичный. — Белугин поправил козырек фуражки на носу.
— Не обижайся.
30
Да, можно сказать, что товарищ Конева была практически счастлива. Были только два подводных камня в чистом потоке, по которому рулила ее любовная лодка.
Первый — семейная крепость генерала.
Ее она надеялась взять с помощью союзницы.
Агапеева охотно дала всю секретную, и не очень, информацию на этот счет. Конечно, женат, двое детей. Старший сын только что комиссован, и теперь осваивает свою автомастерскую. Второй сын второклассник, и ничего больше о нем не скажешь.
Жена, стареющая, пообтрепанная, недоумственная оголтелая наседка. Супругов уже давно ничего не связывает, кроме имущества и детей. Никаких постельных отношений, уже ряд лет. Лариса охотно верила, почему–то в такие вещи женщинам верится очень легко. Впрочем, генерал давал основания для этого легковерья, на ларисиных простынях он был голоден как курсант.
И вообще, как можно спать с курицей?! Лариса мысленно именно так называла соперницу.
Злая, ехидная, подозрительная, женщина–заноза. Дополнительно сообщила Агапеева. Да, еще скандалистка, тупая, визгливая, и доносчица, чуть что с рапортом в политотдел. Этим она его раньше держала.
— Да-а?
— Да, да, знаешь ли у нас это сильненькое средство — проткнуть карьеру мужу. Начальство ведь раньше как думало, если не можешь управлять своей бабой, как ты будешь управлять своей бригадой?
— А теперь как думает?
— Теперь проще, партийной линии нет, маршалы и те разводятся.
Эти разговоры Ларису вдохновляли. По всему выходило, что Белугину некуда деваться, кроме как в ее отремонтированную заводь.
Вторая печаль — сын.
С ним ничего нельзя было поделать. Он со всем соглашался. Разговор с ним — трамбование тумана. Лариса, например, столько потратила на истребление в нем неуместного, нелепого здесь, среди московской жизни, белорусского патриотизма, а потом как–то, из случайно его оговорки выяснилось, что он и не собирался за него цепляться.
Сначала она решила, что он над ней издевается. Громадна сила безответности. Непокорима твердыня покорности. Нет, он даже не издевался. Это было бы началом какого–то диалога. Да, мол, мамочка я до такой степени плевать хотел на твой взрослый, дурацкий, подлый, гадкий мир, что вот так себя веду.
Сладостным, понятным конфликтом по типу «отцы и дети» тут и не пахло. Он не только ничего не противопоставлял матери, он ничего и не отвергал из того, что она на него вываливала в качестве идеалов.
Список обязательной литературы.
1. Афанасьев «Народные русские сказки».
2. «Тихий Дон» и «Тарас Бульба».
3. Нечволодов «Сказания о русской земле».
4. Ильин.
5. Солоневич.
6. Чивилихин.
7. Селезнев о Достоевском. Сам Достоевский отложен на попозже.
Ждала если не бунта, то отлынивания. Через два месяца тихий от него доклад: прочел все. И в таком тоне, что как будто готов сдать экзамен по прочитанному.
Компьютер. Сначала подарила, причем, самый навороченный. Потом запретила им пользоваться. Не совсем, конечно, а чтобы в меру, не круглые сутки. Доклад Лиона Ивановича: все честно, не более трех часов в день. Даже напоминать не приходится.
Сама понимала, что главный недостаток их отношений — абсолютное отсутствие ну хоть какой–нибудь задушевности. Нет, Лариса готова была к любой откровенности со своей стороны. О чем бы Егор не спросил, ему было бы отвечено и с максимальной откровенностью. И об его отце, и о ее политической платформе, но он ни о чем не спрашивал.
Начать откровенничать самой?
Вывалить на него все, завести разговор о своей жизни. Садись, сынок, поговорим. Во–первых, она не была так уж уверена, что это нужно, и нужно именно сейчас, а во–вторых, сразу возникал вопрос — с чего начать, чтобы перепугать каким–нибудь непереваренным куском откровенности. Детская психика легче всего травмируется правдой жизни.
Надо было бы понять, что ЕМУ интересно.
ЧТО ему интересно?! Как это выведать. Животные? марки? наркотики? женщины?
Вот женщины. С кем дружишь, сын? Познакомь со своей девушкой. По тропинке такого разговора был шанс забрести в тыл любой, самой мрачной замкнутости. Но это для обычных подростков. Она проверяла этот метод на своих молодых сослуживцах. Она отлично владела стилем товарищеского полусплетничанья, и ей открывались не только балагуры типа Питирима и Милована, но и тяжелодумные дяди вроде Энгельса. Но Егор казался ей настолько несовместимым с этой темой, что на уста сама собой налагалась печать. Она считала себя специалистом в делах любых любовных битв меж мужчинами и женщинами. Но, дело в том, что Сын казался ей представителем какого–то другого пола. Не совсем мужского. Нет, она не начала еще бояться за правильность его сексуальной ориентации, тут было что–то иное.
Легко понять, что никаких серьезных разговоров во время нечастых встреч матери и сына и не происходило. При этом, Лариса, будучи человеком наблюдательным, каждый раз отмечала, что Егор каждой такой встрече вроде бы радуется, но при этом расстается с матерью вроде как с ощущением огромного облегчения, как будто избавляясь от огромной психологической обузы.
Всякий раз Лариса давала себе слово — во время следующего разговора, наконец, с ним поговорить, и всякий раз у нее, непонятно в силу чего, ничего не получалось.
Была одна отговорка. Лариса понимала, где–то там у себя в глубине, что это именно отговорка, но была благодарна ей, что она у нее все же имеется. «Я тебе не Германия не могу вести войну на два фронта» — сказала она как–то Агапеевой, когда очередной их разговор вильнул в сторону ее отношений с сыном. Смысл был в том, что претерпевая такой напряженный роман с генералом Белугиным, роман как казалось ей чреватый важнейшими жизненными изменениями в самом ближайшем будущем, она не могла распылять свои психологические, моральные силы и в иных направлениях.
Она уговаривала себя, что здесь ей достаточно поддерживать статус кво. Вот, когда все выяснится с Белугиным, а там все выглядело как уже созревшее яблоко, вполне готовое к падению, тогда и другие гордиевы узлы развяжутся сами собой.
При всей своей сложности и тяжести, история с сыном обладала одним выгодным качеством — стабильностью. Нет ничего боле прочного, чем состояние взаимной недоговоренности. Пусть пока будет так, как есть.
И Лариса кидалась к телефону, чтобы слиться в почти непрерывной беседе с подругой.
Агапеева стала для нее просто нестерпимо важна. Она соглашалась выслушивать все бесконечные речи Ларисы, обсмаковывание мельчайших деталей ее последнего разговора с Белугиным, и сопоставление его с предыдущими разговорами, ради обнаружения возможно какой–то новой тенденции в отношениях.
Гапа была тем еще ценна, что владела всей информацией о семейной жизни генерала. И обо всех мельчайших изменениях, что в этой жизни произошли или собираются произойти.
— В армии ничего нельзя скрыть. Все все про всех…
У генерала заболел младший сын. Не то чтобы очень опасно, но болезнь, требующая особого родительского внимания.
Лариса с облегчением вздыхала. Так вот, что означает белугинский ранний отъезд из ее кровати. Значит, и правда помчался за лекарствами. Это была реальная аптека, а не отговорка.
В следующий раз он пропал сразу на неделю. Наглухо, ни звоночка, ни слова. Лариса извелась бы, и, вполне вероятно, дошла бы до каких–то сокрушительных поступков, если б не подруга.
— Опять сынок.
— Тоже заболел?
— Задолжал. Белугин отмазал его от армии, и хочет сделать из него бизнесмена. Он бросил автомастерскую, и теперь поставляет продукты для каких–то частей в каком–то округе, не знаю точно, коммерческая тайна сильней военной.
— Ну и?
— Залетел, в смысле, кинули его, поверил кому–то там. Отец умчался спасать его.
Вернувшись, Белугин объяснил все примерно так же. Назвал сына оболтусом, что ей было приятно, мол, не только у меня чадо с недостатками.
Но все равно, недельное исчезновение, Лариса решила использовать как повод для нажима.
Ну, когда? Когда ты окончательно переберешься ко мне? Ведь сколько раз говорили. Белугин задумчиво манипулировал фуражкой. Действительно, надо было что–то решать.
— Мне нужно еще один раз съездить в округ.
Как было понимать эти слова?
При этом на все «официальные» мероприятия генерал отправлялся исключительно с Ларисой. К ней привыкли, даже образовалось у нее, что–то вроде отдельного авторитета, ее привечали даже, когда она не держалась за генеральский рукав.
Постепенно у нее появлялось и к этим собраниям такое же отношение, как и к самому Белугину. Когда же?! Господа генералы! Много и с пафосом намекалось, что силы накопленные велики, почему же нет приказала к решительному шагу?!
Ельцинская власть прогнила, всем видно. Вокруг вьется множество людей еще какой–нибудь год назад не побрезговавших бы и приблизиться к такой вот генеральской компании. А теперь уже и они чуют — пора! Крысы прибежавшие с тонущего корабля.
Лариса надавливала на Белугина с двух направлений.
Однажды утром зазвонил телефон.
— Хочешь, поедем со мной? — Предложил генерал в своей манере.
Конечно, она согласилась. Не спрашивать же — куда?
30.
— Ты должна ему помочь.
— Дядя Ли, последние годы я только тем и занимаюсь, что пытаюсь до него достучаться.
Старик еще больше сдал, и без того маленький и сухощавый, совсем перешел в насекомое состояние тела. Полюбил рассуждения на тему своего переселения «в богадельню».
— Я не про то сейчас, Ларочка. Я про то, что его вот–вот забреют.
Время летит!
— Ты сама должна понимать, что такому мальчику как Егор туда нельзя никак, и даже в мирное время, не говоря уж про сегодня.
Лариса почувствовала сильнейший приступ раздражения. Опять эта приглушенная проблема начинала подниматься в полный рост.
— Я дочь офицера и…
— И люби свои военные марши, и не болтай глупостей, личная к тебе моя просьба. Лучше сразу дай Егору съесть какую–нибудь передозировку, и чтобы не мучился в чеченских окопах.
— Какие окопы, дядя Ли!
С годами бывший конферансье утрачивал свой безупречный выговор и безукоризненный грамматической строй речи. Он утверждал также, что почти забыл таблицу умножения.
— Белый билет, Лара, только белый билет.
— Послушай…
— И не говори, что у тебя не хватит связей. Хочешь моей могилы — бери, но мальчик!
— Он что сам просил тебя об этом.
— Но я же не слепой, Лара, он сразу впадает в такую прострацию, когда я завожу речь обо всей этой службе.
Лариса понимала, что раскатывать перед стариком склейку из идейных аргументов бессмысленно. Да, она всегда считала, что русская армия лучшее и важнейшее создание отечественной культуры. Это и семейная их Коневых мысль, и общественная позиция ее Ларисы Коневой на настоящий момент. И весь разлагающий яд берется от тихих, лукавых предательств в верхах, от того, что дети наших министров не идут в те самые чеченские окопы, а садятся на белые билеты, или еще хуже, едут учиться в Женевы и Лондоны. А ведь это не что–то, а искренняя родительская любовь питает повсеместное, сверху до низу, предательство. Россия — рыба с испорченной головой. И даже друзья… Вон Милован, под всю свою болтовню о Скобелеве, сынка Тимошу тихо отмазал, и даже рассказывал об этом в буфете как подвиге своего ума и изобретательности. Такие теперь подвиги. Причем, Тимоша этот гарный, справный парубок, аквалангист и драчун, не то что родимый тюфячок Егорка.
И какая же она сама будет борец за чистоту в рядах, за славу русского оружия, если своего рыхлого сынка откосит от его естественной мужской судьбы.
— Сын генерала Пуликовского погиб в Чечне…
Лион Иванович сердито замахал на нее цыплячьими лапками.
— Вот именно, сын генерала. Это их военное, генеральское дело. Сын генерала платит за право ускоренно самому стать генералом. Мы не знаем, может, он сам попросился. А тут другое. Интеллигентный мальчик и очень, очень грязная война.
— Хватит дядя Ли.
— Офицеры торгуют солдатами как крепостными. Все украдено или продано. Чеченские бандиты после боя приезжают расслабиться в московскую сауну. И ты хочешь, чтобы твой мальчик, единственный мальчик стал бараном в этих горах?
— Ему же еще почти год до призыва.
Лион Иванович молча ушел.
31
Участок был разделен на две примерно равные части, как и дом, купленный Коневыми в поселке Пуговичино. В их части сада имелось три старых, раскидистых, очень плодоносных яблони, несколько молодых слив и мертвая груша. Николай Николаевич сидел на крыльце в тельняшке и трениках, покуривал и прикидывал спокойным глазом объем работ. Нина Семеновна возилась с не разобранным барахлом в доме.
Лариса с Гапой осторожно блуждали между грядками, стараясь не запачкать дорогие туфли и брюки.
— Признаться, он меня окончательно сразил.
— Ты рассказывай, рассказывай. — Затягивалась папиросой Агапеева, она с презрением относилась к тонким сигареткам подруги, в том, как она сама курила, чувствовалась большая привычка к мужскому обществу. К тому же она сегодня была мрачнее обычного, нервнее и злее. Но своей роли конфидентки счастливой подруги не изменяла.
Лариса практически цвела, и если бы ей захотелось остановиться где–нибудь под окном, то пчелы ее скоро стали бы принимать за жасминное дерево. Так она благоухала и не только духами, но и порывами светлого настроения.
— Я почти с самого начала немного третировала его, ты помнишь, что слишком солдафон, прямолинейный, квадратный. В шутку, конечно. Да и, если честно сказать, мне нравилась его мужской стержень в сравнении с моим вялым лекторским контингентом. Слова болтать они мастера, а чтобы гвоздь забить, не говорю уж о мужском поступке…
— Ну, ну.
— Так вот ему, чтобы чуть–чуть позлить, намекала, что нет в нем артистической жилки. Я видела, что он все больше помалкивает, когда рядом какой–нибудь умник из моих.
— Признак ума — не ляпать лишнего.
— Это женская добродетель — молчание. Так вот, я не уколоть его хотела, хватит с меня артистичных и на работе, мне был нужен характер, нет сейчас русского мужского характера.
— Да, уж. — Агапеева долго искала, куда девать окурок, прикончила каблуком.
— Целую неделю его не было…
— Я же тебе говорила — сына хотели сажать.
— Я думала что–то случилось, начинает отползать товарищ генерал в семейную бухту.
Агапеева закурила.
— А позавчера утром сажает он меня в свою «волгу» и куда–то в Подмосковье.
— Я слушаю, слушаю.
— Ехали часа три, а то и меньше. Даже с пикником. Приезжаем — непонятно. Военная часть, не военная часть. В глухом лесу колючая проволока, бараки, все солдатики по пояс голые на спортгородке. Обедаем. Потом стрельбище. Солдатики тарахтят, доски кулаками ломают, на стену лезут в дыму.
— Понятно.
— Но, самое интересное, под конец.
— Секс в спальном мешке?
Лариса с интересом поглядела на подругу, что это ты?! Та, извиняясь, помахала новой папиросой — не бери в голову. Лариса кивнула, ну, ладно.
— Выходим на берег речки.
— Что за речка?
— Погоди. Мы стоим на этом берегу, а на том начинается какая–то возня. Человек выбегает на песок, скидывает сапоги, гимнастерку, и бултых в воду. За ним выскакивают из ельничка пятеро–шестеро с карабинами и начинают палить ему в спину.
Агапеева даже остановилась.
— Ну, ну.
— Вот тебе и ну, ну. Мужик этот плывет, выстрелы гремят. Я не знаю, что и думать.
— И чем кончилось?
Лариса самодовольно улыбнулась.
— Выплыл. Усатый такой. Смеется. Смотрю, генерал мой, тоже хохочет. Сзади прибежали двое и втыкают в берег железную вывеску на шесте, ну, знаешь, такие перед населенными пунктами на дороге ставят.
Агапеева кивнула.
Лариса многозначительно затянулась, поиграла дымком, помигнула подруге.
— А на вывеске, на табличке этой написано «р. Урал».
— Не фига себе!
— Да, да, а переплывший этот, подходит ближе берет под козырек, хотя козырька никакого нет, и говорит: «Комдив Чапаев прибыл по вашему приказанию!»
Подруга длинно и искренне присвистнула и повторила:
— Не фига себе! — Ее явно проняло.
— Ты понимаешь, — самодовольно и восторженно, — пела Лариса, это же называется акция, генеральский хеппенинг. И так неожиданно, и так срежиссированно! Стреллер и Питер Брук.
— Что?
— Я говорю, что мне, в общем–то смешновато было. Не такие перформансы закатывались в мою честь. Но важен, как говориться не подарок, а желание подарить.
— Я тебя понимаю.
— Дурак, дураком, а как трогательно.
— Дура–ак. — Охотно соглашалась Агапеева
— Это же надо, думал, табличку припас, людей подготовил.
— Да-а.
Лариса по примеру подруги забычковала и свой окурок. Еще сидя слегка прищурилась, и встала во весь рост уже в несколько другом настроении.
— Но знаешь, что я тебе скажу.
— Еще что–то скажешь? — Развела руками подруга.
— Я видела и более дикие постановки.
— Что?
— Как–то ездили мы в Константиново, ну, где Есенин, и нам, всей делегации в автобусе, навстречу выпустили жеребенка, одетого в розовое трико, помнишь, да: жизнь моя иль ты приснилась мне, будто я весенней, тра–та ранью, проскакал на розовом коне». Действительно — рань, туман, крашеный жеребчик. С точки зрения художественной — бред, но трогательно до слез.
— Я…
— Так вот, не этот не мокрый Чапаев с усами приклеенными порадовал меня больше всего, хотя и порадовал, спорить не буду.
— А что?
— А сам лагерь. Оказывается, все эти месяцы мне не лапшу вешали на уши, как я уже стала опасаться. Есть у них дисциплинированная, вооруженная сила.
— У кого, у них?
— Ну, у Белугина. И я так поняла, что таких лагерей по стране хватает, и все наготове, Ельцин в коме, это, значит, что?
— Что?
Лариса остановилась, стоп! Та ведь и выдать можно какие–нибудь планы.
— Пора, видишь, мама зовет, накрыто.
— Настаивать можно на чем угодно, — рекламировал Николай Николаевич свой самогон, — а основа простейшая: сахар, дрожжи, и очистка качественная. Я обычно…
— Хватит папочка, спасибо тебе, а выпьем мы за мою лучшую подругу, это она, это ее радениями состоялось то, что мы сейчас здесь наблюдаем.
— Я уж и не верила. — Всхлипнула Нина Семеновна.
— Вам там было, что — плохо? — Поинтересовалась Гапа.
— Нет, нет, никогда не скажу плохо про Белоруссию. Добрые люди, душевные. Но все равно надо ведь прибиваться к своим, правда?
Выпив капитанского самогона, Гапа восторженно выпучила глаза и полезла быстрыми пальцами за огурцом.
— И это свое. Вернее Нинкино. — Продолжал гостеприимно хозяйничать за столом капитан.
— Вода ключевая, смородиновый лист до сих пор пахнет как живой, ты понюхай, понюхай.
Агапеева нюхала, и одновременно хрустела очень вкусным огурцом.
— А что Егор, где? — Наклонилась Лариса к матери. — Избегает?
— Нет, нет, вообще, был, а сегодня, говорит, занят.
— Что, меня избегает?
Нина Семеновна, быстро произнесла — нет, нет, нет, — прилизывая ладонями и так прилизанные волосы, это показывало у нее сильную степень волнения.
— Правда, занят, правда. Молодой человек.
— Да, да.
Лариса, после выпитой второй рюмки, выглянула из под навеса, что был уже устроен капитанскими руками под яблоней, и где был накрыт стол.
— А что, Гапа, милые местечки. Может, плюнуть на все и переехать. Кому принадлежит вторая половина дома? Пустая ведь.
— Да, — кивнула мать, — никого нет. Там еще соток десять. Три комнаты и крыльцо.
— Вот, действительно плюну я на все их дела, и осяду всем семейством здесь, посреди средней полосы России.
Родители с разным выражением лица слушали дальнейшее изложение планов дочери. У отца лицо было спокойное, он в основном следил, чтобы у всех гостей самогону было всклянь. А Нина Семеновна оцепенела, и только моргала выцветшими, как бы помелевшими глазами.
— Сколько нас осталось, Коневых. Нас вот трое, Егор, да бабка. Купим вторую половину дома, проделаем дверь. Кто–то разъединил, а мы объединим.
Опять выпили.
Нина Семеновна незаметно исчезла из–за стола. Лариса еще некоторое время вещала, что случалось с ней в хорошем настроении, наложившемся на хорошее подпитие. Агапеева хрустела огурцами, так старательно, как будто это было задание командования на сегодня. Капитан еще раз поднял тост за нее, и даже попробовал поцеловать руку, тянувшуюся как раз к тарелке. Он–то понимал, чего стоило устроить празднуемый ныне перевод.
— А где мама? — Спросила Лариса вдруг, и не дожидаясь ответа, пошла в дом.
— Никуда она сюда не переедет. — Сказала Агапеева, вздохнув ей вслед, — а хорошо бы было.
— Знаю, — сказал капитан, — у Ларочки дом всегда почему–то не дома.
— Да.
— Но сказала, что женится.
Подруга внимательно посмотрела на капитана, и кивнула — налей! Было исполнено.
— Думаете, женится?
— Если Ларочка чего решила, вы же знаете, как подруга.
— А мне кажется, нет.
— Недавно познакомились?
— Познакомились они давно, но он на ней не женится.
— Почему?
— А он, потому что генерал, и женатый.
— Да-а?
— А она вам не говорила?
Капитан медленно помотал головой.
— Ларочка таких вещей не замечает.
Лариса нашла Нину Семеновну в полутемной, пропахшей слежавшимися вещами и какой–то особой скукой комнате. Она сидела на кожухе швейной машинке и смотрела беззвучный телевизор. Кстати, именно телевизор сразу же приковал внимание Ларисы. На экране красовалось, улыбалось и вообще, очень собою было довольно одно очень знакомое лицо.
Нина Семеновна всхлипнула.
— Виктор Петрович. — Прошептала потрясенно Лариса. — С ума сойти, что он там делает?!
— Лечит. — Сказала сухо Нина Семеновна. Ей как бывшему медицинскому работнику было виднее, но все же дочка засомневалась.
— Кого лечит, как лечит?
— Передача «Врача, вызывали?»
— Какой он врач, он… — И тут вспомнила про таежный бальзам. — Он целитель народный!
— У нас его и там в Гродно показывали, после «Время» по утрам, со звуком.
— Я в это время еще сплю.
— Людям помогает.
Лариса подавила приступ всплывающего хохота.
— Хотя, как посмотреть, он и мне помог. Отчасти.
— Ты знаешь Виктора Петровича?
— Не с основной стороны. Общалась
Нина Семеновна вздохнула. Глухо спросила:
— Ты что, и правда хочешь ее сюда привезти?
Лариса сразу поняла о ком речь.
— Бабушка, Лион Иванович говорил, совсем плоха стала. Развалина. Все от нее разбежались.
— Заслужила, раз такой человек.
— Мама, она же тебе мать!
— Не смей мне этого говорить: мать, мать! Она…
Ларисе очень захотелось закурить, но сделать это здесь было как–то неловко, захотелось закончить разговор.
— Но сколько лет прошло, пора бы уж и начинать прощать.
— Если ты ее сюда привезешь, я отсюда уйду.
— Куда?
Нина Семеновна дернулась, и удержалась на своем сиденье только благодаря поддержке дочери.
— Не знаю куда, никуда! Ты специально нас сюда завезла, чтобы мы не пикнули, а сама…
— Ладно, мам, погоди, это я, пожалуй, пойду. Зря мы этот разговор начали. Никого я привозить не собираюсь. Пойду, воздухом подышу, водки попью.
Лариса вышла из затхлой комнатки, страшно собой недовольная. Какого черта было заводить этот разговор. Абсолютно никакого отношения к реальности не имеющий. Это только в бреду могло придти в голову притащиться сюда всем семейством вместе с бабой Викой. Впереди совсем другие планы. Генеральские.
— Погоди. — Сказала вдруг Нина Семеновна.
— А.
— Это твоя подруга?
— Я же объясняла, Гапа, это она все устроила.
— Она тебе не подруга.
— Как раз, наоборот, мы одного поля ягодки.
— Она тебя ненавидит.
— С чего ты взяла?
32
До чего же я его изучила, нежностью думала Лариса глядя на строгий, спящий профиль Белугина. В нахмуренных бровях чувствовалось напряжение тяжелой озабоченности. Генеральское молчание было так выразительно, что словами его можно было только скомпрометировать.
— Что случилось?
Он дернул вертикальной морщиной на синеватой щеке. Она знала, что на первый вопрос он никогда не отвечает, как настоящий офицер не закусывает после первого стакана.
И на второй вопрос он отреагировал лишь мимическим быстрым движением.
После третьей атаки сказал лишь одно слово — «газета».
Не сразу, но Лариса добилась внятности. Речь шла о статье в желтоватой московской газетенке, называвшейся «Молчание генералов». Это было время, когда повсеместно в журналистику входила тотальная каламбуристика, ни один материал не мог быль озаглавлен просто и ясно. Обязательно как–нибудь со словесным вывертом. Статья состояла из серии ядовитых и подловатых вопросов о тех самых лагерях военизированной подготовки, один из которых Ларисе довелось давеча наблюдать в действии. Молодой, неприятный очкарик допытывался, а кто, например, финансирует эти «подразделения»? Для каких целей они предназначены, если что? Не связана ли активизация этой деятельности с нарастающим напряжением в стране? И, когда и где можно ждать появления этих (красных? коричневых? или какой–то другой расцветки) бригад в ближайшее время.
— Вас приравнивают к ягнятам?! — С возмущением вскрикнула Лариса, бухаясь обратно в койку.
Ни один мускул не дрогнул на лице Белугина.
— Как мы будем отвечать?! — Он уже три дня ночевал у нее, и поэтому в такой, коллективной, постановке вопроса было предостаточно оснований.
— Прокуратура. — Сказал генерал.
— Что прокуратура?
— Занялась?
— Подожгли ее что ли?
Генералу было не до шуток.
Так, сказала себе Лариса, глядя в отлично покрашенный людьми Белугина потолок, так, надо что–то делать. У нее не было ощущения навалившейся неприятности. Скорее, ощущение закручивающейся интриги. И ни на секунду не мелькало мысли, что все может кончиться плохо.
Наоборот.
Новая жизнь! И она не может начинаться так вот тихо, сама собой, с простого — он остался у нее, не поехал домой. Нужен удар, акт, шаг, взрыв, знаменующий, важность момента. И хорошо, что в самом начале такая серьезная трудность, драма, «и бездны мрачной на краю». Ах, как прав Александр Сергеевич, стоит русскому человеку оказаться пред карьерной пропастью, в свинцовой тени прокурорской проверки, как в нем просыпается духовная красота и моральная сила.
— Лучшая защита, это нападение, Саша.
— Слышал.
— Я напишу опровержение.
Его веки поднялись и опустились, как у нильского крокодила, вслед пролетевшей птахе.
— Но уж поверь, что здесь, у меня, со мной ты в полной безопасности.
Это было сказано так, что крокодил повернул голову и сухие губы благодарно ткнулись в юношеский шрам на ее щеке.
33
На работе Лариса появлялась редко, настолько редко, что это вызывало всеобщее уважение, всем было понятно: так может вести себя только человек имеющий на это право. На чем это право основано, никто не знал, и это лишь укрепляло окружающих в уверенности, что оно у Ларисы Николаевны есть, и оно незыблемо. Так думали почти все, включая Михаила Михайловича. Тех, кто думал иначе, и позволял себе по этому поводу тихо ехидничать, зачисляли в скандалисты и ничтожные души.
Кстати, шеф был даже рад, что видит своего уважаемого зама так редко, правда, ни за что в жизни в этом не признался бы, даже себе. Он стремился быть честным человеком, и не только по отношению к окружающим (что ему по большей части удавалось), но и по отношению к самому себе, что, как известно, труднее. Настолько труднее, что приводит к необходимости скрывать от самого себя, истинное положение дел.
Такое положение психологических дел может быть, несмотря на свою кажущуюся хрупкость устойчивым, и длительно устойчивым. И лишь грубая внешняя атака способна поколебать его.
Такую атаку, конечно же, организовала Лариса. О том, что нечто на подконтрольных ему территориях затевается Михаил Михайлович мог бы догадаться хотя бы по тому факту, что его заместительница зачастила на работу. И не ограничивается сидением в кабинете, а вояжирует по этажам, то там, то там засиживаясь на редколлегиях, переходящих порой в длительные задушевные застолья.
Хорошо знающие свою выдвиженку в верха работники «Истории» встретили хоть внешне и радостно, но опасливо. Она пошутила с Тойво в курилке, он улыбался, добродушно набычившись; похвалила Милована за какой–то, где–то сделанный им «умопомрачительный» доклад, он рассыпался в ответных любезностях, с возрастом он довел свою эмоциональную неуловимость до виртуозной степени; зашла даже к нелюбимому Реброву, чтобы продемонстрировать, что между ними в данный момент нет войны, чему он тихо обрадовался, и вдруг ни с того, ни с сего стал рассказывать о своей жуткой семейной ситуации.
Волчок, Прокопенко и Бабич были ею мобилизованы на якобы простое товарищеское распивание коньяка в ее кабинете. Дала на его закупку много денег, что особенно их насторожило. И как оказалось не зря.
Лариса задумала грандиозную политическую акцию.
Она понимала, что провести ее будет непросто.
Она понимала, что возможны неприятности и жертвы.
Она считала, что на эти жертвы они, ее старинные товарищи пойти готовы.
Или нет?
А что за акция–то, вяло поинтересовались они, чтобы потянуть время.
Акция пройдет, естественно в актовом зале ЦБПЗ, и состоять будет в основном из выступления генерал–лейтенанта Белугина перед молодыми продвинутыми патриотами–государственниками, которых, как она уверена, они — то есть, Бабич, Волчок и Прокопенко — помогут ей собрать со всей Москвы.
Сами видите, что на дворе за времена. Есть сильные, решительные, подготовленные люди, есть ресурсы, и подоспело время заявить о себе. Разумеется, она обратилась к ним, как к людям, на которых можно положиться, которых она знает как противников этого сатанинского бардака, творящегося в стране, кто хочет этой стране счастья, а не догнивания под пятой компрадорской олигархии.
Молодые люди молчали. Ситуация выглядела неприятно, обременительно, но не катастрофически страшно. На костер идти вроде бы было не надо. То есть, никто не требовал от них самих каких–то выступлений, и прыжков на амбразуру. Тихая, закулисная, хотя и противноватая работа. Придется немного врать, много суетится, но сделать–то можно, не забредая в политическое болото по горло.
— Значит, договорились?
Они промолчали, но Ларисе других выражений согласия было и не нужно.
Запрограммировав «Историю», Лариса двинулась в «Армию», где ее позиции были так же сильны. Пяток волонтеров, более молодых чем «историки», более эмоционально свежих были ею там обретены даже без всякого сомнительного коньяка. Молодые офицеры рвались к реальной работе. Возможность приобщения к высшим сферам организованного сопротивления «долларовому хаму» пьянило сильнее алкоголя.
С «Биологией» пришлось повозиться, там под ее полным контролем были лишь охотничий отдел, и секция крупных хищников. Но в целом, этот визит Лариса могла занести себе в плюс.
Труднее всего было с «Искусством», единственное чего удалось добиться, это раскола в коллективе, что, как известно, парализует его работу на внешних фронтах.
В «Музыку» даже не совалась. Нет, там было несколько ее страстных соратников по Свиридову, но для большинства тамошних «манов», гениальный русский мелодист являлся пугалом. Ничего, увидев сплоченные ряды вокруг себя, запоют покорный хепибездей нашему генералу.
На следующий день Лариса явилась на работу в отличном состоянии. Все в этот день складывалось замечательно. Во–первых, у них сегодня впервые с Сашей не было утреннего секса, как у нормальных супругов, жадный любовнический азарт, использование всякой более менее подходящей возможности, все это уходило в прошлое. Просто повалялись в постели и позавтракали неторопливо и обстоятельно. Мамочкина кухонная выучка работала на укрепление союза. Белугин был как всегда молчалив, даже зарылся на время глазами в газету. Лариса решила до осуществления «акции» не прессовать его по главному направлению: развод–женитьба. Не спрашивала даже, как он объясняет семье свое уже шестидневное отсутствие на территории законного брака. Не хочет говорить? Пусть. Слова в его жизни значат не так уж много. Добиваться будем дел. А после «акции» не делать их будет ему ох тяжеленько.
Так, между прочим, уже уходя, Лариса объявила Белугину, что «все придумала». «Что?». Объяснила в двух словах и самых общих чертах. Улыбнулась, глядя, как генерал нервно запахивает халат. Пусть поразмышляет на досуге.
Но стоило ей сесть в рабочее кресло, как все тут же рванулись портить ей настроение.
Первым оказался дядя Ли.
— Ты опять об этом?! Ему же еще почти полгода.
— Ты обсчиталась. Уже бомбардируют повестками.
Как не вовремя!
— Дядя Ли, если бы знал, какой у меня сейчас замот по делам. Сотни людей зависят…
— Какие люди, Лара, это твой сын!
— Но армия тоже наша!
Он бросил трубку.
Тут же эта Сашенька со своей улыбочкой.
— Лариса Николаевна, вас к Михаилу Михайловичу.
— Сейчас.
Набрала номер Гапы. Приятный офицерский голос поинтересовался, зачем беспокоят товарища Агапееву. Везет же людям, офицер в секретарях!
— Кто, кто? Я запишу ваш телефон, она с вами свяжется.
Испуганное личико Саши в дверях.
— Михаил Михайлович…
— Да, иду я, иду!
Набрала номер старика.
— Дядя Ли, а может Егор хочет служить в армии, я с ним прямо так вот не говорила на эту тему.
Бросил трубку. Нет, так это оставлять нельзя! Опять набрала номер. Секретарша подняла брови и вышла.
— Слушай, что ты как я не знаю! Знаешь, что, пусть он сам меня попросит, он же не немой, просто молчаливый. Пусть соберется на пару слов. Сам. Усек?! Придет сюда и скажет — мама помоги! Помогу! Клянусь тебе — обязательно помогу!
— Да, как ты не можешь понять, он не может, он…
— Все! Это мое последнее слово!
Бросилась к двери, но телефон зазвонил вновь. Сейчас отбреем назойливого дедушку. Тоже мне отроки с тонкими душами, попросить мать просто по людски, по человечески для них это видите ли западло!
— Послушай, дядя Ли… а-а, Гапочка, извини, перезвоню. Уедешь? Дело в том, что Егор получил повестку. Да, да, я вдруг надумала, что ему там не место. — У Ларисы сделалось каменное выражение лица. Она закрыла глаза, сдерживая гнев.
— Да, Гапочка, да, я столько талдычила, что долг настоящего мужчины — защищать родину. Именно так. Да, Егорка не настоящий мужчина, признаю. В чем тебе еще признаться?! Так и скажи, что не хочешь помочь. Ах, хочешь. Да, ты моя лучшая подруга, и ты хочешь помочь.
Ларисы слегка приоткрыла рот, можно было подумать, что она оскаливается.
— Ты все–таки понимаешь, это дело святое, и ради меня, ты готова, как лучшая подруга. Какой военкомат? Извини, пока не знаю. Но все узнаю. И быстро. На днях. Завтра. Даже сегодня. Ну, все, ты уже бежишь? Перезвоню.
Когда она вошла в кабинет шефа, он стоял отвернувшись к окну, засунув руки в карманы штанов. Выпяченые огромные губы было не видно, но Лариса убыла уверена — выпячены. Ой, как страшно!
— По вашему приказанию…
— Лариса Николаевна!!!
— Слушаю вас, Михаил Михайлович.
Он обернулся медленно, как будто был не морским пехотинцем, а целым морским кораблем. Несколько секунд молчал, примериваясь к тону, в котором следовало бы провести беседу.
— Лариса Николаевна, никакой генеральской встречи в актовом зале нашего учреждения не будет!
Лариса почувствовала, что спорить бесполезно, решение принято, но не уступать же не дав вообще никакого боя.
— Что с вами, Михаил Михайлович?
— Что вы имеете в виду?! — Начал закипать шеф, несмотря на то, что дал себе слово провести данный разговор без вспышек и взрывов.
— Что с вами сделало время?!
Ноздри большого ноздреватого носа затрепетали, всасывая дополнительный воздух. Шеф сделал два шага к столу, оперся на него не как обычно — широкими ладонями, а костяшками огромных кулаков, костяшки сделались желтыми.
— Вместо придуманной вами встречи с генералом Белугиным, состоится конференция солдатских матерей.
Лариса молчала. Дело, оказывается, даже хуже, чем ей вначале показалось.
— Разве вам это не интересно, вы же сама мать будущего солдата. И вам, наверно, самой захочется выступить на этом мероприятии.
Вот сволочь, со спокойной злостью подумала Лариса, как он хорошо подготовился к столкновению, как не дергай поводья — не объедешь.
— И вообще, Лариса Николаевна, зачем он нам нужен?
— Кто?
— Ну, этот ваш Белугин.
— Что вы хотите сказать?!
— Да ничего особенного я не хочу сказать, успокойтесь. Я просто недоумеваю, каким образом в нашей лекторской работе может быть использован опыт данного интендантского чина. Он всего лишь военный завхоз!
Белугин не любил афишировать, чем именно он занимается на службе, но Лариса догадывалась, что не спутниковой разведкой, и в данном случае яд Михаила Михайловича пропал даром. Он ничуть не отравил образ бравого и таинственного генерала в ее сердце. Наоборот, сам ехидный шеф сделался в ее глазах еще менее уважаемым и значительным, чем даже был до того. Одно только было непонятно — зачем ему именно сейчас заигрывать с либералами? Престарелый пацифизм героя малоземельца? Одно было несомненно — шеф принял решение, окончательное и никакими контратаками ничего не изменить.
— Какая жалкая попытка. Как измельчали ваши жесты. — Сказала она почти про себя.
Шеф не все понял, наклонился вперед.
— Что, что?
— Не зря все–таки Сталин разогнал вашу банду после войны.
Развернулась и вышла. Даже не пытаясь рассмотреть, какого именно цвета пятнами пойдет физиономия Михаила Михайловича. Это был поворот очень старого разговора. Однажды шеф схлестнулся тут у себя в кабинете с известным военным историком по поводу некоторых фактов из истории морской пехоты. В том разговоре Лариса со всей яростью громила военного спеца, считавшего, что генералиссимус вполне обоснованно упразднил после войны этот, «слишком преторианский» вид войск. Тогда Михаил Михайлович был ей благодарен, ибо выше всего на свете ценил факт своего участия в боевых подвигах морпехов. Юность, геройство, воспоминание об этом как глоток озона в трудный момент. Он даже терпел колкости того рода, что, мол, он, товарищ Александров ныне уже не тот, что в те опаленные годы. Начинает сдавать. Где твоя бескозырка, моряк?
Но чтобы так, рубануть прямо по святому, по самой идее морской пехоты!
Но ей теперь было все равно.
Она пересекла холл в полнейшем оцепенении. Что она скажет Белугину?! Внутри крутилось сразу несколько стремительных мысленных кругов. Иногда они цеплялись друг за друга высекая какие–то нервные искры. Она была в отчаянии, и одновременно с этим твердо знала — вот–вот что–то придумается!
— Лар–рисочка. — Услышала она тихий, почти певучий баритон откуда–то слева. Невысокий, коротко стриженый человек в больших квадратных очках, на губах смутно знакомая улыбка.
— И ты меня тоже не узнаешь. — Он вздохнул, и по вздоху она его узнала.
— Карапет!
Он снял очки и поклонился со всей своей прежней церемонностью.
— Пойдем в кабинет. — Это был не приступ гостеприимства, хотелось поскорее убраться подальше от внимательных глаз секретарши.
Уселись.
— Рассказывай.
— Что рассказывай, — он опять вздохнул, — сама ведь все видишь.
И она увидела. На правой стороне головы у Крапета Карапетовича было большое, поросшее короткими волосами, как и весь остальной череп, углубление. На миг Лариса даже отвлеклась от сильнейшей внутренней судороги.
— Операция. Опухоль. Доброкачественная. — Успокаивающе замахал руками Карапет. Он еще рассказал, что написал книгу. Наверно о врачах, подумала Лариса.
— О докторе Гаазе, был еще давно, тогда тюремный доктор.
— Как же, как же. А у нас какими судьбами?
Оказалось, ищет работу. Может быть, ему помогут в прежнем родном доме, потому что нигде больше не берут.
— Ты бы волосы отрастил подлиннее.
— Что?
— А знаешь что, пошли–ка со мной.
Через приоткрытую дверь было слышно, как Саша вбегает в кабинет к шефу, и выбегает из него.
Лариса с покорно бегущем вслед Карапетом вышли в коридор, проследовали до лифта.
— Куда мы? — Скромно спросил гость.
— Сейчас попадем в «Историю». — Применила Лариса старую–старую шутку, но Карапет не улыбнулся.
Ребров встретил их растеряно. Лариса была его начальницей, а вот ее спутник ему сразу не понравился. Настроение его еще больше ухудшилось, когда он узнал имя этого странного типа.
— Он уже работал у нас, в отделе
— Древнерусской истории. — Услужливо сообщил Карапет.
— И теперь хочет обратно. Не обязательно на прежнюю должность.
— Хотя бы простым лектором. — Опять улыбнулся Карапет. Лариса подумала, что вместе с опухолью у него удалили большую часть самоуверенности, а потом подумала, что нехорошо так думать.
Ребров кивал, кивал.
— А Михаил Михайлович в курсе?
— Если хочешь, спроси у него сам.
Ребров попросил свою секретаршу узнать, каково настроение на десятом этаже. «Рвет и мечет?» Руководитель «Истории» был в сильном затруднении. Он имел по закону полное право на независимую кадровую политику, но бывает ли она вообще где–то независимая политика?
— Карапет Карапетович, идите пока к Галке, попейте чаю, а мы поговорим о деталях.
Он встал, снял очки, посмотрел на благодетельницу долгим, проникновенным, спитакским взглядом. Она ему поощрительно улыбнулась.
— Лектором, Ребров, лектором, он тебя не разорит, тем более что у тебя есть вакансии.
— Вакансии есть, но чтобы лектор был без головы!
— Не говори глупостей, удачная трепанация черепа. Не бросать же хорошего человека на улице.
— Ну, я не знаю.
— Может, ты также не знаешь, как выйти на Останкино?
Ребров захлопал глазами, что за пируэт, что, черт возьми, происходит? Чего она явилась? Чего крутит?! У него были выходы «на телевизор», но «тольки трохи, и тольки для сэбе».
— Не жидись Ребров, не объем.
Он вздохнул.
— Давай, давай, а то я ведь злопамятная. Но ведь и благодарная, ты это знаешь.
Он стал осторожно выспрашивать — для чего ей «телевизор»? Какие именно люди нужны? когда? не скомпрометирует ли эта помощь его самого. Лариса хоть и без предварительного обдумывания отвечала очень здраво, и собеседника не спугнула.
Ребров понимал, что один номерок он ей дать будет должен, никуда он не денется, но как тогда быть с больным армянином, он что, просто угроза? Типа, купи кирпич! Если приоткроет калитку в «Останкино», оперированного лектора может отпихнуть? Спросить об этом прямо, конечно нельзя. Цинизм какой–то. Хотя и очень хочется.
Засовывая бумажку с телефоном в карман брюк, Лариса улыбнулась сбитому с толку руководителю «Истории».
— Я всегда знала, что ты очень хороший человек.
На лице Реброва появилась растерянная улыбка. Так отменяется армянин или нет?!
Заглянув в машбюро Лариса выпила чаю с Галкой, Тойво и Карапетом, совсем почти как в прежние времена. Сказала вот да, все вроде как былые годы, только не слышно грохота «Ятраней».
— Компьютеры. — Сказал Карапет.
— И по коридорам бродят странные люди.
— Арендаторы. — Опять сказал Карапет. Тойво ласково погладил его по той части головы, где у него не было выемки. За отчетливо проявляемую разумность.
— Хороший человек ваш Ребров, он мне твердо пообещал, что Карапетика возьмет на работу.
34
Они сидели в кафе у подножия Останкинской башни. Свою атаку на телевидение Лариса начала с поездки в Малаховку. Она рассчитывала найти там своего старого знакомого Виктора Петровича в деревянной избе, а нашла черноволосую, неприветливую женщину в двухэтажном каменном тереме. Причем бывший участок Виктора Петровича был теперь слит с участком скульптора, а каменная лениниана была удалена в неизвестном направлении. Новая хозяйка с Ларисой говорить отказалось, и той пришлось применить телефон вырванный у Реброва. После преодоления немалых недоумений ей удалось добиться пропуска в телецентр. Лариса очень смутно представляла себе, с чем ей там придется столкнуться. Она не очень надеялась на Виктора Петровича, но больше не на кого было надеяться. Лариса запретила себе задаваться вопросом — что там будет? Посмотрим, как пойдет. Возможность поражения не признавала.
Репутация «ящика» среди ее патриотических друзей была ужасающа — великий разлагатель души народа, филиал Моссада. «Словно в помойную яму в цветной телевизор глядит» вспоминалась ей строчка когда–то знаменитого подпольного поэта. И, признаться, она сама держалась той же точки зрения. Но, с другой стороны, ведь тот же Виктор Петрович туда как–то ввинтился и лечит из «ящика» простой народ народными же средствами.
Цель у нее была такая: устроить во что бы то ни стало выступление Белугину по ящику. По любому каналу, в любой программе, хотя бы в три минуты сюжетец. Это будет ее приданое, и одновременно ее взнос в банк общего великого дела по обновлению страны. Она понимала, если хочешь по–настоящему привязать к себе мужчину, недостаточно быть ему просто женой, желательно стать еще и соратницей.
Времени было в обрез.
Во–первых: атмосфера в стране, отчетливый привкус назревающей политической грозы.
Во–вторых: и это даже главнее: Белугин находится в опаснейшей стадии переползания из одной хаты в другую. Понятно, это непростое дело: детишки, сомнения, то се, и надо ему помочь. Надо сделать процесс необратимым. На запах большой карьерной пользы он поползет резвее.
Заручившись заветным пропуском, она подготовила легенду для народного лекаря, с помощью которой его можно будет втянуть в более менее продолжительную беседу. Там посмотрим.
И вот она за столом с человеком, который может ей помочь. И это не Виктор Петрович.
Плоскина, как это принято говорить, практически не изменился с тех пор, когда они виделись в норе Рыбаконя. Только одет был несравненно лучше, хотя и в те давние, фарцовые времена имел немалые вещевые возможности. От него прямо–таки разило респектабельностью, и парфюм, и «котлы», и очень дорогая улыбка. Он поймал взгляд Ларисы и охотно объяснил, где ему делали зубы, и сколько он за это заплатил. Плоскина сохранил и свою жизнерадостность, был доволен жизнью, и не считал нужным это скрывать. Было в этом полнейшем отсутствии ханжества и жеманства, даже что–то симпатичное. Или Ларисе хотелось это симпатичное в нем разглядеть, труднее просить о помощи отвратительного тебе человека.
Это он пригласил ее сюда, наткнувшись буквально в вестибюле, она еще даже не успела добраться до редакции Виктора Петровича. Буквально со второго предложения Лариса открыла ему цель приезда. Плоскина радостно выпучил глаза. И сказал только одно: «Не здесь!»
— Не нужно, чтобы нас видели вместе. — Объяснил он, когда они уселись друг напротив друга.
— Ты стесняешься?
— Да, нет, — поморщился он, — конкуренция. Не хочу, чтобы кто–нибудь узнал слишком рано, о моих планах.
— А у тебя уже есть план?
Плоскина плотоядно захихикал.
— Ты еще рта не успела раскрыть, а я уже все придумал.
— Да, придумывать ты всегда умел. Как твои, кстати, идеи с переделкой классических киношных сюжетов?
— А-а, это, ну, у меня еще сорок таких идей, и даже лучше. Но сейчас — не распыляться. Сейчас у нас на повестке — генерал Белугин.
Лариса кивнула. Она тоже считала, что сейчас главное — Белугин.
Томная официантка поставила перед ними по стакану свежевыжатого сока и чашке кофе, Плоскина автоматически похлопал ее по бедру. Она отпрыгнула с возмущенным шипением
— Вы что?!
Он мельком глянул в ее сторону.
— Извините, ошибся.
И тут же к Ларисе.
— Послезавтра у Киселева.
Это настолько превосходило представления Ларисы об успехе, что она нахмурилась. Издевается.
— Только одно условие. — Плоскина сделался серьезен.
Не издевается.
— Все должно выглядеть так, будто Белугин позвонил прямо в студию, и его появление должно выглядеть как экспромт. Ты хочешь спросить, для чего это нам надо?
— Нет. Я закурю?
Раздвигая клубы бледного дыма растерянной ладонью, она сказала то, чего не думала.
— Я понимаю…
— Умоляю, не надо ничего понимать, я сам понимаю чуть, но зато очень отчетливо. Очень короткий, но очень плодотворный союз, вот наша цель. Если хочешь, я тебе даже немножко заплачу.
Ларису вполне устраивало то, что ей самой ничего не нужно платить, поэтому она гордо дернула щекой в знак отказа — не возьму ни копейки.
Плоскина явно обрадовался, Лариса это заметила, и почувствовала себя немного увереннее, а то собеседник слишком уж превосходил ее в этой истории, жадность его как–то очеловечивала.
Детали оговорили быстро. Сок был допит, кстати, замечательно вкусный. Все еще обиженная официантка принесла счет. Надо было как–то выходить из разговора.
— Послушай, а как там… ну, Руля, другие? Я ведь отошла как–то.
Плоскина был погружен в исследование предъявленных ему цифр.
— Рауль? Убили. Зарезал, Абдулла.
Лариса решила помолчать, пусть объяснит, что имеется в виду. Он, наконец, разделавшись с финансовой стороной дела, вновь посмотрел на собеседницу.
— Что, не поняла? Рауль, ты помнишь, пошел в бизнес, как и все, где–то там не рассчитал, не у того взял деньги, не тому отдал. И его в самом прямо смысле зарезал человек по имени Абдулла. Прямо, если хочешь, кино какое–то.
Лариса смотрела в свою пустую кофейную чашку, как будто что–то высматривая в разводах гущи. Получалось гадание наоборот, в прошлое. Вообще–то она считала, что вполне равнодушна к судьбе этого человека, однако же, откуда эта растерянность расслабленность?
— Послушай, а я тебя и не спросил, ты чего в Останкино притащилась? Я тебя не сорвал с важной встречи?
Услышав объяснение, Плоскина очень развеселился.
— А откуда ты его знаешь дядю Витю?
— Ты что, забыл? Нас Питирим туда привез со Сретенки. От Рыбаконя.
— А-а, вспоминаю, да. Люберецкие пещеры. Если бы мне тогда рассказали про его нынешние карьеры, я бы даже и смеяться не стал.
Лариса оторвалась от чашки.
— Да, расскажи, каким образом он тут? Менее телевизионного человека я себе не представляю.
— А все просто, знаешь загадку: что такое еврейка? это не жена, а средство передвижения. Где–то он надыбал себе свою Фиру, впрочем, знаю где. Она пришла к нему лечиться, и он, как это не удивительно ей сильно помог. А у нее — связи. И сообразительный ум. Отмыла, подстригла, показала кому надо. Натура, фактура. И вот тебе на — царит Виктор Петрович на медицинской волне. Хотя он отнюдь не держатель капитала.
Лариса задумчиво крутила стакан с салфетками.
— Да, забавно. Как судьба крутит вертит людьми. Рулю зарезали. А помнишь, тогда снами еще были Питирим, Энгельс
Плоскина прищурился, припоминая.
— Спились, небось, очень уж они всегда налегали.
— Да, нет. Питирим, представляешь, в монастырь ушел. Совсем. Даже родственникам не приехать.
— Ух, ты.
— А Энгельс грибоварню открыл в Тверской области, экологически чистый теперь совсем. Звонил недавно, в гости зовет.
Плоскина заметно посмотрел на часы, было понятно, что внезапно возникшую ностальгическую ноту он не подхватит. Лариса кивнула.
— Так мы договорились?
— Еще как.
Белугин выслушал известие о возможности прорваться на голубой экран в лучшее время, в самую козырную информационную программу, молча, и еще потом молчал какое–то время. Его можно было понять — слишком серьезное дело. Спросил.
— Как тебе это удалось?
— Старые каналы. — Небрежно, но и многозначительно произнесла Лариса. Незачем нашему дорогому вояке знать, из какого сора растут розы таких достижений.
Белугин спросил.
— Когда?
— Послезавтра. Прямой эфир. Послушай, ты так молчишь, как будто сомневаешься, что это правда.
— Не сомневаюсь. — Усмехнулся Белугин, чуть обнажив зубы, и Лариса в очередной раз подумала, что в этой улыбке есть что–то вдохновляюще хищное. А то в стране засилье травоядных мужиков.
Но тут ее кольнула одна мысль:
— Стой, а может, ты не хочешь?
Генерал медленно повернулся к ней, ни один мускул на его лице не дрогнул, взгляд был спокойный до почти неприятной степени. Вылитый римлянин перед Рубиконом.
— Я выступлю.
35
Штабом проведения операции назначен был кабинет Ларисы. Это было удобно во всех отношениях. От здания ЦБПЗ до телецентра можно было за пятнадцать минут дойти пешком. Ну, максимум за двадцать. В кабинете был телефон, чтобы позвонить в киселевскую программу (заветный номерок Лариса держала в нагрудном кармашке у сердца), в кабинете был телевизор, по которому можно будет увидеть, и услышать историческое выступление Белугина. В тот же самый кабинет можно будет назвать народа, всех тех, кому будет интересно и полезно послушать генерала. Кроме того, Лариса обязана была находиться в этот день на рабочем месте, потому что именно на этот день Михаил Михайлович назначил свою дебильную конференцию.
Белугин явился с Агапеевой. Куда же от нее денешься! Но еще до их приезда Лариса провела один неприятный, а главное, очень странный разговор с Лионом Ивановичем. Вернее, с его квартирой. После последнего свидания со стариком прошел целый месяц — да нет, полтора уже. За делами и тревогами, дни летят быстро, а сынок, так и не явился с личной просьбой. Лариса решила махнуть рукой на дурацкую свою гордость. Мать, я, в конце концов, или не мать?! Два года в казарме слишком тяжкое наказание за глупую мальчишескую гордыню.
Трубку сняла какая–то дева с расслабленным, замедленным голосом. — Где Егор?
Голос туповато задумался.
— Ладно, где Лион Иванович?
Оказывается, была скорая, старику сделали укол, он сейчас спит.
— Ладно, будить не надо. Кстати, а вы кто такая?
На том конце провода мялись. Какая отвратительно размазанная блядская интонация!
— Ладно, и так все понятно.
Лариса бросила трубку и хмыкнула. Вот, старый чертяка, он все тот же. Лариса вспомнила, как он рассказывал историю про своего друга старика–любовника, знаменитого сценариста, который уже лежа в предсмертной позе, просил навещавших его поэтесс сесть на краешек кровати и норовил уже вполне кащеевой рукой, цапнуть за колено. Так вот я, говорил Лион Иванович, и в таком состоянии не ограничусь коленом, учтите. Доигрался.
Лариса решила, что сразу после передачи сгоняет к старику. Обязательно!
Солдатские матери стали собираться к концу рабочего дня, они бродили по «направлениям», их знакомили с работой ЦБПЗ, они высказывали свои чудовищные по своей нелепости пожелания в рассуждении улучшения этой работы. Ощущение ненужного, нелепого, но неотвратимого праздника охватило здание. Лидеры движения клубились в предбаннике и кабинете Михаила Михайловича. Старик — Лариса несколько раз заглядывала к нему — был и польщен таким женским напором и подавлен. Было видно, что ему нравиться его новая либеральная роль, но бросалось в глаза, что он смущен масштабом и интенсивностью события.
Камеры с двух телеканалов, деловитые пареньки в джинсах, провода по полу, жаркие осветительные устройства.
Увидев телевизионщиков, Лариса усмехнулась, и едва удержалась от совета обратить сегодня внимание на одну аналитическую вечернюю программу. Вот там будет картинка так картинка.
С решительными деловитыми мамами она была холодно приветлива, Михаил Михайлович и за это был ей благодарен. Эта конференция сама по себе была почти политическим скандалом, он знал, что ее очень по–разному оценивают в верхах, так зачем ему всякие местные водовороты. Увидев Белугина в форме, бывший морпех схватился за сердце. Понял, что Лариса лишь притворялась лояльной. Потребовал заместительницу к себе. Бледная Саша сообщила об этом. Лариса улыбнулась ей.
— Конечно. Но учтите Саша, сколько бы у вас там не собралось теток, моим гостям тоже нужен кофе.
Михаил Михайлович встретил ее в предбаннике и повлек за локоть куда–то в сторону, и там зашипел своими огромными губами, что «никаких военных», что генерал не будет выступать.
— Будет. — Улыбнулась Лариса, любуясь тем, как отваливается челюсть у начальника. — Но не здесь.
— Что значит…
— Я имею в виду, что у вас он выступать не будет. Это частный визит. Если, пардон, не хотите, я тоже могу не участвовать.
Шеф охотно бы принял этот самоотвод, но он помнил, что сам приказывал — быть готовой. Надо быть последовательным. И потом, она подумает, что он ее боится.
— Нет. Вы должны выступать обязательно. Вы мой зам.
— Хорошо.
Агапеева уже разбавляла кофе коньяком. Белугин пил чай.
— Лара, так, где же твой Егорка? Призыв заканчивается.
— Да, Гапа, да, только разгребусь тут с делами. Меня, признаться, сейчас больше старый волнует, чем малый.
И она рассказала историю про дядю Ли. Агапеева очень смеялась. Белугин смотрел в уже потемневшее окно. От горячего дыхания на стекле появлялись кратковременные белесые следы.
Отсмеявшись, Гапа еще раз напомнила, что если мальчик не хочет в армию, то пусть уж проявит чуть рвения. Времена переменчивые, кто знает, где мы будем через полгода.
— Спасибо Гапочка.
— Пора. — Сказал Белугин.
Лариса набрала полученный от Плоскины номер и передала трубку генералу.
— Да, это я. — Сказал он в нее. Потом несколько раз кивнул, запоминая указания. — Буду через полчаса. Да.
Лариса проводила его до первого этажа, перекрестила.
— Я не верующий.
— Бог все равно на нашей стороне.
По пути на десятый этаж к телевизору, заглянула на двадцатый, там как раз начиналось. Что–то противоестественное было в облике этого собрания. Одни женщины. Мужчины присутствовали только в виде обслуживающего персонала — стояли за телекамерами.
Впрочем, в президиуме высилась одна черная фигура — шеф. Он стоял в позе человека складывающего свои полномочия. Мы, видите ли, не справились со сложностями этого мира, теперь давайте вы, товарищи женщины. Речь его соответствовала покаянному облику. Соседки по президиуму кивали с видом скорбного самодовольства. Лариса сплюнула и поехала вниз.
Достала из сейфа две бутылки конька, и тарелки с уже нарезанным сыром и колбасой. Две банки маслин. Подтащила к себе телефон. По внутреннему вызвала «Историю». Прокопенко получил приказ подниматься на десятый этаж, «со всеми, кто там есть». Народу после окончания рабочего дня оказалось на местах немало. И Волчок, и Бабич с каким–то очень толстым парнем, и Милован даже, и Карапет.
Что за событие, интересовались сотрудники. Лариса загадочно отвечала, что скоро все поймете. Милован тут же стал подбивать клинья к Гапе, форма благодарности за отмазанного от армии сына.
Две бутылки кончились мгновенно. Лариса достала кошелек, толстяк согласился сбегать за добавкой.
— Кто это? — Спросила Лариса Бабича, когда он со всей своей шестипудовой грациозностью выпорхнул за дверь. Бабич оскорбленно удивился.
— Ты что, не узнала? Это же брат. — И напомнил о давнишней поездке в подмосковную часть.
— Так это он? Что с ним?
— Его тогда перевели в хлеборезы. А там же не только хлеб. И сахар, и масло. Набрал вес. Ожирение.
— Вот, — сказала Агапеева, — нельзя детей в армию посылать, они там пухнут не от голода.
— Гапа! — Недовольно поморщилась Лариса. Ей этот разговор был неприятен.
— Я знаю, ты любишь военные марши.
— Гапа! — Теперь голос был тише, но сотрудницу минобороны проняло, несмотря на весь коньяк. Она перестала шутить в сторону хозяйки кабинета.
— А у нас в деревне, парень, что не служил и жинку себе бы не нашел. — Сказал Прокопенко. Он знал, что Милована это высказывание заденет не очень, зато понравится Ларисе. Но оно не понравилось. Ей вообще было почему–то противно расползание этой темы. Слишком много ее. И ошалевшие от своего пацифизма военмамы на двадцатом этаже, и жирный крестник, умчавшийся до магазина, и белый билет сына. Как–то все это не увязывалось во что–то единое, здравое. Но дождемся выступления генерала, и будет вам идейный камертон, и весь этот хихикающий хаос сразу притихнет.
Заглянула Саша и сказала, что шеф напоминает Ларисе Николаевне о ее выступлении.
Прибежал хлеборез.
Бабич включил телевизор по приказу хозяйки кабинета.
— Он не хочет, чтобы я выступала. — Сказала Лариса презрительно. Почему ты так думаешь, поинтересовалось сразу несколько гостей.
— Знаю. Несчастный вывернутый человек, все делает назло себе. Я ему давно поперек горла, и именно поэтому он меня никогда не выгонит. Да и побоится. Не знаю почему, но почти все фронтовики оказались такими трусами в мирной жизни. Видимо под пулями проще, чем сказать что–то человеку в глаза.
— Не знаю, не была под пулями. Под офицерами была, а вот под пулями… Спасибо Милок.
Милован как раз повернулся к ней со сложно построенным бутербродом. Обычно благосклонная к фривольностям и флирту, Лариса почти вспылила при виде этого акта невинного ухажерства. Она внутренне одергивала себя — ничего, ничего уже скоро, уже совсем скоро. Все станет на свои места!
— Хватит вам!
— Не поняла. — Сказала Гапа.
На экране рядом с привычно озабоченным Евгений Киселевым, появился генерал Белугин. Все, даже ироничный Милован, повернулись к ящику.
Киселев в своей замедленной, преувеличено значительной манере с грустинкой, обрисовывал обстоятельства данного внезапного визита. Поползли, мол, где–то слухи, что готовится чуть ли не самая настоящая вооруженная акция против лиц и установлений действующего режима, и некоторые горячие головы готовы бросить обвинение конкретным людям и организациям. И вот сейчас у нас в студии генерал Белугин, не понаслышке знающий положение дел в определенной среде, в военном сообществе, скажет, насколько эти слухи обоснованы.
Лариса вся подобралась, внутри у нее вспыхнул бесшумный пламень, глаза, и не только глаза излучали свет победоносной уверенности. На нее было смотреть намного интереснее, чем на экран. Там, лишенный фуражки Белугин, медленно, еще медленнее Киселева произнося слова, уверял, что существующие, да существующие организации патриотического офицерства, ни в коем случае не помышляют об актах прямого насилия, и вообще какого бы то ни было нарушения закона. Только сумасшедшие и провокаторы могут возводить на здоровые силы, связанные с министерством обороны и службой безопасности, такие обвинения.
Она не знала, какой задумывалась эта речь, генерал, как известно, являлся человеком слишком в себе, но Лариса чувствовала, что звучат, не совсем те слова, не те формулировки, которых ей хотелось бы ожидать.
Самое первое впечатление — Белугин не убедителен. Нет, он играет выправкой, и римскими морщинами, он не суетится словесно и улыбается скорее снисходительно, чем заискивающе. Но что он несет?!
То есть как, никаких актов сопротивления?
То есть как, абсолютное подчинение закону и режиму?! Это, какому режиму? Это, какому закону?! Грабительскому закону и предательскому режиму?!
Киселев удовлетворенно кивал.
— Так значит, вы можете сейчас официально утверждать, что все эти силы, о которых шла речь, лояльны власти.
Белугин посмотрел в камеру, едва заметно дернул щекой, и чуть кивнул.
— Лояльны.
Все собравшиеся повернулись к Ларисе. Никто не был до такой уж степени в курсе внутренних механизмов этой ситуации, и никакой немой сцены быть не могло. Однако какие–то недоумения образовались. Зачем мы были позваны? Только ради коньяка? Лариса сидела молча, и тихо гасла. И чувствовала себя мгновенно замурованной в огромной глыбе несчастья и стыда. Так продолжалось несколько очень длинных секунд. И главное, не было понятно — как это прекратить? Всяческие словесные объяснения были невозможны, унизиться до этого она не могла. Но и другого выхода из этого немого кошмара не было.
Помощь поступила из неожиданного, и, в общем–то, отвратительного источника. В кабинет заглянула искаженная страхом быть обруганной, Саша, и сообщила, что Михаил Михайлович снова напоминает: надо бы выступить Лариса Николаевна, если хотите.
Это был выход в прямом смысле слова.
Лариса резко встала и пошла вон из кабинета. Какое облегчение — не объяснять ничего! Гапа кинулась за ней. Она единственная знала всю подоплеку ситуации, ее жгло любопытство — что теперь будет делать подружка, после того как из под нее настолько выбили табуретку. Вид агонии самое знобящее зрелище. Гапа даже отказалась от что–то обещающего флирта с Милованом. Сам он от него отказываться не стал и потянулся вслед за армейской красоткой. Это уже напоминало начало культпохода, Прокопенко, Бабич, Волчок так же стали подниматься. Только хлеборез остался. Его проблемы военных матерей совершенно не интересовали.
Лариса влилась в президиум, когда на трибуне разливалась крупная тетка с халой, чудовищным крашеным ртом, и опухшими глазами, от непрерывного горевания над проблемой. Она рассказывала историю, принципиально не связанную с ее ребенком, все–таки спасенным ее усилиями от кошмара военных действий под Аргуном. Она уничтожала какого–то подполковника сбывавшего не только соляру боевикам, но и заставлявшего ее доставлять вражеским покупателям не кого–нибудь, а своих бойцов. Что кончилось плохо. Из очередного выезда с товаром пара солдатиков не вернулась.
Зал не гудел от возмущения, такие истории не были тут ни для кого новостью или открытием. Он стал многочисленно ворочаться, когда речь пошла о поведении центральных ведомств, к которым выступавшая обратилась с сообщением о преступном подполковнике. Ее отпихивали все, кто только мог. Ей говорили — чего вы лезете! Ваш–то сын цел и почти невредим. Вам что, больше всех надо?
— Может быть, мне надо не больше всех, но мне надо много! Мне надо, чтобы моя родина не использовала своих детей как пушечный фарш, чтобы она не торговала ими как рабами. И чтобы она не защищала преступников, которые питаются жизнями и здоровьем наших детей!
Лариса подняла голову и покосилась в сторону говорившей. Она собиралась отсидеться в недрах президиума, и уже сделала знак Михаилу Михайловичу, чтобы он пока ее не выкликал в ораторы. Ей надо было как–то примериться к обрушившемуся горю. А ведь это именно горе. Она потеряла не только соратника, и идейную перспективу. Она потеряла мужчину, ибо как же входить в брак с человеком, который оказался тряпкой и предателем. Он явится, скоро явится сюда, и даже если бросится в ноги… Нет, он притащится прямо в кровать, он как и все мужички уверен, что сцапав тетку за задницу он всегда повернет ее туда, куда ему надо. Тыловая крыса! А как многозначительно вел себя, какие молчаливые намеки производил, ведь за спиной его многозначительного генеральского молчания мерещилась такая махина… Эта гора не родила даже мышь!
И вот, сидя на дне этого отчаянного колодца, она услышала про преступного подполковника.
— Честь мундира, пресловутая честь мундира. Они защищали его не потому, что им было лень или страшно взяться за него, они, эти московские паркетные полководцы защищали его, потому что они сами точно такие же по сути. Окажись на месте этого подполковника, они тоже повели бы себя как рабовладельцы. Они защищали себя, свое право пожирать молодые мальчишеские жизни, только потому, что за мальчишек некому заступиться. И я прихожу к выводу, что нет ничего на свете более грязного, чем пресловутая «честь мундира». Мундир этот смертельно перепачкан в грязи, и в крови. А мы матери наших сыновей, сделаем все, чтобы их миновала и эта кровь, и эта грязь!
Не говоря ни слова, не делая никаких знаков шефу, Лариса встала и пошла к трибуне, с которой под треск аплодисментов и блеск фотовспышек убывала ораторша. Шеф раздраженно жевал выдающимися губами. Никак она не может без своих выходок!
Лариса осмотрела зал, отсюда с трибуны он казался ей еще более враждебным, чем из президиума. Она грустно улыбнулась, не зная, что улыбается, и представилась. Потом начала.
— Я дочь офицера.
В задних рядах вспорнул смешок. Гапа? Подруга сховалась за впередисидящую спину, но была безжалостно идентифицирована подругой. А ведь мама была права, не любит она меня, мелькнула мысль.
— И всегда гордилась этим. Мой отец всего лишь капитан, но даже если бы он был подполковником, он не стал бы, я в этом уверена, делать того, о чем здесь рассказывалось. Этот рассказ… — она сделала паузу, давая время залу окончательно сконцентрироваться на своей фигуре. Их дежурный, катящийся по раз и навсегда проложенным рельсам, митинг сейчас пойдет под откос.
— Этот рассказ вызвал у меня отвращение. И не фигурой подполковника, хотя она, конечно, отвратительна. У меня вызвала отвращение ваше единодушное, примитивно бабье, духовно убогое отношение к армии своей страны. Я не буду вам повторять общеизвестное: не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую, ибо совсем не в жратве здесь дело. Хотя лучше, разумеется, чтобы солдат был сыт. Что главное понимали матери Великой Отечественной, которые своим недоеданием, своими голодными обмороками, спасали воюющего мужчину. Женщина–мать — это часть народа, священная и нежнейшая, но не весь смысл народа в ней. Ей дано великое право, иногда перемешанное с огромным горем — отдать своего мальчика, своего ребенка родине. Родина тоже баба, и чтобы самой не орудовать, она назначает для кровавых военных дел государя, или государство.
Сидящие в зале начали потихоньку гудеть и переглядываться. Михаил Михайлович обхватил голову руками, и выдохнул так, что зашевелились листки на столе перед ним.
— Мир не ограничивается вашей юбкой, под которой вы хотели бы сберечь ребенка. Да, в реальной армии, тем более в воюющей армии до черта всякой мерзости и преступлений. Но война сейчас единственный способ сохраниться нам как стране.
— Хватит! — Взвизгнула дама в восьмом ряду. — Хватит этой демагогии.
— В армии, тем более в воюющей армии полно сволочей, но то, что делаете вы, еще грязнее, и подлее, чем то, что там порой бывает. Вы сейчас отвратительны и вредны, не только с точки зрения московских генералов, я знаю эту подлую породу не хуже вас. (Лариса увидела как Гапа закрывает рот ладонями, чтобы не рассмеяться). Вы, разваливая армию и страну, вы, потерявшие детей, вы теперь окончательно убиваете их. Сейчас они лежат в могилах, как герои своей родины, а вы хотите низвести их до состояния бессмысленного, погребенного, бессмысленного праха.
— Да прекратится это когда–нибудь!
— Она что с ума сошла!
— Да, ну ее, дура, какая–то истеричная.
В восьмом ряду поднялась маленькая белокурая женщина с короткой, мальчишеской стрижкой и заплаканными глазами, но заговорила почти спокойно.
— Скажите, мадам, а у вас есть дети?
Зал резко стих.
— У меня есть сын.
— Сколько ему лет?
— Восемнадцать.
По залу пронесся свист нехорошего предвкушения, ну–ка, ну–ка!
— Он, конечно, учится в институте?
— Нет.
— Он освобожден от службы в вооруженных силах по состоянию здоровья?
Лариса помедлила немного, и сказала медленно, глядя прямо в глаза следовательнице из зала.
— Мой сын не просто находится в армии, он находится в зоне боевых действий.
Из зала раздались голоса сразу нескольких следовательниц, пытавшихся уличить ее. Они утверждали, что восемнадцатилетнего новобранца нельзя отправить воевать, поэтому выступающая лжет. Другие кричали, что если дело обстоит так, как она рассказала, то они ей помогут «вытащить мальчика» из мясорубки, в которую его беззаконно запихнули. В общем, желающие уличить Ларису столкнулись с желающими уесть минобороны. Лариса отошла от трибуны, и, не занимая места в президиуме, вышла из зала.
Подруга рванула за ней с недоуменным лицом. В лифте они оказались вдвоем, дав закрыться механическим дверям перед физиономиями подбегающих Прокопенки и Бабича.
Лариса внимательно смотрела на Агапееву, та изо всех сил делала вид, что все в порядке. Ее очень раздражало то, что она не замечала в подруге никаких следов переживаемого позора. Попасть в такую гадскую кашу там, на трибуне, и при этом смотреть с таким повелительным превосходством. Вот, блин, натура! Другая бы прятала глаза, и унизительно оправдывалась за беспредельное свое вранье. А эта… Этого терпеть было нельзя, надо было гордую девушку как–то срезать. У госпожи Агапеевой имелась в загашнике одна очень острая бритва, но сейчас было как–то не с руки ее выхватывать, надо сначала подвести разговор к нужному месту. И она решила начать с мелкой пакости.
— Так я не поняла, как мне быть с Егором, он не идет служить, или теперь уже идет?
Лариса не ответила на этот вопрос, и даже не расценила его как враждебный. Она была собрана и нацелена по другому поводу. Она была убеждена, что Белугин уже на месте. Не стал ждать ночного домашнего объяснения. От Останкино ходьбы до ЦБПЗ всего двадцать минут. Сидит, небось, давится коньяком в предвкушении разбора телевизионных полетов. В голове у Ларисы была уже совершенно готова схема словесного его уничтожения. Начать надо будет с того, сколько она должна товарищу генерал–прорабу за косметический ремонт в их однокомнатном гнездышке. Ведь не на содержании же она у него была!
Пересекла предбанник решительным шагом, и резко открыла дверь. В кабинете был один младший Бабич, он сидел в кресле хозяйки, со стаканом в одной руке и толстым бутербродом в другой, и кажется, вполне наслаждался жизнью. Увидав Ларису, стал бормотать извинения переполненным ртом. Гапа, из–за спины подруги указала ему на дверь, ей он тоже мешал. Лариса подошла к окну, к тому месту, на которое дышал своим предательством Белугин, готовясь к историческому броску в прямой эфир.
— Так я не поняла, мне насчет Егора… — Начала было Гапа, но сразу почувствовала, что это не тот разговор, и запнулась.
— Ну, что ты мне хочешь о нем рассказать?
— А?
— Я же вижу, ты все знаешь.
Гапа села, налила себе выпить.
— Что я хочу рассказать? — выпила — Что люди не меняются. Лет двенадцать назад, Ларочка, я была в таком же положении, как ты теперь. Нет, хуже. Я была с брюхом, и Белугин от меня сбежал к своей мегерке. Теперь у меня растет дочь, как две капли воды…
— Так вот почему ты все время терлась рядышком.
— Да, он по–прежнему для меня… хотя я понимаю, что он полное чмо. Но, у нас империя зла, полюбишь и козла. Так тогда говорили. Хотелось хоть как–нибудь участвовать в его жизни.
Лариса села в свое кресло.
— Ты не все мне рассказала.
Гапа снова налила себе и выпила залпом, закусила особо кислой долькой лимона.
— Да что тут еще рассказывать. Был момент, когда я испугалась, что ты его все–таки переделала, я имею в виду тот случай с Чапаевым. Ради меня он таким творчеством не занимался.
Лариса продолжала смотреть на нее проникающим взглядом.
— Все?
Гапа опять потянулась к бутылке. Подняла, и вдруг со стуком поставила ее на стол.
— Он сюда не придет. Сегодня уедет. С семейством, на юг.
Она подняла взгляд на часы, висевшие на стене.
— Поезд минут через тридцать. Курский вокзал. Симферополь. Я видела конверт с билетами, когда курьер принес.
Лариса резко встала, рванулась к шкафу, выдернула из него пальто и сумку. Проверила, паспорт был на месте. Быстро сбросила туфли, двумя снайперски точными движениями вставила ноги в свои полусапожки.
— Давай деньги.
Гапа с облегчением выпотрошила кошелек на стол перед нею.
— Проследи, чтобы тут убрали и закрой дверь.
— Ларочка извини, ну, сука, я сука, сама знаю!
Когда Лариса выбежала, госпожа Агапеева села и тихо, тоскливо заплакала.
Когда местные мужики ввалились в кабинет и полезли за объяснениями, что, да почему, и правда ли что… Гапа, промакивая безнадежно поплывшие глаза, прошипела.
— Пошли вы все вон, козлы!
36
— Да ты куда, дура!
Она запрыгнула, когда состав начал движение. Маленький, щуплый парень–проводник, уже опускал верхнюю ступеньку, и Лариса грузилась в вагон в борьбе с этим механизмом. Отдышалась, отряхнулась, не хватало еще явиться перед ним какой–нибудь замарашкой.
— Билет. — Попробовал проявить власть проводник.
— Мне в четвертый вагон. — Отмахнулась крупная пассажирка и углубилась в коридор. Она, на самом деле не знала, в каком вагоне прячется семейство беглого генерала. Предстояла тотальная проверка всех купе. Хорошо еще, что часть вагонов была плацкартна. Минуя в призрачном полумраке железнодорожного воздуха шевелящиеся человеческие залежи Лариса развлекала себя одной колотящейся в сознании фразой — «в зеленых плакали и пели».
Никто не плакал, и не пел. Все стелились, а потом станут есть.
И вот купе номер один. Немного помедлила, руки сковала уверенность, что «они» здесь. Надо было собраться с силами.
Ошибка, конечно. И весь вагон — пустая скорлупа. И второй, и третий, и пятый.
Вагон ресторан. Заперто. То есть как!? Лариса вспыхнула от возмущения и страха. Томиться в этом тамбуре просто так!? И неизвестно сколько! Заколотила ладонями в железную дверь.
Отворили. Даже не стала ничего объяснять, на объяснениях можно забуксовать. Просто продавила вялую оборону. «Эй!» — растеряно кричали ей вслед. Кто–то догнал, бубня про то, что они еще не работают. Не обращая на бубнеж внимания, Лариса походя мимо стойки, взяла бутылку воды, и бросила не глядя на это место какую–то денежную бумажку. В следующем лязгающем тамбуре открыла бутылку о какой–то угол, судорожно отпила сразу половину.
Вагоны один за другим продолжали ее разочаровывать. Сколько их там еще осталось, не сообразила же считать.
Белугина она увидела не в купе, а в коридоре. Узнала легко, несмотря на гражданскую одежку. Он удалялся в дальний конец вагона, помахивая пачкой сигарет.
Ну, и хорошо. Как будто ситуация специально подстраивается под ее нужды. Разговор без лишних глаз. Чисто мужской разговор.
Но, минуя семейное купе Белугиных, она вдруг вцепилась в поручень и, качнувшись, плечом выбила железку с занавеской. Внутренность купе мощно притягивала ее любопытство. Она смотрела туда, настолько неотрывно, что даже не могла никак вставить на место железку. Так и бросила. Встала в дверном проеме, кажется улыбаясь.
— Здравствуйте.
Они были вдвоем.
Мальчик лет восьми, коротко стриженный, с круглым, растерянным лицом, во рту виднелась проволока для выравнивания зубов. Руки он как отличник держал на коленях, как будто готовый, сколько надо ждать, когда с зубами все будет в порядке.
А главное — рядом, у столика сидела его мамочка. Маленькая, худая, руки у нее по локоть были в домашней матерчатой сумке, отчего в позе было много покорности. Сказать некрасивая, это подарить комплиментом. Неопределенного цвета небольшие глаза, на щеках проступившие сеточки мелких сосудов, пегие волосы насильственно зачесаны назад, и там скручены в тощий пучок. Губы большого, лягушачьего рта всегда наготове расплыться в виноватой улыбке.
— Здравствуйте, где тут свободное место?
Они не ответили, Лариса вошла и шикарно уселась напротив.
— Тебя как зовут?
— Вова. — Неуверенно произнес мальчик и покосился на мать, спрашивая — может, лучше помолчать? Та никак не ответила, она даже не знала — продолжать ей начатое, вынимание из сумки путевых припасов или нет. Появление спутницы явно не входило в ее ожидания, и она еще не поняла, как к этому относиться.
Лариса обежала быстрым взглядом купе.
— О, вы наверно надолго на юг, сколько вещей. Не бойтесь, я путешествую налегке. Так по жизни у меня все время. Думаешь, багаж, а выясняется, что балласт. Вы в отпуск, да?
— Мы с папой. — Сказал Вова.
— А где же он?
— Папа курит. — Опять сказал Вова.
— А вы по путевке, или дикарем?
— Мы в санаторий, в Партенит.
— Ой, я вас понимаю, с возрастом хочется комфорта. Я вообще, очень люблю природу, но предпочитаю, чтобы на горизонте все время маячил официант.
— Официант в ресторане. — Заметил Вова. Внезапная тетя перестала его смущать.
— Вот папа. — Сказал он. Белугин появился в дверях. Замер. Несколько секунд просто молчал. Молча же вошел, и сел на диван рядом с сыном. Получилось очень выразительно: семейство Белугиных на одной стороне, а Лариса на другой. Супруга, обретя способность двигаться при появлении своего генерала, достала руки из сумки. В руках была курица, завернутая в фольгу. Курицу она положила на столик.
Уже четверо, против одной! Ну, ладно, воинственно и весело подумала Лариса. Но мелковаты. Жена так и просто клуша, родная сестра той жареной тушки, что закуталась в фольгу. Муженек без фуражки, в умилительно домашнем тренировочном костюме выглядел еще жалобней жены. Господи, да где глазки мои зеленые были?! Как я высмотрела в этом тихом пенсионере надежду нации?!
— А хотите, я угадаю, кем вы работаете?
— Папа… — Начал было Вова, но указательный палец незнакомой тети остановил его.
— Иначе, не интересно. Вы явно работаете по снабжению. Может быть, директор небольшого магазина стройматериалов, правда?
Вова покосился сначала на отца, потом на мать — чего они молчат?
— Ну, как водится, в торговом деле, усушка, утруска, или как там у вас это сейчас называется, отсюда и копейка капает, да? А может, не исключено, что вы прораб, или как это — подрядчик. Ремонт квартир, нет? Но, как бы там ни было, по вашему лицу видно, что человек вы не простой. В том смысле, что простого материального достатка вам маловато. Хочется чего–нибудь для души. Политикой интересуетесь?
— Папа…
— Я сама Вова, сама. Вы, наверно, патриот. Даже, наверняка. Газету «Завтра» почитываете, угадала? Ненавидите воров, что грабят страну. И готовы на многое, чтобы дать им по рукам. А может, и по голове. Вы птица полета не низкого. Вы…
— Папа — генерал! — Наконец прорвался сквозь запреты Вова.
— Правда?! — Преувеличено восхитилась Лариса.
— Генерал–лейтенант! — Гордо покосился на родителя сын.
— Ах, какая я дура, извините! Это конечно… просто мне показалось, что в вас что–то есть от подрядчика, какая–то такая черта, но я рада, что обманулась. Хотя и меня можно понять, а значит и простить. Генералы они все же другие. Генерал — это звучит гордо. Это ум, честь, лихость и надежда нашей эпохи. Если не генералы, то кто же?! Ты меня понимаешь, Вова?
— Нет.
— Вы не обижайтесь на меня, товарищ генерал. Я офицерская дочь, и я себе нафантазировала, мне казалось, что…
В дверь сунулась небритая физиономия.
— Ну, вот вы где, мадам. Нельзя же так бегать.
Не очень чистая рука протянула Ларисе стопочку мелких банкнот.
— Сдача, за воду. Не раскидывайтесь денежками, девушка, не каждый станет вот так за вами бегать.
— Это официант. — Сказал Вова.
— Саша. — Генеральша смотрела на мужа. Лягушачий рот жалко улыбался, а на нижних веках висело по огромной слезе.
— Не надо плакать, — широко улыбнулась ей Лариса, — ну и пусть не слишком похож не генерала, зато никто не польстится, так при вашей юбке и будет сидеть.
Белугин встал, оставив вместо себя на диване пачку сигарет. Встал, но не произвел пугающего действия. Что–то проскрипел почти не открывающимся ртом.
— Что? — Спросила Лариса, изящно упаковывая сдачу с воды в свое дамское портмоне.
— На два слова. — Повторил тихо генерал.
Лариса подмигнула Вове, тот вопросительно повернулся к беззвучно плачущей матери.
Вышли в тамбур. Лариса стала в свою любимую позу, отставив чуть полноватую, но все еще очень выразительную в эротическом смысле ногу. Самоуверенно улыбалась, и снисходительно смотрела сверху вниз на мужчинку в трикотажных штанах. Он действительно казался намного меньше, чем в прежней жизни. Сменил ботинки на каблуках на шлепанцы. Сменил белого коня на номер в ведомственном санатории.
— И какие же два слова вы хотите мне сказать, мой генерал?
Пусть извивается, пусть скулит, ничего ему уже не поможет, все равно ему одна дорожка — ползком в свое убогое семейство. Все, оказывается, было с самого начала обречено.
— Я жду, это не вежливо не отвечать такой женщине как я, это свинство!
Генерал молчал. Что творится в его голове, понять было нельзя, внешне это никак не выражалось, наоборот, он все больше цепенел, в плохо различимых в полумраке глазах ни огонька.
— Ты скажешь что–нибудь тля?! Хоть что–нибудь, хоть глазом моргни, товарищ прораб.
Генерал моргнул, но больше ничего!
— Да, что же ты за ничтожество?! Сделай что–нибудь. Упади на колени, проси прощения, или дай мне по морде! Невозможно же, чтобы вообще ничего!
И это на него не подействовало.
— Не–ет, ты у меня так не отвертишься, подонок!
Лариса прорычала еще что–то, рванула на себя дверь и бросилась в коридор. Купе проводника было рядом. У входа стоял тот человек из буфета, он о чем–то беседовал с проводником. Сначала у Ларисы был простой, механический план мести. Она наберет стакан кипятка, и плеснет в римскую харю. Но в одно мгновение, как у нее часто бывает, уже в процессе подлета к проводницкому купе, она передумала, и закричала, что ее только что пытались изнасиловать.
— Он там, он там в тамбуре!
— Что? — Расслаблено и непонимающе зашевелились мужики.
— Вы что сидите?! Изнасилование. Он в тамбуре! Он там сидит, в тамбуре.
Проводник встал с выпученным лицом, Лариса толкнула его в грудь, ввалилась в купе, и рухнула с тяжелым воем на его нечистую постель.
37
Улица Огинского была отделена от реки влажной асфальтовой набережной. Лариса шла медленно, поглядывая по сторонам. Слева — одноэтажные деревянные домики за серым штакетником, мокрые крыши, остовы парников, маленькие окна, до половины затянутые белыми занавесками, как бы чем–то заболевшие. Перевернутые лодки почти в каждом дворе. Справа — Щара покрытая рваными клоками тумана, с наклонно торчащими из покатых берегов ветлами. Над всем этим провинциальное, белорусское, но без единого аиста небо. Одно лишь создавало эмоциональную интригу — полнейшее отсутствие людей, а ведь три часа дня. Хоть бы собака пробежала. Тонко, сладко и все время щемит сердце. Огинский, где твой полонез?!
Остановилась, закурила, хоть чем–нибудь же надо оживить этот выцветший, заброшенный рай детства. И стоило ей только затянуться, как из туманной толщи, почти прилипшей к воде, с беззвучной, и крылатой лихостью вылетела байдарка двойка, и пронеслась мимо мощно и цепко хватая четырьмя лопастями лаково поблескивающую воду.
Лариса бросила им вслед недокуренную сигарету, надуманное очарование рухнуло. Город Слоним не гиб в дальних закоулках ее столичной памяти, он позиционировал себя как центр гребного спорта.
До бабушкиной калитки было два шага. У нее во дворе не было перевернутой лодки и парникового скелета. Что и понятно, Виктория Владимировна уже более года как не вставала с постели. Нанятая на ларисины деньги женщина, ходила за ней, и, кажется, как следует, отметила про себя внучка, пройдя через чистые сенцы, оглядев пребывающую в полной аккуратности кухню.
Виктория Владимировна лежала в комнате с закрытыми шторами, на широкой кровати с никелированными спинками. Рядом с кроватью небольшой круглый стол с толпой пузырьков и медицинских коробок. Старуха лежала величественно, на двух огромных, свежих подушках, хорошо причесанная, и в комнате не было того жирно–карамельного духа, что поселяется в жилищах даже здоровых стариков. Не было и трагического валокординового запаха.
Увидев внучку, Виктория Владимировна улыбнулась, при этом выражение глубоко запавших черных глаз было неразличимо, отчего общее впечатление было приветливо зловещим.
Лариса расцеловала бабулю, села у кровати. Последовали обычные вопросы: как себя чувствуешь? и т. д.
— У меня ничего не болит. — Сказала Виктория Владимировна. — Ты бы поела, Стася драники сделала.
Лариса подчинилась, пошла на кухню, взяла из зеленого эмалированного ведра соленый огурец и вернулась к кровати.
— Ты надолго?
— Это не важно. В том смысле, что уже не важно.
— Не понимаю.
— А что тут понимать. Тебе ведь тут скучно. Одной.
Виктория Владимировна ответила не сразу.
— Мне не бывает скучно, мне бывает тоскливо.
— Вот видишь.
— Ко мне никто не приходит.
Разговор был прерван появлением Стаси. Она жила через два дома, домохозяйничала при муже шофере. Крупная, говорливая, добродушная, чистоплотная тетка. Она заставила гостью как следует раздеться — Лариса завела важный разговор, даже не сбросив пальто — заставила так же поесть как следует, с разогретым супом, драниками на сале, растворимым кофе. Ларисе очень хотелось послать ее как–нибудь вежливым образом, но было понятно, что это невозможно. Пока внучка ела, Стася длинно и подробно отчитывалась о бабушкиных денежных делах. Плата за свет, за то, за се, денежки с почты, пенсия. Оказалось, что беглый офицер Стебельков, узнав о состоянии своей бывшей, разразился небольшим пенсионом.
— Какой молодец, небось, от детей отрывает.
— Да, — Стася не считала нужным понимать, какую бы то ни было иронию, — у няго тры хлопца.
А служил он теперь под Минском.
Раньше раз в месяц приходил перевод из Москвы, теперь десятого, как обычно его не было. Дядя Ли, догадалась внучка. Что–то с ним случилось. Совсем забросила старичка. Нехорошо.
Доктор ходит и говорит, что все стабильно. Стася зажгла настольную лампу, включила телевизор, и, наконец, убыла, пообещав еще заглянуть.
— Выключи. — Попросила Виктория Владимировна. Лариса поняла, что ни лампы, ни телевизора не надо.
— Я всегда ее прошу не включать, а она всегда забывает. — Вздохнула бабушка, и добавила. — Она хорошая.
Лариса снова села у ложа.
— Ко мне никто не ходит, потому что никто нет любит.
— Ну что ты глупости говоришь, вон, даже деньги шлют. Я и не знала, что у тебя с дядей Ли… — Лариса остановилась, не зная как не пошло сформулировать, то что хочется сказать.
— Мужчины рано умирают, а подруг у меня никогда не было.
— Вот! В самую точку.
— В какую точку?
— Сейчас объясню. Со мною, понимаешь, кое–что произошло. Никогда бы не подумала, что со мной, такое вообще возможно.
— Влюбилась?
Лариса хрипло засмеялась и сразу же закашлялась.
— Ну, ты скажешь. Стала бы я с такой новостью сюда мчаться.
— Любовь единственная новость, которая всегда нова.
— Ты знаешь, я Пастернака–то не очень…
— Причем здесь Пастернак, это я так думаю.
Допив остатки стасиного кофе, внучка продолжила.
— Семья, вот что главное. Родственники, близкие, дом, большой дом, где всем будет хорошо и спокойно. Где не надо будет думать, придет кто–то чужой тебя навестить, или не придет. Вот, дозрела, и учителя были хорошие. Мне это один генерал объяснил. В поезде.
Виктория Владимировна закрыла глаза.
— Ерунда все это, дочка.
Ларисе очень нравилось, когда бабушка ее так называла. Она чувствовала себя частично именно дочерью это мощной старухи.
— Не бойся, не бойся, с Ниной Семеновной я договорюсь. Куда она денется. Сначала она покочевряжится, но против главной мысли, куда же ей спорить. Семья, это семья. Как мне, прикажете быть? Я и ее люблю, и тебя. Ну, была у вас глупость с отцом, но ведь уже тридцать лет прошло, тридцать почти! Все мы другие стали, больные, несчастные. И, если вдуматься, а я вдумывалась, почему это только ты виновата? А товарищ капитан чистенький? Почему это?! Почему с него спросу нет никакого? Напрыгнул на тещу и в кусты!
— Ладно тебе. — Тихо сказала Виктория Владимировна.
Лариса закурила, стала быстрыми движениями одной руки отгонять облако призрачного дыма. Пальцами второй терла давным давно раненую щеку.
— Ты знаешь, в тот день, ну, когда у вас был скандал, когда Нина Семеновна вас застала, помнишь, конечно, у меня ведь тоже было, так сказать, приключение.
— Что?! — Виктория Владимировна даже приподнялась на подушках.
Лариса во всех красках расписала историю с человеком в олимпийской рубашке имевшую место в холодной кочегарке.
— Вот когда он стал уже там что–то расстегивать, я стояла и молчала, мне было просто интересно, а потом даже засмеялась, вот думаю дурак! А ним внезапно — приступ! Он вдруг разрыдался, стал хвататься за стену, кулаками в нее бить, что–то кричал, какие–то слова то понятные, то непонятные, толкнул дверь и убежал. Никогда его больше не видела, хотя городок маленький. И тогда ничего не поняла, само собой. Кинулась к вам, а вам не до меня. Потом уж стала соображать, что к чему. И к мужчинам у меня с тех пор отношение, как бы это сказать, презрительное что ли. Нет, какое–то другое слово надо тут. Дрянь бесхребетная. Даже совратить толком не могут.
— А почему ты ничего мне не рассказала?
— Я же говорю — хотела, только всем было не до меня в тот момент. А потом как–то заигралось, пару раз вертелось уже на языке, но все трудней и трудней было заговорить об этом. А потом мы в Гродно уехали, и все осталось как бы в другой жизни
Виктория Владимировна вздохнула, закрыла глаза.
— Я никуда не поеду.
— Не говори глупостей, я уже все придумала и договорилась, до вокзала на скорой, дальше эсвэ, там опять машина.
— Послушай, дочка, — Виктория Владимировна пошевелилась всем своим большим телом, — извини, я буду говорить с пафосом.
— Говори, с чем хочешь.
— Понимаешь, я прожила жизнь по определенным правилам, хотя со стороны казалось, что, наоборот, только и делала, что правила нарушала, разрушала семьи, кого–то уводила. Ну, что теперь об этом. Но всегда я заботилась об одном, о главном — никому не навязываться, не быть в тягость. Это единственное, что для меня непереносимо. Так вот, я знаю, что Нина ничего не забыла, и ничего не простила.
— Я понимаю.
— Ну, раз понимаешь, значит понимаешь.
Лариса встала, сходила на кухню, развела себе еще растворимого кофе. Села молча рядом с кроватью Виктории Владимировны. Было очень тихо. Тишина в комнате была прямой родственницей той, что стояла снаружи. Пробежавший по улице мальчишка ее не нарушил. Проехавший «запорожец» тоже.
— Ты что, плачешь, дочка?
Виктория Владимировна медленно перекатила по подушке свою большую голову с немигающими глазами.
Лариса сидела на стуле, неестественно выпрямив спину, выставив перед собой дымящуюся чашку, на ее щеках поблескивали длинные мокрые полосы. И ни единого звука.
— Да, что с тобой?!
Внучка кончиком языка стащила с верхней губы большую слезную каплю.
— Ты понимаешь, я всю жизнь как побитая собака. Собака, которую гонят со двора.
— Что?
— Тыкаюсь им в ноги, тыкаюсь, а они все куда–то в сторону от меня, как будто я заразная. Мужику достаточно словечко ласковое сказать, и я на все готова. Я их всех вижу насквозь со всеми потрохами, но не могу я быть одна. Надо, чтобы хоть какой–то рядом торчал, хотя бы как шкаф в углу, пусть обшарпанный, но свой, без этого я как будто голая или больная. Все за него сделаю, пусть вор, пусть дурак, спасу, научу… И пожаловаться не могу никому. Только тебе вот, бабуля.
— Даже если пожалуешься, не гарантия, что пожалеют.
Лариса уронила пепел в кофе, и от этого слезы побежали сильнее.
— Поплачь, поплачь, передо мной можно. — Виктория Владимировна чуть заметно улыбнулась. — Я и не думала, что ты умеешь.
Лариса встала и пошла на кухню со словами.
— Укатали сивку.
Остановилась в дверном проеме, и сказала, не оборачиваясь.
— И главное — сынок. Егорка. Он меня сильней всего изводит. Но теперь я им уже займусь. Вернусь и займусь.
Виктория Владимировна вернула голову в прежнее положение, и сказала на тяжелом выдохе:
— Внуки это богатство, правнуки — уже излишество
Лариса ничего не ответила и вышла. Через пару минут она вернулась и уже не в слезах, а наоборот, в какой–то свежей собранности:
— Так, ну с переездом мы решили.
38
Михаил Михайлович вызвал секретаршу, протянул ей листок со списком фамилий.
— Пригласите ко мне. Только не надо, чтобы об этом знала Лариса Николаевна. Она, кстати, пришла?
— Да. — Кивнула Саша. Девушка не знала, что думать. Явившись сегодня на работу намного раньше обычного времени, шеф продиктовал ей приказ об увольнении Ларисы Николаевны Коневой с занимаемой должности. После знаменитой материнской конференции заместительница исчезла почти на месяц, никому ничего не объясняя. Не рассказывать же, что тебя сняли с поезда в состоянии тяжелейшего нервного приступа, вязали руки полотенцами, чтобы она на них чего–нибудь не перерезала. Неделю пролежала под капельницами в госпитале Бурденко (Гапа помогла, оставаясь нема, как могила), потом две недели в родительском доме, потом поездка в бабушке. Михаил Михайлович с каждым днем ее незаконного отсутствия укреплялся в уверенности, что он имеет моральное право ее прогнать.
И вот, наконец, сегодня подписал.
Саша все утро готовилась к чему–то похожему на землетрясение. Наверно, думала она, шеф тоже очень боится, почему и собирает себе на подмогу целую бригаду. Если бы не было так страшно, то интересно было бы посмотреть на историческое событие.
Вернувшись в предбанник, Саша обнаружила там невысокого полноватого мужчину лет пятидесяти, одетого с неталантливой небрежностью: потертые, джинсы с мокрой бахромой, черный, растянутый свитер, лицо неприятное, щекастое, непривлекательная седина, бледная, жалобно торчащая из свитера шея. Он все время шмыгал тонким, крючковатым носом. Ему нужна была Лариса Николаевна. Саша тут же ей доложила — посетитель.
— Кто такой?
— Ой, я забыла спросить. — Побледнела Саша.
— Я тебя выгоню. — Сказала Лариса. — Сколько лет ты сидишь в предбаннике, и не усвоила самых простых вещей. Что за посетитель, какой из себя?
Секретарша как могла описала его. Сидевшая за столом хозяйка кабинета вскинулась.
— Что, что? — Ее интерес показался секретарше совершенно неадекватным. Ее как будто ее всю затрясло. — А ну сюда его! Нет, погоди, я сама!
Она резко встала, и вышла в предбанник, там ей навстречу поднялся из кресла смущенный господин Перков.
— Не ждала? — С явно отрепетированной, напускной нагловатостью поинтересовался он, прилизывая ладонью отставшую прядь.
Совершенно погасшая Лариса пробормотала. По описанию секретарши, ничего не сказавшей о возрасте гостя, она решила, что это Егор.
— Ждала. Но не тебя.
— Войти–то позволишь?
— У меня мало времени. — Сказала она, пропуская его в кабинет.
Михаил Михайлович оглядел собравшихся. Здесь были: Прокопенко, Волчок, Бабич, Милован. Последней прибежала Галка, теряясь в догадках, с чего бы это заинтересовались ею?
Шеф хмурился, прохаживаясь вдоль стола.
— Я должен с вами посоветоваться.
Собравшиеся переглядывались.
— Мне сейчас позвонили, какой–то незнакомый женский голос. Надеюсь, это не жестокая шутка.
Теперь никто не переглядывался, все смотрели на шефа.
— Дело касается Ларисы Николаевны.
— Сколько мы не виделись, Лара? — Гость оценивающе оглядывал кабинет, прошелся вдоль короткого стола для заседаний считая толстыми пальцами стулья. Сел в кресло с самым хозяйским видом.
— Много лет, и я бы не отказалась, чтобы ты снова пропал на столько же.
Гость грустно хмыкнул.
— Очень предсказуемая реакция.
— Раз ты все можешь предсказать, значит, должен был знать, что приходить не надо, зачем ты пришел?
Поэт Перков — Принеманский вздохнул, и вдруг обмяк в кресле. Начал медленно, слабосильно массировать на коленях свой скомканный, влажный плащ, намекая тем самым: видишь, что сделала со мной жизнь.
— Я пришел за помощью.
Лариса от неожиданности открыла рот. Он заторопился:
— Да, да, дело в том, что мне не к кому обратиться.
— Я была уверена, что ты давно уже сгинул, где–нибудь под забором.
— Да, Лара, я дважды был очень близок к этому. И именно что под забором. Покрутила меня жизнь на разные манеры. Я и завклубом был, и проводником, и в избиркоме работал, в области. Зоопарк сторожил.
— Ты же поэт. — С особым, прочувствованным презрением произнесла Лариса.
— Да, вот по этому поводу я и у тебя.
На лице у хозяйки появилась улыбка, как бы говорящая: ну–ка, ну–ка.
— Ты сначала объясни мне, как ты меня нашел?
Это ей и правда было интересно. Он тогда очень уж начисто исчез из ее жизни, ни ползвука о нем не доходило. Прошлое в этом направлении было как будто забетонировано. Но живой росток пробивается сквозь любое дорожное покрытие. Лариса презрительно взирала на это старое бледное растение.
— Как я тебя нашел? Очень просто. В одном хорошем доме дали адрес.
— В каком еще доме?!
— У Венедикта Дмитриевича, знаешь ведь такого.
— Как ты туда попал?!
В Ларисе было оскорблено самое сокровенное. Дом Поляновского она хранила в своем сердце как церковь высокого человеческого общения, прекрасно помнила, как непросто она сама туда проникала, а это жабоподобное жлобище просто выпрыгнуло из своего болотного небытия и сразу в алтарь! Нет в мире справедливости!
— Поэту повсюду есть вход. — Небрежно пояснил Перков, как будто уловил смысл ее возмущения.
Лариса медленно грызла свои губы.
— А почему ты мне чаю не предложишь, я же видел, у тебя там вон секретарша бегает.
— Это ты от робости хамишь, да?
Перков вдруг тяжело и глубоко вздохнул, переложил плащ на спинку соседнего стула, понурился
— Конечно. Хреновато себя чувствую, криз у меня был гипертонический, почки барахлят и давно. И задумался тихо так я — что после меня останется потомкам и друзьям? Собрал свои листочки, сложил в кучку, образовалась книжка. Она первая у меня, она же и последняя, наверно, будет
— «Мои пораженья»?
Поэт быстро, удивленно заморгал.
— Откуда знаешь?
— Я не знаю, я помню.
— А-а, нет–нет. То были «Мои любовные пораженья», я, кстати, принял твою опечатку, как родную. Она усиливает, и ты, вроде как бы чуть–чуть соавтор мне.
Лицо Ларисы перекосило.
— Спасибо.
— Да, ладно. Но теперь у меня совсем другое название. Я совсем другой смысл я вкладываю в слово «Пораженья». Оно идет не от поражения, как было, не от неудач в любви, а оттого, что я поразился, или был чем–то поражен до глубин натуры. Человеком, событием, чувством! Понимаешь? Я не оплакиваю свою несчастную, никому не интересную жизнь, но, наоборот, к миру рвусь с благодарностью, с восторгом почти!
— И ты решил, что я помогу тебе с изданием?
— Конечно. У тебя связи, Москва. Сдохну ведь, никто не вспомнит. А у меня… сын.
Он опять стащил плащ со стула и прикрыл им вытертые колени.
— Ну, на этот счет не волнуйся. Можешь считать, что у тебя нет сына.
Перков вздохнул с тяжеловесной покорностью, щеки лица его обвисли еще больше, и весь он стал насквозь дрябл и неизлечимо виноват. Прямо хоть жалей. Раньше хоть подловатая скандальность была в этом гаде, хоть что–то живое, а теперь хочется сравнить с гнилым одуванчиком. Тонкие ноздри слипаются от беззвучного шмыганья. Прогнать, конечно, можно. Соберется и уйдет, только это не будет самый лучший способ растоптать его.
Лариса всегда решения принимала быстро, так получилось и на этот раз. Настучала острым пальцем номер колбасного Бабича на клавиатуре.
— Здравствуй. Тихо, не надо. Сегодня к тебе придет человек. Человек с рукописью. Ты профинансируешь ее издание. Нет, и нет. Не интересует. Надеюсь, все понял?
Перков стал приподниматься и разводить руки в стороны, видимо стараясь показать, какого размера благодарность овладевает им, но Лариса усадила его тем же пальцем, что и набирала номер, как будто только им одним соглашалась прикоснуться к данной ситуации.
— Иди на седьмой этаж, найдешь там молодого человека по фамилии Бабич, он отвезет тебя куда надо.
— Я…
— Иди. Все. Чтобы больше я тебя не видела.
— Может это розыгрыш, глупая шутка? — Сказала Галка.
Михаил Михайлович отрицательно покачал головой.
— Я бы тоже хотел на это надеяться, но не надеюсь.
— А когда он успел? — Удивился Прокопенко.
— Да, Лариса ничего не говорила о том, что он уже служит. — Это уже Милован.
— Говорила, — Михаил Михайлович сел за стол и стал массировать виски, — говорила, и все это слышали. На конференции. И все решили, что это блеф. Я, например, решил именно так. Лариса ради красного словца не пожалеет иной раз… никого. А оказалось, что это правда.
— Так он что в госпитале? — Спросил опять Милован.
— А почему этот голос не позвонил сразу Ларисе? — Вопросительно хмыкнула Галка.
Михаил Михайлович пояснил:
— Звонила много раз. Ее не было в городе, не только на работе. Лариса сегодня приехала на работу прямо с поезда.
— То есть, это мы должны ей сообщить? — Спросил тихо Волчок.
Шеф поглядел на него из под массирующей руки, которой продолжал давить на виски.
— Нет, не знаю, какая–то темная история. — Сказал Милован. — Что–то мне не хочется спешить.
— Может быть, позвонить этой женщине и сказать, что Лариса уже на месте, пусть звонит ей.
Михаил Михайлович сменил руку.
— Да, Галя, это хорошая мысль, только у меня нет телефона этой женщины.
— Вообще–то спешить надо, — сказал Прокопенко, — если он в госпитале и в тяжелом состоянии, то надо, чтобы Лариса успела повидаться, если там плохо все.
— Она сообщила, что состояние тяжелое, и больше ничего. — Сказал Михаил Михайлович.
— А куда ехать–то? Где госпиталь? Какой госпиталь?!
Шеф не успел ответить, в кабинет вошла Лариса. Ничего особенного в ее облике не было.
— Мне нужно уехать, Михаил Михайлович.
— Да, да, конечно.
— Я возьму вашу машину?
— Да, да, конечно. В полном вашем распоряжении.
— Лариса, если там помочь, и … — Привстал Бабич и вслед за ним Милован.
Она отрицательно кивнула.
— Нет, я поеду с мужем.
Когда дверь за нею закрылась собравшиеся в кабинете молча, и с явным облегчением переглянулись.
— До нее дозвонились. — Сказал Прокопенко.
— Она что замуж вышла? — Задала вопрос в пространство Галка.
— Все может быть. — Сказал Михаил Михайлович. — Может быть она опять не выдумывает.
По дороге вниз Лариса завернула на этаж «Истории». Там было пустовато, никто из вызванных в кабинет шефа еще не вернулся, только из одной, открытой в коридор двери раздавались голоса. Там Карапет Карапетович заваривал чай на маленьком столике у себя в закутке, а Перков прохаживался подле и вещал.
— Я почти никогда не ошибаюсь, я, конечно, никакой не профессиональный предсказатель, я любитель, и у меня нет нужды все время что–то высчматривать там в будущем. Только походя, по живому, непосредственному наитию. Они у меня рождаются как стихи — прозрения. Кстати, может после «поражений» соберусь и на «мои прозренья».
— Что? — Глухо переспросил Карапет.
— Да, так. Например, недавно я прочитал статью в «Труде» «Доживет ли империя США до 2017 года?» и моя мысль заклубилась сама собой, и уже через час я знал достоверно, что случится все значительно раньше. Уже году в 2008 начнется страшный финансовый кризис, и Америка начнет рушится, и разваливаться на куски. Где–то году в 2015–2018. Я, конечно, не Ванга, но и у меня есть удачи. Я, например, предсказал отпадение Белоруссии от России, то есть, развал СССР. Кто бы мог двадцать лет назад до такого дойти?!
Карапет Карапетович уже давно отвлекся от процесса заваривания и потрясенно глядел на говорящего гостя, автоматически поглаживая глубокую выемку у себя на черепе.
Увидев Ларису в дверях, Перков резко, виновато смолк. Она поманила его пальцем.
— Одевайся. Поехали. Не задавай вопросов, я не буду отвечать.
— Ну, а как же рукопись, ведь меня уже ждут.
39
Дверь открыла невысокая плотная девица в коротком халатике на голое тело. Веснушки, короткие рыжеватые волосы, в припухших губах сигарета. Ведь ждала гостей, могла бы привести себя в порядок.
— Здравствуйте. — Сказала хрипло.
— Ты кто? — Спросила Лариса проходя внутрь квартиры, и сама себе мысленно ответила — «шалава». Перков осторожно двинулся следом. Лариса хотела спросить, где Лион Иванович, но раньше увидела, где он. Дядя Ли лежал на своем раздвижном диване. На нем была пижама, по виду свежая, до пояса он был прикрыт клетчатым пледом. Половина лица у него была намылена. Правой рукой он держал распахнутую опасную бритву в хлопьях мыльной пены.
— Здравствуй.
Он ответил только глазами, но вполне осмысленно, мол, привет, все в порядке, не журись.
Девица подошла к нему, присела на край дивана и, наклонившись, взяла в руки бритву и продолжила начатое. Ее налитые груди, казалось, вот–вот выкатятся из халата прямо на старика. Неуместный эротизм этой сцены злил Ларису. Так что же случилось с Егором, хотелось ей спросить, но одновременно очень хотелось разобраться с девицей. Одно желание перебегало дорогу другому, так что гостья просто зло молчала.
И тут еще раздался детский плач. «Парикмахерша» опять вложила бритву в руку Лиона Ивановича, как в подставку, и быстро вышла на кухню. Лариса вопросительно поглядела на дядю Ли, и конечно, же зря. Он по–прежнему был нем. За какой бы то ни было информацией надо было идти на кухню. Она укоризненно покачала головой, ах, дядечка, ах проказник! Он продолжал грустно улыбаться своими выразительными глазами.
На кухне, как ожидалось, Лариса застала, самую отвратительную из возможных сцен. Грудь конопатой хамки все же вырвалась на свет, и теперь обчмокивалась губами грудного дитяти, вынутого из коляски. Теперь у гостьи начал формулироваться еще и третий вопрос, и она совсем онемела. Перков равнодушно выглядывал из–за ее плеча.
— Егор попал под машину. Вернее не под машину, она ехала мимо, но был плохо закрыт борт, торчал… я не знаю, как называется, и ему попало в висок. Теперь он без сознания. В госпитале. В Коврове. Я хотела к нему поехать, но не с кем оставить ребенка. Я позвонила — может быть, вы посидите!
Лариса даже не сразу осознала, до какой степени ей хамит эта хамка. То есть, вот для чего она сюда вытребовала родную мать Егора, чтобы…
— А ты, собственно, кто?
— Марина.
— Ты жила у Лиона Ивановича?
Марину, кажется, этот вопрос смутил. Она не сразу поняла, как на него отвечать.
— Да. Но не только.
Ларисе было не до ее трудностей. Ее, наконец, прорвало.
— А как он попал в армию?
— Пришла повестка…
— Почему он никому ничего не сказал?!
Марина пожала голым плечом.
— Все знали, Лион Иванович… Егор вам хотел сказать, но потом решил, что лучше напишет оттуда. Я ему говорила, что так не очень хорошо, но он сказал, что так лучше.
Марина отняла ребенка от груди, и уложила обратно в коляску.
— Так ты не сказала мне, кто ты?
— Я Марина. Я понимаю, Егор вам ничего не говорил. Он хотел, но все не говорил.
И тут Ларису, как это обычно говориться, пронзило.
— Послушай, а ты, ты что… ты, что ли его, в смысле, ты с ним?!
Марина кивнула, и медленно передернула плотными плечами, как бы говоря: а что, до сих пор это было непонятно?
Лариса до такой степени была поражена, что даже обернулась к Перкову за поддержкой, все же какой ни какой, а отец.
— И что, Марина, этот ребенок…
— Это девочка.
— А как зовут? — Спросил поэт, чтобы хоть как–то поучаствовать в разговоре.
Мать ответила не сразу, посмотрела в коляску, где тихо пускала пузыри сытенькая дочка, потому поглядела на роскошную свекровь, и тихо сказала.
— Лариса.
Свекровь молча снесла это известие. Несколько секунд молчала, потом сделала шаг вперед и наклонилась над колесной колыбелькой. Осторожно выдвинула из рукава своего пальто кисть руки, и медленно протянула в сторону сытого, удовлетворенного жизнью свертка. Когда палец бабушки приблизился к личику девочки вплотную, на губах у нее лопнул какой–то особый пузырь, большой как какое–нибудь важное слово.
— Радуется. — Сказал дед.
— Это Егор сказал, что будет Лариса. — Сообщила Марина.
— Да?! — Удивленно покосилась на нее свекровь, как будто сама не могла сообразить такой простой вещи.
Из комнаты раздался какой–то булькающий звук. Марина бросилась туда. Лариса не могла оторваться от коляски.
— Ну, парень. — Пробормотал Перков.
— Какой тебе парень!
— Я имею в виду Егора. Они жили наверно, год, а сам ни звука. Почему он тебе ничего не рассказал? И старик мог бы позвонить.
— Не мог. — Сказала возвратившаяся Марина. — Мы поселились здесь, только, когда у него уже удар. А так у меня в общаге больше всего.
Потом добавила, обращаясь к поэту.
— Пойдемте, там надо перевернуть.
Лариса осталась один на один с коляской. Держалась одной рукой за подоконник, другой очень осторожненько прикасалась к подбородочку, к лобику, к кончику носа, и каждый раз с ней происходило какое–то сладостное сотрясение во всем теле. При этом, она не беспамятствовала в других отношениях, и раненый Егор, и расплющенный дядя Ли никуда не исчезли из ее сознания. Но все равно, эта огромная, больная сложность производила не отчаянье, а что–то совсем другое в душе.
— Ла–арочка. Ну, теперь мы им покажем!
40
В доме остались одни мужчины. Марина с младшей Ларисой в городе. На ней, помимо заботы о дочке еще и присмотр за инсультным Лионом Ивановичем. Кроме того — Егор, его тоже надо навещать в гарнизонном госпитале. Он пока никого не узнает, и будет ли когда–нибудь узнавать, врачи сказать не могут. Старшая Лариса решила, что его надо будет со временем забрать сюда, в большой дом в Пуговичино. Она была убеждена, что сын поправиться, хотя, вроде бы, никаких оснований для особого оптимизма не просматривалось.
Переговоры о покупке второй половины участка, уже прошли. Денег должно хватить. Места хватит всем.
Поэт Принеманский поселился в отапливаемой баньке, и, кажется, ему там нравилось. Николай Николаевич частенько к нему захаживал, чтобы ускользнуть от тихого скандала, который каждый раз разражался, стоило Ларисе завести речь о переселении в общий дом Виктории Владимировны.
Нина Семеновна не сдавалась, хотя старшая Лариса была убеждена, что это дело времени, так же, как и излечение Егора. Мать упиралась. Она готова была ходить не только за внуком, но даже за «артистом», раз хороший человек, но «только не она».
Тихое, несгибаемое сопротивление матери изводило Ларису. Какая у нее выстроилась стройная, гармоничная картина будущей жизни, все родные люди за одним большим столом, пусть кто–то не совсем здоров, это мелочи, и не такое переживали.
Между тем, у Ларисы устроились дела на работе, Михаил Михайлович отошел от дел по состоянию здоровья, и как–то так получилось, что во главе ЦБПЗ оказалась Лариса Николаевна Конева. Успехам только стоит начаться, как их уже и не остановить. Хитрый, прехитрый Сергей Иванович подъехал к ней с предложением «войти в список», пусть до выборов еще далеко, но от нее ждут участия в руководящих структурах партии. Она даже не обрадовалась, и взяла неделю на размышление. И Сергей Иванович это безропотно снес.
Когда эту тему возбужденно обсуждали на веранде, Нина Семеновна сидела в сторонке и тихо вздыхала. Лариса приехала из города не одна, а со своим новым заместителем, видным сорокалетним мужчиной. Он держал себя, если так можно сказать, сдержанно, но всем было ясно, что за роль он играет при венценосной мадам. Перков — Принеманский старался держать себя с ним по–приятельски, мол, все понимаем, такая теперь у нас жизнь. Подарил ему книжку своих стихотворений «Мои пораженья», что успела выйти за эти месяцы на деньги безотказного колбасника. Что ж, если супруга так вознеслась, надо уметь сохранить свое хотя бы поэтическое достоинство.
Да, Лариса Николаевна вознеслась. Заместитель подробно рассказывал Николаю Николаевичу о предстоящем «прямом эфире», во время которого Лариса схлестнется с «этой змеей Хакамадиной». И конечно победит.
— Как я вам завидую, Лариса Николаевна: большой дом, большая семья, это и есть, наверно, счастье. А я после смерти мамы — совсем один.
— У нас тут тоже не все. — Сказала Лариса, закуривая.
Нина Семеновна в самый разгар общего разговора, ушла вглубь дома, так, что все заметили, что она ушла. Лариса, положила сигарету на край пепельницы, и сопровождаемая понимающими взглядами родственников последовала за ней. Она застала мать лежащей лицом в подушку у себя в комнате. Села рядом с кроватью на стул, погладила худые, покорные плечи. Нина Семеновна сказала ей сквозь слезы — привози кого хочешь.
На следующий день Лариса позвонила Стасе в Слоним и велела начинать подготовку к транспортировке большой бабушки на новое место обитания.
А еще через день Стася позвонила сама и сообщила, что Виктория Владимировна умерла. Что? Как? Почему? — ответы были уклончивые. Мать и дочь тут же сорвались, и умчались на похороны в Белоруссию. Капитана Конева, естественно, не взяли. Да он и не рвался.
В доме остались одни мужчины.
Перков сидел в беседке за накрытым столом — соленья, сало, грибы. Как говориться — вечерело. В доме уютно горели окна, небо из густо–синего превращалось в черное, края редких облаков еще светились, и сквозь них было видно звезды. Поэт ждал капитана. Тот появился с бутылкой самогона и пачкой каких–то бумажных листков. Сев к столу, он подкрутил фитиль настольной лампы, и в беседке стало нестерпимо уютно.
— Что это? — Спросил поэт.
Капитан звучно вырвал пробку из бутылки.
— Ты знаешь, я думаю, она отравилась.
Перков сразу понял о ком идет речь.
— Да, понятно, старая, болела…
Капитан отрицательно покачал головой. Разлил по стаканам.
— Тут характер. Я то уж знаю. Если чего хочет — добьется, если не хочет, значит, не хочет.
— Как Лариса. — Сказал поэт.
— Порода.
— А Егор?
Николай Николаевич выпил, занюхал черной горбушкой.
— А что, Егор? Нет Егора.
Поэт тоже выпил.
— Чего полез?! Кому хотел доказать, доброволец! Его же должны были комиссовать, глаз–то не было!
Капитан покачал головой.
— Глаз–то именно, что бы. Вот глянь. — Он пододвинул к собутыльнику принесенные листы бумаги. На одном была очень по–детски изображена зебра и под ней крупно было написано — «Конь Матроскин».
— Смешно. — Сказал Перков, жуя огурец. — А это что? Медведь?
— Да, «Мишка кашалапый», потому что лапы у него в каше. А я думал, что у Егора проблемы с дикцией. С дикцией все было нормально, вот по зрению он был, конечно, инвалид, но как–то сумел всех там убедить, и его взяли.
— Очень, значит, хотел.
Перков взял третий лист. Там были изображены — мужчина, женщина и, почему–то, самолет. Сверху надпись: «Проводы камикадзе». Под фигуркой мужчины написано «сын», под фигуркой женщины «мать». Изо рта «матери» выдувается пузырь, внутри него написано: «береги себя, сынок».
Капитан снова разлил самогон. Они выпили. Капитан пустил мелкую, бесшумную слезу.
— Он, может быть, даже был талант. Может даже художник.
— Сын поэта всегда может быть художником.
— Настоящий мужик. Характер, нет то что… — Николай Николаевич имел в виду себя, но договаривать не стал. Перков не смотрел на него, и не старался понять, что он имеет в виду, у него был своя мысль.
— А вот интересно, мне, как отцу военного инвалида, полагаются же какие–то льготы?
— Что?! — Тупо посмотрел на него капитан.
— А то — злая судьбинушка, злющая. И жена, и дочка, и теперь вот сын — за что мне все это?!
Через полчаса, когда была допита вторая бутылка, капитан уснул, а поэт запел, подпирая квадратную голову с зажмуренными глазами.
— Прекрасное дале–еко, не будь ко мне жесто–око, жесто–око не будь!






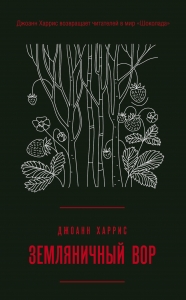
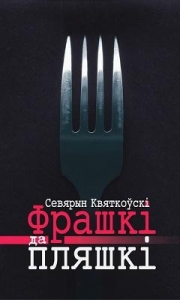

Комментарии к книге «Ларочка», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев