Андрей Матвеев Полуденные песни тритонов книга меморуингов
«Обломками этими я подпер свои руины»
Т. С. Элиот, «Бесплодная земля»
1. Про меморуинги
Меморуинги — это неправильные мемуары, проще же говоря, руины памяти.
Если это кажется очень уж красиво, то можно заменить на разрушающуюся или даже разрушенную память…
Только начинаться на самом деле все должно не так, заготовлена иная фраза, вот она:
Отчего–то я очень боюсь писать эту книгу…
По крайней мере, от первого лица.
На самом деле — если ты что–либо начинаешь говорить о себе от первого лица, то это изначально наводит на мысль, что ты собираешься врать, лгать, обманывать, гнать, что называется, пургу, создавать дурацкие мифы, и все это — о себе самом, хотя кто и когда говорил о себе полную правду? Но если ее не говорить, то какой смысл в том, чтобы врать, лгать, обманывать, гнать, что называется, пургу, создавать дурацкие мифы, тогда это уже просто шизофрения, которая, между прочим, бывает, как я узнал сегодня вечером, и у крыс.
А значит, крысы тоже способны к воспоминаниям.
Воспоминания одинокой крысы.
Крысиные мемуары.
Можно, конечно, перейти сейчас на Мураками с его героем, в контексте именно писательских меморуингов это было бы естественно, тем более, что когда–то давно я предполагал, что если эта книга и должна быть написана, то называться она будет
НАДПИСИ НА КНИГАХ,
ну, вроде бы так положено в писательских мемуарах: и о себе писать, и о книжках всяческих заодно, с положенной долей пафоса и «высоколобой» — кавычки тут носят принципиальный характер — иронии, но это было давно, очень давно, совсем давно, с тех пор я не то, чтобы поумнел, но хоть что–то понял, и прежде всего:
настоящих воспоминаний не существует!
Они просто не могут существовать, сразу же после какого–либо события превращаясь именно что в меморуинги, нечто то ли непотребное, то ли навеянное схожей с крысиной шизофренией, а кроме всего прочего еще и аналогичное temporary files — временным компьютерным файлам, засоряющим жесткий диск подуставшего от времени мозга, в кластерах которого за прожитые почти пятьдесят лет скопилось столько всего, что надо бы просто очистить.
Очистка диска…
Между прочим, я глубоко убежден в том, что подобное желание свойственно любому, перед которым маячит некая то ли магическая, то ли комическая черта, призванная аккуратно поделить жизнь на две неравных части — прожитую и ту, что осталась.
И та, прожитая, выглядит временами очень странно.
Для меня это город, в котором я живу уже столько лет, но город этот полон порою невнятных, а иногда наоборот — чересчур объемных и даже говорящих теней, причем часть из них принадлежит мне самому.
И в этом ничего загадочного, просто сейчас я нахожусь в том странном возрасте, в котором ты принадлежишь сразу нескольким временам.
Одно из них — явно прошедшее
А так как и тел у тебя в этом странном возрасте несколько, то несколько раз в день я умудряюсь столкнуться нос, как говориться, к носу с каким–то из давних моих же воплощений…
Скажем, 1964 года…
Очень смутная, блеклая, размытая тень, даже надетую на меня одежду не могу различить — только пальтишко, да сдвинутая на затылок шапка.
А вот год 1968, чуть почетче, но тоже — вне фокуса, который становится четким уже к началу семидесятых, а к их середине так вообще превращается в навязчивую цветную картинку, в которую вроде бы так просто войти вновь и даже заговорить с тем собой, которого давно уже нет.
Только все равно не получится, потому что очистка temporary files — это, как я уже говорил, не воспоминания.
Вспоминать бессмысленно, и вообще, что с ними — этими воспоминаниями — делать?
«Возможно, это скорее память о том, что у меня были воспоминания, чем сами эти конкретные воспоминания. И это не столько память, сколько паутина ассоциаций. Они туманны, но они — все, что у меня есть. Я иду за ними по следу слов, надеясь оживить их вновь. Роберт Шекли.»
ВСЕ ЭТО ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛИ ВОСПОМИНАНИЯ…
Круто дед загнул, потрясающий старик, таких мастодонтов в мире осталось немного[1]. Когда я прочитал эти слова, еще на английском — письмо из Портленда пришло утром, точнее, в полдень, в 12 часов 12 минут и 47 секунд местного времени, а написано им было в 01 час 07 минут 55 секунд по EDT, Eastern Daylight Time, то есть по восточному дневному (поясному) времени, причем, текст был не в приаттаченном файле, а просто в теле самого письма, то есть, написано оно было всего за два часа пять минут и восемь секунд до момента получения, — то я понял, что это еще одно подтверждение тому, что прошедшее время, в котором мы отчасти продолжаем существовать, есть фикция, которая — и это самое странное — все еще оставляет нас живыми.
«It is perhaps more a memory of having had a memory than a specific memory itself. It is less a memory than a network of associations. They are dim, but they are all I have. I follow them with a trail of words, hoping to make them live again. Robert Sheckley.»
Чтобы совсем уж покончить с прошедшем временем, надо добавить, что именно из–за него мир, в котором ты живешь, похож на шахматную доску с опустевшими клетками. Когда–то давно, когда партия еще только начиналась, все ряды фигур были полны, и черные, и белые. А сейчас на доске зияют дыры, смешное такое наблюдение, вот только с этим ничего нельзя поделать — фигур все меньше, свободных квадратиков больше, у каждой из клеточек есть свое имя, но чем дольше эта клеточка пустует, тем становится все иллюзорней, пока окончательно не превращается во все тот же временный файл, который пора удалять с помощью клавиши delete, чтобы записать на его место файл из другого времени, будущего, вот только ты делаешь все это в каком–то странном и таком же зыбком настоящем, в котором пребывают твои сегодняшние мозг и тело…
Одно твое тело — из прошлого.
Другое — вот оно, живущее сейчас.
И третье, о котором порою не хочется думать, хотя никто не знает, что ты будешь думать о нем, когда будущее превратится в настоящее, а настоящее уподобится меморуингам.
Вот поэтому–то я и боюсь писать эту книгу.
Потому что настоящие меморуинги есть ни что иное, как те куски твоей жизни, которые ты до сих пор проживаешь, но где–то там, глубоко внутри себя.
И если есть смысл хоть о чем–то вспоминать, то только об этом, как бы порою мучительно и неприятно это ни было.
Хотя чего на самом деле во всем этом мучительного и неприятного — пока не знаю.
Действительно, какая–то крысиная шизофрения, попытка собрать давно распавшиеся нити и связать хоть в какое–то подобие пережитого, вот только опираясь совсем на другие события достаточно хорошо известной тебе жизни.
Скажем так: не что происходило с тобой, а что сделало тебя таким.
Ловля воспоминаний по рецепту мистера Шекли.
Берешь ассоциацию и распутываешь сотканные из нее нити.
Ловишь тени, таскающиеся рядом с тобой по твоему же городу.
Заходишь в места, которых давно уже нет.
Любишь женщин, которых годами никто не любит.
Говоришь с друзьями, от которых не осталось и следа.
Перечитываешь книги, которые не открываешь десятилетиями.
Да и сам только начинаешь делать то, что давно уже сделал и даже забыл — как и когда это было.
Я живу непонятно в какой стране…
Город мой для меня не имеет большого значения….
Он лишен даже имени, хотя имя, конечно, есть…
Смысл в ином: я отчетливо помню, как некогда по весне начинали петь свои брачные песни тритоны.
Эти песни не слышны, хотя у тритонов есть рты…
Но я слышу тихие звуки этих полуденных песен…
Тень давнего меня только что проскользнула мимо, я улыбаюсь и думаю — куда это я иду?
Понятия не имею, хотя стоит, наверное, пойти следом, даже не спрашивая — зачем. Просто необходимость, то ли зов, то ли дурацкое любопытство, весь склон холма усеян здоровущими обломками, о которые так просто зашибить ноги: руины чего–то, что некогда здесь было построено. А к холму пришлось идти через болото, и мой давно уже покойный дед все говорил мне: — будь осторожней, — а я, крепко вцепившись в его руку, прыгал с кочки на кочку, чтобы как можно дольше оттянуть тот момент, когда очередная кочка окажется слишком далеко, и я плюхнусь в коричневатую, покрытую колкими пучками осоки воду, и меня начнет затягивать туда, вглубь, в мрачную, торфяную жижу. Отчего–то я уверен, что это будет, но вот еще одна кочка и уже можно выбираться на холм, пологие склоны которого усеяны остатками неведомых строений, дед называл их «Графскими развалинами», хотя никаких графов здесь никогда не было, но развалины есть, вот они, вот куда ускользнула из города очередная моя тень, чтобы оставить меня наедине с тем настоящим, которое есть ни что иное, как фундамент для еще не возведенных зданий, обреченных на то, чтобы со временем превратиться в очередные замшелые руины, иначе же говоря —
МЕМОРУИНГИ!
2. Про Фрэнка Заппу
Причем здесь Фрэнк Заппа — одному богу известно.
Хотя нет, вру, сам я тоже кое–что знаю, например, именно его «Настоящая книжка Фрэнка Заппы», прикупленная мною в большущем книжном магазине одним ненастным октябрьским предвечерьем, когда то ли снег собирался выпасть после дождя, то есть, этаким элегантным «погодным» образом перевести мир из одного состояния в другое, то ли наоборот — снег как раз решил закончиться и на смену ему собирался дождь, но только все это милое метео–безобразие и заставило меня прочитать не очень тощенький томик за один вечер и внезапно прийти к идее всех этих бредовых «воспоминаний», иначе говоря, меморуингов.
Потому что в откровениях Фрэнка Заппы, наговоренных на магнитофон и переведенных затем на бумагу неким Питером Окиогроссо — как же мне нравится эта фамилия! — нет ничего пафосного и изначально рассчитанного на вечность. Вроде бы это даже хохмы. То есть, читаешь, и тебе кажется, что тебе вешают на уши ничего на самом деле не значащую лапшу, но то ли сварена она круто, то ли сорт такой особый, запповый, но с каждой последующей страницей понимаешь, отчего это так на тебя воздействует: просто личная правда покойного ныне музыканта вдруг становится твоей правдой. Не то, чтобы ты в не вживаешься, но каким–то образом ваши жизни начинают взаимодействовать, хотя чего в них на самом деле общего?
ДА НИЧЕГО!
Я и музыку–то его не очень воспринимал, разве что первый «Joe’s Garage», да еще совсем уж давний «Hot rats», услышал который при довольно странных обстоятельствах. Зато мне безумно нравился его внешний вид — патлы до плеч, крючковатый нос и коротюсенькая, нелепо на мой тогдашний взгляд обкозляченная бородка. Так нравился, что в пароксизме юношеского пиитизма, на полном серьезе кропая поэму с многозначительным и предельно оригинальным названием «Волосы», я вставил туда накарябанную неуклюжей ритмизованной прозой главку, начинавшуюся словами:
«Фрэнк Заппа — вождь хиппи, это их негласный президент».
Вспомнил я эту дурость, лишь купив и прочитав «Настоящую книгу Фрэнка Заппы», который к хиппи никакого отношения, в общем–то, не имел. Хотя в голове моей всю жизнь творился полнейший кавардак, так что если я тогда — больше тридцати лет назад, между прочим — и написал такую глупость, то значит, что именно так и считал. Что же касается обстоятельств, при которых я услышал «Hot rats», то они были странными для того меня, сейчас–то я воспринял бы это совершенно иначе. Просто в самом начале моей учебы в университете я попал в довольно забавное окружение, тусовавшееся при студенческом клубе. Я был очень смешным тогда, с романтическими, вьющимися локонами, в толстом, несуразном, темно–серого цвета свитере грубой домашней вязки и в каком–то подобии джинсов, только вот были они явно «неправильными», из мягкой и тоже серовато–блеклой ткани, хотя — скорее всего — на самом деле все это было не так.
НА САМОМ ДЕЛЕ СОВЕРШЕННО ТОЧНО, ЧТО ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК…
И как на самом деле я был одет, спросить сейчас не у кого.
Но окружение действительно было забавным. Во–первых, там ошивалось много девиц, и на всех у меня, как и положено, стояло, но я тогда еще был девственником. Впрочем, все эти девицы казались мне тогда умудренными, обольстительными и порочными, каковыми, несомненно, не являлись. Только вот к Заппе они никакого отношения не имели и не имеют, пластинку «Hot rats» притащил в клуб некий пианист–авангардист, который тогда казался мне беспробудно взрослым. Этих джазменов в университетском клубе тогда паслось если и не с десяток, то не меньше пяти — шести человеков, все они были очень взрослыми и пижонистыми, а тот тип, что приволок альбом Заппы, носил еще и галстуки. Широкие, желтые и с какими–то странными узорами.
Наверное, это были психоделические галстуки.
Между прочим, именно этот тип впервые познакомил меня и с крутой порнографией, но к данному меморуингу это тоже никак не относится.
Так вот, обозначив — бегло, пресловутым пунктиром — мое первое соприкосновение с американским музыкантом, ведущим свой род от «сицилийцев, греков, арабов и французов», я должен правдиво заявить, причем здесь, все же, этот самый Заппа. Биография любого человека состоит из трех частей. Первая: внешняя, то есть событийная. Вторая: внутренняя дефис эмоциональная. И третья часть, временами не менее, если не более важная. То, что ты читаешь (книги), слушаешь (музыка), смотришь (кино, к примеру). У кого–то эта третья часть совсем на обочине, а для меня она, точнее, внутренние события, ее составляющие, столь же важна, как различные мои былые любови, поездки и путешествия, душевные кризисы, etc… И Заппа здесь тоже важен, хотя бы потому, что если поместить его фотографию в какую–нибудь подобающую графическую программу, изменить цвет волос, то есть, превратить из брюнета в блондина, и убрать несуразную бородку, то получится совсем не Фрэнк Винсент Заппа, а американский писатель Ричард Бротиган.
А Бротиган уже напрямую имеет отношение ко всем этим меморуингам, хотя бы потому, что и сейчас я люблю его перечитывать, а писал он так странно и обаятельно, что временами даже хочется если и не взять его прозу за образец, то, по крайней мере, невзначай воспользоваться его замечательной интонацией, что, на самом деле, я сейчас и делаю.
NB:
Заппа умер от рака простаты, а Бротиган разнес себе голову из ружья.
Это для тех, кому хоть что–то еще интересно.
А первый раз с Бротиганом я столкнулся осенью 1976 года, когда ехал в поезде Хабаровск — Биробиджан, билет у меня был до станции Смидович(и), я был в новом исландском свитере, да еще и новых джинсах, купленных матушкой на какой–то дешевой распродаже в Италии и присланных мне почтой уже из Москвы. Штаны, видимо, были «для дам», без задних карманов, но я все равно тащился и от новых штанов, и от нового, до безумия колючего, свитера, сидел на боковом сидении, смотрел, как за окном распадаются на мельчайшие части пейзажи поздней приамурской осени, параллельно листая утащенный перед командировкой — не по своему ведь желанию поехал я в Еврейскую Автономную область, в поселок то ли Смидович, то ли Смидовичи — со стола начальника последний на тот момент, августовский номер журнала «Новый мир».
И начал читать в нем «Круглые сутки нон–стоп» Василия Аксенова.
Прежде всего потому, что это был Аксенов — вроде бы кого тогда в России еще было читать? Ну и следующая причина — потому, что написано про Америку и за Америку, так что это следовало не просто пропустить через себя, а выучить, вызубрить, отложить навсегда в каком–то из кластеров того жесткого диска, что именуется мозгом. И то ли перед переездом через Амур, то ли сразу после, когда поезд, погрохатывая, уже стаскивался с моста, я — по всей видимости — наткнулся на следующий абзац:
«Теперь я читаю по–английски и открыт для влияний и Бротигана, и Воннегута, и Олби, и я, признаюсь, испытываю их влияния почти так же сильно, как влияния сосен, моря, гор, бензина, скорости, городских кварталов. Хочется увидеть писателя, свободного от влияний. Какое, должно быть, счастливое круглое существо!»
Сам я по–английски тогда не читал, но имена Воннегута и Олби знал, да и про писательские влияния уже имел понятия, хотя бы про то, как на этого придурка в джинсах без задних карманов и в толстом, да еще до омерзения колючем исландском свитере умудрялся влиять автор читаемого на тот момент текста, так что незнакомое имя вначале щелкнуло, а потом затаилось невостребованным файлом на долгие–долгие годы.
Пока в 1984 его не обронил при мне в милом и понтовом разговоре Борис Гребенщиков, который в самом начале 1985 года и выдал мне на время бротигановскую «Ловлю форели в Америке», на английском, естественно, языке, и в том же восемьдесят пятом я дал ее почитать Илье Кормильцеву, который внезапно начал ее переводить.
Так что если бы я не поехал в командировку и не прочитал в поезде «Круглые сутки нон–стоп» Аксенова, то не исключено, что переводчиком Кормильцев бы не стал, а я бы не начал писать эти самые меморуинги.
Хотя бы в том виде, в каком я это сейчас делаю.
Вроде бы, непонятно про что…
ТОЛЬКО ВОТ — КОМУ НЕПОНЯТНО?
Если опять вспомнить фразу Шекли, то все абсолютно логично: я просто пытаясь поймать какие–то ассоциации и распутать их, дабы сложить хотя бы отчасти внятную картину уже на сколько–то процентов прожитой жизни.
И боюсь, что побольше, чем наполовину.
А из поселка Смидович(и) я уехал ровно через сутки, отужинав перед поездом в типичном вокзальном ресторане, и даже помню, что было в меню:
ШНИЦЕЛЬ!
Отвратительного, между прочим, вкуса, хотя какими шницелями еще могли кормить на подобных станциях почти тридцать лет назад?
Что же было на гарнир и чем я запивал все это безобразие могу только предположить: на гарнир была пережаренная картошка, а запивал я все это водкой.
Когда Бротиган разнес себе голову из ружья, то перед этим выпил бутыль крепкого калифорнийского вина.
А Заппа практически не пил.
Так что причем тут все это — одному богу известно!
3. Про newts' noon songs — полуденные песни тритонов
Вообще–то из всего этого чуть не состоялся роман, который так и должен был называться:
«Полуденные песни тритонов».
Вначале, правда, было «Послеполуденные…», но потом я решил, что это уж слишком и произвел коротенькую операцию по удалению пяти первых букв в начальном слове.
Роман я лениво придумывал весь томительный август, и даже сообразил первую фразу:
«Лето выдалось полным ос и беременных женщин…», не говоря уже о том, что сразу же после явления первой фразы начал придумывать и сюжет, хотя дальше начала так и не продвинулся, но ведь самое интересное всегда —
с чего все начинается.
«У героя пока нет имени, но я его хорошо представляю. Ему за сорок, даже за сорок пять, одним днем того самого, полного ос и беременных женщин лета, он берет собаку и уходит гулять в расположенный неподалеку лесок — жена на даче, дочь с мужем на отдыхе…
Он приходит в лесок, там еще горка такая, со странной проплешиной, а вокруг сосны. Неподалеку же колготится группа подростков лет 16–17, оттягиваются во всю, он садится на траву, над ним летают соколы… Собака ложится рядом…
Внезапно вдали громыхает, появляются тучи, начинается сухая гроза…
Он решает пойти, подростки уже сбегают вниз, остается один, чего–то замешкался…
Внезапно — молния…
Вслед за ней: шаровая…
И цепляет мужчину за спину.
Тут–то все и начинается — его тело падает, а вот сознание странным образом переходит в этого подростка.
Это начало. Завязка.
Дальше я знаю одно — наверное, было бы страшно любопытно подсмотреть, как в одном человеке уживаются два сознания, 17-ти летнего и 45–46-тилетнего, как второе постепенно проявляется и показывает свой — то ли оскал, то ли ухмылку…
А тритоны — когда он пошел гулять в тот день с собакой, то думал, что в последний раз в жизни видел тритонов очень давно, лет тридцать пять тому назад…
Случилось же все это в полдень…
Вопрос:
СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДРОСТКУ?
14 или 17?
От этого многое зависит…
Например, у мужчины может быть молодая любовница, лет 19-ти, с 17-тилетним у нее возможен параноидальный секс, а вот с 14-ти летним…
В общем, самому мне отчего–то все это очень нравится…»
Когда только придумываешь — это всегда нравится, а потом отчего–то перестает. А тритонов я на самом деле видел так давно, что уже не помню, и всю минувшую весну приставал к самым разным людям с одним вопросом: а вы когда видели живых тритонов? И все отвечали — очень давно.
Может быть, их уже просто больше нет?
Разве что поискать в интернете, там почти все есть.
«Зооклуб.
Главная/Амфибии/Хвостатые/
Тритон гребенчатый (Triturus cristatus)
Самый крупный отечественный тритон. Достигает в длину 15–20 см. Имеет уплощенную широкую голову, массивное туловище. Окраска темная с размытыми темными пятнами. Бока головы и туловища украшены мелкими белыми пятнышками. Населяет лесную зону Центральной и Восточной Европы, Западную Сибирь. Раньше имел четыре подвида, теперь они выделены в самостоятельные близкородственные виды. Образ жизни мало отличается от описанного выше. Это, пожалуй, самый «водный» отечественный тритон, проводящий в воде около четырех месяцев в году. В воде питается крупными водными насекомыми и их личинками, моллюсками, икрой, может поедать и комбикорм. На суше основной корм — дождевые черви, слизни, насекомые. Известны случаи неотении (способность организмов размножаться на ранних стадиях развития). В неволе живут до 27 лет.»
27 лет — это круто! У меня когда–то тоже жили тритоны, но столько у них не получилось.
Я выловил их в лесной канаве еще по весне, и все лето, и осень, и самое начало зимы они чудесно прожили в прямоугольной стеклянной банке, то ли маленьком цельном аквариуме, то ли большой кювете. Из палочек я соорудил для них деревянную платформу, чтобы они могли выползать на нее и дышать — тритоны ведь не все время проводят в воде.
Это их и сгубило.
Одной зимней ночью, когда ветер за окном выл очень уж жутко, они решили, по всей видимости, пуститься в отчаянное путешествие, то ли в поисках Земли Обетованной, то ли каких–то особых райских кущ, выползли на платформу, с нее перемахнули через стеклянный бортик, спустились на подоконник и поползли, оставляя липкий, клейкий след, дальше, к изголовью материнской кровати — в нашей комнате было единственное окно, я спал за перегородкой, квартира была, что называется, «общей», — сверзились ей прямиком на подушку, и мать раздавила их головой…
Я даже припоминаю, как их души взлетали в небо, жалуясь на судьбу минорными, детскими голосами, наверное, с той поры я и убежден, что тритоны умеют петь.
Так они и поют до сих пор в своем тритоньем раю, маленькие, хвостатые херувимы, самец и самочка…
А на скрипке им подыгрывает спившийся музыкант, мой наставник по занятиям энтомологией на биостанции Дворца пионеров. Располагалось это заведение в бывшем особняке Харитоновых/Расторгуевых, как и положено, купцов и золотопромышленников, до сих пор красиво выкрашенный фасад с ампирными колоннами нависает над проезжей частью улицы имени революционера Свердлова. Почти напротив отстроили ныне Храм На Крови, ибо на том самом месте большевики некогда и порешили последнего русского императора с чадами и домочадцами. Что же касается особняка, то примыкающий к нему парк многие годы был свидетелем моих подростковых и юношеских любовей, как–то даже одним морозным вечером, тиская в густых зарослях очередную пассию и пытаясь то ли добраться до хорошо скрытой многочисленными теплыми кофтами груди, то ли вообще уже норовя вставить ей прямо тут, на стылом зимнем ветру, в горячую и хлюпающую от возбуждения кунку, я внезапно увидел промелькнувшую рядом тень: маленький мальчик шел в сторону тускло светящихся окон, где его уже ждал бывший скрипач, пожилой мужчина с гладко выбритым черепом…
Я даже помню, как его звали — Борис Петрович Иевлев.
Как помню и о визитах к нему домой, отчего–то всегда это было зимой, мрачными, черными, плохо освещенными вечерами.
Странная, плюшевая комната была заставлена стеллажами, на которых в продолговатых, толстеньких, застекленных коробках хранились наколотыми на булавки жуки и бабочки, почему–то меня тогда больше интересовали жуки, говоря конкретнее, жуки–скакуны из подотряда плотоядных.
Сicindelidae.
Жук–скакун: хищное, стройное насекомое с длинными ногами, большими глазами и сильной челюстью.
Я их тоже очень давно не видел, наверное, так же давно, как и тритонов.
По всей видимости, они проживают в соседнем раю. Не таком мокром, но по–своему приятном.
И в нем они тоже поют, только голоса у них скрипучие.
От них по коже пробегают мурашки, как от тех давних, зимних хождений к Б. П., точнее — от возвращений к себе домой, через весь этот гребаный город, пробираясь между сугробов, под раскинувшимся на треть неба ослепительным ромбом Ориона с ярчайшей точкой красного гиганта Бетельгейзе и желтоватой, полной и наглой луной.
В кармане зимнего пальто у меня должны лежать то ли большие плоскогубцы, то ли тяжелые гвоздодерные щипцы — это от маньяков. Я всегда их ношу в кармане, на всякий случай. Хотя ни одного маньяка никогда еще не видел, зато говорят мне о них все постоянно — и бабушка, и дед, и даже мать. Так что они должны быть где–то тут, рядом, шарахаются за сугробами, клацая такими же сильными челюстями, как и у плотоядных жуков–скакунов.
На подходе к дому меня уже просто трясет, я не выдерживаю и бегу, сворачивая во двор, вроде бы как чьи–то шаги отдаленно хрустят по снегу, но я уже в подъезде, маньяки так и не догнали меня. Открываю дверь длинным, тяжелым ключом, врываюсь в прихожую и облегченно выгружаю из кармана то ли плоскогубцы, то ли щипцы–гвоздодеры, которые так и не пригодились мне и на этот раз.
А интересно, как бы я отбивался этой штуковиной, если бы на меня напали всерьез?
Понятия не имею, да это и хорошо.
Тритоны плавают в своем уютном плоском аквариуме, самец подгребает к платформе, заползает на нее и пристально смотрит на меня странными, желтоватыми бусинками глаз.
Я вспоминаю, что надо бы их покормить, корм — маленькие красненькие червячки, именуемые малинкой, — хранятся в специальной баночке.
Сейчас, когда они уже столько лет находятся в своем восхитительном раю, еда им, наверное, не нужна.
И они беспрестанно поют, а пожилой мужчина с лысым черепом все подыгрывает и подыгрывает им на потемневшей безродной скрипке, порою отводя смычок и размышляя, не стоит ли ближе к вечеру прогуляться до соседнего рая, полного таких красивых и лоснящихся от хитинового счастья жуков–скакунов.
Но это ближе к вечеру, а сейчас ведь еще только пробило полдень — время, когда начинают петь тритоны.
The newts' noon songs….
4. Про «частное лицо»
Так получается, что в основном мы раскрываем душу компьютеру. Мысль не моя, одной хорошей знакомой. Но я с ней абсолютно согласен. Особенно сейчас, когда вплотную занялся меморуингами.
Хотя раскрывать душу компьютеру то же самое, что заниматься онанизмом. Если, конечно, тебе не десять/двенадцать/четырнадцать, даже шестнадцать лет. Онанировать в упомянутом возрасте не только естественно, но и логично — ведь женщины, в которую можно кончить всегда, когда хочется, рядом еще нет.
Потом же ты онанируешь лишь тогда, когда тебе хочется, но некуда.
Сам я в последний раз занимался рукоблудием в мае девяносто первого, с тех пор то ли меньше хочется, то ли просто — хватает.
Почему я так хорошо все это помню? По многим причинам.
Попробую реконструировать руины.
Прежде всего, раз я это делал, то это было не дома — дома есть жена.
А где я был тогда?
В Москве.
А что я там делал?
Зачем–то потащился знакомиться с двумя господами, одного называют АГЕНИС, другого ПВАЙЛЬ.
Александр Генис и Петр Вайль, меня обещали свести с ними через редакцию «Нового мира». Между прочим, тогда они еще были «дружбанами» и везде ходили вместе. И когда меня с ними познакомили, то они тоже были вместе. А мой приятель, представляя меня, сказал: ну а это такой–то… Он написал один хороший роман… «Частное лицо»…
Я действительно написал такой роман, но деле тут не в нем, а в самой формуле «частного лица».
Что же касается АГЕНИСА и ПВАЙЛЯ, то больше мы не виделись, хотя — когда упомянутый роман вышел в журнале «Урал» осенью того же года, я передал им его с оказией — какая–то знакомая (между прочим, приемная дочь нашего великого актера Е. Лебедева) одной моей знакомой уезжала на ПМЖ в Штаты, в Нью — Йорк, и прихватила журнальчик.
Вроде бы даже передала.
После чего минули какие–то странные годы, господа перестали дружить и писать вместе, но до сих пор сторонним образом касаются моей жизни — один, который АГЕНИС, общается в моим другом, живущим ныне в Москве, тот его издает и мне про него рассказывает.
А другой, ПВАЙЛЬ, общается с хорошей знакомой моей семьи, живущей ныне тоже в Москве, и даже передает мне приветы — в последний раз она позвонила по мобильному в перерыве какого–то концерта и передала «привет от Пети», который сам в это время отлучился — в туалет.
Я был отчего–то рад привету, может, тогда и вспомнил, как мы курили вместе в каком–то допотопном московском дворике, и я что–то рассказывал про свой роман «Частное лицо».
Или не рассказывал…
Какая сейчас уже разница.
Ведь дело, повторю, не в названии, а в формуле, да еще в том, что всю свою жизнь я хотел быть именно частным лицом.
То есть, private person, человеком просто, никоим образом не завязанном на этом долбанном обществе.
Даже с козлячьим коммунизмом мой антагонизм был не столько политическим, сколько этическим и эстетическим.
ОНИ ВСЕ ПОСТОЯННО КО МНЕ ЛЕЗЛИ, КОЗЛЫ!
Наверное, еще с детского садика.
Доставали, как могли!
А потом школа, на меня напялили серую форму, сначала это вообще была гимнастерка с ремнем.
Потом, правда, гимнастерку сменили на пиджак
Но легче не стало, они все равно пытались меня достать, уроды!
А мне всегда хотелось одного:
ЧТОБЫ МЕНЯ ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ!
Не приставали, не дрючили, не промывали мне мозги.
Не говорили, что надо быть, как все.
Я не понимал этого: как так, быть, как все? Все — это все, я — это я, сейчас все это кажется смешным, но тогда мне было не весело.
Сейчас, впрочем, тоже не весело, но хотя бы можно все свалить на матрицу.
Между прочим, на днях она мне звонила. Ночью. Я уже лег спать, все в доме — тоже, даже египетский кот по имени Усама бен Ладен. Кот обычно засыпает позже всех, потому что ночью он пытается достать собаку породы далматин по имени сэр Мартин. Днем достать пса невозможно — тот намного больше и сильнее. Зато ночью это реально, надо выждать момент, когда пес уже спит, подкрасться к креслу и дать ему лапой в нос — все, как и положено настоящему террористу. Мартин тупо просыпается, мотает головой, пытается заснуть снова. Усама тихо пересиживает этот момент где–нибудь под диваном, а потом рискует повторить, как правило, это заканчивается для него плохо, но все равно лучше, чем днем.
Так вот, даже кот уже уснул, и тут раздался звонок.
Я взял трубку и услышал, что в ней играет музыка.
— Алло! — сказал я.
Мне никто не ответил, тогда я положил ее на аппарат и пошел смотреть почту.
У меня сильная интернетозависимость, я постоянно смотрю почту — вдруг кто–нибудь что–нибудь напишет.
Иногда пишут, но тогда была лишь реклама.
Спам с дурацкой темой: «Встречайте матрицу»!
Я удалил его, не читая, вышел из сети и услышал очередной телефонный звонок.
В трубке опять играла та же музыка. Я в сердцах выдернул шнур из розетки, но сразу же вспомнил, что там временами отходит какой–то контакт и тогда линия просто перестает работать. А я этого не могу перенести — во–первых, у меня интернетозависимость, а во–вторых, кто–нибудь может позвонить.
Не ночью, конечно, днем.
А если линия не работает, то он и не дозвонится, а вдруг мне должны сообщить что–то очень важное, пусть даже я и не знаю, что?
Я начал пытаться подсоединить шнур, но телефон все не работал.
Из своей комнаты вышел старший сын, он переводчик, часто засиживается за работой до глубокой ночи.
— Это что у тебя за звуки? — спросил он.
— Телефон, — ответил я, — он опять не работает!
Денис начал сам подсоединять шнур к розетке.
Проснулся Усама и решил дать Мартину по носу.
Жена с дочерью так и не проснулись, даже когда телефон вновь заработал и нам СНОВА КТО-ТО ПОЗВОНИЛ.
И ОПЯТЬ ТАМ ИГРАЛА МУЗЫКА!
— Алло! — чуть ли не проорал в трубку Денис. — Вам что надо?
Музыка все продолжала играть, конца ей не предвиделось.
— Это — матрица! — уважительно сказал я.
Наверное, мне надо было взять трубку самому и пропеть что–нибудь в ответ. И тогда мне бы удалось войти в нее, хотя — зачем?
Это бы помешало мне оставаться частным лицом, всю жизнь мне кто–нибудь пытается помешать оставаться частным лицом, всем от меня чего–нибудь надо.
Матрице вот — тоже.
ИДИОТЫ!
Хотя на самом деле не исключено, что я просто болен социопатией, это такая хрень, когда у тебя проблемы с обществом. От этого ты плохо адаптируешься и социально мало активен.
Например, не ходишь на выборы.
Я НЕ ХОЖУ НА ВЫБОРЫ!
И выбираешь себе странную работу.
У МЕНЯ ОЧЕНЬ СТРАННАЯ РАБОТА!
Я пишу книги.
Эта вот — то ли десятая, то ли одиннадцатая, а может, что и двенадцатая.
Для такой работы моя социопатия не помеха, даже наоборот. Причем, я всегда знал, что буду этим заниматься, ведь чем еще заниматься частному лицу, как не писать книги? То есть, даже не быть писателем, а быть человеком, который пишет книги. Писатель — это профессия, а для меня это образ жизни, хотя у меня есть членский билет Союза каких–то писателей. По–моему, российских. Он красный и на нем еще написано
СССР,
хотя никакого СэСэСэРэ давно уже нет.
В жопе!
И слава Богу!
Самое смешное, что онанировал я последний раз еще в СССР, потому что в мае 1991 году, пусть и был уже много лет, как частным лицом, все равно проживал в той странной стране. Сегодняшняя все равно получше, хотя и в ней дерьма предостаточно, но достают меня меньше. Могут и вообще не доставать, самому приходится — иначе жрать будет нечего. Есть, кушать, вкушать, питаться. Кормить детей и зверей. Но не достают, я ведь писатель, а не олигарх, это матрице по барабану, кто ты, все равно звонит, но тут главное — не запеть ей в ответ!
Что же касается того давнего эпизода последнего моего самоудовлетворения, то особо распространяться о нем я не считаю нужным, пусть это будет одним забытым эпизодом из жизни одного частного лица.
Разве что надо сказать, где это могло быть.
Наверное, в квартире моего покойного отчима на Речном вокзале.
Дом почти рядом со станцией метро.
Отчим умер в конце октября 2002 года.
Моя мать развелась с ним еще в 1970.
Иногда мне кажется, что той весной мы встречались с ним в последний раз.
Я его очень любил, меня даже не смущало, что он был гомосексуалистом.
Точнее, бисексуалом.
Ну, был бисексуалом, и что из того?
Но на похороны я не поехал, хотя повторю: я его очень любил.
Совсем не обязательно хоронить тех, кого ты любишь.
Входить в квартиру, где уже никто не живет.
Смотреть на телефон, по которому с тобой разговаривали, пусть и не вчера, но еще так недавно.
Телефоны вообще надо менять почаще, хотя по старому мне матрица не звонила. Отчим — да, поздравлял меня с днем рождения, больше я его и не слышал. Когда же стал звонить сам, чтобы поздравить его самого, то никто не брал трубку — как раз в эти дни он лежал в реанимации.
Ну и так далее, и тому подобное, в общем:
ЖИЗНЬ — ЭТО НЕ САМАЯ ВЕСЕЛАЯ ШТУКА…
Поэтому и приходиться так часто раскрывать душу компьютеру, что действительно сродни онанизму, зато никто в этом мире больше не мешает мне чувствовать себя частным лицом.
МОЖЕТ, ОНИ ЗАБЫЛИ МЕНЯ НАВСЕГДА?
Вот только боюсь, что нет…
5. Про пустыни
Про пустыни потому, что именно там я впервые ощутил себя по–настоящему частным лицом, более того — неповторимой человеческой индивидуальностью.
Тогда мне было всего двенадцать лет.
Иногда мне кажется, что это было последнее, полностью счастливое лето в моей жизни.
Наполненное пасторальной гармонией и предощущением фантастического будущего.
Ведь тогда никто не говорил внутри меня металлическим голосом:
«ОНИ ВСЕ БОЛЬНЫЕ… ВСЕ БОЛЬНЫЕ… ВСЕ БОЛЬНЫЕ!»
Кто такие эти «все» — давно ясно, если и не весь мир, то его большая часть. Сам я к ней тоже отношусь, что вполне естественно, ведь если бы я не был больным, то не писал бы книги и не любил бы пустыни, будучи рожденным совсем в ином пейзаже, где невысокие, складчатые горы, поросшие хвойными — ели и сосны — лесами, перемежаются с невнятно текущими реками, да еще проплешинами больших и малых озер, с которыми мы друг другу всегда были чужими.
Хотя когда–то они мне, вроде бы, даже нравились, как и складчатые горы, как и леса.
Пока я не увидел пустыню.
Ведь это только кажется, что песок всегда одного цвета — желтого. На самом деле, чисто желтого цвета он бывает редко, разве что в самый рассвет, когда солнце проявляет свой край над горизонтом, а духи тьмы исчезают до следующей ночи. Какого цвета песок ночью? Смешной вопрос, ночью все одного цвета — черного, временами черно–серебристого — это когда Небесная река видна во всей красе и ее отсвет ложится на молчаливую землю пустыни. Да, бывает еще черно–золотистый цвет песка, это когда луна. Луна — золото, ночь — черна, черно–золотистый цвет песка, любимое сочетание цветов.
Чуть измененная фраза рассказа, написанного несколько лет назад.
Еще до миллениума, зимой, в мороз, то ли в январе, то ли в самом начале февраля, но скорее всего, что именно в январе.
А впервые пустыню я увидел летом, в конце июня. Если уж быть по–школьному точным, то это была полупустыня: Южные Кызылкумы, куда меня направил на ловлю жуков и прочих представителей энтомофауны все тот же странный бывший скрипач. Бредовая такая история — целая куча разновозрастных подростков едет куда–то в Южный Казахстан для отстрела эндемичных и реликтовых птиц, чтобы потом гордо отправить их в некую университетскую коллекцию для пополнения обменного фонда.
Они должны были стрелять птиц!
А я — ловить жуков, пауков и прочее подобное.
По дороге туда, уже после пересадки в Оренбурге с одного поезда на другой, из–за меня остановили состав.
Мы переезжали какой–то мост, он показался мне очень красивым. И я решил его сфотографировать. Аппарат был старенький, то ли «Фэд», то ли «Зоркий» с выдвижным объективом. Мы стояли в тамбуре, двери были открыты, за ними шелестела ковыльная степь.
Или не ковыльная?
Отчего–то мне помнятся редкие двугорбые верблюды и степь, такое вот воспоминание о воспоминании, а затем степь исчезает и возникает мост: большой, ажурный, я достал аппарат и щелкнул.
Стоящий в будке солдатик с автоматом погрозил мне кулаком.
На следующем за мостом перегоне состав начал тормозить, а потом остановился.
В вагон вошло несколько человек в форме, старший начал о чем–то говорить с проводником.
То ли так оно и было, то ли мне просто что–то помнится.
В конце концов, указали на меня.
Мне было всего двенадцать лет и мне захотелось плакать. Я ведь ничего не делал, я просто решил оставить себе на память эту большую реку и этот красивый мост, я не шпион и не вражеский разведчик, откуда мне было знать, что мост — возможная стратегическая цель, и что солдатик с автоматом сразу же передал по инстанции о том, что кто–то из тамбура поезда Оренбург — Алма — Ата сфотографировал вверенный ему для охраны объект.
— Больше не будешь? — сурово спросил военный, тщательно засвечивая пленку.
— Не будет! — ответили ему за меня.
— Так что, не будешь? — будто не слыша, продолжал допытываться он.
Я помотал головой.
Не буду.
Никогда не буду снимать мосты. И аэродромы. И портовые причалы. И не буду продавать эти фотографии в ЦРУ. Или в Ми‑5. Или… Куда еще? Да никуда не буду, оставьте только меня в покое!
Мне вернули аппарат, поезд тронулся дальше и скоро показались совсем уже желтые пески, заросшие какими–то мутноватыми колючками, а потом к желтому цвету добавился голубой — Аральского моря.
Говорят, что оно уже то ли совсем, то ли почти совсем высохло, но я не верю. Я помню, что там было много воды и что на одной из станций на перроне стояли женщины. Много женщин с очень загорелыми лицами и в темных головных платках. Каждая из них держала в руке по большой копченой рыбине — лещу, судаку, сазану, etc. На обратном пути я купил парочку — деду в подарок.
До места мы добрались поздно ночью, выгрузились из вагона и я впервые увидел, сколько на небе звезд.
Станция, между прочим, называлась Новый Казалинск, а утром мы перебрались в Казалинск Старый — за сколько–то километров, на раздолбанном, подпрыгивающем автобусе.
И через два дня поехали в пустыню.
Полупустыню, если быть по–школьному точным.
По ней протекала река, узкая, глубокая, и прозрачная.
С непонятным названием — Сагыр.
С одного берега на другой была устроена паромная переправа.
А сама река была полна рыбы.
Если смотреть в воду сверху, то все это напоминало какое–то странное желе — слой воды, слой рыбы, слой воды, слой рыбы.
Но самым странным было то, что вокруг простирались пески. И в них никакой воды уже не было, лишь километрах в двадцати катила свои воды Сыр — Дарья, про которую сейчас тоже говорят в прошедшем времени:
БЫЛА ТАКАЯ РЕКА…
Между прочим, тогда я ее переплыл, течением меня снесло чуть ли не на километр, но мне было весело. Мне тогда очень часто бывало весело, сейчас иное дело, но речь не о сейчас, а о том времени, когда я полюбил пустыню, хотя отчего–то пишу не столько о песке, сколько о воде, но ведь именно соединение воды с песком и дает то ощущение абсолютной свободы, с которым может посоперничать разве что свобода внутренняя, если, конечно, она есть.
А впервые ощущение такой вот свободы я тоже пережил именно в пограничье с Южными Кызылкумами, у берегов речки с названием Сагыр, ночью, лежа на кошме, — такая подстилка из овечьей шерсти, на которую ни змеи, ни прочие ядозубые твари не заползают — накрывшись, как одеялом, спальным мешком и пялясь в небо.
Оно было не просто в звездах. Это было именно что звездное небо, и поперек, рассекая его на две неравных половины, пролегал Млечный путь.
Небесная река медленно текла по звездному небу, а я лежал на спине и думал, что когда вырасту, то напишу книгу «Звезды нашей галактики».
НО ТО, ЧТО Я СЕЙЧАС ПИШУ, НАЗЫВАЕТСЯ «ПОЛУДЕННЫЕ ПЕСНИ ТРИТОНОВ».
THE NEWT’S NOON SONGS…
А вот про звезды нашей галактики я так и не написал, значит, напишет кто–нибудь другой.
Ведь если книга должна быть написана, то она появится, будьте уверены!
Утром же, когда над еще не нагревшимися песками и близко подступающими к нашему лагерю глиняными такырами, вставало большое, отчего–то розоватое солнце, к кошме подползали тарантулы.
Иногда кажется, что один из них меня все же укусил.
Или вспоминается, что произошло нечто подобное, пусть даже как–то странно: паук забрался под свитер, пробежал по руке и присел над веной.
Выпустил из брюшка тонюсенькую стальную иголку и на мгновенье погрузил ее в меня.
Все равно что–то подобное было, иначе почему моя жизнь сложилась именно так?
Укушенный пауком.
Пауком уколотый.
Правильный ответ пометьте галочкой.
Или крестиком.
Или просто толстой, жирной точкой.
«ТАРАНТУЛ:
Обитает в предгорьях Памиро — Алтая, Тянь — Шаня, Кавказа, в горах Крыма. Живет в глубоких вертикальных норках, выстланных паутиной. Охотится по ночам у входа в нору, а днем подкарауливает добычу в норе. Состав яда тарантула плохо изучен, но системные проявления как правило крайне редки, преобладают местные проявления: сильная болезненность, покраснение, отечность до 2 см и более в диаметре. В тяжелых случаях наблюдаются мелкие пузырьковые высыпания, побледнение в центре укуса, головная боль, повышение температуры, онемение конечности, слабость, но некроза как правило никогда не наблюдается.
(С интернет–ресурса )».
Особенно радует, что некроза не наблюдается!
Между прочим, недавно
«группа американских исследователей пришла к выводу, что особое химическое соединение, содержащееся в яде тарантула, может способствовать предотвращению некоторых сердечных расстройств, являющихся причиной инсульта».
А это значит, что если меня тогда все же укусил тарантул, то навряд ли мне уготовано пасть жертвой внезапного удара и дожить до того сладкого момента, когда жена или прочие члены семьи начнут возить мое бренное тело по квартире в кресле–каталке с блестящими, никелированными спицами и толстыми, тугими колесами.
I ME MINE
Я МНЕ МОЕ
Песня Джорджа Харрисона…
По утрам они будут подвозить кресло к широко распахнутому в мир окну, а я, в знак благодарности, буду что–то мучительно промыкивать, видимо, пытаясь сообщить ближним, как много лет назад мы с пацанами на берегу некогда приснившейся мне реки, обложенной песчаными берегами, ловили тарантулов, запускали их в пустую консервную банку и стравливали между собой, держа пари, чей паук победит и будет вновь выпущен на волю, в благословленный мир пустынных призраков.
6. Про Джеймса Бонда, «Playboy» и жевательную резинку
Как известно, от перемены мест слагаемых…
А значит, что дракон по имени «Жевательная резинка», прилетевший из Швейцарии, выходит на первое место.
И становится чемпионом этого меморуинга.
Вместо тела — желтая картонная коробочка с затянутым целлофаном маленьким окошком. Через него видно, как там благоденствуют разноцветные маленькие подушечки. И каждая из них — с привкусом райской амброзии, волшебная дверь, ведущая в Элизиум.
Дракон прилетел в багаже маминой подруги, рейсом Женева — Москва, тогда подобное было нереальным.
Наверное, потому он и прилетел…
Драконы всегда делают только то, что малореально.
Или вообще нереально.
Дракон «Жевательная резинка» был торжественно вручен мне каким–то абсолютно забытым днем. Скорее всего, что была зима, или тот период весны, когда он еще по календарю, а не на улице.
ВРЕМЕНАМИ МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТОГДА ПОСТОЯННО БЫЛА ЗИМА!
ПОЧЕМУ ТАК — НЕ ЗНАЮ,
да и не интересно мне это знать, намного забавнее представить, что я почувствовал, когда взял в руки эту коробочку.
Состояние восторга, как в рассказе Брэдбери «Костюм цвета сливочного мороженого», хотя какой там сюжет — не помню…
Зато помню состояние.
Когда все в тебе переливается и надувается огромный пузырь счастья.
И даже не лопается.
Хотя в упаковке было всего двадцать подушечек, да и одноклассники тоже хотели пожевать.
И с некоторыми я поделился, но только с очень избранными, то ли с двумя, то ли с тремя, а потом дракон вздохнул и исчез.
Проще говоря — сдох. На время. До моего — нашего с матушкой — переезда во Владивосток. Куда она вышла замуж. За отчима. Того, который много лет спустя скончался в Москве, а я так и не поехал на его похороны.
Но до этого еще очень много лет, тридцать пять.
А тогда я внезапно оказался в городе, который изменит всю мою жизнь.
Я приехал туда одним, а через два года возвращался в Свердловск другим.
В мерзкий город Сврдл, будущий Бург из моего романа «Indileto». Да и просто Город из других моих романов…
Разве что в «Любви для начинающих пользователей» он иной, просто придуманный, а может, что и привидевшийся одним противным майским утром, когда за окном лил дождь, дочь была со школьным театром во Франции, батареи уже не работали, а нам с женой не хотелось вылезать из–под одеяла, потому что было
ДО ОМЕРЗЕНИЯ ХОЛОДНО.
Тогда мне и привиделся город, изнывающий от жары, а недели две спустя я понял, кто в нем будет жить и что делать…
Но я бы никогда не смог этого придумать, если бы когда–то не прожил два года в портовом городе на берегу Японского моря.
И не только потому, что Владивосток оказался Обетованной Землей Жвачки, хотя бы потому, что драконы летали по нашему классу, не переставая. Главное, чтобы хоть кто–то в семье ходил в море, или у кого–то были знакомые, которые ходили в море, или, на крайний случай, работали в порту, а такие были у всех, даже мой отчим работал на каком–то «морском» заводе инженером по технике безопасности — до этого он был журналистом, потом отсидел за гомосексуализм, потом не знаю, что, а вот когда мы встретились, то он работал на упомянутом заводе и еще не знал, что через два года уедет в Москву, защит диссертацию по театральному критику Кугелю и останется в столице до конца жизни.
А может, и знал, но мне не говорил.
Во Владивостоке ни мать, ни отчим мне вообще ничего такого не говорили, поэтому я и стал там самим собой.
А не только из–за того, что там было много драконов с именем «Жевательная резинка».
ТАМ ВООБЩЕ БЫЛО МНОГО ЧЕГО…
Например, по улицам ходили цветные люди.
Это значит — ярко, разноцветно одетые.
Откуда я приехал все были или черные, или серые.
А здесь — в цвета радуги.
На них было приятно смотреть и хотелось быть похожим.
Иметь куртку в широкую полоску, одна — красная, другая — синяя, третья — предположим, зеленая.
Я ведь не помню, как это выглядело на самом деле, наверное, у меня просто временной дальтонизм.
Хотя когда у меня появилась настоящая японская куртка, то она была темно–болотного цвета.
Я ей очень гордился. Мне казалось, что в такой должен был ходить сам Джеймс Бонд!
Я ведь не видел ни одного фильма, зато:
МНЕ РАССКАЗЫВАЛИ ПРО НИХ ТЕ, КТО ВИДЕЛ,
например, одноклассник отчима, который тоже ходил в море — метеорологом на научном судне.
Когда мы познакомились, он как раз вернулся из рейса, где то ли в Сингапуре, то ли в Йокагаме, а может, еще каком восточном портовом городе, смотрел «Жизнь дается дважды».
«YOU ONLY LIVE TWICE», естественно, что с Шоном О’Коннери.
Этот одноклассник отчима вообще сыграл в моей жизни немаловажную роль, выступив своеобразном проводником в несуществующий вообще–то мир.
Тогда не существующий.
Мир за той стороной занавеса.
Я шел по вечерним улицам закрытого портового города и мечтал, что залезу в трюм какого–нибудь парохода и уплыву куда–нибудь за много–много миль.
Несмотря на пограничников, таможенников и агентов спецслужб.
В своей дурацкой куртке, которую Бонд бы никогда не надел.
Но я ведь не знал об этом и вообще плохо представлял, как он выглядит — этот самый Шон О’Коннери.
Зато мне недавно рассказали про это кино, как оно начинается, кто там кого убивает и как.
На удивление, я даже что–то запомнил — когда много лет спустя случайно увидел именно эту серию по НТВ, то сразу признал.
Сначала мы жили в районе порта, потом перебрались к университету, почти в самый центр.
Жить у порта была прикольней — там и ночью что–то грузили, горели прожектора, суда давали отвальные гудки.
Зато в доме возле университета у нас была большая квартира, точнее, две больших комнаты в общей квартире.
И одна из них была моей,
ПЕРВАЯ В ЖИЗНИ СВОЯ КОМНАТА!
В ней можно было закрыться и слушать BEATLES, только проигрыватель стоял в комнате отчима и матери, так что BEATLES я слушал там.
Это все тот одноклассник, ходивший в море — Джеймс Бонд, Beatles, журнал «Playboy» с сисястой блондинкой на обложке.
Случайный номер, принесенный явно не для меня.
Очередной артефакт, вытащенный из небытия.
Инобытия.
Где все ходят в цветных куртках и где, скорее всего, другой воздух.
Не такой удушливый, хотя и во Владивостоке воздух заметно отличался от свердловского.
В нем уже проскальзывала свобода, может, из–за того, что рядом было море.
Если забраться в трюм, то можно свалить к конкретной матери,
MOTHERFUCKER, YO-YO,
и никто тебя не найдет, если, конечно, ты незаметно просидишь так несколько долгих недель. Или даже месяцев. Без жратвы и питья. Поэтому я и не свалил, скорее всего, именно поэтому, хотя думал тогда об этом постоянно.
Сейчас уже не думаю, motherfucker, yo–yo…
Хотя может, это стоило бы сделать.
И добраться так до Йокагамы или Ванкувера.
Сиднея или Сан — Франциско.
Может, тогда жизнь началась бы раньше, на два десятка лет.
Мне очень часто кажется, что они меня обокрали, и именно на эти два десятка лет.
И что если бы я тогда не уехал во Владивосток, то так бы и не проснулся и ничего этого не знал.
Не понимал, не видел, не чувствовал.
Был слепым.
«Мальчик–зима», песня группы Nautilus Pompilius.
В свой последний приезд во Владивосток я тоже там был с рокерами, с мало кому еще на тот момент известной группой Чайф. Город показался мне не просто убогим, а изнахраченным, покрытым плесенью и паутиной, доживающим свои последние то ли годы, то ли уже месяцы.
И шел дождь, постоянно шел дождь.
Первые дни море было бурным, но стояло уже начало июня, скоро распогодилось, временами появлялось солнце и становилось тепло.
Хотя вода все равно была холодной и мы не купались.
Я прошел мимо своей школы, мимо дома, где некогда жил мой самый лучший друг, потом мимо другого дома, где жил когда–то я сам.
Все это было мертвым, оставшимся в другом, исчезнувшем мире.
Уже распавшимся на части и превратившимся в прах.
Точно так же в свое время исчезли и драконы.
Ведь в любой лавчонке можно купить себе жвачку, я много курю, поэтому постоянно жую отбивающий табачный привкус «Орбит Эвкалипт».
Далее следуют три последние фразы:
Дракон оказался повержен… Остались лишь потерявшие волшебство, почему–то ослепительно–белые зубы. В расфасовке по 10 штук, средняя цена — 8 рублей за упаковку…
7. Про моря
Где–то пару лет назад я вдруг понял, что всю жизнь совершенно неосознанно коллекционировал моря.
Как другие — бабочек, пустые бутылки, солдатиков или женские трусики.
Бабочек я тоже какое–то время собирал, пока мне в руки не попался один из романов Набокова, и я понял, что собирать бабочек после него писателю нельзя.
Некомильфотно это, хотя можно сказать и по–другому:
ЗАПАДЛО!
Но когда мне в руки попался тот, первый в моей жизни, роман Набокова, то собирание морей шло уже полным ходом.
Сейчас я понимаю, что занятие это абсолютно метафизическое, даже если морскую воду набрать в заранее припасенную бутылку и потом хорошенечко запечатать пробкой, то это будет всего лишь украшение интерьера стеклотарой со странным содержанием внутри, а никак не гордое обладание несметными богатствами, которые любой, уважающий себя коллекционер время от времени стремится продемонстрировать окружающим.
Если ты собираешь моря, то их нельзя демонстрировать.
Они не для этого.
Их можно любить, их стоит бояться, о них положено думать и вспоминать.
А еще на них предпочтительно жить — где–нибудь в маленьком прибрежном городке или в городе большом и портовом.
НАПРИМЕР — В БАРСЕЛОНЕ.
Сейчас в моей коллекции 10 морей.
Круглая цифра.
Начну с первого.
Черное море.
Говорят, что я впервые побывал на нем в три года — с дедушкой и бабушкой, в Евпатории.
Но только я об этом ничего не помню.
Зато помню свой второй визит на это самое Черное море — уже в десять лет, с матушкой. Под Карадаг, в район Планерского. Место, где мы остановились, называлось «Крымское приморье», надо было сбегать под гору, мимо затрапезных местных виноградников. И вскоре начинался пляж.
ПЕСЧАНЫЙ, КАК И ПОЛОЖЕНО.
На этом пляже я и научился плавать.
Если считать по числу посещений, то Черное море — самый частый экземпляр в моей коллекции. Я ездил на него с матушкой, со второй женой, с третьей женой, с Натальей, моей последней женой. На Восточный берег Крыма, на Южный его берег и даже на детский курорт Анапу, известный древним грекам как затрапезное поселение Горгиппия, может, это и была та «глухая провинция у моря», о которой писал Бродский, хорошо понимавший метафизическую суть как морей, так и империй.
НА ЧЕРНОМ МОРЕ Я ЛОВИЛ КРАБОВ.
Я ПИСАЛ О НЕМ В ТРЕХ СВОИХ РОМАНАХ.
БОЛЬШЕ Я НА НЕГО НЕ ЕЗЖУ!
Следующее море было Аральским — странный экземпляр в коллекции, о котором могу сказать лишь одно: когда–то я его видел.
Аральское море — № 2.
Даже вспомнить по большому счету нечего.
А потом уже коллекционирование началось всерьез. Два года почти каждый день на берегу Амурского залива, да еще заливы Уссурийский и Посьет — и все это Японское море, Тихий океан, приливы, отливы, шторм, штиль, муссоны, медузы, осьминоги, раковины морских гребешков, толстые тушки трепангов, восходы на море, закаты на море, одинокий маяк на мысе Эгершельд.
30 сентября 1967 года было воскресенье.
Наверное, воскресенье, потому что матушка с отчимом собрались на море и взяли меня с собой.
Было еще тепло и я купался.
И был отлив.
Я бродил по обнажившимся камням, покрытым скользкими, бурыми водорослями, стараясь не наступить на острые и ломкие иглы черных и серых морских ежей, разглядывал маленьких синих и больших, бело–черных, звезд, а еще собирал раковины. Тогда я не знал, что любая раковина — это зримая метафора женского межножья, кунки, дырки, вагины, пизды. Много лет спустя, получив по email’у оформление своего романа «Ремонт человеков», я был безумно рад тому, что художник и издатель нагло поместили на лицевую сторону переплета изображение перевернутой раковины — с глубокой, манящей и такой зубастой женской щелью. Естественно, это была не та раковина, что я достал из воды Японского моря 30 сентября 1967 года возле мыса Эгершельд, выскреб уже дома все ее содержимое и потом сколько–то десятилетий она кочевала с одной полки на другую, пока не исчезла совсем в том странном мире, куда отправляются вслед за воспоминаниями и их запыленные свидетели, хотя не исключено, что она еще найдется, потому что на самом деле
НИЧЕГО И НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО!
Если верить интернету, то сейчас на том мысе элитный жилой район.
Но меня это почему–то абсолютно не волнует.
Лучше перейти к следующим экземплярам коллекции.
№ 4. Балтийское море, Финский залив.
Немой экземпляр. Вроде бы, как и не море.
Так что быстренько отставим в сторону, разве что бросив взгляд на странный спуск к воде, между двумя гигантскими, отполированными камнями, похожими то ли на гранитные черепа древних быков с отпиленными рогами, то ли на базальтовые, но столь же древние головы мамонтов, лишенные бивней и с непристойно–разверстыми дырами вместо хоботов.
Зато экземпляр № 5, море Каспийское, стоит пары абзацев.
Хотя бы потому, что они не про море, как таковое, а про то, что иногда получается, если в самом начале марта из заснеженного и ветряного города Сврдл перенестись в Баку и поселиться в странной гостинице — пришвартованном к набережной двухпалубном стареньком пароходе, куда и засунули нашу туристическую профсоюзную группу, прилетевшую в столицу Советского Азербайджана на три дня.
Тогда, в последний год семидесятых, это так и называлось:
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ.
Главный бухгалтер издательства, где я работал «редактором краевой литературы», главный художник, заведующие редакциями, редактора старшие, простые и младшие, редактора художественные, в общем, вплоть до курьера.
Точнее, курьерши.
После школы никуда не поступила и теперь работала среди всех этих монстров.
И у меня с ней был роман, но к поездке в Баку он закончился.
Не по моиму желанию или вине, на самом деле это женщины всегда как начинают романы, так их и заканчивают, сейчас–то это я хорошо знаю, уже очень много лет.
Недаром есть такая русская поговорка:
СУКА НЕ ЗАХОЧЕТ — КОБЕЛЬ НЕ ВСКОЧИТ!
Так что когда она захотела, я на нее заскочил, а когда расхотела, то слез…
Но в той поездке по старой памяти мы тусовались вместе, и во второй же вечер вместе со всей компанией потащились в ресторан, то ли «Девичью башню», то ли «Караван–сарай», и лихо отплясывали, ели какие–то местные кебабы, пили водку, вместе курили с местным красавцем, недавно вернувшимся из тогда еще шахского Ирана, и вместе вернулись в свою странную гостиницу–пароход, где нам пришлось разойтись по своим номерам/каютам.
Мужчины с мужчинами, женщины — с женщинами.
А утром, когда с тяжелой головой я продрал глаза и увидел, что все мои сослуживцы ушли опохмеляться, она пришла и сказала, что у нее начались месячные, но она может отсосать, если мне хочется.
Мне хотелось и я забыл про похмелье.
— Только ты встань, — сказала она, — у тебя тут койка неудобная, я лучше буду делать это сидя!
Я встал, прямо напротив был иллюминатор. За ним плескались невзрачные утренние волны. Поудобнее взявшись руками за верхнюю койку, я предоставил свое хозяйство в ее полное распоряжение, а сам смотрел, как глуповатая местная чайка что–то пытается найти в этих сероватых, покрытых нефтяной пленкой водах.
Минет с видом на Каспийское море…
Она сосала очень долго, и я с трудом, но кончил.
В следующий раз я увидел номер пятый тогда, когда летел за седьмым экземпляром коллекции — морем Аравийским, но до этого был еще номер шестой.
Море Азовское.
Летом, после Чернобыля, нас с женой понесло к ее друзьям в Мелитополь, отчего–то решили, что там меньше радиации, чем в Крыму, куда собирались вначале.
И на берегу своего шестого моря я вдруг понял, что буду писать свой первый роман.
До этого я писал рассказы, повести и вообще какую–то прозу.
А тут решил, что надо бы писать роман, и сел за него — через два года.
То был еще «псевдороман», потому что истории надо уметь не только рассказывать и записывать, но и придумывать.
И этому тоже надо учиться.
Но «История Лоримура» начинается с того, с чего возникло желание ее написать — с тела небольшого мертвого дельфина, найденного мною утром на пляже.
Оно лежало метрах в трех от воды, сизо–голубое, с большой, рваной раной на боку.
Дельфин был уже мертв, но глаза у него были открыты — незрячие, помутневшие глаза, в которые было больно смотреть.
И я отвернулся.
Потом мы с женой пошли на завтрак, а когда вернулись, то дельфина уже не было — то ли тело волнами смыло обратно в желтоватые и чересчур в то время года теплые воды Азовского моря, то ли что еще, но я внезапно понял, что больше родных морей мне не видать.
Так и вышло.
Хотя и пятый, и шестой номера тоже уже — заграница, только ближняя.
Я предпочитаю дальнюю.
Коллекцию надо расширять.
Итак:
№ 7 — Аравийское море,
№ 8 — Красное,
№ 9 — Средиземное,
№ 10 — Эгейское…
№ 11 постоянно находится под вопросом, от того, какое море будет под этим номером, многое зависит, если Андаманское, то затем может появиться Южно — Китайское, а если Северное? Но когда с № 11 все станет ясно, то я обязательно продолжу описание экспонатов.
И еще одно: дочь обещает, что когда совсем вырастет, то купит нам с матерью домик где–нибудь на теплом побережье, может, это действительно произойдет и в моей коллекции появится лучший, хотя и последний экземпляр.
8. Про обваренную ногу и груди Мальвины
Когда я поступил на первый курс университета, то у меня появился друг по имени Даманский.
Точнее, он так себя называл, имя/фамилия у него были другие, но быть Даманским ему нравилось больше — якобы, он там служил, на этом острове.
/:
«Даманский — советско–китайский пограничный конфликт 1969 года из–за острова на реке Уссури (длиной около 1700 м и шириной 500 м), в районе которого 2 и 15 марта 1969 г. произошли бои между советскими и китайскими войсками. В ночь на 2 марта 1969 г. 300 китайских военнослужащих скрытно заняли Даманский и оборудовали там замаскированные огневые точки…»
Далее подробно расписано, как происходили все эти события, включая применение «ракетных установок «град», удар которых решил исход сражения. Значительная часть китайских солдат на Даманском (более 700 чел.) была уничтожена огненным шквалом…», но про моего приятеля нет ни строчки.
И ни строчки нет про то, что в эти самые мартовские дни китайское радио каждый день начинало свои программы такими словами:
«Доброе утро, жители города Владивостока, временно оккупированного Советскими войсками!»
Жители города Владивостока нервничали. Самолетные билеты из касс пропали, как пропали и железнодорожные.
Наверное, единственной, кто даже не помышлял бежать в кассы, была моя матушка.
Все равно мы никуда не могли поехать в эти дни — как раз перед восьмым марта я обварил ногу.
Мне велели купить и вскипятить молоко, я его купил — как сейчас помню, два литра.
И поставил кипятить.
В стеклянной прозрачной жаропрочной кастрюльке. Или жароустойчивой?
В общем, хрень такая из специального стекла.
Молоко закипело, начала подниматься пенка.
Я снял кастрюльку с плиты и поставил на стол, не заметив, что он был мокрым — наверное, я что–то пролил и не затер, бывает.
Под кастрюлькой что–то зашипело.
Я поднял ее и вдруг она распалась на две части.
Левая половинка была в моей левой руке, правая — в правой.
А практически кипящее молоко хлынуло мне на ногу.
На одну.
Правую.
И не просто на ногу — почти в промежность.
Чуть–чуть левее и…
КОШМАР!
Между прочим, молоко закипает больше, чем при 100 градусах Цельсия.
То ли при 102, то ли — 105…
Как потом оказалось, у меня было обожжено 27 квадратных сантиметров кожи, но тогда я об этом и не подумал.
Я швырнул кастрюльку на пол и заорал.
Дома никого не было, даже соседки.
Но был телефон, по которому я позвонил своему другу.
— Я обжег ногу! — провопил я в трубку.
— Чем? — заинтересовался тот.
— Молоком! — продолжал орать я.
— Тебе надо к врачу! — сказал друг.
— Вызови мне «скорую»! — проорал я в ответ.
— А ты сам? — удивленно спросил он.
— У меня нога… — ответил я в том же регистре.
«Скорая» приехала через полчаса.
Предположим, что через полчаса.
Где–то через тридцать минут приехала «скорая» и увезла меня в больницу.
Когда же я вернулся домой, то мать с отчимом все еще отмечали грядущий день восьмого марта.
Соседки тоже не было, я проволокся на одной ноге — вторая, намазанная жутко вонючей мазью, была запелената в немыслимую кипу бинтов — до комнаты родителей, включил на полную мощность радиолу, именуемую «Ригондой», и в состоянии тупой и неприглядной прострации начал слушать болгарскую пластинку с песней некоего Эмиля Димитрова
«О, бэйби, бэйби, бала–бала!».
Музыка вопила так громко, что я не заметил, как пришли родители.
— Вот он, музыку слушает! — раздраженно сказал отчим матери.
Наверное, они ругались, так что он был всем недоволен.
— Сделай потише! — приказала мне мать.
— Я ногу обварил, кипящим молоком! — равнодушно сказал я и выпростал из–под одеяла запеленатую в ставшие желтыми от мази бинты обваренную ногу.
Мать заплакала.
На следующий день она поехала со мной в больницу на перевязку, а еще через день мне снимали старую кожу — пинцетом, при студентах. Доктор объяснял мне, что и как он делает, а я, чтобы не закричать от боли, гундосил себе под нос песенку «O Hippy, Hippy Shake».
THE HIPPY HIPPY SHAKE:
One, two, three
For goodness sake I got the hippy hippy shake
Yeah, I've got to shake I got the hippy hippy shake…
Ну, и так далее…
А если кого интересует, то песня эта была в репертуаре The Swinging Blue Jeans, о чем я только что узнал, сползав в интернет, тогда же я знал только две группы: The Beatles & The Rolling Stones, но про «о боже, что со мной, у меня трясучка бедер» пели и Beatles, хотя они про многое пели: —))
Или вот так:
: — ((
Но первое мне больше нравится…
Естественно, что в школу я не ходил.
Торчал дома, слушал пластинки, а вечерами ходил к соседке смотреть телевизор.
Соседку на самом деле звали Мальвиной, телевизор у нее был, как тогда и положено, черно–белый, а сама она где–то то ли работала, то ли не работала, этого я абсолютно не помню.
Зато помню, что ей было то ли двадцать восемь, то ли тридцать лет.
Мне, между прочим, было четырнадцать.
Кроме телевизора, у соседки был муж, но я его тоже абсолютно не помню, потому что его почти никогда не было дома — то ли они были в перманентном разводе, то ли он ходил в море, в общем, такой постоянно отсутствующий Буратино.
А может, Карабас — Барабас…
Еще у соседки был халат в больших, ярких цветах, скорее всего, мальвах.
У матушки тоже был халат, но телевизора у нас не было. Поэтому я уходил вечерами в комнату Мальвины и смотрел кино.
Сидя на ее кровати, точнее — полулежа, ведь нога у меня была забинтована так, что сидеть было тяжело.
Она смотрела кино тоже сидя на кровати, потому что комната у нее была гораздо меньше двух наших, что моей, что родительской.
Да и телевизор стоял так, что иначе, чем с кровати, смотреть его было невозможно.
Мы сидели рядышком и пялились в маленький экран.
Жители города Владивостока, временно оккупированного советскими войсками.
Почему–то мне помнится, что про события на Даманском ни мать, ни соседка со мной не заговаривали, вот про то, что билетов в кассах не осталось, они говорили, это я помню.
Сейчас остров называется Чжэньбао или Чжэнь Бао Дао, еще в начале девяностых его тихохонько передали обратно китайцам, о чем я с удивлением узнал совсем недавно, опять же — по телевизору, из программы «Намедни».
Чжэнь Бао Дао.
Чжэньбао.
В любом случае, если бы не этот дурацкий остров, то ничего бы не случилось.
Но и так ничего не случилось, просто во время просмотра очередной киношки Мальвина внезапно придвинулась ко мне.
Прижалась.
Прильнула.
Наверное, ей было страшно, как и всем тогда, хотя — не знаю.
И про страх тоже ничего сказать не могу — не помню.
Меморуинговое такое состояние, воспоминания о воспоминаниях.
Совершенно точно одно: кино меня не интересовало, другое дело — что было у нее под халатом.
Как оказалось, только трусики, и больше ничего. Я до сих пор помню, какие у нее были груди. Она позволила достать их из халата, как достают яблоки из ящика. Я взял в ладонь вначале одну, приблизил к лицу, уткнулся в нее губами, потом достал вторую, одна — в одной руке, другая — в другой. Скорее всего, я казался ей фарфоровой статуэткой с обмотанной бинтами ногой, не исключено, что в тот момент в голове ее сонно проносились несвязные и обрывочные мысли, наподобие тех, что Джойс приписал Молли Блум:
«…как эта милая статуэтка что он купил я на нее могла любоваться целыми днями стройные плечи кудри и поднял палец словно прислушивается вот где тебе настоящая красота и поэзия мне часто хотелось обцеловать его кругом с головы до ног и его миленький юный член тоже выглядит так невинно что я бы не задумалась взять его в рот когда никто не видит так и просится чтобы его пососали а сам он весь такой беленький чистенький с мальчишеским лицом я бы ему это сделала за полминуты даже если немного проглотишь ну и что это просто как кисель или как роса ничего страшного и потом такой чистый разве сравнишь с тем как у этих свиней мужчин я думаю им никогда и не снилось его помыть чаще раза в год они почти все такие но только у женщины от этого начинают расти усы уверена это будет великолепно…»[2]
ПОЧЕМУ Я ЕЕ НЕ ТРАХНУЛ?
ТОЧНЕЕ, ПОЧЕМУ ОНА МЕНЯ НЕ ТРАХНУЛА?
Она позволила долго играть с грудями, облизывать их, сжимать, целовать, но когда я попытался проникнуть ей в трусики, то со смешком отвела мою руку и сказала:
— Вот этого не надо!
Сучка!
У меня все трусы были мокрые.
И мне было тяжело ползать по ней с негнущейся, перебинтованной, обваренной, лишившейся части кожи ногой.
Сейчас ей, наверное, прилично за шестьдесят.
Если бы тогда она сняла трусики, то меня бы вспоминала, а так — навряд ли.
Мальвина, пятая колонна хунвэйбинов…
Должна была открыть ворота, но этого не сделала.
Все же оказалась патриоткой.
Но все равно мне никогда не понять, почему мы отдали китайцам этот остров!
9. Про книги (1) и сосиски с горчицей
Самая дурацкая из всех существующих вредных привычек — привычка читать книги…
Но вот сегодня я зашел в книжный магазин и вдруг понял, что покупать ничего не хочу.
Точнее, нечего покупать, хотя книг на полках много.
Только они все какие–то неправильные, а если попадаются среди них правильные, то я их уже читал.
Когда–то.
Очень давно.
Потому что читаю почти столько, сколько живу…
Хотя возможен и иной вариант — это я стал таким неправильным, что правильные книги для меня тоже неправильные, а неправильные — правильные…
etc…
Но все равно:
Я НЕ ХОЧУ ПОКУПАТЬ ЛИМОНОВА,
хотя когда–то мне очень нравились три его книжки —
«Это я, Эдичка!»,
«История моего слуги» &
«Молодой негодяй»,
это были настоящие книги, но он их написал очень давно.
Впрочем, Кузьминский вообще считает, что только первая книжка у автора стоящая, а все остальные — хуже, чуть ли не говно, вроде бы, исчезает энергия…
Как писатель могу сказать: в чем–то он прав.
НО ТОЛЬКО В ЧЕМ-ТО!
А вообще многие книжки действительно покупать вредно,
например,
Пелевина с Сорокиным — очень уж их много, не различишь, на какой полке и кто Перокин, а на какой и кто — Солевин…
Как много и прочих, из которых я зацепился только за одну фамилию — Денежкина[3].
Но ее я тоже покупать не стал, постоял, полистал и положил обратно: фамилия у нее какая–то не писательская, потому и денег стало жалко!
Если бы я что сегодня и купил, то «Легенду о Тиле Уленшпигеле», и не потому, что я ее никогда не читал или просто очень уж хочу перечитать.
Просто книги должны оставлять после себя некое таинственное марево, ностальгическую дымку, отчасти грубое физиологическое послевкусие, а отчасти и магический отблеск, время от времени снова возникающий на протяжении всей твоей жизни, и пусть и не окрашивающий ее в новые цвета, но зато позволяющий каким–то странным образом опять стать тем собой, который давно уже утерян среди руин памяти…
Или, как просто и доходчиво писал Томас Вулф, —
«О, утраченный и ветрами оплаканный ангел, вернись, вернись!»
А может, и не так он писал дословно, но очень похоже…
Потому я и купил бы сегодня «Легенду о Тиле Уленшпигеле», и не из–за пепла Клааса, который стучит в сердце героя, а скорее уж, из–за толстяка Ламме Гудзаака, который всегда был голоден, и я, много лет назад, читая этот толстющий том, всегда ощущал непреодолимое желание пойти на кухню, открыть холодильник, достать сосиски, сварить их, намазать горчицей, положить на хлеб и съесть!
Поэтом главка и называется:
ПРО КНИГИ(1) И СОСИСКИ С ГОРЧИЦЕЙ,
а почему в скобках стоит циферка 1 — просто будет еще про книги(2) и (3), ничего ведь не поделаешь, что книг в жизни прочитано так много и роль они сыграли такую большую, что в один меморуинг просто не умещаются.
И вообще все те давние книги почему–то читались исключительно под сосиски с горчицей. Или же белый хлеб с солью. Или бутерброды с докторской колбасой. Когда же был у бабушки, а не дома, то под бутерброды с домашними котлетами. А когда жил во Владивостоке, то чаще всего под жареное филе морского гребешка, которое тогда и там вовсе не было деликатесом, и в полное отсутствие хоть какого–нибудь мяса заменяла мне остальные белки животного происхождения.
«Морской гребешок, он же Гребешок Свифта — Swiftopecten swifti (Bernardi, 1858):
Раковина округло–треугольная, высокая, с ушками разной длины. Фиолетовая поверхность покрыта широкими радиальными и концентрическими складками. Наибольшие размеры около 100 мм. Морские гребешки — двустворчатые моллюски, лежащие на правой стороне тела. Это раздельнополый вид. В заливе Петра Великого нерест происходит в августе — первой половине сентября. Питается планктонными организмами. Продолжительность жизни до 18 лет, максимальный размер 132 мм. Распространение гребешка Свифта: берега Приморья, Сахалина. Вне России — у Японских островов Хоккайдо, Хонсю и у северных берегов Кореи. Обычно обитает на глубине 2 — 50 м. Промысловых скоплений не образует и не разводится.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на обязательна.»
Лучше всего под гребешки Свифта читались томики фантастики, видимо, этот жанр просто создан для морепродуктов.
Брэдбери.
Азимов.
Саймак.
Уиндэм.
Шекли…
Жаль, что тогда мне не довелось прочитать ни Толкина, ни Желязны, хотя первого все равно лучше совмещать с сосисками и горчицей, ну а ко второму морские гребешки действительно удивительно подходят, что жареные, что в горчичном или укропном соусах, или даже просто в салате — ведь Желязны в своих «Хрониках Амбера» сотворил такой протеиновый коктейль, после которого многое другое кажется бессильным и пресным.
Про самого Желязны душным и жарким августовским днем 2003 года мне рассказывал сам Шекли, только называл он его, как и принято во всем мире, Зелязны.
«— Зелязны, — говорил мне Шекли, — был очень нелюдимым человеком. И предпочитал никогда не выезжать из своего штата Нью — Мехико. Но каждый писатель хоть иногда, но должен побывать у своего литературного агента. А агент у нас с ним был один, в Нью — Йорке. И как–то раз мы с Роджером там встретились. В тот год отчего–то наши книги опять хорошо продавались, и агент решил, что если мы напишем книгу совместно, то продаваться она будет еще лучше. И предложил это нам. — Хорошо, — сказал я, — мне это интересно!
— Мне тоже! — сказал Зелязны.
— У тебя есть идея? — спросил я его.
Роджер замолчал и полез в карманы джинсов, вначале в один, потом — в другой.
Наконец, он нашел то, что искал. Многократно свернутый листок пожелтевшей бумаги. Он развернул его, листок был весь исписан мелкими почерком.
— Вот тут много идей! — сказал он мне, — посмотри!
Я начал смотреть и наткнулся на то, что потом стало историей демона Аззи.
— Вот, — сказал я, — это пойдет!
— О’кей! — сказал Роджер, — я пришлю тебе из дома сюжет!
Тогда еще не было интернета, это было самое начало девяностых. Он вернулся домой, написал сюжет и послал мне его почтой. Я прочитал, записал свои вопросы и послал их ему. Он ответил и я сел писать «Принеси мне голову прекрасного принца», Роджер дописал потом последнюю главу. Так мы написали еще два романа, а потом Роджер умер, от рака. Он был мужественным человеком, вначале он победил рак, но тот, отступив, вернулся и сожрал Роджера…»
В ТОТ ДЕНЬ МЫ С ШЕКЛИ ЛОВИЛИ РЫБУ, ШЕКЛИ ПОЙМАЛ ЩУКУ И ПОПРОСИЛ ЕЕ ОТПУСТИТЬ!
— Bye–bye, pike! — сказал он ей на прощание и погладил своей высохшей старческой лапой по скользкой щучьей спине.
Я обязательно напишу отдельный меморуинг про Шекли, пока же я пишу про книги (1) и сосиски с горчицей.
Кроме «Легенды о Тиле Уленшпигеле» под сосиски с горчицей совершенно невероятно проглатывалась не такая толстая, но до безумия увлекательная книга Георгия Тушкана «Джура».
Это сейчас я могу сказать, что по своему идеологическому пафосу книга Тушкана для коммунистов то же самое, что «Майн Кампф» для нацистов.
Но это был и один из самых завораживающих приключенческих романов, когда–либо читаных мною в жизни.
Ей–богу, не хуже «Острова сокровищ».
Или «Одиссеи капитана Блада».
Или «Капитана «Сорви–голова».
Или четвертого тома из собрания Томаса Майн Рида, в котором «Юные охотники», «В дебрях Южной Африки» и «Охотники за жирафами». Между прочим, Майн Рид тоже был капитаном…
Так вот, читать про приключения памирского юноши Джуры и его собаки Тэке было не менее увлекательно.
Несмотря на весь идеологический пафос.
Во всех романах есть какой–то пафос, за что–то, против чего–то, нет абсолютно деидеологизированной литературы.
Только в хороших приключенческих — как и многих других сюжетных, а значит, жанровых, — книгах читателю это по барабану.
Он есть сосиски с горчицей и читает про то, что происходило в городе Брюгге.
Или в горном кишлаке Мин — Архар.
Или в Минас — Тирите.
Или в Амбере.
Или где–то еще…
Главное, чтобы что–то происходило, и много лет спустя эти события, равно как и герои, в них участвовавшие, будут ностальгически вспоминаться как происходившее действительно с тобой, пусть это относится к совершенно иной, неземной жизни.
Или земной, но это уже другая земля.
ИНАЯ ПЛАНЕТА.
На которой, наверное, и сейчас есть правильные книжные магазины, в которых даже такой неправильный человек, как я, сможет найти себе нужную правильную книгу.
«На берегу реки благословленной сидели мы и, вспоминая Авалон, заплакали. В руках остались сломанные шпаги, щиты развесили мы по деревьям. Разрушены серебряные башни, утоплены в потоках крови замки. Так сколько миль до Авалона? И все, и ни одной…»
Роджер Желязны, «Хроники Амбера».
10. Про фобии, депрессии и страхи
У этого меморуинга постоянно меняется порядковый номер. То он в первом десятке, то во втором, потом в третьем, сейчас вот получается, что опять в первом.
Наверное, это неспроста.
Мы с ним избегаем друг друга, я убегаю — он пытается догнать, он догоняет — я прячусь и выжидаю.
Бесполезно.
Мне от него никуда не уйти.
ДЕПРЕССИЯ!
Хотя в последние годы я научился с ней бороться.
Купил как–то раз книжку господина Чхартишвили «Писатель и самоубийство», с тех пор и использую как клин.
Ведь известно, что
КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ!
Главное — во время почувствовать ее приход. Загодя. Заранее. Не за сутки, конечно, но хотя бы за пару часов. А это я умею. Вроде бы идешь–идешь, а потом понимаешь: вот воронка и сейчас тебя начнет засасывать. Сопротивляться бесполезно, все происходит на химическом уровне, что–то меняется в крови, мир выглядит по–иному.
Он того же цвета, по улицам идут те же люди и ездят те же машины.
НО ВСЕ СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ!
Тут надо помнить одно — этого не стоит пугаться, тебя просто засосало, ты впал в депрессию, понятно, что все дерьмо, но через сутки реакция закончится и все опять станет прежним.
Не считая того, что начнется отходняк. Как с похмелья. Вот для того, чтобы этот момент переживался как можно легче, я и читаю книжку господина Чхартишвили.
Раньше было хуже, какое–то время я слушал в такие моменты музыку. Чаще всего — альбом Славы Бутусова & «Deadушек» «Элизабарра — Торр», там есть две песни, одна про «десять шагов до новой войны» и вторая про «уроды идут», если пять раз подряд прослушать первую и такое же количество раз — вторую, то сил ходить и искать какую–нибудь веревку просто не остается, единственное, на что ты способен, так это сидеть и молча пялиться в окно, абсолютно не понимая, что за ним происходит.
ТАКАЯ ВОТ КАТАТОНИЯ!
У меня дедушка был невропатологом, поэтому я знаю много не очень приличных слов.
Например,
МДС или МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ.
В юности мне даже поставили такой диагноз, хотя сейчас я прекрасно понимаю, что юность сама по себе диагноз, как пудель, про эту породу так и говорят: это не порода, это диагноз.
Маниакально–депрессивный синдром или синдром юности…
Недаром Эренбург писал, что в юности почти все пишут стихи и помышляют о самоубийстве.
А Джойс в «Портрете художника в юности» вообще вывел универсальную формулу:
«ОНИ ЕЩЕ И НЕ ЖИЛИ, А УЖЕ УСТАЛИ…»
Но юность проходит и — как правило — с ней проходит МДС.
Только, видимо, не у всех, у меня до сих пор бывают рецидивы, но лечение их инфернальными песнями Бутусова & Deadушек, как не приносящее особой пользы, было отменено женой и дочерью самым радикальным способом: заявив, что эта беспросветная тощища сводит их с ума, жена подговорила дочь и та отдала компашку какой–то подруге, как выяснилось:
НАВСЕГДА…
Так что теперь я просто перечитываю поминальник литературных покойников и где–то на третьем десятке начинаю приходить в себя.
А как иначе, если какой–то тип вышел на африканскую жару в самый разгар летнего дня и долго стоял под безжалостными солнечными лучами без шляпы?
Ну и достоялся!
Другой же, как написано, «Застрелился импульсивно: был у сослуживца, случайно наткнулся на револьвер и выстрелил себе в висок.»
Третий же решил утопиться, только был пьян настолько, что не вспомнил, что на улице зима и разбился о лед.
Между прочим, этот третий, Джон Берримен, писал такие сонеты, что прочитав их еще в первой половине семидесятых, я бесповоротно бросил писать стихи.
«Я поднял — подними и ты бокал
Там, за пять штатов; пью свой горький джин
Здесь, в баре, где ни женщин, ни мужчин
Знакомых, где ни сам я не бывал,
Ни ты со мной…»
Не сонет, аnamnes morbi — история болезни.
Сразу становится ясно, откуда возникают депрессии — из одиночества.
А значит, чего с ними бороться, если это естественное состояние для любого прямоходящего?
«…порой заглянет в зал
Полиция; дождь, гул чужих машин,
Играет автомат. Я пью один,
Бармен фальшивый локон прилизал.»
ИНОЕ ДЕЛО — СТРАХИ И ФОБИИ.
Хотя об этом лучше писать прозу. К примеру, нечто в жанре рассказа — не будешь ведь признаваться от себя самого, то есть, от первого лица, что чего–то боишься, тем более, что названия этих «что–то» у нормального человека тоже вызывают своеобразную фобию, хорошо ведь звучит, угрожающе и даже экстремально: я боюсь заболеть арахнофобией…
Арахнофобия — боязнь пауков.
Но это не для ненаписанного рассказа. Там ведь героем должен быть мужчина, пауков же боятся женщины, почему — не знаю. Мужчины наоборот — считают, что пауки приносят в дом счастье, так что герой с утра заходит в ванную и видит ползущую от унитаза к углу, или от угла к унитазу, в общем, куда–то ползущую восьминогую тварь… Естественно, он ему улыбается, говорит доброе утро, думает, не позвать ли жену, но потом вспоминает, что у той ярко выраженная арахнофобия, и она или немедленно убьет паука тапочкой, или же грохнется в обморок. Второе еще куда ни шло, а первое… ПАУКИ ПРИНОСЯТ В ДОМ СЧАСТЬЕ И СБЕРЕГАЮТ ДЕНЬГИ — когда они есть, ведь фобия остаться без денег для любого мужчины глобальна, как процесс всемирного потепления, и столь же угрожающа для психики, как повышение уровня мирового океана для каких–то там прибрежных стран, которые просто могут исчезнуть.
Так что пусть паук ползет, надо позавтракать, выйти из квартиры и сесть в лифт.
И зажмурить глаза.
Что поделать — клаустрофобия.
Боязнь замкнутого пространства.
К тому же, в лифте ты вдруг понимаешь, что пока в кабине горит свет, а вдруг он погаснет? А вдруг кабина застрянет? Или в ней начнется пожар и невозможно будет выскочить, то есть, произойдет внезапная смерть героя, боязнь чего на ученом языке именуется танатофобией, так что лучше перейти к следующей замечательной фобии, которая тоже свойственна севшему в лифт любителю пауков — боязни высоты, можно даже с красной строки.
ГИПСОФОБИЯ.
Мне, например, она тоже чрезвычайно свойственна.
Когда был впервые в Израиле, то понесло на гору Массада, там канатная дорога: пятьсот метров над пропастью. В пропасти камни. Ехал с закрытыми глазами и так же, ничего не видя, поднимался последние двадцать метров по ступенькам, вынесенным все над той же пропастью. Очень уж она была глубокой: смотришь и что–то ухает в тебе, будто какая–то ночная птица вопит в желудке, да еще пытается выскочить через пищевод и горло. Так что пусть у предполагаемого героя тоже будет гипсофобия, не гидрофобией же ему страдать, это больше удел женщин…
Гидрофобия.
БОЯЗНЬ ВОДЫ.
Но про женщин пусть пишут женщины, им яснее, отчего, почему и как они боятся.
Например, описываемым утром в лифте они боялись бы чужаков, то есть, страдали бы ксенофобией.
Чужак может оказаться насильником, от чужака может плохо пахнуть, чужак может превратиться в непотребное и грозное насекомое, а это уже похуже, чем паук, с черным, глянцевым панцирем, с хищно осклабленной пастью, с подрагивающими усиками — то ли кармическая тень динозавров, то ли еще неведомо какая, но отвратительная тварь, несущая с собой инсектофобию.
Мужчинам, между прочим, не свойственную.
Как и агорафобию, боязнь открытого пространства.
Хотя это уже более тонкие штучки, такие же, как например, антропофобия.
Сам я все же один раз был ей подвержен.
Боязни большого количества людей в одном отдельно взятом месте.
Случилось это в Москве, много лет назад, в вечерний час пик, на переходе с одной ветки метро на другую, с кольцевой на радиальную (или наоборот — точно уже не помню), на станции «Парк культуры». Я шел по переходу минут тридцать, с одной стороны чье–то плечо, с другой тоже чье–то плечо, впереди затылок, а сзади в затылок дышат тебе, слишком много людей и все они тебя нервируют.
Бесят.
Доводят до фобии.
Тебе кажется, что ты никогда не дойдешь, упадешь, тебя растопчут.
Мерзкое ощущение, то ли дело открытое пространство — никого нет и видно до самого горизонта. И никаких, соответственно, фобий!
NB: АГОРАФОБИЯ — ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЯЗНЬ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА.
Хотя кроме упомянутых есть еще монофобия — боязнь одиночества, петтофобия — боязнь общества как такового, нозофобия — боязнь болезней, зато мизофобия — боязнь грязи — свойственна, в основном, женщинам, хотя покойный поэт Маяковский страдал ей в такой ярко выраженной форме, что постоянно таскал в кармане кусок мыла.
Зато женщины любят мыть пол.
А еще страдают ситофобией — боязнью еды.
Тут герой ненаписанного рассказа должен выйти из лифта и пойти куда–нибудь дальше.
Пусть спокойно идет сквозь мир, полный страхов.
Да, надо уточнить, что есть люди, страдающие пантофобией. — боязнью всего на свете.
Человек, убегающий при звуке голосов из телевизора.
Или наоборот — при их отсутствии.
Впадающий в транс при зависании компьютера.
Теряющий сознание, когда отключается интернет.
Ненавидящий шопинг.
Ненавидящий себя без шопинга.
Устрашенный одним фактом того, что надо идти пешком.
Боящийся, что в один прекрасный день материализуется матрица и он поймет, что его давно съели.
Фобии, депрессии и страхи…
Хорошо, что я не исполнил мечту деда и не пошел учиться на врача–психиатра.
11. Про холмы
«Run over the hills» — так когда–то называлась моя страничка в интернете, на geocities, в том его дистрикте, что именовался rain forest, дождливый лес.
1. Бег через холмы.
2. Вокруг холмов.
3. В направлении холмов.
4. Выдуманная страна холмов…
Не помню, когда и как я оказался там впервые. Скорее всего, еще во Владивостоке, когда увидел сопки и подумал, что если бы они были не такими высокими и густо заросшими малопроходимыми зарослями, то я бы, наверное, ушел туда навсегда.
Чтобы больше никогда не возвращаться.
Хотя навряд ли в то время я был способен именно так сформулировать вскользь мелькнувшую мысль. Даже не мысль: ее смутное, расплывчатое видение, неясную тень, слабый отсвет, появившееся и моментально исчезнувшее отражение в старом, почерневшем зеркале.
Что–то наподобие с невероятно давних пор глубоко запрятанному и застывшему в душе окаменевшей смолой зачарованному ощущению от только что прочитанных в потрепанном шпионском романе странных и совсем ему чуждых строчек:
«Ласковый тревожный шорох в пурпурных портьерах–шторах
Наполнил ужасом, полонил меня всего,
И чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой–то запоздалый у порога моего,
Гость, и больше ничего…» 05930
Роман я взял у приятеля, наверное того, что жил в доме напротив.
Все это было еще задолго до Владивостока, потому и зеркало давно почернело.
Даже не помню, как называлось это чтиво, выпущенное в СССР то ли в конце пятидесятых, то ли самом начале шестидесятых, а начало знаменитого «Ворона» Эдгара По цитирую сейчас по памяти, так что строфа, скорее всего, тоже должна быть записана по–другому, специально не стал смотреть, тем более, что навряд ли у меня дома есть именно этот перевод.
Между прочим, то был ключ к шифру. Над нужными буквами наколоты точки, если пользоваться ими в определенном порядке, то можно понять смысл посланной радиограммы.
Естественно, предназначенную вражескому шпиону.
Книга вроде бы называлась
«ОПЕРАЦИЯ КОБРА».
А сочетание цифр 05930 совершенно случайно появилось в этом файле, пока я выгуливал сэра Мартина, сразу после знака
«
в строчке «Гость, и больше ничего…», я обнаружил это, вернувшись домой и подойдя к компьютеру, но решил, что пришла какая–то шифрограмма и не стал ее удалять.
Скорее всего, послание мне самому из прошлого.
Если удастся его расшифровать, то написано там должно быть следующее:
ВОЗЬМИ ЛОПАТУ И ИДИ В ХОЛМЫ!
Лопата понятно, для чего — копать пещеру.
Рыть ее, выгрызать в пологом склоне.
Ясно, зачем нужна и пещера.
Чтобы скрыться, исчезнуть, переместиться в иной, более симпатичный мир.
По крайней мере, именно так должен поступить очередной герой моего очередного ненаписанного романа, у которого есть даже название — «РУФОНЫ», далее идет пояснение, видимо, для самого себя, чтобы не забыл:
«они же трансмутанты, они же — люди в измененном состоянии сознания, от английского сленгового roof on — напившийся. Кто так их прозвал — уже никто не помнит, но название пристало. То есть изначально иные, живущие как бы в другом мире, хотя для них это не «как бы», он для них действительно другой…»
И перечисление первых пяти глав:
1. «Пещера»
— Ом — Мане-Падме — Хум… Все есть дерьмо! — Он привычно взял в руки лопату…
Больше ничего не написано. Вообще ничего. Но после появления шифровки то ли за номером 05930, то ли с этим криптографическим ключом, многое становится ясно, кроме, пожалуй, одного: причем здесь ом–мане–падме–хум, то ли для большей завлекательности, то ли для дальнейшего психологического портрета героя, орудующего сейчас лопатой на пологом склоне зеленого и пасторального холма, увиденного мною впервые много лет назад в той выдуманной стране, которой просто не может существовать.
Хотя именно в той стране, судя по всему, и существуют руфоны.
2. «Развлечения в стиле «hi–tech».
Появляются Дух и Кенга…
Само название — строчка из какого–то дурацкого рекламного ролика, услышанного по радио на пути домой: «вас там ожидают развлечения в стиле «хай–тех»…
Дух же и Кенга — тоже герои, причем Дух — девица, а Кенга — парень. Это я точно помню. Дух — мосластая, высокая, плоскогрудая, коротко стриженная, только вот еще не знаю, блондинка или брюнетка. Она в кожаных джинсах и такой же кожаной безрукавке, может быть, что лесбиянка или би. А Кенга — маленький, толстенький, в очках, напоминающий сына Оззи Осборна, каким его постоянно показывают в «Семейке Осборнов». Дети виртуального поколения.
ТОЛЬКО ИХ РОЛЬ ВО ВСЕМ ПРОИСХОДЯЩЕМ МНЕ АБСОЛЮТНО НЕВЕДОМА!
3. «Черный амфи»
Это мне сын [4]подсказал — увидел маленькую карманную щеточку в прихожей для чистки обуви, производство фирмы «Амфи», цвет черный…
— Смотри, — сказал он мне, крутой торчак может получиться, «черный амфи», аж жуть берет…
Судя по всему, поразвлекавшись в стиле hi–tech, Дух и Кенга наглотались «черных амфи».
ИЛИ «ЧЕРНОГО АМФИ».
После чего, скорее всего, у них поехала крыша, и они оказались в стране холмов, где какой–то придурок роет пещеру в пологом и зеленом склоне, а в не называемом далеке бродят руфоны.
4. «Социопатия».
Понятно, что это про того, который с лопатой.
Смотался от общества и решил вырыть себе убежище, не глава — очередная история болезни.
5. «Зачарованные».
А это, скорее всего, опять про Духа с Кенгой.
Они пришли в себя после «черного амфи» и попали под власть холмов.
Оказались ими зачарованы.
Как зачарован ими до сих пор я.
Хотя они сводят меня с ума, чего никогда не получалось ни у пустынь, ни у морей.
Потому что холмы — это действительно
НЕЧТО НЕВООБРАЗИМОЕ,
край, в котором обитают руфоны.
Руфонов же я придумал возле маленького фруктово–овощного рыночка, куда отправился за бананами и картошкой. Моложавая дама, стоящая впереди, попросила завешать ей лимонов. Так и сказала:
— Мне лимонов завесьте!
Когда она это сказала, то я внезапно ослышался.
Произошла абберация слуха.
— Мне руфонов завесьте!
Тогда и возник этот странный вопрос:
КТО ТАКИЕ РУФОНЫ?
Наверное, поэтому я и собрался написать роман, в котором смог бы найти на это ответ, но вот взялся за меморуинги, за свои «Полуденные песни тритонов», и напрочь забыл про руфонов.
Пока не пришла пора вспомнить про холмы.
Потому что холмы — это то самое место, к которому у меня пожизненная мистическая тяга. Даже больше.
Я хорошо знаю, что придет момент, когда меня уже не будет.
Как это ни грустно, но к тому времени давно уже не будет и моей собаки.
И вот там–то, в холмах, мы встретимся.
В стране «Run over the hills».
Мы будем идти навстречу друг другу, еще не зная, что произойдет через несколько минут.
Даже не идти — бежать.
Для него это привычно даже сейчас, хотя ему десятый год, а я вот подзабыл это ощущение безумной легкости, когда ноги сами сносят тебя по лестнице. Пусть даже порой мне это снится…
Но там, в стране холмов, он унюхает меня и залает, а я побегу ему навстречу, и вот, где–нибудь на перепутье, в ложбине, в распадке, у подножия очередного холма мы встретимся.
Чтобы больше никогда не расставаться.
СТРАНА ХОЛМОВ — ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ВСЕ КОГДА-НИБУДЬ ВСТРЕТИМСЯ…
Там я опять встречу дедушку с бабушкой, да и отчима, представлю им сэра Мартина — они ведь никогда не виделись, а потом попрошу прощения за то, что мы с ним должны отправиться дальше.
Искать руфонов.
Ведь зачем–то они мне привиделись еще тогда, при жизни, у маленького фруктово–овощного рыночка.
А код 05930, обнаруженный случайно в недописанном файле этого меморуинга, сделал свое дело: связал воедино некогда существовавшую в интернете страничку, посвященную выдуманной стране холмов и моей собаке, затем позволил каким–то странным образом перейти к напрочь выпавшему из памяти на долгие годы дурацкому советскому шпионскому роману, в котором один маленький мальчик прочитал поразившие его на всю жизнь строки гениального американского поэта, потом вдруг этот код вывел на воспоминания об очередном ненаписанном романе и заставил задуматься о таких вещах, думать о которых мне не доставляет никакого удовольствия, хотя я знаю одно:
все это действительно случится, но потом все мы встретимся.
Чтобы больше уже никогда не расставаться!
Но это будет настоящая, а не выдуманная, вот только от этого еще более загадочная и прекрасная
СТРАНА ХОЛМОВ.
12. Про то, как я играл в рок–группе
Если бы не все это безумие, то моя жизнь могла сложиться совершенно иначе.
То есть, если бы я не услышал Beatles.
Это — первое.
А второе и более важное: если бы мне самому не пришла в голову гениальная идея взять в руки гитару.
Для определенного возраста идея совершенно нормальная и даже позитивная, если бы не одно НО:
она хороша только при наличии музыкального слуха,
КОТОРОГО У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО!
Выяснилось это еще в каком–то невероятно младенческом возрасте, когда матушка подсунула мне книжку «Осуждение Паганини». Я ее прочитал — под младенчеством тут надо понимать возраст лет так пяти/семи — и возжелал сам научиться виртуозно порхать смычком по струнам. Выслушав мои сбивчивые пожелания, матушка для начала решила проверить мне слух — у нее самой он тоже, между прочим, напрочь отсутствует — и выяснилось, что я пошел в нее.
АБСОЛЮТНО!
Ну и ладно, видимо подумал я, так как сколько–то лет совершенно спокойно существовал вне всяческого музыкального пространства. Намного больше меня волновали ползающие и плавающие твари, да еще, пожалуй, клубящиеся вокруг чуть ли не в воздухе женские тела.
Твари по тем моим годам были намного доступнее, поэтому вначале я занимался исключительно хитиновыми панцирями, а уже во Владивостоке переключился на очаровательный мир моллюсков: голожаберных, двухстворчатых и даже головоногих.
Параллельно происходило мое вхождение в увлекательную одиссею пубертатного периода, а учитывая, что благодаря своему новому замужеству матушка была занята, в основном, личными проблемами, то свободного времени у меня было предостаточно, и я оттягивался, что называется, «в полный рост».
С моря тогда постоянно дули ветра.
Или это просто мне так сейчас кажется?
В зависимости от времени года они были то холодными, то теплыми, но всегда влажными, а еще — солоноватыми, терпкими, и при этом какими–то неприкаянными. Они толкали в спину, били в лицо, иногда просто сбивали с ног и тащили за собой следом по неказистой брусчатке старой припортовой мостовой, вслед за дурными дребезжащими трамваями, переваливающимися с сопки на сопку, пока не оставляли тебя у самой кромки берега, на которую то и дело обрушивались тяжелые, пенистые волны.
ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МОЕГО ТОГДАШНЕГО СОСТОЯНИЯ.
В общем, ветра, езда на трамваях, слушание Beatles и наступивший пубертатный период привели к тому, что я решил забросить на фиг всех этих моллюсков и начать играть на бас–гитаре.
Как Пол Маккартни — отчего–то тогда мне казалось, что внешне я на него был похож.
Естественно, никакой бас–гитары у меня не было, в магазинах она тоже не продавалась, поэтому мы с приятелем отправились в какой–то близлежащий ДК, то есть, Дом Культуры.
Или дворец — меморуинги не требуют точности.
А там нам посоветовали записаться в оркестр народных инструментов, что мы и сделали.
Приятель, у которого был слух, пошел учиться игре на домре, меня же определили на бас–балалайку — там можно было просто дергать струны в нужный момент, хотя для этого надо было выучить ноты.
Ноты мне никак не давались, так как для того, чтобы их выучить, желательно заниматься сольфеджио, а заниматься сольфеджио без слуха нереально.
НО Я ВСЕ РАВНО ДЕЛАЛ ЭТО!
В перерывах же ходил в школу и предавался с друзьями всяческой подростковой дури.
Например, один раз мы пили портвейн, между прочим, для меня это был обряд инициации.
В другой пошли подглядывать в женский туалет, а потом нас долго гнали по какой–то узенькой улочке две разъяренные тетки.
ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЧЕГО ОНИ ТАК ВЗЪЕЛИСЬ — ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ БЫЛО ВИДНО!
Но они почти догнали нас, вот только потом одна упала, а вторая принялась ее поднимать, впрочем, нельзя исключить, что все это я просто сейчас выдумываю.
Как тогда придумывал всяческие отмазки для матушки и разные фантастические бредни для приятелей.
Я вообще всегда что–то придумывал, наверное, это единственное, что у меня получается хорошо…
Но про сольфеджио и отсутствие слуха — полная правда.
Как правда и то, что меня выгнали из оркестра народных инструментов, после чего я поступил в кружок гитаристов.
Это было как раз незадолго до того, как я обварил ногу кипятком.
Так как не только я не знал нот, то нам предложили играть по следующей забавной схеме: на листке бумаги было расписано, сколько раз, на каком ладу и по какой струне ты должен нажимать пальцем.
А песня, которую мы разучивали, называлась «ЛЮБОВЬ НЕ КУПИШЬ!», проще говоря‑CAN’T BUY ME LOVE, сочинение Д. Леннона/П. Маккартни.
Свою «партию» я учил все то время, что сидел с забинтованной ногой дома, с самого утра и до того момента, пока не приходила пора отправиться к Мальвине смотреть телевизор — в надежде хотя бы еще разок добраться до ее грудей.
До грудей я больше не добрался, зато «партия» отскакивала, что называется, «назубок», поэтому в нужный день и в нужный час меня выпустили на сцену вместе с еще семью такими же, как и я, придурками.
Я был в своих единственных «не школьных» брюках, в рубашке и чуть ли не галстуке.
И мне казалось, что нас не восемь, а четверо, в руках у меня не простая шестиструнная гитара, а воксовский бас, и сейчас я начну петь в отсутствующий передо мною микрофон:
I'll buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright
I'll get you anything my friend if it makes you feel alright
'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, ну, типа, я куплю тебе колечко с бриллиантом, мой дружок, если тебе от этого полегчает, и вообще я достану для тебя все, что угодно, если тебе от этого станет лучше, потому что мне наплевать на деньги, они не купят мне твою любовь…
А потом я начинаю раскланиваться, и в зале все визжат, девицы чуть ли не бросаются мне на шею, они ведь еще не знают, что играл я хуже всех и из этого ансамбля меня тоже выгнали — сразу после выступления.
И я как–то притих.
Доучился до выпускных экзаменов из восьмого класса, сдал их с грехом пополам, а потом навсегда покинул город моего отрочества.
И вновь вернулся в город моего детства.
В СВРДЛ.
Мать вслед за отчимом уехала в Москву, оставив меня у бабушки с дедушкой.
Они смотрели на меня и ничего не понимали.
ВООБЩЕ НИЧЕГО!
Сейчас я думаю, что именно тогда они решили, что я сумасшедший. Что у меня крыша съехала. Что я рехнулся. Тронулся умом. Сбрендил.
Хотя они меня очень любили, а я очень люблю их и сейчас.
Но они действительно ничего не понимали: вместо того, чтобы по прежнему заниматься всякими жуками–пауками–моллюсками и т. п., их внук водил знакомства со всякими странными личностями и таскался с пластинками.
Вынудил деда купить ему гитару.
Слушал на кухне маленький переносный магнитофон, который был куплен для записи птичьих голосов.
Из динамика раздавались не птичьи голоса, а всякая тарабарщина.
Наверное, меня уже тогда надо было показать врачу, но врач был дома, доктор медицинских наук, невропатолог.
С нервами у меня точно было плохо, я постоянно взрывался и орал.
Между прочим, такое бывает и сейчас, но я всегда говорю, что у меня просто не славянский темперамент. Скорее уж — средиземноморский.
Почему средиземноморский — не знаю, наверное, мне так больше нравится.
Когда же я взрывался и орал, то дед предлагал мне выпить таблеточку.
Я пил таблеточку и мне становилось лучше.
До сих пор с ненавистью вспоминаю, что это такое — медикаментозная зависимость.
От всяческих барбитуратов и прочих успокоительных.
Хотя мой покойный дел тут не причем, ведь это я был сумасшедшим, а не он, и никто не заставлял меня впоследствии глотать таблетки горстями.
Только это — запланированная тема одного из следующих меморуингов.
Этот же про то, как я играл в рок–группе, которую сам и создал. Учась в девятом классе, из таких же оболтусов, как и я. Хотя у них был слух, один даже мог петь. Я не пел, а играл на соло–гитаре: на басу мне было слабо, ударение на последний слог. В группе играло четыре человека и в репертуаре было четыре песни.
И Я НИ ОДНОЙ ИЗ НИХ СЕЙЧАС НЕ ВСПОМНЮ, даже по названиям.
Как не вспомню и своих напарников по музицированию, за исключением, разве что, нашего ритм–гитариста, будущего чемпиона то ли мира, то ли Европы по баскетболу Толика Мышкина. Когда сколько–то лет спустя я случайно увидел, как он вышагивает под кольцом, то подумал, каково ему было сидеть с гитарой на стуле и бренчать, а стоя играть мы ему не разрешали — как правило, наш четырехпесенный репертуар мы исполняли на танцевальных вечерах в школе, перед сценой было много девушек, девушки, как известно, в определенном возрасте предпочитают высоких, мы же на его фоне были просто лилипутами.
Так что все то время, пока существовала группа, он играл сидя.
Единственное, чего я не могу уяснить до сих пор — как нас никто не освистал, в основном, за мои солирующие партии. Наверное, мы просто брали другим: наглостью и нахрапом, а так же умением играть эти постоянные четыре песни каждый раз по–другому. В иной тональности и даже — ином ритме. Поэтому возникало ощущение, что песен намного больше, может быть, штук десять. Или пятнадцать. Или даже двадцать.
ХОТЯ ИХ БЫЛО ВСЕГО ЧЕТЫРЕ, и все те же четыре песни мы сыграли на своем последнем выступлении — школьном выпускном вечере, хотя к тому времени в моей жизни опять многое изменилось.
Я даже начал читать странные книжки.
И писать стихи.
И, наверное, впервые в жизни понял, что могу не только выигрывать, но и проигрывать.
По крупному.
Например, в любви.
13. Про то, почему я начал писать стихи
Когда сейчас я случайно встречаю на улице этого мальчика, то мне хочется сказать ему:
— Не дергайся, все будет в порядке…
Только он меня не узнает, но это естественно — откуда ему знать, как он будет выглядеть через тридцать пять лет.
Или почти тридцать пять…
Он меня не узнает и проходит мимо, там, в своем времени.
Мне проще, я могу пойти за ним следом не таясь — ему меня все равно не заметить.
Отчего–то я знаю, куда он идет, поздним июльским вечером, под теплым, но грубым дождем.
Возвращается домой из кино[5].
Девушку, с которой там был, уже успел проводить.
Все под этим же дождем, мокрый, несуразный и смешной.
Я знаю, что сейчас ему хочется плакать. Самое время догнать и позвать куда–нибудь выпить кофе, хотя там, в его времени, это нереально — поздно, все закрыто. Но если вспомнить, что и днем там подавали лишь светло–коричневую бурду в почти уже исчезнувших из моей памяти двухсотграммовых граненых стаканах, то лучше выдернуть его сюда, в мое «сейчас», но вот как?
ДА НИКАК,
остается одно — догнать и пойти рядом, под дождем, хотя я его все равно не почувствую, тем более, что у нас сейчас зима, декабрь, только вот снега нет и какая–то дурацкая оттепель, вроде бы, из–за глобального потепления, но он этого словосочетания даже не знает.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, начало декабря, на улице же почти ноль по Цельсию, это 32 градуса по Фаренгейту, а ведь
451 градус по Фаренгейту — температура, при которой горит бумага…
— Помнишь этот роман? — вдруг спрашиваю его.
Он ошарашено оглядывается, но меня не видит, хотя чувствует, что кто–то идет рядом.
— Ты ведь уже читал его, как и «Марсианские хроники», про эту книжку ты ей даже рассказывал, совсем недавно, вы гуляли вечером в дендрарии, было тепло и ты был счастлив…
Он всхлипывает.
В тот вечер в дендрарии действительно было тепло, светлый июньский вечер, переходящий в такую же светлую ночь.
Я точно знаю, что он вдруг начал зачем–то говорить с ней о Брэдбери. Она же делала вид, что слушает, но на самом деле ей было скучно и хотелось домой.
Ей уже как неделю стало с ним скучно, хотя она все сделала для того, чтобы он в нее влюбился.
Она была старше на год и уже заканчивала школу.
Он был смазлив, или — как еще говорят — хорошенький…
Поэтому, между прочим, ему меня никогда не узнать. Лысого, бородатого, разве что с такими же темными глазами. Точнее — почти такими же. И дело не в накопившейся усталости. Просто они стали жестче, с этим ничего не поделать — время…
Такого бы те девочки испугались, может быть, даже решили, что перед ними маньяк и убежали со школьного двора.
Где все и началось, в день очередной весенней демонстрации.
— Зачем ты мне все это рассказываешь? — говорит он, — я ведь и так знаю…
— Ее подруга покончит с собой, — говорю ему я, — через несколько лет…
— А… — он замолкает, его толстый серый джемпер крупной вязки уже насквозь промок. Под джемпером ничего нет — он надел его на голое тело, мне это трудно понять, ненавижу, когда шерсть прикасается к коже: колется…
— Ты хочешь спросить про нее?
— Да!
— Все будет омерзительно, — говорю я ему, — вы поженитесь!
Он восторженно хрюкает, придурковатый, романтический юноша. Не голова — один большой сперматозоид. Готов сорваться с места и понестись сейчас обратно, по лужам, пересекая дороги на красный свет.
— Не спеши, — продолжаю я, — это будет не скоро…
Он складывается пополам, будто получил в солнечное сплетение. Отправлен на асфальт нокаутом. На грязный и мокрый свердловский асфальт.
— Эй! — говорю я. — Надо уметь держать удар!
Он распрямляется и пытается заглянуть мне в глаза.
— А этому долго учатся?
— Долго, — отвечаю я, — мне приходится до сих пор…
— Тебе сколько сейчас?
— Почти пятьдесят!
— Много… — он мотает головой и вдруг говорит: — Я столько не проживу!
Мне хочется рассмеяться, но я этого не делаю. Бесполезно объяснять, что доживет и будет хотеть прожить еще столько же.
ПОТОМУ, ЧТО ИНТЕРЕСНО.
ИЛИ ВОТ ТАК: ЗАБАВНО,
ЖИЗНЬ — СМЕШНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, хотя большей частью очень грустное, но пусть доходит до всего этого сам, своей безбашенной головой. Хотя можно написать и так —
ОБЕЗБАШЕННОЙ.
У головы была башня, но ее снесли, лишили младенца думалок. Обезглавили тело, оно истекает кровью все на том же мокром и грязном сврдлвском асфальте. Бедный Йорик!
Что же касается его, то он пока плохо представляет, что принесет ему эта девица.
Через три года они действительно поженятся, хотя до этого у них будет еще один «романтический» период, без секса, она выпала из его жизни летом семидесятого, и вновь появилась уже в начале семьдесят второго, на пару месяцев, ему всего приятели и приятельницы говорили:
— Идиот! Ты ей по фиг!
Он хлопал ресницами и с подвыванием читал стихи.
В основном, чужие, иногда — свои.
Этот придурок уже вовсю рифмовал, занудно и душщипательно.
Начал в то самое лето семидесятого.
Может, это произошло в упомянутый дождливый вечер, когда мы случайно встретились, но он меня не признал.
Может — чуть раньше или ненамного позже, но это случилось тогда.
Действительно:
БЕДНЫЙ ЙОРИК!
Она была кошкой, он — мышкой.
Кошки не любят выпускать добычу.
Добыче временами дают передохнуть, передышка продолжалась до марта семьдесят третьего.
В мае они поженились.
Она уже переехала к ним, в двухкомнатную квартиру в старом районе. Ей надо было восстанавливаться в университете, это можно было сделать только с помощью его родственников. Так что пришла пора замуж. Она даже дала ему до свадьбы, тогда он не знал, что все это просчитано: как в определенный момент надо было позвонить, так в такой же спрогнозированный час пришла пора лечь и развести ноги.
Без всякого желания. Она давно была женщиной, привыкшей иметь дело совсем с другими мужчинами. Он тоже уже был мужчиной, но все равно — мальчиком, и если кого тут и можно винить, то лишь его.
Сколько–то лет спустя, вспоминая о ней, он будет говорить сам себе одно лишь слово:
…..
Только он не прав, по крайней мере, она родила ему дочь, и готова была жить с ним дальше, хорошо понимая те правила игры, по которым за какие–то вещи надо платить. Но он к этому времени уже поймет, что она его никогда не любила. Действительно: полный романтический придурок.
Когда они будут выходить из здания суда, то она скажет ему мудрые слова:
— Только прошу тебя, на (произносится имя) не женись, у тебя с ней ничего не получится!
Он хмыкнет и не послушается.
Посмотрит на нее с испугом и исчезнет, растворится в параллельном пространстве.
С приобретенной навсегда аллергией на природных блондинок — ведь у них волосы на лобке грязно–рыжего цвета.
Между прочим, я‑то знаю, что она была права на все сто.
Ему нельзя было женится как на ней, так и на той, следующей.
Писал бы себе просто стихи, и все!
Какая разница, что они были плохими…
Я вот их принципиально не помню.
Зачем засорять голову всякой ерундой?
Но я не стану ему обо всем этом рассказывать, он может не выдержать, пожалуй, еще натворит глупостей.
Ведь ему кажется сейчас, что она — смысл всей его жизни, поэтому пусть себе тащится дальше один. Под дождем, домой.
И учится держать удар, ему это пригодится в будущем.
А я лучше буду пить кофе и смотреть, как за окном повалил снег.
Похолодало, минус 6 по Цельсию, это 21 градус по Фаренгейту.
451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ — ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ГОРИТ БУМАГА…
Вроде бы, Брэдбери еще жив, и не так давно впервые даже полетел на самолете — то ли я увидел это по телевизору, то ли прочитал в интернете.
А файлы, между прочим, не горят, они легко удаляются одним нажатием клавиши delete.
Эту книгу вполне можно назвать не «Полуденные песни тритонов», а «Удаленные файлы», ведь я убираю из своего мозга то, что накопилось там за все эти десятилетия — ненужные воспоминания и тени разных людей, мужчин и женщин, даже свою тень временами хочется подвергнуть кастрации, вдруг тогда очередной день начнется так, будто ничего и никогда не было…
БЕЗ ПРОШЛОГО…
Но это значит, что больше мы с ним уже не встретимся, этим обезбашенным юношей, удаляющимся сейчас в дождливый ночной мрак.
И я не скажу ему главного — что лучшее в его жизни все равно впереди.
Даже сейчас я так думаю, когда нам с ним почти пятьдесят.
До которых он доживет, в этом я не сомневаюсь.
Вспоминая временами то лето, когда один неприкаянный придурок начал писать стихи.
14. Про фотографа Наиля и про Хулио Кортасара
Допустим, что это было в 1971 году.
Ко мне пришел фотограф Наиль и у него были хитрые глаза.
На самом деле у него всегда были хитрые глаза, потому что он был восточным человеком. Но очень приличным восточным человеком — это бы я хотел отметить особо.
И дело не в том, что я не политкорректен или страдаю ксенофобией. Даже наоборот: я очень толерантен и, в общем–то, отличаюсь вменяемой национальной терпимостью. Просто у меня большой опыт общения с восточными людьми и я хорошо знаю, что они — иные.
НУ, ПРОСТО ИМ ТАК ПОЛОЖЕНО!
Мне до сих пор вспоминается один очаровательный полуперс, который несколько лет назад приходил к нам домой в гости с конфетами и рассказывал мне, какой я гениальный. На самом деле я‑то знал, чего он хотел — пристроить своего брата на телевидение, где я тогда работал. Младший полуперс мне не нравился, но старший все равно звонил и продолжал приходить — обязательно с конфетами. А потом исчез, на какое–то время они с братом вынырнули в Москве в качестве модных драматургов, но потом то ли утонули совсем, то ли просто растворились в грантовом фестивальном пространстве. Только вот мне все равно вспоминать о них не очень приятно — период, когда старший пел мне сладкие песни, был далеко не лучшим в моей жизни, и в какой–то момент я уже был готов поверить, что на самом деле обрел если и не друга, то хотя бы приличного знакомого, куда там!
Да и неоднократное мое пребывание на разных зарубежных востоках — что в Эмиратах, что в Израиле, что в Турции — дало свои плоды: понимание того, что
никогда не смогу понять этой изумительной нагловатой хитрости, как и того, что я для них — всего лишь лоховатый представитель какого–то неправильного мира.
МОЖЕТ, КИПЛИНГ БЫЛ ПРАВ?
Только все равно ведь есть исключения, например, мой приятель из Стамбула, молодой парень со смешным для русского слуха именем Баран, говорящий свободно как на французском, так и на английском, и пишущий мне электронные письма о Чезаре Павезе, которого недавно для себя открыл.
«Смерть пришла, и у смерти глаза твои…», это из предсмертного стихотворения итальянского классика, застрелившегося за четыре года до моего рождения.
Таким же исключением был и странный татарин Наиль, странный хотя бы потому, что в начале девяностых эмигрировал со своей очередной женой в Израиль, по крайней мере, так мне об этом рассказывали.
Только все это преамбула, на самом деле меморуингую я о другом.
О том, что летом 1971 года ко мне пришел Наиль и принес почитать одну книгу.
Хотя не исключено, что это было и не летом.
НЕ ПОМНЮ!
Я вообще мало что помню, память не просто избирательна, на самом деле она фантастически беспомощна в том, что называют точными реалиями прошедшего. Например, я могу сказать, что познакомился с Наилем на дне рождения дочери подруги моей матушки, и что было это в августе, так как по гороскопу она, вроде бы, лев, но —
ИМЕННО, ЧТО ВРОДЕ БЫ,
а значит, это мог быть и не август…
В общем, где–то через год после нашего знакомства ко мне пришел мой новый приятель Наиль, и у него были хитрые глаза.
Он снял с плеча кофр с камерой и сказал:
— Я что–то принес!
Вообще–то в своей прошлой жизни Наиль был актером, потому он и оказался на дне рождения дочери подруги моей матушки — они вместе учились театральному ремеслу. Но как типичный восточный человек он быстро понял, что фотограф зарабатывает больше, если, конечно, ты не звезда. А звездой он не был.
Так что единственным, чего он мог принести в своем кофре, кроме камеры со сменными объективами, были какие–нибудь новые фотографии, о чем я ему и сказал.
— Нет, — возразил он, — холодно.
Такая игра еще из детства, в «холодно — горячо», когда не угадываешь, то холодно, когда наоборот — то, соответственно, антоним.
За которым Наиль и лезет в сумку.
Даже не надев, чтобы не обжечься, перчаток.
Достает из потрепанного кожаного кофра раскаленную книгу — она красного цвета, видимо, температура внутри приюта для всех его фотографических прибамбасов высокая.
На передней сторонке переплета хорошо заметен почерневший квадратик, наверное, уже обуглился от жары.
ЧЕРНОЕ НА КРАСНОМ, С ДОБАВЛЕНИЕМ БЕЛОГО.
Но опять же: так мне помнится.
Я давно не видел той книги.
Сборника рассказов и повестей Хулио Кортасара «Другое небо», М., издательство то ли «Прогресс», то ли «Художественная литература», 1971 год.
Скорее всего, «Прогресс», в интернете не проверишь, там на эту книгу ссылок нет:
ДАВНО ЭТО БЫЛО…
Между прочим, потом в «Прогрессе» много лет работала моя матушка, с середины семидесятых и до пенсии, раз в пару лет она покупала через профсоюз путевку и ездила в страны, которые для меня не существовали, я был невыездным. Матушка же побывала в Италии, Индии, Шри — Ланке, Англии, Западной (тогда) Германии и даже Японии. Но все это так, к слову…
— Тебе это надо почитать, — сказал хитроглазый Наиль, — ты обалдеешь.
— Хорошо, — сказал я старшему товарищу, — ты мне ее оставишь?
— А как же! — ответил Наиль.
В тот день он, как оказалось впоследствии, сделал для меня великое дело. Что называется — показал мне вектор. Навряд ли я стал бы тем писателем, которым стал, если бы не рассказы Кортасара.
«Другое небо».
«Южное шоссе».
«Неизвестные в доме».
«Аксолотль».
«Слюни дьявола».
Перечислять можно в любом порядке, суть не изменится.
И, конечно же, еще «Преследователь».
Про Чарли Паркера, «Птицу», с эпиграфом из Дилана Томаса
«O, make me a mask.»,
«СЛЕПИ МОЮ МАСКУ.»…
Мне вдруг попалась в руки книга, которая честно рассказывала о том, что мир
а). странен,
б). иррационален,
в).загадочен,
г). безумен,
д). и при всем этом предельно реалистичен.
Я ее читал и мне казалось, что я оказался дома. Дом, конечно, был сумасшедшим, но ничего плохого мне в этом не виделось. Меня это не фраппировало. Все это было cool, круто.
А скоро я и сам купил себе этот первый на русском языке сборник Кортасара. Совершенно случайно, он лежал в магазине, затерявшись между сочинениями каких–то забытых ныне деревенщиков и богато изданными томами классиков тогдашней советской литературы.
Пришли хронопы с фамами и все поставили на свои места…
Объяснили мне, что я — аксолотль, ведь действительно
«Я узнал об этом в тот день, когда впервые подошел к ним. Антропоморфические черты обезьян, вопреки распространенному мнению, подчеркивают расстояние, отделяющее их от нас. Полное отсутствие сходства между аксолотлем и человеческим существом подтверждало, что загадка верна, что я не основывался на простых аналогиях. Только лапки–ручки… Но у ящерицы тоже такие лапки, а она ничем не похожа на нас. Я думаю, что тут дело в голове аксолотля, треугольной розовой маске с золотыми глазами. Это смотрело и знало. Это взывало. Они не были животными [6].»
У Кортасара были аксолотли, у меня — тритоны.
Я выполз из прямоугольной стеклянной кюветы, плюхнулся на деревянный подоконник и пополз, пытаясь найти выход из того мира, в который меня поместили странные существа, именующие себя людьми. Маленький называл себя моим хозяином, но хозяев у меня никогда не было…
О том, что было дальше, я уже писал в этой книге.
Тритоны погибли смертью храбрых.
И одновременно — бесполезной, что всегда порождает бессмысленный и случайный героизм.
А фотограф Наиль просуществовал в моей жизни еще лет так десять, все больше и больше уходя куда–то на задворки, на обочину, в параллельные, редко пересекающиеся реальности.
Хотя несколько событий в моей жизни связаны с ним не меньше, чем явление книги Кортасара.
Так, примерно через год после этого памятного дня, мы провели с ним и еще одним моим приятелем, уже упоминавшимся ранее господином по фамилии Даманский, замечательную ночь с субботы на воскресенье.
Или с пятницы на субботу?
В общем, половину летнего уик–энда.
Было много сухого вина, а потом мы зачем–то начали фоткаться.
Голыми.
Ради прикола.
Чтобы оставить вечности свои молодые, нагие тела…
Наиль даже показал мне потом фотографии, но сразу же уничтожил, как и негативы — побоялся, что попадут кому–нибудь в руки и нас в чем–нибудь обвинят, хотя ориентация наша была совершенно традиционная и мы просто маялись дурью. Так что я жалею, что он тогда это сделал. Если бы эти фотки сохранились, то я мог бы иногда доставать их из какого–нибудь совсем уж дальнего ящика, перебирать и думать о том, какими ладными пацанами мы были. И с какими ладными, молодыми хуями.
Просто фавны на послеполуночном отдыхе…
Только потом, много лет спустя, мне стало ясно, что каждый из нас уже тогда был помечен слюной дьявола.
А значит, надо радоваться, что этих фотографий нет больше на свете. Может, их никогда и не было, так что бесполезно пытаться себе представить
КАКИМИ МЫ БЫЛИ…
Мне никогда не узнать этого, даже если я рискну вновь отыскать в какой–нибудь затерявшейся в прошлом книжной лавке красный томик рассказов давно умершего во Франции аргентинского писателя и начну водить глазами по первой же, случайно открытой странице, но о чем сможет сказать мне фраза «Иногда я думал, что все скользит, превращается, тает, переходит само собой из одного в другое. Я говорю «думал», но, как ни глупо, надеюсь, что это еще случится со мной.»?[7]
Правильно: ни о чем!
15. Про гомосексуалистов
Наверное, мне было бы приятнее сейчас писать о лесбиянках. По крайней мере, это женщины, а женщины мне милее. Только вот с лесбиянками в классическом виде, что называется, «по определению», я общался мало, а тем би–особям, с которыми меня сводила судьба, просто не находится место в тексте этих меморуингов.
Чего не скажешь о гомосексуалистах.
И дело даже не в отчиме, сыгравшем в моей жизни просто выдающуюся без всяких кавычек роль, не только оказывая влияние своим парадоксальным и рафинированным — как положено — интеллектом, но уже одним тем, что какое–то время его библиотека была полностью в моем распоряжении.
Это когда он уже жил в Москве и учился в аспирантуре, а их с матерью вещи стояли в бабушкиной квартире, где я и жил.
Для нормального человека книги там действительно были неправильными.
Например, знаменитый томик Кафки 1966 года издания, который я прочитал в десятом классе и сразу же дал одной знакомой девице, которая вернула его с вложенным листочком бумаги.
На нем ожидаемо четким и аккуратным почерком было выведено лишь одно слово:
БРЕД!
Именно так, с восклицательным знаком.
Но на меня этот бред действовал, как и пьесы Уильямса, Ануя, Сартра, etc, книги в отчимовской библиотеки были почти все театральной направленности, так что, прочитав работы Мейерхольда и Таирова, я сам решил податься в режиссеры.
Хорошо еще, что отчим был человеком мудрым и когда надо жестким, так что его НЕТ прозвучало не только безапелляционно, но и — для меня — доходчиво.
Я понял, что он прав, как он оказывался часто прав и впоследствии.
Когда я писал роман «Ремонт человеков», то одного из героев, Н. А., наделил некоторыми его чертами.
Наверное, в знак признательности за все, что он для меня сделал, и будто предчувствуя, что нам больше не увидеться.
Он успел прочитать роман, купил его в каком–то магазине на Тверской.
По–моему, он ему не понравился, да он и не должен был ему понравиться — роль гомосексуального наставника в жизни мужа героини была пусть и яркой, но довольно мрачной.
Совсем не то, что роль отчима в жизни моей.
Видимо, он посчитал, что я решил свести с ним какие–то счеты, вот только это совершенно не так.
Я вообще никогда не свожу ни с кем счеты, а если и вставляю в романы какие–то факты из своей биографии, то лишь по одной причине:
что знаешь пиши, чего не знаешь — не пиши,
по–моему, именно так сказано в любимой книге моего отчима [8]. Так что, если следовать данной писательской максиме, то о гомосексуалистах я могу писать, а о лесбиянках нет, ну что же, продолжим…
Прежде всего, до сих пор я к ним всем очень нежен.
Хотя бы потому, что не вызываю ни у кого из них желания, ведь одного умудренного взгляда хватает, чтобы правильно определить мою ориентацию.
Ну и, конечно, возраст — он уже не тот, в котором герой Хеллера промямлил некогда гениальную фразу:
НАКОНЕЦ-ТО Я ПОНЯЛ, КЕМ ХОЧУ БЫТЬ, КОГДА ВЫРАСТУ, КОГДА Я ВЫРАСТУ, ТО ХОЧУ БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ![9]
А я уже не хочу, ни маленьким мальчиком, ни подростком, ни юношей.
По многим причинам.
Например, чтобы ко мне не приставали — было и такое.
Повторю — это при всем моем нежном отношении к гей–сословию и к тем многочисленным моим друзьям и приятелям, к нему относящимся.
Пусть они непоследовательны, прагматичны, изменчивы, а часто и истерично непредсказуемы.
Так, несколько лет я приятельствовал с одним странным немцем, живущим в России, настоящим «весси» [10], а не каким–нибудь там лопоухим и конопатым «осси», даже называть его мне хочется именно так:
ВЕССИ.
Весси, Лесси, Осси…
Лесси здесь просто так — для ритма,
на самом деле собакам мой знакомый Весси предпочитал котов. Их у него дома — а жил он с бой–френдом, драматургом и режиссером, было то ли восемь, то ли девять. Весси переводил пьесы бой–френда на немецкий и немецкий же преподавал, а друг называл его не иначе, как grosse lieben — великая любовь…
Или большая?
Наверное, все же великая…
Мы с ним много общались и говорили на всякие замечательные темы. Например — о католицизме, было время, когда я сильно им интересовался и даже подумывал поменять конфессию. Но мне быстро объяснили, что если я стану истинным католиком, то не смогу пользоваться презервативами, а про оральный секс вообще должен буду забыть, так что я решил остаться православным, хотя отношение родной конфессии что к презервативам, что к оральному сексу тоже далеко не позитивно…
А еще мы говорили о ментальности. Восточной/западной/русской. И про книжки всякие разговаривали, например, про Арно Шмидта он мне рассказывал — был такой немецкий Джойс. И про музыку не забывали — Весси был меломаном и получал из Германии просто тонны компакт–дисков. Когда он пребывал в депрессии, то слушал Каллас. Или все — сколько их там? — части вагнеровских «Нибелунгов». А я тоже бывал в ударе, как–то позвонил и начал читать ему Кавафиса:
«Юным телам, не познавшим страсти, умиранья,
— им, взятым смертью врасплох и сомкнувшим очи…»[11]
— Мне надо найти это на немецком! — эмоционально говорил в телефон Весси.
Именно, что говорил. В прошедшем времени.
Просто в один прекрасный день мне позвонил его бой–френд, тот самый театральный человек, помешанный на своей уходящей славе, и закатил скандал. Абсолютно не рафинированный и где–то даже вульгарный. То есть — с матом и воплями. До сих пор не могу понять, что послужило этому причиной, да — наверное — уже и не пойму.
Но с тех пор мой немец пропал.
Будто его никогда и не было.
И МНЕ НЕКОМУ БОЛЬШЕ ЧИТАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ КАВАФИСА!
Жаль только, что Кавафиса я открыл для себя очень поздно, всего несколько лет назад. Ведь скольким милейшим людям я мог бы его почитать и посмотреть, что из этого получится. Например, еще при коммунистах, в самом начале гнусных восьмидесятых, один хороший маменькин знакомый, умнейший и эрудированнейший московский кинокритик, некогда тоже проживавший в городе Сврдл, зачем–то дал мой телефон некоему своему знакомому, посетившему наш чудный град по служебным надобностям.
Я знал про ориентацию критика, но ведь это — дело сугубо личное, по крайней мере, если вспомнить жизненные уроки отчима.
Так что я совершенно спокойно направился на встречу с длинным и тощим комсомольским — как оказалось — функционером, который своими длинными шагами вымахивал рядом со мной по улице (на один его шаг приходилось два моих) и отчаянно зазывал меня в гостиницу выпить чая.
Или водки.
Или сухого вина.
Вот тут бы и почитать ему Кавафиса, например:
«Когда в зените ты, когда ты Цезарь,
когда ты притча на устах у всех,
будь вдвое осторожен — особливо
на улицах, в сопровожденье свиты.»[12]
Вместо этого я посмотрел на часы и невинно заметило, что пора домой, там ждет жена.
Меня действительно ждала дома жена, по–моему, еще вторая.
А может, уже третья.
ОПЯТЬ НЕ ПОМНЮ!
Но в результате длиннющий и худющий функционер внезапно как–то засуетился и выяснилось, что ему пора.
Немедленно: какая–то деловая встреча и он мне позвонит завтра.
Не позвонил, но я и не расстроился.
Зато расстроился я в тот раз, когда лет за десять до этого смешного случая зашел в общественный туалет, на месте которого сейчас располагается какой–то несуразно дорогой торговый центр. Туда временами ходит дочь — видимо, шоппингует глазами.
А мне там делать нечего, поэтому и не хожу.
Ну а в туалет тогда зашел, был летний вечер, только вот скорее всего это опять меморуинги, и сквозь руины проглядывает как упомянутый летний вечер, так и неясно откуда налетевший порыв ветра, принесший с собой омерзительную взвесь дождя.
Это был типичный совдеповский туалет с грязным кафельным полом, пахнущими писсуарами и тусклой лампочкой, свет от которой еле пробивался через запыленный матовый плафон.
И тут глагол «расстроился» надо заменить на другой — «испугался».
Я был еще школьником, но временами уже боялся людей.
И тип, стоящий в самом углу, мне сразу не понравился.
Он был в плаще, хотя на улице было лето.
Может, из–за его плаща мне сейчас и кажется, что тогда шел дождь?
Быстренько отжурчав, я начал продвигаться к дверям, за которыми пахло намного лучше.
Внезапно тип оказался передо мною.
Он распахнул полы плаща и я остолбенел.
Он был без брюк и без трусов.
И одной рукой раскачивал свой тупой и толстый шланг.
Не знаю, что на меня нашло, но я вздрогнул, подпрыгнул и врезал ногой ему по яйцам.
Потом развернулся и помчался к выходу на улицу.
Видимо, ему стало больно и он завопил.
До сих пор мне кажется, будто я различал тогда каждое слово.
Что–то вроде:
ПАРЕНЬ, Я ВЕДЬ ПРОСТО ХОТЕЛ У ТЕБЯ ОТСОСАТЬ!
На улице действительно моросил дождь и уже зажигались фонари.
Блеклые, тусклые, люминесцентные.
«Простите меня, что я приносил вам беду…», но это уже не из Кавафиса.[13]
16. Про то, как я играл в театре, а так же про эксгибиционизм и вуайеризм
Театр назывался «Пилигрим» и располагался на седьмом этаже второго здания университета, где находились факультеты для очень умных — физический, математический, химический, биологический, в общем, не нам, гуманитариям, чета. А еще там был клуб, где и обосновался театр.
В котором непонятно в какой уже день оказался и я, как то и положено любому нормальному юноше–эксгибиционисту, так как юноши — они всегда эксгибиционисты, да и девушки, между прочим, тоже, одно постоянное желание: выставить себя на публику.
Хотя я до сих пор этим грешу, например, те же меморуинги можно назвать еще и «Записками эксгибициониста». Таким образом, получается уже четвертый вариант названия:
1. Полуденные песни тритонов,
2. Надписи на книгах,
3. Удаленные файлы,
4. Записки эксгибициониста.
Только с годами любой человек начинает грешить девиацией иного рода, вуайеризмом, а писатели так вообще на этом заклиниваются, постоянно подсматривают, подглядывают, подслушивают, поднюхивают, одним словом — подвуайеривают. Ладно я, даже в бинокль на противоположные окна не смотрю, а ведь есть и такие, что ходят как шпионы с записными книжками и в них каждое слово записывают, будь это хоть в автобусе, хоть на рынке или в магазине — никакой разницы!
Впрочем, и я сейчас хорош — подглядываю за тем собой, который в пылу юношеского как самолюбования, так и глубочайшего нигилизма приперся в упомянутый уже театр, дабы предаться публичному обнажению своей души на сцене.
Между прочим, это был второй театр по счету. Название первого, как и положено, не помню, но зато хорошо засела в голове сцена, где несколько человек несут на носилках какого–то бедолагу. И вроде бы я тоже должен был там суетиться, чуть ли не в белом халате, вот только что это могло бы быть?
УРА!
ВСПОМНИЛ!
«ФИЗИКИ» ДЮРРЕНМАТА…
Но в «Физиках» меня на сцену так и не выпустили, наверное, побоялись, что из–за среднего своего роста и непредсказуемого в проявлениях на тот момент возраста я могу кого–нибудь и уронить.
Или уронят меня.
Что тоже не очень–то приятно.
Поэтому я и перебрался в другой театр, репетировавший не по вторникам, скажем, и четвергам, а — предположим — по средам и пятницам.
Или наоборот:
по вторникам и четвергам!
«Пилигримом» же театр назывался потому, что его создатель, он же главный режиссер, он же автор всех инсценировок, физик–теоретик (так мне сейчас кажется) по специальности очень любил одну песню, в которой были такие слова:
«Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы
идут по земле
пилигримы.»
Каждая репетиция начиналась с того, что весь списочный состав радостно и вразнобой орал эту песню, мне тоже хотелось орать с ними, вот только знать бы еще, кто был автором — про Бродского я услышал лишь несколькими годами спустя, но лишь сейчас могу с уверенностью заявить, что
все в жизни есть ни что иное, как цепь совпадений, и хорошо известно, что порождается она, скорее всего, лукавым.
Но это сейчас мне так кажется, когда игра в разгадывание знаков/совпадений уже не приносит никакого удовольствия — одна привычка, только если все же заняться таким анализом всерьез, то получается странная штука.
Что в том времени, что — в этом.
То есть, как в том времени вся моя театральная история наполнилась какими–то странными совпадениями, так и в моей нынешней жизни есть многое, что напрямую связано все с той же самой историей.
ПРО ТО ВРЕМЯ.
Тут все очень просто.
Театр назывался «Пилигрим» и был он так назван уже сказано, почему.
А дело происходило весной 1972 года.
Можно и прописью, вот так:
одна тысяча девятьсот семьдесят второго года.
Именно того года, когда поэта Бродского решили выслать из этой самой страны.
Я ничего об этом, естественно, не знал, я просто репетировал одну роль в спектакле «Слег» студенческого театра «Пилигрим».
Наш режиссер, он же главный режиссер, он же просто руководитель всего написал инсценировку по повести братьев Стругацких «Хищные вещи века», первую премьеру мы должны были сыграть 26 мая, через два дня после дня рождения все того же поэта Бродского, хотя — повторю — ничего конкретного я тогда ни о нем, ни о его дне рождения просто не знал.
Должна была быть еще и вторая премьера, 4 июня.
В тот самый день, когда поэт Бродский улетел из этой самой страны.
И если это не какое–то очень странное совпадение, то я ничего не понимаю в этой жизни!
ВООБЩЕ НИЧЕГО!
Бродского выслали, наш театр — разогнали.
После первого же показа нового спектакля.
А ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ТЕАТР НАЗЫВАЛСЯ ИНАЧЕ?
НАПРИМЕР, «ДЯДЯ СТЕПА»?
Ладно, поехали дальше — в
ДРУГОЕ ВРЕМЯ.
В спектакле «Слег» я играл одного типа, которого звали Пеком Зенаем. А кликуха у него была Буба. Тип этот раньше летал в космос и был очень положительным, прямо как я в детстве, если исключить космос, а потом все стало наоборот — мне это тоже многое напоминает.
Например, этот Пек стал алкоголиком и наркоманом.
«Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.
— Пек, — сказал я, — ты что же, дружище, не помнишь меня?
Он снова оглядел меня.
— Да нет… Наверное, видел где–то…»
Это, между прочим, из той самой сцены, где я, захлебываясь, дул из стакана воду и заедал ее самым натуральным сахаром. Чтобы отыскать эту цитату мне пришлось опять полезть в интернет — этой повести Стругацких дома не оказалось, но она естественно нашлась в библиотеке Мошкова, на , и я с удовольствием ее перечитал, а потом подумал, что как все это засело во мне еще с тех самых пор — и атмосфера странного, солнечного, курортного городка, и Иван Жилин, и Мария, и Вузи, и Римайер, да и Пек, который так и не сделал того, о чем его просил бывший сокурсник Жилин:
«— Вас тут дожидаются, — сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.
Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:
— Ну? Чего надо?
Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.
— Пек Зенай, — тихо произнес я, — курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с земли на небо.»
НО ПЕК НЕ ВЕРНУЛСЯ!
После этого спектакля меня еще несколько лет потом звали Пеком, я не пил спирт стаканами, предпочитая коньяк и водку, а еще белый ром, да и что касается слега, то просто ввиду отсутствия такового пристрастился к другим препаратам и снадобьям, чему в любом случае придется посвятить отдельный меморуинг, и явно, что не веселый, но вот что меня сейчас интересует, в этот самый момент, когда я увлеченно подглядываю за эксгибиционирующим на сцене парнишкой, одетым чуть ли не во все тот же серый свитер крупной кольчужной вязки, в котором он уже встречался нам несколькими главами раньше — под проливным июльским дождем, на одинокой, вечерней, плохо освещенной улице.
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ, ПРЕДПОЛАГАЕТ ЛИ ЭТОТ ПАРНИШКА, ЧТО С НИМ ПРОИЗОЙДЕТ.
И СТАЛ БЫ ОН СЕЙЧАС ИГРАТЬ ЭТОГО САМОГО ПЕКА, ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ, ЧТО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЖИТЬ В ЕГО ШКУРЕ.
Мне трудно говорить за него, но отчего–то я думаю, что ДА, ничего бы не изменилось, ведь совпадения, которые предусматривает лукавый, просто так не бывают.
Ведь вполне вероятно, что тогда не было бы сегодняшнего меня и я не писал бы эту книгу, пытаясь вспомнить, что, как и когда действительно было.
А другой «я», без того давнего погружения в жизнь героя Стругацких, ее бы не писал.
Я вообще не знаю, чем он мог бы заниматься.
Может, бизнесом.
Может, экстремальными видами спорта, хотя литература есть и то, и то, ты бизнесмен тире частный предприниматель, и ты постоянно занят самым экстремальным видом спорта — письмом.
Будучи при этом отчасти эксгибиционистом, отчасти вуайеристом, как некогда был актером студенческого театра «Пилигрим», после разгона которого впервые попал в какие–то черные списки, что тоже сыграло свою роль.
Как и книги братьев Стругацких.
И многолетний алкоголизм.
И глотание таблеток горстями.
Все играет свою роль, недаром за это отвечает лукавый, хотя вот тут я не уверен — может, это кто–то другой?
Только Господь не имеет привычки раскрывать свои планы, поэтому — не знаю.
Как не знаю и того, что на самом деле случилось с Пеком Зенаем, когда ему приказали вернуться с земли на небо.
Но на самом деле: так вернулся я или нет?
17. Про то, как я был хиппи
Бывший хиппи Тортилла делает надгробные памятники. Или делал — мы не виделись уже несколько лет, еще с прошлого тысячелетия, когда то ли весной, то ли осенью встретились в троллейбусе.
Не зимой, не летом, что остается?
Правильно: либо весной, либо — осенью.
Так вот, мы встретились, заулыбались, а потом я его спросил:
— Ты чего делаешь, Тортилла?
И он гордо ответил:
— Надгробные памятники!
Я подумал, стоит ли занять у него денег, но потом вгляделся повнимательнее ему в глаза и решил, что все равно не даст.
А вот когда мы с ним были хиппи, то денег друг у друга не занимали — их просто не было, а когда они были, то считались общими. Наверное, это было единственным, что роднило нас с хиппи настоящими, «забугорными», про которых можно было иногда прочитать в какой–нибудь странной книжке или выловить строку из поэта Вознесенского:
НАМ ДОРОГУ УКАЖЕТ ХИППИ!
Само собой, что не просто какую–то дорогу из пункта А в пункт Б, а концептуальную, мировоззренческую, что называется,
THE WAY OF LIFE.
Проще говоря, кто–то шел в комсомол, а кто–то в хиппи, хотя со мной тут вообще было весело — обретаясь, как и положено по моим тогдашним годам, во Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи, без чего мне никакого университета бы не светило, я одновременно был и ярым адептом flower power, таким вот «кабинетным» теоретиком «цветочного» движения, какими практически на девяносто процентов были все «хайрастые» молодые люди…
НО ВСЕ РАВНО:
если и писать об этом, то явно надо не так!
И не в Тортилле дело, пусть и дальше ваяет надгробные памятники.
И не в безумном Гилберте, который, напиваясь в те давние времена, орал хрипловатым и скрипучим голосом «дойчланд, дойчланд, юбер аллес!».
И не во всех нас, которые давно уже кто сед, кто лыс, а кто и просто смешался с землей.
Дело в дороге.
В пути.
В том самом
the way of life.
На самом деле мой земной хипповый путь занимал ровно месяц, с 26‑го июля 1972 года и до или 24‑го, или 25‑го августа.
Может, месяц и два дня.
А может, месяц без одного…
Кучка придурков села в поезд. Безбашенные вакации. Каникулы идиотов. Поезд шел в Москву. Идиоты пили вино и горланили песни. Smoke on the water, дальше не помню, выскакивает лишь слово то ли fly, то ли cry. Это из Deep Purple. Или вот это: you got to move, you got to motion… Уже из Rolling Stones. Бедные проводники, кое как распихавшие заснувшую пьяную ораву в каком–то вагонном депо, куда состав загнали на стоянку.
Кто–то из безбашенных порывался позже лечь спать чуть ли не у самой кремлевской стены.
Не дали менты, наверное, правильно и сделали.
У меня тогда были абсолютно дебильные джинсы, память о каком–то мифическом австралийском ковбое, с кожаной вставкой между ног, безумно натиравшей промежность.
Между прочим, наступивший август был таким жарким, что до самого конца коммунистической эпохи такой жары больше не бывало.
Солнце жарило и парило, потная кожа зудела, но других штанов у меня с собой не было.
Да и эти были не мои, их на время мне выделил Гилберт, хотя на самом деле если и было что–то подобное, то все равно это было не так, хотя точно известно, что дня через три после своего пьяного прибытия в Москву четверо безбашенных идиотов пешком перлись в немыслимо ранний час на Белорусский вокзал и один из них сипел охрипшим голосом самую главную хипповую песню тех лет:
КУДА ИДЕМ МЫ С ПЯТАЧКОМ…
А остальные, вразнобой, подхватывали продолжение:
БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!
Почему–то мне казалось, что Пятачком был Тортилла.
А сколько нас было на самом деле уже все равно — четыре ли человека, пять?
Да какая разница!
Безбашенные сели в поезд.
Поезд шел во Владимир.
Только много лет спустя я понял, зачем поперся тогда в это странное псевдо–странствие по старым русским городам.
Наверное, мне надо было сделать себе прививку Богом.
Чтобы убедиться — он действительно есть и все мы зависим от него.
Попасть в параллельную, несоветскую реальность и уяснить, что в этой стране когда–то были времена, лежащие вне коммунистического пространства.
Но это сейчас я могу формулировать, а тогда был способен лишь просто смотреть и вбирать в себя то, что было вокруг.
Многочисленные разрушенные храмы, тоскливо курящиеся дымками деревни, желтые поля созревшей пшеницы.
Над полями летали стаи черно–серых ворон — я это помню до сих пор.
Во Владимире мы спали на берегу реки, неподалеку два маргинала ловили рыбу и предложили нам поменять ее на водку.
В Успенском соборе шла служба, я абсолютно не ведал, что надо делать, оказавшись внутри в подобный час.
Джинсы я уже отдал обратно Гилберту и взял у него взамен удобные старые штаны, не исключено, что раньше принадлежавшие мне.
Единственное, что я помню абсолютно точно из тех времен, так это то, что именно тем летом придумал свой первый рекламный слоган, еще даже не зная, что называется это именно так.
Вот он:
ДЖИНСЫ — ЭТО НЕ ОДЕЖДА, ДЖИНСЫ — ЭТО ФИЛОСОФИЯ!
И было это почти тридцать два года тому назад…
После Владимира мы потащились в Суздаль, пешком, по обочине большака.
Добрались под вечер.
Нас сразу же захотели побить.
Нас хотели побить в Суздале.
Затем нас чуть не побили в Ростове Великом
Несколько дней спустя почти побили в Ярославле.
Отмечу, что кого–то из нас пытались побить в Новгороде.
Не говоря уже о городе на Неве, где пытались побить лично меня!
Зато именно под Суздалем я и сделал себе прививку Богом.
КУДА ИДЕМ МЫ С ПЯТАЧКОМ БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!
С Пятачком — Тортиллой мы улеглись спать в стогу сена, рядом в таком же стогу спали наши попутчики — как и положено, во время дороги паломников становилось больше, в Суздале к нам присоединились двое таких же, как и мы, безбашенных из Питера, музыкант и художник, так что оба стога были нафаршированы людьми под завязку.
Несмотря на жаркий август, я проснулся от утреннего холода и вылез из сена.
Все было в тумане, до самого горизонта.
Только вдруг из этого молочного месива прямо перед моими глазами возникла аккуратная белая башенка с покатым куполом.
Я знал, что это был храм Покрова на Нерли, я должен был это знать, но то, что я увидел, был чем–то другим.
Башенка парила над землей, над ней всходило солнце.
Я не пересказываю сейчас некогда полученный мистический опыт.
Я просто хочу сказать, что если в жизни и бывают какие–то моменты, после которых все встает на свои места, то этот был одним из них.
Я стоял в тумане, ничего не было видно, кроме храма Покрова, освещенного солнцем.
Наверное, именно тогда я и понял, что Он есть, вот только с тех пор подобное ощущение переживал лишь четыре раза:
в Храме Гроба Господня в Иерусалиме,
в Храме Рождества Христова в Вифлееме,
в маленькой церкви Двенадцати апостолов на берегу озера Кинерет, оно же Галилейское или Тивериадское море,
и в Кафедральном соборе каталонского города Жирона, куда нас с дочерью занесло в самый жаркий полуденный час, и вот там, внутри, под высокими и гулкими сводами, внезапно зазвучала музыка, хотя орган молчал и только приглушенные голоса немногочисленных туристов слышались вокруг.
Но тот, первый, на берегу реки Нерль, был если и не самым главным, то уж, по крайней мере, наделяющий смыслом все безумие так называемого «хиппового» паломничества того уже давнего лета, с редким курением травы и частым глотанием таблеток, бесконечным пьянством и дурманящим ощущением где–то существующей, но так мало доступной тебе свободы, той, истиной, которая идет не от человека, а от Бога.
Свободы быть самим собой.
И той ответственности, которую налагает на тебя эта свобода.
«Посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму красуется белокаменная церковь Покрова 1165 г., одно из самых лирических творений древнерусских зодчих. Вокруг — полный покоя и поэзии луговой простор. Вольный воздух, высокое небо, пышные травы — и на взгорке, на берегу тихой старицы — нежный силуэт древней церкви…. Центральное место в ней принадлежит библейскому царю Давиду, чей образ связывается в богословии с идеей Покрова — покровительства Богоматери.»
(? menu
=church_architecture)
Все остальное уже малосущественно.
Разве что ощущение постоянно голода, которое преследовало нас с Тортиллой.
Остальные то ли меньше хотели есть, то ли жевали в те моменты, когда нас не было рядом.
Нам же хотелось чем–то набить животы постоянно.
В Суздале перепали соленые огурцы.
На полпути в Ростов Великий — селедка.
В Ярославле нас кормили жареной картошкой, Ярославль — хороший город!
А еще были Юрьев — Польский, Переславль — Залесский и Гусь — Хрустальный.
КУДА ИДЕМ МЫ С ПЯТАЧКОМ…
В ответ Винни — Пуху Пятачок поет:
«I say goodbye to Colorado —
It’s so nice to walk in California…»,
что означает
«Я прощаюсь с Колорадо,
Так приятно шагать по Калифорнии…»,
ведь для нас тогда это идиотическое летнее странствие было, скорее всего, тем же самым, только в других географических координатах, что и для певца Эла Уилсона из уже забытой напрочь группы «Canned Heat», покончившего жизнь самоубийством 3 сентября 1970 года.
Как сказано в большом поминальнике с мрачным названием «Зал славы мертвых рок–звезд»: «из–за передозировки снотворных препаратов». Между прочим, случилось это всего за пятнадцать дней до того, как в небытие отошел и Джими Хендрикс, скончавшийся 18 сентября того же, 1970 года, а ровно два года спустя, 18 сентября 1972 года, мы тащились с Тортиллой по дождливому вечернему Сврдл и вспоминали, как какой–то месяц с небольшим назад бродили по этой необъятной стране в поисках собственной свободы.
Естественно, что мы ее тогда не нашли.
А значит — и вспоминать–то нам было не о чем.
И эта дата, 18 сентября, тоже взята произвольно, как произвольно все, что именуется меморуингами.
Но то, что бывший хиппи Тортилла еще совсем недавно делал надгробные памятники, не подлежит никакому сомнению — он сам мне об этом рассказывал в конце прошлого тысячелетия.
18. Про то, как меня лишили девственности и про то, как я лишал девственности
Это меморуинг — классический флэшбэк по отношению к предыдущему.
То есть, хронологически их надо бы поменять местами, но получилось так, что в первоначальном плане тот был указан под семнадцатым номером, а этот — под восемнадцатым, события того проходили, в основном, в августе, а в этом будут происходить в июле, может, в самом конце июня, но все того же лета 1972 года, которое было для меня чем–то вроде калифорнийского summer of love.
Лета любви…
Лета, когда мне исполнилось восемнадцать, но до этого я умудрился и сам лишиться девственности, и уже лишить девственности.
То есть, лета окончательной инициации и пресловутого мужского взросления/становления, что в определенный период жизни кажется самым важным из всего, что может произойти.
Только вот в последующей мужской мифологии сия данность якобы имеет не такую «судьбоносную» цену как в мифологии женской, но именно, что «якобы» — это как с получением диплома о высшем образовании, когда он у тебя есть, то это сразу ставит тебя по другую сторону от тех, у кого его нет.
И точно так же когда ты уже всунул кому–нибудь, то ты совсем другой по сравнению с теми, кто этого еще не сделал.
Вот только у меня это произошло совсем не с той, с которой я бы этого хотел. Наверное, это правильно, потому что если бы я стал мужчиной благодаря той, с которой действительно этого хотел, то мое будущее сложилось бы иначе и не исключено, что я просто не сидел бы сейчас за компьютером и не предавался всем этим меморуингам.
Не разгребал руины и не вытаскивал из–под них заплесневелые фантомы памяти.
И вообще не знал бы, что это такое — писание романов, рассказов, эссе и вообще ТЕКСТОВ.
То есть, просто бы не жил!
А так все сложилось в чем–то очень даже удачно, мне просто необходимо было уже хоть кому–то да всунуть, а тут ко мне пришел в гости один знакомый недоучившийся философ, по совместительству портной по пошиву мужских брюк и большой тусовщик.
Бабушка с дедом были на даче, недоучившийся философ принес с собой сухого вина в большом количестве и после то ли второй, то ли третьей бутылки я собрался с духом и промямлил:
— М–м–м-м…
— У тебя где телефон? — спросил портной по пошиву мужских брюк.
— В коридоре! — честно ответил я.
Телефон действительно был в коридоре, висел на стене, и если разговор намечался долгим, то надо было брать стул, тащить его в коридор и ставить между стеной и дверью в туалет, такая вот смешная была квартира.
— Сейчас придут девчонки! — радостно провозгласил большой тусовщик, возвращаясь в комнату, где я печально смотрел на еще не откупоренные бутылки с дешевым сухим вином.
— Откуда они? — поинтересовался зачем–то я.
— Из «консы»! — сообщили мне в ответ, под «консой» здесь подразумевалась консерватория.
Но вместо девчонок с дачи прибыли бабушка с дедушкой, бутылки быстро были сгружены в сумку и мы отправились ждать милых дам на улицу.
Наверное, это был конец июня — самое начало июля.
Темнело очень поздно, точнее — почти совсем не темнело.
Только может, все опять действительно было не так, и девицы успешно добрались до моего дома, но потом в любом случае появились бабушка с дедушкой, потому что
все произошло на даче, ведь дача есть ни что иное, как то сакральное место, где что–то должно происходить!
ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ, ЧТО МЕНЯЕТ СРАЗУ ЖЕ ВСЮ ТВОЮ ЖИЗНЬ…
Хотя в контексте того, что вот–вот должно будет произойти, данное утверждение выглядит попросту смешным.
Зато девица так не выглядела.
Между прочим, я до сих пор помню, как ее звали, как и положено по «энциклопедии русской жизни» — Татьяной.
Ни лица, ни того, какая у нее была прическа, ни даже груди ее не помню, а вот имя — осталось…
И еще то, что у нее был немыслимо заросший лобок. Просто какие–то непроходимые заросли.
Я продирался сквозь них в маленькой комнатке на чердаке, на древней скрипучей кровати, принадлежавшей некогда — если верить бабушке с дедушкой — еще известному деятелю революции Швернику[14], будущая то ли классическая вокалистка, то ли дирижер народных хоров терпеливо лежала подо мною, пока, наконец, ей это не надоело, она взяла мой член рукой и засунула его себе в ту самую дыру, самостоятельные попытки добраться до которой меня ни к чему не привели.
Я всунул и сразу же кончил.
Ну, почти сразу.
Она улыбнулась и погладила меня по голове.
На меня же навалилась такая беспросветная тоска, что я просто взял да и уснул, так и будучи сверху на ней, а проснулся от того, что почувствовал, как она пытаясь спихнуть меня то ли с себя, то ли вообще с некогда революционной кровати.
Я послушно сполз и потащился вниз, по деревянной лестнице на первый этаж, на веранду, куда, услышав шум, и вышел мой сексуальный крестный.
— Да, — сказал он, мрачно уставившись на меня, — у тебя что, всегда такая в глазах тоска после ебли?
— Всегда! — честно соврал я, побоявшись признаться, что сегодня это было в первый раз.
— Проспринцевался бы ты марганцем, — прогундосил он, — так. на всякий случай!
— Хорошо, — кивнул я головой и стал лихорадочно соображать, где тут у бабушки может быть марганец.
Он оказался там, где я и рассчитывал.
За окнами было совсем светло.
Пора было собираться обратно.
Когда мы прощались, уже в городе, она сказала мне:
— УДАЧИ!,
и я понял: она догадалась, что была у меня первой.
БОЛЬШЕ Я ЕЕ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ, КАК ТОГО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ.
На этом заканчивается первая часть «половой» саги того лета и начинается вторая.
Про то, как я лишал девственности.
Но начну я ее с того, что одной моей знакомой когда–то казалось, что к ней в письку могут залезть тараканы. Она так и говорила — письку. Фрейд бы заметил, что это ни что иное, как явно выраженная боязнь дефлорации, ведь тараканы здесь ни что иное, как замещение неотвратимо маячащего где–то поблизости фаллического символа.
— Ну и как ты избавилась от них? — спросил я.
— Они сами пропали, — очень даже радостно проговорила она, — с тех самых пор, как меня в первый раз трахнули!
И мне все стало ясно. И даже где–то грустно. Просто когда они боятся, что к ним в письку залезут тараканы, как сразу же начинают искать какой–нибудь подходящий мужской объект, желательно, безобидный с виду, и потом раз и навсегда решают все свои проблемы: тараканы остаются только или на очень уж грязных кухнях, или где–нибудь в теплых странах, где это не просто тараканы, а большие, зловещего вида монстры, размером с гигантского жука–плавунца, хотя это и не те плавунцы, что обитали в морях девонского периода.
Таким вот типичным «изгонятелем» тараканов я был дважды в жизни, хотя второй раз — дефлорация собственной второй жены в брачную ночь — не столь романтичен, как первый.
Прежде всего потому, что та, первая особа была не просто неким субъектом женского пола — она была личностью, яркой, сумасбродной, очаровательно–талантливой. Вскоре после нашего короткого и мимолетного романа перебралась в Москву, начала писать сценарии, по одному из них в конце восьмидесятых был поставлен нашумевший фильм, сейчас бы попавший под отсутствующее тогда определение «культового». Много пила, была замужем, родила ребенка. Потом умерла.
И ни в конце семидесятых, ни в восьмидесятых, ни после мы уже не встречались.
Ни ей, ни мне этого не хотелось, скорее всего, если она и вспоминала про то давнее лето, то я фигурировал в ее недоступных мне меморуингах лишь как Тот Самый, Кто Сделал Ей Долгожданный прокол, а она действительно этого хотела — ей было уже двадцать три и девственность просто мешала.
Ну прямо как героине моего романа «Ремонт человеков», неужели когда я описывал сцену лишения героини девственности, то думал о ней?
МОЖЕТ БЫТЬ!
Хотя на самом деле процесс этот растянулся на несколько недель.
Один раз мы попробовали это у меня дома, когда бабушка с дедушкой — естественно — были на даче: —)). Она испугалась.
Потом — у нее дома, на совсем другом конце города. Я ехал чуть ли не первым троллейбусом, метро тогда в городе еще отсутствовало. От остановки надо было идти минут двадцать пешком. Она опять испугалась.
Потом какой–то большой компанией мы поехали в лес, залезли на чужую дачу, устроили там бедлам. Под утро мы пошли с ней гулять. Она была не только старше меня, но и выше, я елозил руками под ее кофтой и она совсем уж было решилась снять джинсы, как полил проливной дождь.
А вот в следующий раз все удалось.
Как там об этом, в романе «Ремонт человеков»?
«Лес был сосновым и светлым, воздух был пропитан терпким ароматом настоянной на солнце сосновой хвои.
И я подумала, что это очень подходящее место.
Залитый солнцем холмик с видом на полную ромашек поляну.
Я села прямо на траву, а потом просто легла на спину. Солнце слепило и я зажмурила глаза.
И тут же ощутила на губах его губы.
Он был нетерпелив, он боялся, что я очнусь и ему все обломается, как и прошедшей ночью.
Он ползал губами по моему лицу, а рукой шерудил под юбкой, стремясь то ли порвать трусы, то ли разорвать, но никак не снять.
Я лежала, все еще не открывая глаз, только легла так, чтобы ему было удобнее.
Он стянул с меня трусы и задрал подол платья. В попу впились колкие травинки и я заерзала.
Тут я почувствовала, как он с силой раздвинул мои ноги и начал пихать между них свой член.
Как оказалось, я была абсолютно не готова к этому.
Больно и противно, хотя он уже заполнил меня внутри и начал дергаться на мне, как заводной.
И сразу же кончил.
Он сделал свое дело и должен был исчезнуть из моей жизни…»[15]
Остается добавить лишь два примечания.
Первое: на самом деле на холмике тоже ничего не вышло, прошел кто–то то ли из грибников, то ли из ягодников и нас согнал. Так что произошло все на узкой тропинке в перелеске, между тем самым холмиком и следующей поляной. Сейчас там везде одно болото.
И второе: я действительно исчез из ее жизни. А она вот в моей осталась. Поэтому я и не пошел в свое время смотреть то некогда нашумевшее, культовое кино.
19. Про бочки с бычьей кровью и другие ошметки в памяти
Опять приплывают тритоны…
Маленький мальчик склоняется над канавой. В мутноватой, стылой воде мечутся неясные тени. Они нагоняют страх — что будет, если вода вдруг взгорбится и из нее с ревом вывалится допотопный, мрачноватого вида ящер, щелкнет челюстями, схватит за голову и утащит его туда, в эту сумрачную, иллюзорную бездну?
Если хорошенечко пошерудить в черепе, то можно отыскать много подобного бреда.
Какой–то необъятный и плохо освещенный склад, забитый ящиками с невскрытыми консервными банками, лишенными этикеток.
На крышках когда–то были выдавлены даты. Часть цифр уже не различима, разве что год еще можно кое–как прочитать, да и то — не на всех.
Тускло светит одинокая лампочка на длинном, витом проводе. Одна на все помещение. Сыро. На стенах должна быть плесень — чувствуется резкий запах пенициллина.
В кармане находится странной формы консервный ключ, я достаю его и думаю, с чего бы начать, какую банку открыть первой.
Вот эту?
Раньше в таких продавали сайру, бланшированную в масле.
Или морскую капусту — всегда любил ее запах, но терпеть не мог вкус.
Да и запах был предпочтительнее тот, что на берегу, когда идешь по самой кромке песка, почти по воде, и разгребаешь ногами перепутанные, толстые водоросли буровато–коричневого цвета.
Запах соли, йода и еще чего–то очень резкого, будто к носу поднесли флакончик с нашатырным спиртом.
Со мной такое было когда–то, принес в класс бутылек с эфиром, думая усыпить зачем–то соседку, но вдохнул сдуру сам и рухнул на парту. Очнулся от того, что мозги выдирались наружу и выпадывали, чуть ли не квакали глаза — это школьный врач дала подышать нашатырем.
Голова кружилась и хотелось лечь на пол, свернуться безмозглым комочком, изменить окрас, стать невидимым.
Если поднести эту банку к уху, то можно расслышать, как в ней отдаленно что–то гремит.
Приноравливаюсь и начинаю вскрывать.
Вместо сайры, бланшированной в масле или морской капусты, из банки выезжает трамвай.
ШЕЛ Я ПО УЛИЦЕ НЕЗНАКОМОЙ И ВДРУГ УСЛЫШАЛ ВОРОНИЙ ГРАЙ…
Улица знакомая, самый центр города. Следующая остановка — «Оперный театр».
Слева сейчас покажется памятник революционеру Свердлову, постамент которого на моей памяти так часто заливали краской, видимо — за все хорошее, что он сделал людям.
Еще левее должен быть университет, в котором я когда–то учился.
Пять лет + еще один, если считать академку.
Академический отпуск.
Диагноз: маниакально–депрессивный синдром с реактивным неврозом.
Давно это было…
Содержимое банки явно относится к более поздним временам, хотя это еще та страна, Советский Союз — вон болтается на ветру обветшалое красное знамя.
Почему эта банка хранится здесь, на складе?
Оглядываюсь и соображаю: все дело вон в той дамочке, точнее — в ее шляпе.
Такое не забывается никогда.
Чуть ли не полметра в диаметре, с какой–то кружевной вуалеткой, все соседи по вагону смотрят на мадам, как на безумную.
Именно, что —
МАДАМ!
Ее явно считают здесь сумасшедшей, шляпа такая большая, что приходится держаться поодаль, вокруг дамочки, таким образом, образовывается пустое место, четко различимый заколдованный круг.
Мне пора выходит и ничего не остается, как пересечь его, пытаясь пронырнуть под шляпой. Она поворачивает голову в мою сторону и я вижу, что у нее нет лица.
Но трамвай уже закрывает двери и идет дальше.
Следующая остановка — Бажова, по спине пробегают мурашки, видно, как в ближайшем ко мне трамвайном окне колышутся поля необъятной, чудовищной шляпы…
Я отбрасываю банку в сторону, она падает в кучу таких же, небрежно наваленных на полу, и иду по складу дальше.
В принципе, я догадываюсь, что это такое:
это КЛАДБИЩЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ МЕМОРУИНГОВ,
случайные ошметки памяти, не связанные единым сюжетом.
Какие–то дурацкие, некогда подсмотренные детали, которые до сих пор не нашли себе места в общей линии моей жизни.
Я опять занимаюсь вуайеризмом, подглядываю за тем собой, которого давно уже нет.
Беру из очередного, доверху заполненного, ящика новую банку, она со вздутой крышкой, видимо, содержимое уже подпортилось.
Надо быть осторожнее, вдруг там какой–то гибельный газ?
Тошнотворный запах.
А еще — падает снег.
Не крупный, падает отвесно, видимо, ветра нет.
Я иду по какому–то заводу, впереди уже видны цеха.
Все понятно, это когда меня послали на отработку, чего — уже не помню.
Надо было ездить к 8.30 утра на другой конец города, проползать сквозь проходную и тащится мимо рядов ржавого цвета бочек, от которых так дурно, тошнотно, невыносимо тухло пахло.
БОЧКИ С БЫЧЬЕЙ КРОВЬЮ, как потом объяснили мне.
Ее добавляли для крепости то ли в цемент, то ли в бетон, то ли еще в какую–то хрень.
Оказывается, я до сих пор не могу забыть этот запах.
На мне сапоги и телогрейка, у меня еще нет бороды.
Я тащусь мимо работяг, курящих у ведра, заполненного водой.
— Студент! — кричат мне в спину.
Улыбаюсь и иду дальше, бочки все ближе и ближе, что будет, если они сейчас покатятся?
С гулом, грохотом, подпрыгивая на неровном асфальте заводского двора.
«Ломовики в грубых тяжелых сапогах выкатывали с глухим стуком бочки из складов на Принс–стрит и загружали их в фургон пивоварни. В фургон пивоварни загружались бочки, с глухим стуком выкатываемые ломовиками в грубых тяжелых сапогах из складов на Принс–стрит.»[16]
Естественно, что Джеймс Джойс, «Улисс».
Хотя в памяти у меня засел иной перевод, еще из журнала «Интернациональная литература», чуть ли не за 1935 год, в котором «Грузчики в кованных ботинках катили глухогрохотные бочки со складов пивоварни. Со складов пивоварни катили глухогрохотные бочки грузчики в кованных ботинках.»[17]
Он — в соседней консервной банке, университетская библиотека. Какое–то угловое, пропыленное помещение, заполненное старыми журналами. Я в ней тоже — на отработке. Пахнет лучше, чем на заводе, хотя от пыли слезятся глаза.
Надо разбирать фонды.
Старые журналы. Очень старые журналы.
СОВСЕМ СТАРЫЕ ЖУРНАЛЫ.
Чуть ли не пушкинской поры.
Вместо этого я читаю.
Уже упомянутый номер «Интернациональной литературы» с Джойсом.
На журнале целая куча пожелтевших нашлепок, на одной надпись: спецхран.
Если бы бочки с бычьей кровью тогда сорвались с места и покатились, то они раздавили бы меня и размазали по асфальту.
Потом бы пришли грузчики в кованных ботинках и стали эти бочки собирать обратно.
Они бы ругались, наступая на мои окровавленные останки, кто–нибудь, вполне вероятно, вызвал бы «скорую».
А может, и не вызвал.
Просто счистили бы мои останки с ботинок. Собрали бочки, закрепили бы прочнее и ушли восвояси.
А меня бы отправили в спецхран, где куча пожелтевших, старых журналов, пыльно и слезятся глаза.
Интересно, что лучше? Быть журналом в спецхране или содержимым немаркированной консервной банки?
На самом деле, милее всего оставаться самим собой, так что я отбрасываю и эту банку, а сам иду дальше.
Занятия вуайеризмом не из самых легких.
Но мне лень возвращаться, лучше пройти склад до конца, там, скорее всего, тоже есть дверь.
ВХОД/ВЫХОД.
ENTRANCE/EXIT.
Выход уже виден, на двери большой, ржавый замок — ей явно давно не пользовались.
Ключа нет, но по замку можно просто сильно стукнуть и тогда он отпадет. Лишь бы найти, чем.
Например, ломиком, но где его взять?
Машинально поднимаю из очередного полупустого ящика очередную банку и так же машинально вскрываю.
Полутемный подъезд давно уже запамятованного дома.
Стою у окна, за ним — темно и зима.
Я не один, она в расстегнутом зимнем пальто и в задранном свитере.
Терзаю ее груди, она млеет и прислушивается — вдруг раздадутся шаги и кто–то из жильцов начнет спускаться по лестнице.
Или подниматься.
И сгонит нас, вытурит в ночь, в снег и мороз.
У нее маленькие, твердые сосочки, а на левой груди — родинка.
Она учится на класс младше меня, она пристала ко мне, как репей, у нее пухлые, вечно обветренные губы и я напрочь забыл, как ее зовут.
— Как тебя зовут? — хочется спросить мне, но не получается.
У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ РТА!
Она целовала меня и куснула в губы, и они вдруг — срослись.
Какая–то странная банка, в нее хочется вглядеться попристальнее, но я боюсь.
— Правильно! — говорит она. — Лучше не трогай!
Я отстраняюсь, она опускает свитер и застегивает пальто.
На все пуговицы.
То ли три, то ли четыре.
— Ты меня проводишь?
Сверху раздаются шаги и громкий собачий лай.
Мужичина в полушубке ведет на выгул рвущуюся с поводка мощную черную овчарку.
Та скалит зубы, они большие и острые.
Мы вдавливаемся в стену и вдруг исчезаем в ней, нас не видно, нас просто больше нет.
Во всех этих банках то, чего давно уже больше нет.
И те, кого нет.
Я сбиваю замок, не ломиком, просто рукой — один раз тихонечко ударил по дужкам и он вдруг открылся.
На улице свежо, но не холодно.
Никакого снега, черные, безлистные тополя и низкое, серое небо.
Район знакомый, сейчас надо свернуть налево, потом прямо вниз, там будет автобусная остановка.
Я достаю из кармана консервный ключ и выбрасываю его в урну, навряд ли он мне еще понадобится.
Прямо на углу, возле залитой светом витрины ювелирного магазина, стоят рядком несколько старых, ржавых, некрашеных бочек.
Они запаяны, но я все равно чувствую этот тошнотворный, густой, смрадный запах.
— С чем они? — интересуется дама без лица и в огромной, несуразной шляпе.
— С бычьей кровью! — уверенно отвечаю я, ускоряя шаги: уже поздно и мне давно пора выгуливать своего далматина.
Дама смеется, а мне вдруг хочется задать ей дурацкий вопрос — была ли у нее когда–нибудь родинка чуть ниже соска на левой груди, но я прекрасно понимаю, что она мне уже не ответит.
Остается одно: еще раз пристально вглядеться вслед ее широкополой, бессмысленной шляпе, пока трамвай, в котором я ее однажды встретил, все еще громыхает по рельсам внутри двухсотграммовой консервной банки, такой, в которых некогда продавали либо сайру, бланшированную в масле, либо морскую капусту.
Да может, и сейчас продают.
20. Про знакомство с отцом Дениса и про белый кубинский ром
Вчера весь вечер я торчал в интернете и предавался любимому развлечению — пытался искать следы.
Свои, чужие, свежие, старые, очень старые…
Со своими было легче, с чужими — сложнее.
По крайней мере, с теми, которые я попытался найти.
Я искал следы отца Дениса. Взял и набрал в поисковой строке:
СЕРГЕЙ БОРИСОВ.
«Яндекс» выдал:
страниц 110994, сайтов — не менее 1053.
Только вот все это было не то!
Там обретался челябинский поэт Сергей Борисов, был политолог Сергей Борисов из Нижнего Новгорода, существовал так же некий тинэйджер Сергей Борисов, сразу вслед за которым шел Сергей Борисов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», за которым следовал другой Сергей Борисов, уже президент Российского топливного союза, только вот нужного мне Сергея Борисова не было.
Да его и не могло быть в world wide web: когда он погиб, то интернет был еще круто засекреченной американской компьютерной сетью и назывался по–другому, а до изобретения каким–то швейцарцем языка html оставалось больше десяти лет.
Но меньше пятнадцати!
А ведь если ты умер до эпохи интернета, то надо обладать определенной общественной значимостью, чтобы кто–то о тебе вспомнил и отвел место в сети.
Между прочим, один мой очень близкий приятель какое–то время носился с идеей виртуального всемирного кладбища, но потом переключился на другие, менее альтруистичные проекты.
Хотя это так — несущественная ремарка, если что и интересует в этой книге меня больше всего, то это:
а) каким образом я умудрился прожить полвека?
И
б) чего это ради я стал таким, каким я стал?
И роль отца Дениса во всем этом просто кармическая.
Хотя бы потому, что Денис — мой приемный сын, соответственно, его мать, Наталья, моя жена и одновременно мать моей дочери, Анны. А отец Дениса был моим другом. Какое–то время, лет пять. С 1972 года и по 1977. В 1978-ом он погиб, если что и надо еще добавить, так то, что он был поэтом, причем, хорошим, и что Наталье удалось в 1986 году издать маленькую книжицу его стихов.
Наверное, это частично та информация, которую можно было бы разместить о нем в интернете, в каком–нибудь мартирологе забытых, но достойных поэтов. И если кто–нибудь когда–нибудь задастся такой целью, то смело может обращаться ко мне.
Все остальное — это уже детали моей частной жизни.
А ведь меморуинги посвящены именно ей,
ПОЛУДЕННЫЕ ПЕСНИ ТРИТОНОВ, или
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЧАСТНОГО ЛИЦА.
А в любой частной жизни есть своя мифология, которой — как и положено — свойственно определенное количество лакун, невнятных белых пятен, скрытых за красивыми определениями то ли патины, то ли тумана времени, хотя может, это проще назвать склерозом.
Так, я АБСОЛЮТНО не помню, как мы с Сергеем познакомились.
Могу сказать, когда это было — в сентябре 1972, в самом начале.
Или вообще — в конце августа, когда я вернулся из своего т. н. «хиппового паломничества»?
Дыра, прорезанная в голове, через которую свищет дурной, склеротичный ветер.
Так же я АБСОЛЮТНО не помню, КТО нас познакомил.
Явно, что не Наталья, хотя у них тогда с Сергеем уже был роман. Но ее — как она убеждала меня вчера вечером — тогда не было в городе, была у родителей: целая ночь езды на поезде. Наверное, все происходило по следующей схеме — еще летом Наталья познакомила Сергея с кем–то из нашей компании, кто не поперся с нами в уже упомянутое «паломничество». Потом она уехала, а он продолжал тусоваться со всей этой братией. Потом мы с Тортиллой приехали и через пару дней я потащился к кому–нибудь на флэт. То есть, хату. Интеллигентно говоря, на квартиру. Побухать. То бишь, посидеть и попить вволю вина. Послушать музыку и поговорить на всяческие завлекательные темы. Наверное. Может быть.
И — скорее всего — именно там мы и встретились.
Хотя все равно стоит полный туман, густой, утренний, молочно–серый.
The fog!
И у тумана этого явно выраженный алкогольный привкус.
На самом деле подобная тема требует иного повествовательного регистра, но сейчас я пишу ведь не о глобальном значении drinks&drugs в определенные периоды моей жизни.
Я расставляю важнейшие вехи, одной из которых и был Сергей, так что попробую обойтись тут без эмоционального осмысления.
Хотя моя алкогольная сага начиналась именно тогда, но было это как–то залихватски и даже романтично: не для того, чтобы напиться, а чтобы — если использовать новейший рекламный слоган —
ПРИДАТЬ ЖИЗНИ ВКУС!
При помощи дешевого белого грузинского сухого вина.
При помощи дешевого красного алжирского сухого вина.
При помощи дешевого портвейна
При помощи мадеры.
При помощи хереса.
При помощи молдавского кальвадоса.
При помощи вермута.
При помощи болгарского красного сухого вина «Гамза».
При помощи белого кубинского рома — это главное!
Список, между прочим, не полон, но отсутствие в нем водки и коньяка концептуально.
ТОГДА МЫ ЭТО ПОЧЕМУ-ТО НЕ ПИЛИ!
Я имею в виду — мы с Сергеем.
Очередь водки с коньяком наступила позднее, уже во второй половине семидесятых, чему тоже есть свое объяснение — мы стали старше и печальнее, нам чаще хотелось уже просто напиться, чем слушать музыку и читать друг другу стихи.
Наверное, тут следовало бы упомянуть уже подзабытый многими социальный фон того изумительного времени и процитировать что–нибудь из того же БГ, хотя бы про
«сыновья молчаливых дней»,
после чего можно порассуждать и о том, что то поколение, чья молодость пришлась на семидесятые, во многом было настоящим потерянным поколением, причем, без всяких кавычек, еще можно было бы упомянуть к месту очаровательную строчку Аполлинера о том, что
«моя молодость брошена в ров, как букет увядших цветов»,
только на самом деле все это совершенно не так, потому что когда тебе восемнадцать (девятнадцать, двадцать, etc), ты не думаешь ни о каком потерянном поколении.
Ты пьешь вино и слушаешь музыку.
Например, Led Zeppelin, «The Stairway To Heaven».
«Лестницу в небо» из их четвертого альбома.
Когда мы познакомились с Сергеем, то он больше всего любил именно эту песню.
Вроде бы, я даже припоминаю, в каком доме все это было — рядом с задрипанным ныне кинотеатром «Урал», в том самом доме, где живет сейчас мой уже упомянутый близкий приятель, задумавший некогда всемирный виртуальный мартиролог.
Только в другом подъезде.
В квартире то ли на третьем, то ли на четвертом этаже.
Хозяева давно уже живут в Израиле.
Хотя нет, младший брат вернулся, а старший — да, он там, вальяжный, сытый, нудноватый еврей, некогда сидевший на игле и отсидевший за наркоту в зоне.
У него была смешная кликуха — Крэг, почти что Крэк[18], хотя про эту пакость тогда еще никто и не знал.
Вдобавок ко всему, этот типус являлся обладателем здоровущего члена, настоящего то ли шланга, то ли хобота, о чем мне поведала одна знакомая девица, не только потрахавшаяся с ним, но и подцепившая от него триппер.
Эта девица тоже какое–то время числилась среди моих «серьезных любовей», но к описываемому моменту любовь куда–то канула.
С типусом же она трахалась у меня дома, в ночь после вечера одного очень трудного дня, когда мы — она с подругой и я с этим нынешним израильтянином — сначала долго сидели в одном кафе, потом в другом, затем оказались в каком–то общежитии, где девиц чуть было не изнасиловали студенты–юристы из Закавказья, и лишь потом мы, умудрившись как–то слинять через окно, оказались на квартире моей бабушки.
Где я занимался в собственной ванне любовью с ее подругой, наверное, если бы я был с ней, то триппер был бы и у меня, но — пронесло!
Уже позже она, вдобавок, еще и рассказала мне, что именно Крэг сдал всю нашу компашку в ГБ, точнее, в то его замаскированное под студенческий оперативный отряд подразделение, что было призвано бороться «с идеологическими и аморальными вывертами среди молодежи».
Хотя слово «выверты» тут явно не подходит, но синоним мне подыскивать лень.
Не знаю, о чем думали бабушка с дедушкой, слушая раздающуюся за стенкой пьяную, похотливую возню.
Лучше до сих пор считать, что они просто выпили свое привычное снотворное и крепко спали.
Утром же девицы и будущий наркоман с невероятным половым хоботом свалили, а я рухнул спать, не отвечая ни на телефон, ни на звонки в дверь.
И только днем, часа так в три, проснулся от громоподобного стука — это Сергей с Натальей, с которыми, как оказалось, я «забил стрелку», на которую не пришел, начали беспокоиться и приехали ко мне сами.
Именно с того момента туман рассеивается.
Я открыл дверь — они стояли вместе, только вот тогда я еще понятия не имел, что все это странным образом спроецируется на мое отдаленное в тот момент будущее, что один из нас троих погибнет, другая станет моей женой, и что много лет спустя я буду сидеть за компьютером и вспоминать почему–то о том, как очередным теплым, летним днем мы сидели у него на балконе и пили разведенный грейпфрутовым соком белый кубинский ром, но вот что касается всего остального, то, как известно,
THE REST IS SILENCE,
«дальнейшее — молчание»,
при этом источник цитаты указывать совсем не обязательно.
21. Про историю одного сна
На самом деле это опять про меня, про Сергея и отчасти Наталью, а еще про великого художника Мишу Брусиловского.
Именно, что Мишу, такое у него официальное имя.
А если к нему обращаться по имени–отчеству, то получается Миша Шаевич.
Вообще–то Мишу я знаю со своих лет так одиннадцати — нас познакомила матушка, которая с ним дружила, как и еще с одним замечательным художником — Виталием Воловичем.
Чтобы не быть о Мише голословным, проще взять да и скопировать какую–нибудь цитату с первого попавшегося интернет–сайта, пусть это будет ресурс
,
а нижеследующее высказывание принадлежит Хуану Фернандесу Солеро Хосе Касаравилья, главному хранителю музея Прадо в Мадриде и датировано 1996 годом:
«Родился в г. Киеве в 1931 году. После окончания курса живописи в Киевской духовной академии поступил в Ленинградскую академию живописи, ваяния и зодчества, которую и закончил в 1958 г. Отправляется на Урал, в Свердловск, где вместе с Г. Мосиным за несколько лет создает ряд выдающихся произведений монументального и живописного искусства. Живет в Екатеринбурге.
После серьезных противоречий с руководством страны на идеологической почве обращается к библейской тематике в своих живописных работах. Выставки его работ происходили в Москве, Петербурге, Осло, Хельсинки, Берлине, Париже, Нью — Йорке, Буэнос- Айресе, Маниле, Гаити, Санта — Фе, Канберре, Певеке, Уэлене, Токио, Лос — Анжелесе и других городах мира. Живопись Михаила Брусиловского из России представляется мне одним из самых ярких явлений в России XX века, отнюдь не обделенных гениальностями в этой сфере человеческого духа за проходящее столетие. Продолжая великую традицию фигуративного искусства России И. Репина М. Врубеля. Брусиловский явил родине и миру невиданный каскад трансформаций формы и крика цвета, что смело ставит его в ряд с такими явлениями нашего времени, как П. Пикассо, X. Миро, А. Матисс.»
Правда, хранитель музея Прадо ошибся в написании Мишиного имени, но что взять с обитателя Мадрида? А про гениальность М. Ш. я знал еще с самого начала семидесятых, как только хоть что–то начал чувствовать и понимать в живописи. Когда же нас свела моя мать, то для меня это был просто классный дядька, на котором можно было даже проехаться верхом и который так забавно рассказывал про какого–то Мао Цзе Дуна, судя по всему, китайца и очень уже старого пня, переплывшего не так давно [19] неведомую мне реку под названием Янцзы.
Рассказал же это Миша после того, как честно греб около часа на лодке, пересекая озеро Песчаное, что не так далеко от города Сврдл, я же плыл рядом с лодкой в маске, трубке и ластах, а великий художник с маменькой меня страховали.
Чтобы не потонул!
Вот я и не потонул, а в начале семидесятых уже начал догадываться, что Миша — гений.
На самом деле, без всяких там экивоков.
И рассказал об этом своему новому другу Сергею, который мало того, что писал хорошие стихи, так еще и собирал альбомы разных художников, хорошие альбомы хороших художников, если, конечно, удавалось их достать.
Альбомы эти он покупал на книжной «туче», куда ездил вместе с Натальей, уже ставшей его женой и даже родившей ему сына.
Того самого Дениса, который, прочитав предыдущую главу, сказал:
— Ты чего–то там мало про отца написал, обещал, что больше будет!
— Ему ведь интересно про отца! — укоризненно сказала Наталья.
— Это только начало! — ответил я, подумав, что на самом деле никто, никогда и никому не говорит полной правды, а потому, чем перелагать в фантазийном плане историю некогда столь важных для меня взаимоотношений, в которых были и странная, но почти что любовь, и ревность, и психологическая зависимость, и отторжение чуть ли не до ненависти, и просто безразличие, и зависть — его стихи были на голову выше моих, я это знал, но признавать никак не хотел — в общем, нормальные такие отношения, которые переживаешь в жизни лишь раз.
Ну, может быть, два.
НО НЕ БОЛЬШЕ!
А так как одного из нас давно уже нет[20], то и у меня нет никакого морального права вдаваться в детали и подробности той нашей дружбы тире вражды, лучше рассказать про то, как мы вместе ходили на выставку Миши Брусиловского и что из этого вышло.
А пошли мы смотреть на картину, написанную Мишей в 1974 году. Называлась она «Homo sapiens», и был это тот самый нашумевший холст, что хранится нынче в Париже, в галерее таинственно пропавшего в самом конце восьмидесятых в городе Москве Гарика Басмаджяна, но тогда никто из нас, и даже сам Брусиловский, еще даже не думал, что может произойти такое.
Главное было в ином — мы на эту выставку пришли.
Повторю: втроем.
Сергей, Наталья и я.
Дальше все было, как и положено — мы ходили по залу и смотрели разные картины и картинки.
Кисти Брусиловского была лишь одна, та самая «Homo sapiens», хотя может, правильней написать — тот самый?
ТОТ САМЫЙ «HOMO SAPIENS» СТОЯЛ В ЦЕНТРЕ ЗАЛА.
СЕЙЧАС МНЕ УЖЕ СЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ДАЖЕ САМОМУ СЕБЕ, ОТЧЕГО ТОГДА ВСЕ ПОСХОДИЛИ С УМА.
И ЛЮБИТЕЛИ ЖИВОПИСИ, И ФУНКЦИОНЕРЫ.
Хотя с функционерами все ясно — эти, по определению, во все времена козлы, так что нормальный великий художник Миша Шаевич Брусиловский не мог вызывать в них ничего, кроме жуткого раздражения и какой–то классовой неприязни. А вот что касается т. н. «любителей живописи», к которым, по тем временам, с какой–то нескрываемой наглостью я относил и себя?
Ну, картинка.
Масло, холст.
Размеры 151х 172.
В самом центре — «неандерталец» с «неандерталихой», тут же ящер и тигр саблезубый. И много чего еще — пересказывать живопись намного бредовее, чем пытаться это проделать, к примеру, с музыкой. Тут на эмоциях не выедешь, а говорить искусствоведческом языком о «перспективе, глубине фона, удивительной гамме» и т. п. просто неприлично.
Настоящая живопись требует или молчания, или наоборот — эмоционально окрашенных восклицаний типа:
НУ ДА КАК ЭТО ВСЕ КРУТО ПРОСТО ТАЩУСЬ СТАРИК ОТ ТВОЕЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ!
Мы втроем выпали в осадок от гениальности Миши Шаевича, который в тот день на выставке отсутствовал, и я с какой–то дикарской радостью подумал, что вот нет у меня сегодня возможности познакомить с ним Сергея, а значит, и не придется мне делиться этим знакомством, которым я был тогда так горд, хотя с еще большим пиететом отношусь к нашему общению с М. Ш. и сейчас.
После чего вышли из зала и пошли куда–то пить кислое, весеннее вино.
И говорили о живописи Брусиловского, я, как бывалый завсегдатай его мастерской, придавался высокопарным пересказам/описаниям хранящихся там картин, а Сергей с Натальей слушали. И тоже мне что–то говорили.
А ночью мне вдруг приснился очень странный сон.
Большой, страниц так на пятьсот, альбом Брусиловского. Цветной, вроде тех шикарных изданий, которые Сергей покупал на книжной «туче» и малая часть которых до сих пор хранится у нас с Натальей.
Только, в отличие от всяких там «Галереи Питти» и «Музеев Ватикана» купить подобное издание с репродукциями художника из города Сврлдл было примерно тем же самым, что приобрести альбомы Магритта или Дали,
НЕРЕАЛЬНО,
именно, что — сон!
В котором я сидел в уютном и очень удобном кресле, за большим, длинным, черным столом, и при свете небывало яркой настольной лампы бережно перелистывал плотные, тяжелые, чуть лоснящиеся страницы, наполненные смачной, непривычной, бередящей душу живописью.
Там было что–то, что я уже видел у Миши в мастерской.
А было то, чего никто и никогда не видел, зато мне вот удалось, и я был счастлив, о, как я был счастлив в том далеком, почти что забытом сне!
Утром я первым делом позвонил Сергею, рассказать ему про то, что мне привиделось ночью.
— Подожди, — перебил он меня, — тут мне знаешь что приснилось…
Он сделал паузу, а потом как бы на одном дыхании выпалил:
— АЛЬБОМ БРУСИЛОВСКОГО!
И мне почему–то отчаянно захотелось заплакать.
Но у этой истории есть и совершенно мистический конец.
Осень 2003 года я, совершая очередной променад по книжным магазинам, внезапно наткнулся в одном на большой, увесистый том. Стоил он около 250 долларов, хотя лучше вот так:
ПРИМЕРНО $ 250.
На суперобложке же, на красной плашечке, крупными белыми буквами было набрано:
МИША БРУСИЛОВСКИЙ,
чуть повыше, буковками уже черненькими и помельче
«мир художника».
Я знал, что это издание готовилось, спонсировал его (как сейчас принято говорить) один мой знакомый, умудрившийся собрать и большую коллекцию Мишиных работ, за что Бог явно воздаст ему, когда придет для этого время, но чтобы купить это издание себе — о таком не могло быть и речи.
Но неделю или две спустя я вдруг встретил Мишу Шаевича и сказал:
— Да, я тут альбом ваш видел!
— Угу! — ответил М. Ш.
— Дорогой какой!
— Да! — сказал Миша.
— Я себе такой никогда не смогу купить!
— Я тебе подарю! — о чем–то подумав, сказал великий художник и добавил: — Напомни мне свой телефон, я тебе позвоню и подарю!
Я напомнил ему свой телефон, но Миша все никак не звонил, да я и знал, что он навряд ли мне позвонит — человек уже пожилой и занятой, до меня ли ему?
Тут подошел день рождения дочери и я поехал в город за какими–то покупками. И встретил вдруг Брусиловского.
Случайно.
Действительно — абсолютно случайно!
Мы разговаривали об осени, об издателях и об авторских правах, о том, что у моей дочери сегодня день рождения, и тут я вдруг сказал:
— А вы мне подарок обещали!
— Он дома! — ответил Миша.
— Я могу с вами сходить! — совсем уж нагло выпалил я, и тогда вдруг М. Ш. сказал:
— ПОШЛИ!
Когда же я вернулся домой, то пошел к себе в кабинет, сел в уютное и очень удобное кресло, положив на большой, длинный, черный стол толстющий альбом Миши Брусиловского, в пятьсот с чем–то страниц, ну, если и не совсем такой, что приснился мне лет тридцать назад, то почти такой и даже —
ЛУЧШЕ, НАМНОГО ЛУЧШЕ!
И мне вдруг отчаянно захотелось позвонить на тот свет Сергею и сказать, что наши с ним сны сбылись.
Как его, так и мой.
Все, как положено — альбом издан на двух языках, множество картин напечатаны с фрагментами.
Будто «Галерея Питти» или «Музеи Ватикана».
Только вот нужного телефонного номера у меня в записной книжке не обнаружилось.
Будем считать — пока.
22. Про книги (2) и про манию величия
У меня есть друг.
Точнее говоря, приятель.
Еще точнее — знакомый.
Хотя может быть, все–таки друг?
Я о нем случайно упоминал, много страниц назад.
Но вообще–то не случайно, к слову.
Этот мой друг (приятель, знакомый) существо редкой породы — человек читающий.
HOMO LEGENS.
Живет он в Стамбуле и по национальности — самый настоящий турок.
А зовут его для слуха русского человека очень смешно:
БАРАН.
Хорошо, что он не знает русского, а только турецкий (естественно), английский и французский.
Потому что читающий турок Баран — это даже не просто смешно, это уже какой–то водевиль XVIII века.
Мы познакомились с ним в затрапезном отеле, что стоит прямо на берегу Эгейского моря, в уютной и очень красивой бухте Бодрумского полуострова, куда мы с дочерью выбрались всего–то на восемь дней, и где Баран проводил каникулы, работая заодно аниматором, что освобождало его от платы как за койку, так и за еду — все это просто вычитали из зарплаты.
Когда мы познакомились, то он читал по–французски Селина,
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ».
— Селин, — сказал я ему по–английски, — Луи — Фердинанд Селин…
Он так странно посмотрел на меня и поинтересовался, кто же такой этот русский, что не пьет с утра водку в баре и знает о том, что был такой писатель — Селин.
— Писатель… — ответил я, понимая, что ответ этот звучит как–то фальшиво на фоне темнеющего в направлении горизонта волшебного греческого острова Кос.
Не ответ даже: моветонное проявление мании величии, как написал мне не так давно один из литературных знакомых — книги пишутся для того, чтобы ими хвастаться.
Хотя все это херня!
Настоящие книги пишутся для другого.
И в те восемь дней на побережье Эгейского моря мы с Бараном отводили душу, обсуждая совсем иные, настящие книги.
— Вот ты читал… — спрашивал он, развлекая, как и положено аниматору, мою дочь и группу еще таких же, разморенных бодрумским солнцем и ошалевших от божественной теплоты сентябрьского моря разноязыких отдыхающих, игрой в боча, победителем в которой всегда оказывался коренастый, плотный, рыжеволосый и веснушчатый англичанин в возрасте.
И дальше назывались имена.
От Сэлинджера до Фолкнера.
От Набокова до Джойса.
От Пруста до Маркеса и Воннегута.
Читающий турок Баран схватился за меня, как за спасательный круг или — за соломинку.
Ему хотелось говорить о книгах, которые он прочитал и которые — еще — только должен прочитать.
Книги как свидетельство того, что ты принадлежишь к уже исчезающему виду двуногих.
Имена классические (смотри выше) и — modern или contemporary writers, тут каждый может подставить что–то свое.
Я так много не говорил о литературе с тех, пожалуй, лет, когда познакомился с Сергеем.
С самого начала семидесятых.
Когда если ты не читал (предположим) Маркеса, то девушка могла тебе и не дать.
Между прочим, тогда на день рождения девушки дарили книги: та самая моя подруга, которую я лишил девственности в жарком июльском перелеске, преподнесла на мои восемнадцать «Сто лет одиночества», той книги давно уже нет — то ли кто–то зачитал, то ли осталась у одной из бывших жен.
На днях, пытаясь уснуть — классической бессонницей я не страдаю, но засыпаю поздно, не раньше двух, перед этим долго развлекаясь т. н. заппингом — бессмысленным переключением телевизора с канала на канал, так вот, на днях, пытаясь уснуть, я наткнулся по одному из каналов на какой–то концерт, в котором выступала и группа БИ‑2. Я смотрел на все это сквозь дрему, но когда Лева Би‑2 вышел на авансцену и запел про то, что «Полковнику никто не пишет», вдруг открыл глаза, встал и пошел в кабинет. Достал с полки старый том Маркеса, еще из «Мастеров современной прозы» и решил перелистать. Даже не про того самого полковника Аурелиано Буэндиа, который «стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед…», а другого, того, что «открыл жестяную банку и обнаружил, что кофе осталось не больше чайной ложечки….», просто
ПОЛКОВНИКА,
сказавшего, как мне порою кажется, одну из главных фраз во всей литературе покойного ХХ века.
После взвинченного и отчаянного вопроса жены «— Скажи, что мы будем есть?» идут следующие строки:
«Полковнику понадобилось прожить семьдесят пять лет — ровно семьдесят пять лет, минута в минуту, — чтобы дожить до этого мгновения. И он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно сказал:
— Дерьмо.»[21]
Я закрыл книгу, погасил в кабинете свет и снова пошел спать.
И уснул.
Наверное, мне должны были сниться книги и друзья, которые мне их приносили. Книги ведь не покупали — их доставали, их дарили, их давали почитать. Они возникали из небытия и туда же уходили, чтобы потом, когда возникнет необходимость, возникнуть случайно вновь, в тот самый момент, когда это крайне важно и что–то может изменить в твоей жизни, потому что то было время, когда книги действительно именно таким образом влияли на судьбу, не учили, не развлекали, не обогащали, они
ПРОСТО ДАВАЛИ ВЕКТОР.
Мне должен был сниться тот же Сергей, что открыл мне множество американцев, до сих пор не могу понять, откуда этот недоучившийся медик, вначале долго пребывающий в академке, а потом начавший работать на киностудии грузчиком, выкапывал все эти странные издания странных авторов, рассказы и романы Джона Чивера, какого–то Вэнса Бурджейли, а еще сборники американской прозы, выпускаемой все тем же московским «Прогрессом», да еще издательством «Молодая гвардия», с иллюстрациями Юрия Селиверстова [22].
Мне должен был сниться мой друг Аркадий Бурштейн, проживающий ныне в маленьком израильском городишке Цуран, что совсем рядом с курортным городком Нетанией, где частенько что–то взрывают, о чем Аркадий уже даже не сообщает — знает, что и так это покажут у нас в новостях.
А тогда он тоже приносил мне книги, но другие. Самиздатовские папки с Солженицыным, Оруэллом, Стругацкими. С «Лолитой» Набокова.
Я до сих пор помню тот вечер, когда он позвонил и сказал, что надо встретиться.
Оказалось — надо было срочно отдать ему одни фотокопии, чтобы он их сжег.
Это был «Август четырнадцатого». За ним могли прийти.
А заодно — и за Бурштейном.
Фотокопии полыхали в большом старом тазу, на пустыре возле его дома.[23] Сейчас там все застроено. Между прочим, там стоит и здание прокуратуры. Так вот, именно на том месте и горел Солженицын.
За Аркадием тогда не пришли, и много лет спустя он уехал.
В 1990 году.
А еще мне должен был присниться отчим, потому что он первым открыл мне русскоязычного Набокова. Приезжая в Москву, я брал у него пачку книжек, которые он специально к моему приезду доставал через приятелей, и читал их сутки напролет, «Дар», «Другие берега», «Камеру–обскуру», «Подвиг», «Весну в Фиальте». Etc, etc…
На тридцатилетие отчим подарил мне «Дар». Первую ксерокопию с первого полного издания, Нью — Йорк, издательство им. А. П. Чехова, 1952 год.
Именно с этой ксерокопии в свое время набирался тот «Дар», что был опубликован в «Урале»[24], то есть, первое русское издание «Дара» сделано с того экземпляра, который я некогда прочитал в июльской, душноватой Москве, а потом и получил в подарок, и которое до сих пор стоит в моем кабинете между первым набоковским четырехтомником в составлении+предисловие+комментарии Олега Дарка, и набоковскими же «Адой» и тем томом издательства «Симпозиум», где «Взгляни на арлекинов» и «Память, говори!».
Коричневый такой томик, обклеенный скотчем.
И золотыми буковками тиснуто:
В. Набоков. «Дар».
ВОТ ТОЛЬКО НИКТО ИЗ НИХ МНЕ ТАК И НЕ ПРИСНИЛСЯ!
Зато всю ночь терзали кошмары, зачем–то привиделся текст, днями раньше откопанный в LiveJournal издательства «Амфора» и посвященный никогда мною не читанному писателю Стогову (с двумя «f» на конце), причем, снится точно так, как выложен в сети, из буквы в букву, из точки в точку и запятую + все опечатки/описки, только в большом сокращении:
«Вот у Стогова — МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ, это да. Мы тут ездили к старику Витицкому, т. е. молодчику Стругацкому книжки подписывать. Стогов вызвался моим оруженосцем… едем обратно. И Стогов чего–то такой обиженный сидит, нахохлившийся…Может, думает о том, что Стр написал неудачный роман на старости лет, и все его ругают, и он тоже, Стогов, тоже неудачные романы пишет по молодости лет, и его тоже все ругают… Ну а потом Стогов произносит нетленку, совсем от наглости зарвался. Прямо и громко, слышно на пол-Московского, он заявляет, что он–де ГЕНИЙ (пишется 36‑м кеглем жирно и с подчеркиванием), и то, что он гений, он с детства знал! И что он круче Стругацкого, тучи и вареного яйца. КРУЧЕ! И это тоже с детства….»
(/
Friday, July 11th, 2003, 1:47 pm)
Я проснулся в холодном поту, мне стало страшно.
На самом деле: полковнику давно никто не пишет…
И мы превратились в тех, кем хотели стать.
С этим уже ничего не поделать.
Разве что ПРОСТО ЖДАТЬ, чем все кончится.
Или — ЗАКОНЧИТСЯ!
И еще одно.
Давно известно, что чтение хороших книг дает не только вектор. Временами оно действительно доводит до мании величия, я тоже не исключение — было время, когда всерьез считал себя гением. Слава богу, оно давно прошло.
23. Про демонов, про озера и про рыбную ловлю
Временами мне начинают рассказывать истории, которые вроде бы и смешные, но на самом деле от них тошнит.
Так, сегодня ко мне нагрянул внезапно приехавший из Москвы Кормильцев, подарил «Гламораму» Брета Истона Эллиса в своем переводе и, уже собираясь уходить и натягивая в коридоре куртку, рассказал про то, как один наш с ним хороший знакомый недавно был у каких–то своих родственников в Германии.
Эти родственники, вроде бы, потащили его в гости к какой–то почти уже древней баронессе, та, порадовавшись визитерам, предложила им кофе.
— Хорошо, — сказали гости, — с удовольствием!
Тут баронесса замялась, а потом сообщила, что кофе возможно лишь в том случае, если кофейным столиком будет ее муж.
Повисла, как и полагается, неловкая пауза.
Баронесса улыбнулась и сказала:
— Ну, вы понимаете, он у меня мазохист и любит быть кофейным столиком!
Гости откланялись, так и не отдав долга хозяйскому гостеприимству.
После чего, уже надев ботинки, И. К. поведал еще — и очень быстро, практически на пороге — одну из историй, приключившуюся с нашим общим хорошим знакомым в каком–то из его зарубежных вояжей.
Вроде бы это было во Франции. На Южном берегу. И были похороны. Какие–то древние бабульки хоронили такую же древнюю. И сразу же поминали. Возле засыпанной могилы — кокаином, который был горкой навален на большой, фарфоровой тарелке. Брали щепотку, вправляли вначале в левую, потом в правую ноздрю и улыбались.
После чего И. К., тоже поулыбавшись, ушел, а я понял,
ЧТО ОПЯТЬ ХОЧУ ЖИТЬ НА ОЗЕРЕ.
У меня такое всегда бывает, когда начинает тошнить от этого дерьмового мира, в котором бабульки поминают усопших подруг доброй дорожкой кокаина, а кофейным столиком жаждет выступить муж хозяйки дома, пусть даже все это ни что иное, как случайно выловленные в окружающем пространстве метафоры, но метафора ведь зеркало жизни, а значит — жизнь эта
ДЕРЬМО!
Вот потому–то и хочется жить на озере, что я, кстати, уже трижды проделывал в своей жизни.
Только очень давно.
Первый раз — летом перед выпускным классом.
Второй — в самом начале лета того замечательного года, когда хипповал и потерял девственность.
Был еще третий раз, только чуть позже, во времена ухаживания за будущей второй женой, но тоже, естественно, летом.[25]
Я ВООБЩЕ ЛЮБЛЮ ЛЕТО И ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЗИМУ.
Зима — время демонов, особенно январь, это вообще пароксизм энергетической смерти, наверное, поэтому мои тритоны и погибли (предположим) именно в январе, не дожив до лета, когда я мог пересадить их в какую–нибудь баночку и выпустить в любое небольшое озерцо, речушку, ручеек или канавку, чтобы они, вильнув своими странными, полудраконьими хвостиками, навсегда покинули этот сумасбродный человеческий ад, который больше в нас, чем ВНЕ, ад я ношу в своей душе, как написал в своей повести «Какими мы были» писатель, по какой–то незапрограммированной случайности имеющий те же, что и я, фамилию, и имя:
Андрей Матвеев, хотя не исключено, что это действительно был я сам.
Только много–много лет назад.
Когда руины были еще даже не обветшавшими зданиями, а никакой памяти просто не существовало, потому что прошлое еще только собиралось им стать, а вот что касается ада, то могу сказать вполне объективно — сейчас мне намного лучше знакомо это ощущение спуска в преисподнюю по замшелым, склизким, темным и покатым ступеням, когда с каждым дальнейшим шагом ты все больше и больше погружаешься в невыносимо давящий на душу туман, а скалящие зубы и при этом гнусно хихикающие демоны пытаются взгромоздиться тебе на плечи, расцарапать в кровь шею, добраться до сонной артерии и перекусить ее так, чтобы никто и никогда не смог уже зашить.
Именно эти демоны выскочили несколько лет назад в романе «Ремонт человеков».
«Демоны разрывают меня изнутри.
Там горячо, я чувствую, как они шевелятся и дышат.
Как царапаются коготками на своих мохнатых лапках.
Как начинают кровоточить мои легкие и желудок, печень, почки и — естественно — сердце.
Демоны хихикают.
Интересно, это только со мной или в каждом, идущем рядом, живут такие же?
Или просто похожие?
У каждого должны быть свои, мы ими не делимся, мы их холим, нежим.
Лелеем и пестуем.
Мы их обожаем, потому что жизни без них нет, это плата за жизнь, это то, что мы всегда несем с собой.
Наверное, обычно они спят. До поры, до времени.
Пока не прокричит петух, пока не прокукует кукушка.
Пока не зазвенит пресловутый третий звонок, после которого — их выход.
И ты понимаешь, что тебе больше некуда идти.»
Только вот то, что идти некуда — это неправда, в таких случаях путь остается один:
НА ОЗЕРО!
Хотя бы на тот же Аракуль, притаившийся почти на границе Свердловской и Челябинской областей, у подножия горы Шехан.
Дорога от станции с таким же, что и у озера, названием, идет типичным уральским смешанным лесом: березы, пихты, сосны, осины, ели, все это вперемежку, все это перекручено и переверчено, и идти надо не один километр, и не два, то ли пять, то ли восемь, а может, что и все девять, но чем дальше от станции, чем глубже в лесную чащу, тем чище и влажнее становится воздух, тем обостреннее воспринимается все, что вокруг — нависшие кроны деревьев, толстые переплетения корней под ногами, восторженный утренний ор птиц, именно что ор, а не хор, никакой согласованности, просто — то слева, то справа, то сзади, то где–то спереди раздаются отдельные вскрики, переходящие в трели, а небо становится все выше и выше, и солнце начинает припекать, и вот тогда, уже почти отмахав эти то ли пять, то ли восемь, а может, что и все девять километров, из–за какого–то очередного поворота вдруг блестящим лезвием бьет в глаза серебристо–синяя с черными подпалинами линия воды и внезапно наваливается тишина.
А лучше вот так:
ТИШИНА.
В этой тишине я прожил почти месяц, ну, или чуть поменьше — дней двадцать. Десять дней в первый раз и десять же — во второй. Открыл мне это озеро один родственник, странный такой лесной человек с вологодчины, по совместительству тогда еще кандидат, а ныне давно доктор математических наук. С ним мы упоенно ловили окуней в прибрежных ямах и блеснили щук, хотя с щуками было отчего–то намного хуже, а может, нам было просто далеко да уникального везения Роберта Шекли, который оказался с нами в одной лодке минувшим[26] летом, в беспардонно обжигающий дневной августовский час, когда солнце отвесно просвечивало толщу того самого Аятского озера, где в усадьбе «Комарики» жил — если верить первоисточнику — учитель прогрессора Льва Абалкина из романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике», хотя не думаю, чтобы сам Шекли даже подозревал о существовании этого текста.
Как не подозревал он и том, что сможет в свои семьдесят пять в час жаркого дневного затишья подцепить на блесну какую–то сумасшедшую щуку, которую ему и помогли вытащить в лодку, чтобы — не дай бог — сам он не свалился за борт.
Мне же со щуками действительно никогда не везло.
Ни в первый раз на Аракуле, ни во второй — уже с приятелями из своей университетской компании, когда мы захватили с собой даже несколько пачек фабричных пельменей и долго варили их в котелке, бросив в кипящую воду просто большой кусок теста, нашпигованного кусочками фарша — снова было жарко.
Поэтому для меня до сих пор Аракуль и жара есть знак равенства.
Не повезло мне со щуками и в третий раз, уже на озере Касли, где каждое лето проводила с родителями несколько недель моя тогдашняя подруга, а мой будущий очередной тесть был заядлым рыбаком и каждое утро мы отплывали с ним от берега на двухместной надувной резиновой лодке, которую он уверенно направлял к тем местам, где — по его уверению — всегда была рыба.
Как–то раз мы попали на стаю больших окуней. Я неуклюже перехватил леску рукой и почувствовал небывалую тяжесть на ее конце. Пока я вытаскивал рыбу, леска все глубже и глубже врезалась мне в палец, она чуть не дошла до кости — хлестала кровь, здоровущий окунь бился на дне лодки, но я был счастлив.
А вот когда кровь хлещет из царапин и порезов от когтей демонов, то все не так.
Ты не счастлив, но ты и не в печали.
Ты просто присутствуешь при том, как из тебя вытекают последние капельки жизни.
На озере же это невозможно, демоны боятся озер, большие пространства воды действуют на них угнетающе, иное дело в городе, на улицах, полных машин, где–нибудь неподалеку от наглухо закрытых парадных, среди печально поникших городских деревьев — да, вот там им полное раздолье!
Они ухмыляются, они подмигивают, они готовы проводить тебя…
И надо ли спрашивать — куда?
Вопрос: что сделал мистер Боб Шекли с пойманной щукой?
Ответ: мистер Боб Шекли попросил разрешения отпустить ее обратно.
И сказал напоследок: bye–bye pike!
Впрочем, именно об этом я уже писал…
24. Про аутсайдеров
Я всегда любил аутсайдеров.
Наверное, потому что и сам был таким, несмотря на все свои умения мимикрировать под систему, что тогда, много лет назад, во времена гребанного коммунизма, что сейчас, в т. н. «капиталистическом раю», хотя кавычки можно и снять, потому что безумие современной российской эпохи все равно есть рай в сравнении с замечательными годами поедания советского дерьма.
На самом деле: как тогда чужой, так и сейчас, что на том празднике жизни, что на этом.
OUTSIDER:
посторонний, чужой, вне, за чертой, в кювете, на обочине. Вдобавок, еще и постороннее лицо, сторонний наблюдатель, неспециалист, любитель, профан, невоспитанный человек и даже аутсайдер, хотя это касается исключительно спорта.
ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ВСЕ ТО ЖЕ ЧАСТНОЕ ЛИЦО.
Вне партий, вне группировок, вне системы.
Есть еще одно английское словечко, но мне оно нравится меньше:
LOSER,
проигравший(ся), потерянный, почти лишенец.
Лузера — те же классические русские маргиналы, если и не бомжи, то кто–то вроде, одним словом — люмпены.
Сложно представить какой–нибудь текст с названием «Лузер».
Зато были и «Посторонний» Камю, и «Аутсайдер» Ричарда Райта.
В Москве есть Музей творчества аутсайдеров, «общественная организация, начавшая свою деятельность в 1989 г. с организации выставок живописи и графики душевнобольных художников.» ()
Про душевнобольных — это круто, жаль, что под руками нет справочника психиатра, чтобы списать оттуда с десяток диагнозов, например, обсессивно–компульсивный невроз [27], или что еще, намного более пугающее любого здравомыслящего человека, но только не аутсайдера, так как именно ему здравомыслие чуждо.
Между прочим, почти двадцать шесть лет назад я написал повесть, которая так и называлась:
«АУТСАЙДЕРЫ»[28].
Начал ваять все это безобразие где–то весной 1978 года, а закончил в сентябре, как раз незадолго до гибели Сергея.
Или в октябре? Уже после?
НЕ ПОМНЮ!
Наглая зверюга памяти молчит и не подает голоса.
Но посвятил я эти пятьдесят с чем–то страниц машинописного текста ему, там так и написано:
«ПАМЯТИ С. Б. ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
Мне приятно вспоминать, что в свое время повесть эта очень понравилась следующим знаковым ныне персонажам:
ставшему режиссером А. Балабанову,
ставшему рок–звездой Ю. Шевчуку,
как бывшему, так и оставшемуся поэтом В. Кальпиди, который даже назвал впоследствии одну из своих книг «Аутсайдеры‑2».
Между прочим, по тем или иным причинам, но ни с кем из них я сейчас практически не общаюсь.
Что же касается повести, то она никогда не была, да и не будет опубликована — ее время как текста прошло. Хотя бы по качеству исполнения и по социальным реалиям. Проще говоря, когда написалось — публикация была невозможна, сейчас же она бессмысленна. Но сегодня с утра я откопал ту старую, самую первоначальную рукопись где–то на антресолях, самое смешное, что первые страниц пятнадцать я печатал на машинке с красной лентой, о чем совсем забыл, но дебильных аналогий с кровоточащими буквами приводить не буду, просто ленты другой не было, вот и все!
Я попытался начать ее перечитывать, меня хватило на первые полстраницы, потом начался вроде бы как сюжет и мне стало скучно. А начало — вот оно:
«…Лежу в темноте, сырой, скользкой, как кожа лягушки, сырой, скользкой и гулкой; лежу в темноте и слушаю ночь: вопли кузнечиков, рулады цикад; память, память…
Мир был подобен огромной, вогнутой чаше. Она вращалась вокруг оси и мир играл огнями, переливался радужным многоцветьем, мир, наполненный ветрами и слезами, шорохами, криками и шепотом. И еще молчанием, гулкой, позванивающей пустотой. И не было Харона, чтобы перевезти через этот Стикс жизни.
Но надо было идти, ползти, карабкаться. Идти и дойти, стиснув зубы, сжав кулаки, изо всех сил цепляясь за кромку реальности. Идти и дойти. Это главное — так, чтобы дойти.
Брошенным изо дня в ночь, в ее промозглую, нудную слякоть, в ту самую ночь, сырую, скользкую, как кожа лягушки, в ночь цикад и кузнечиков, вопли и рулады которых я слушаю, лежа в темноте.
Черной как Стикс, как тень Харона, черной, как стержень, вокруг которого вращается вогнутая чаша мира…
Ибо было сказано: «Не смерть нашла на солонце.»
Лучшее, что есть в приведенном отрывке — последняя фраза, но она не моя.
Это цитата из Фолкнера, из «Шума и ярости»:
«Там она о нем забудет да и болтать перестанут не смерть нашла на солонце.»
Видимо, в свое время этот образ так зацепил меня, что я беззастенчиво использовал его как главную эмоциональную доминанту своего неуклюжего писания.
Хотя про «людей гона» мне нравится до сих пор, может, из–за того, что как раз в то время я сам был таким.
Ведь любой текст пишется отчасти на автобиографической основе, тот — не исключение.
Если попытаться реконструировать события, то бегунок на временной шкале надо перевести еще где–то на год или чуть меньше.
Повесть писалась в 1978-ом.
«Человеком гона», глобальным аутсайдером я почувствовал себя осенью 1977‑го.
Когда, закончив университет, пошел на службу в редакцию газеты «Вечерний Свердловск», в отдел информации, по договору.
Ходил на работу, хотя не получал зарплаты, одни гонорары за дурацкие информашки, а временами репортажи и рецензии, которые писал для отдела культуры.
Например, про фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Или репортаж про львенка из зоопарка, от которого отказалась мамаша и его выкормила какая–то сотрудница из соски.
У меня до сих пор где–то валяется фотография, на которой я с этим львенком на руках — львенок большой, я его держу с трудом. На мне клетчатая рубашка, странная жилетка, у меня нет бороды и на голове кудри.
Примерно в те же дни, когда была сделана эта фотография, я и встретил свою самую проклятую любовь в жизни — ударение делается на первый слог.
Она была лаборантом на факультете журналистики, который я в том году уже закончил, училась на заочном, была моложе меня лет на пять.
Пришла ко мне в редакцию непонятно зачем. Сама. Я был женат, но у меня съехала крыша. Я слетел с катушек, глюкнулся головой, поплыл неизвестно куда.
Таскался с ней и за ней по всем своим знакомым.
Днем, вечером, ночью.
Временами — утром.
Странные такие отношения. Почти без секса. Разве что пару раз она у меня отсосала, хотя давала всем моим приятелям.
Когда я напивался и отрубался, то она трахалась с ними, беззастенчиво, рядом, практически на той же кровати.
Или на полу.
А может, выходила на кухню.
Или в ванную.
НЕ ЗНАЮ!
Я ЕЕ ЛЮБИЛ И Я ЕЕ НЕНАВИДЕЛ!
Я мотался с ней по городу, как придурошный щенок, ничего не воспринимающий, кроме голоса хозяина.
Мы заходили в магазин, покупали спиртное, качество которого зависело от наличествующих денег — шампанское, сухое вино, водка, венгерского производства джин, трехзвездочный молдавский коньяк — и ехали в гости. Как–то раз очередной ночью у кого–то из друзей она подменила мне стакан, вместо воды, которую я всегда ставил рядом, чтобы влить в себя проснувшись, поставила двухсотграммовую граненую емкость с коньяком. Я влил в себя это пойло часа в четыре утра и рухнул снова, хотя бывало и хуже — как–то раз вместо крепкого чая с сахаром мне подсунули такой же чай, но с солью.
Кто?
Вопросы излишни, будем считать, что она, моя тогдашняя
СУКА-ЛЮБОВЬ[29]…
Мы разбежались с ней поздней осенью, практически, уже уральской зимой.
Последнее выяснение отношений — все на том же чердаке дачного домика моих стариков, холодно, участок занесен снегом, мы пьем домашнее вино, за которым я постоянно спускаюсь в погреб.
Мир был подобен огромной вогнутой чаше….
Ощущение того, что все, жизнь подошла к концу.
Впрочем, через пару недель домой вернулась съехавшая в начале осени к родителям моя тогдашняя жена.
Через восемь лет, в 1985, что называется, во времена третьей жены, уже благополучно подходившие к концу — как раз в те дни она с любовником отправилась в отпуск, я тоже должен был ехать с ними, но у деда произошел первый инфаркт и я остался дома — мы встретились снова.
Точнее, она встретилась со мной.
Отыскала на прежнем месте работы, куда я заглянул зачем–то безумным июльским днем.
Она была замужем — про это я знал. И у нее был ребенок — про это я знал тоже. А вот то, что мужа арестовали где–то в Минске за спекуляцию — сие мне было неведомо. Но она отыскала меня, увезла к себе домой, легла под меня практически сразу же, а потом и поведала всю свою историю.
Хотя может — поведала по дороге домой, в такси.
И все началось снова!
Я уже не пил, но зато горстями глотал пилюли. И был таким же неприкаянным, как и восемь лет назад. Правда, во всю тусовался с рокерами и начал приучать ее к русскому рок–н–роллу. Она спала со мной, спала с моими приятелями, которых я приводил к ней в гости. И крыша у меня опять стала сползать. К новому году я был на грани помешательства. Третья жена насовсем ушла к любовнику, я продолжал жрать таблетки горстями, у меня стала пропадать эрекция.
Из аутсайдеров я мог запросто переползти в лузеры, но внезапно морок закончился, наваждение прошло.
До сих пор не могу понять,
КАК и БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ.
Только в один прекрасный день я вдруг ощутил, что отныне я — СВОБОДЕН, и уже навсегда!
Насколько я знаю, муж ее вскоре выбрался из своих неприятностей, она родила еще одного ребенка, а потом они развелись. Вскоре же для всех нас началась другая эпоха, а у меня и так уже была иная жизнь.
Но я по–прежнему люблю аутсайдеров и терпеть не могу тех, кто громогласно заявляет:
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
Хотя бы потому, что никто и никогда не может однозначно сказать, в чем она — главная удача жизни…
Аутсайдеры, люди гона, брошенные изо дня в ночь, в ее промозглую, нудную слякоть, сырую, скользкую, как кожа лягушки, в ночь цикад и кузнечиков, вопли и рулады которых я слушаю, лежа в темноте…
Только вот иногда я думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы эта немудреная повесть все же была опубликована тогда, много лет назад?
Хотя чего тут думать! Ведь все действительно —
удалось: —))!
25. Ghj gbpls b ghj @gbpljyj; tr@[30]
Самая честная книга, которая может быть написана об отношениях мужчины и женщины, причем, безотносительно гендерной принадлежности автора, должна называться «The Cunt and the Cunt–chaser». Но она никогда не будет написана, хотя бы потому, что название можно перевести как «Пизда и Ебарь», а это не политкорректно и отдает обоюдным сексизмом.
Первоначально я хотел назвать этот меморуинг «Про женщин». Но потом понял, что это будет неправдой. Ведь если «про женщин», то это совсем не о том, про что пойдет речь.
Говоря о женщинах как–то принято переходить исключительно на такой словарный ряд, в котором перемежаются «нежность» и «душа», «понимание» и «прощение». По крайней мере, в координатах русской литературы, западная намного откровеннее, особенно, с тех пор, когда понятие «феминизма» перестало быть лишь понятием, но ведь я не эссеистикой занимаюсь, а пишу меморуинги, потому продолжу совсем в другом ключе.
КАЖДАЯ ИЗ НИХ ПРЕКРАСНО ОСОЗНАЕТ, ЧТО ОНА — ОБЪЕКТ.
ЭТО ЗНАНИЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНО.
ИЛИ ЗАЛОЖЕНО?
Хотя разницы никакой, что так верти, что этак, но в любом случается возникает вариант охоты. И тут–то начинается самое странное.
Потому что с годами ты начинаешь прекрасно понимать, что в роли жертвы выступаешь именно ты. Это на тебя охотятся, это тебя гонят по унылому виртуальному лесу. Или настоящему. Или по городу, в котором ты живешь. Или по всей стране. Или — бери круче — по всему миру.
Безжалостно, цинично, взвешено.
С этим ничего не поделать, они слишком хорошо знают, что нам надо и понимают, что лишь от них зависит — получим мы это или нет.
Я не говорю о насилии, это за пределами данных страниц.
Я просто говорю о том, что есть основа жизни: существительное «пизда» встречается с существительным «ебарь», только надо сразу заметить, что речь идет не о любви.
И не потому, что ее нет, но я уже не в том возрасте, чтобы ставить ее превыше всего, да и потом — как утверждают физиологи и психологи, любовь есть ни что иное, как воздействие определенных феромонов.
То есть, если от тебя пахнет определенным образом, то любовь возникнет.
А если не пахнет, то — соответственно — нет.
Женщины обычно обижаются, когда им прямо говорят об этом. Будем считать, что обижаются неумные женщины.
Одна моя давняя знакомая так вообще честно говорила про себя «пизда на ножках», не могу сказать, чтоб она блистала интеллектом, но, по крайней мере, в мире мужчин чувствовала себя не так уж и плохо, хорошо понимая, чего от нее хотят и как это надо использовать.
Наверное, в этом слове и есть ключ:
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Хотя можно обратиться и к другому понятию:
ВЗАИМОПОЛЕЗНОСТИ.
Много лет назад Аркадий Стругацкий поверг меня, совсем еще пацана, в шок, определив дружбу именно как взаимополезность. Я‑то по молодости лет считал, что это нечто иное, более альтруистичное и — несомненно — возвышенное. Хотя сейчас, к пятидесяти, мне все стало более или менее понятно: дружба есть действительно взаимополезность, как и любовь, как и семейная жизнь, разве что любовь к детям выбивается из этой парадигмы, чего не скажешь, впрочем, о любви детей к нам.
Только вот это все равно не исключает ни альтруистичности, ни возвышенности, ни странной, феромонами вызванной, нежности.
Как и — естественно — желания.
А, между прочим, «нет желания — нет счастья», как утверждал некогда Петер Хандке[31].
Только у него это было с заглавной буквы, вот так:
«Нет желания — нет счастья»!
Только вот меня всегда интересовало, что такое счастье для них? Может, я их просто не понимаю? Да нет, ведь в этом случае я бы не смог на пару лет превратиться в Катю Ткаченко.
А ЕСЛИ БЫ Я НЕ ПОБЫЛ ПАРУ ЛЕТ В ШКУРЕ (ДУШЕ, ТЕЛЕ) УПОМЯНУТОЙ ДАМЫ, ТО НИКОГДА БЫ НЕ ДОПЕР ДО ВСЕЙ ГРУСТНОЙ ПРАВДЫ О НАС, МУЖЧИНАХ, И О НИХ — ЖЕНЩИНАХ.
Мне оставалось бы лишь читать Генри Миллера[32], который, как мне временами кажется, знал о них все с точки зрения мужчины. И совершенно ничего — со стороны женщины, даже несмотря на все старания Анаис Нин.
А ведь это самое интересное, попытаться их понять с их же точки зрения. Например, с точки зрения мужчины мне отчего–то помнится, что у нее был шрам на щеке. Нет, не на щеке — на шее, вроде бы, после удаления зоба. Только вот с левой стороны или с правой — уже не скажу. Зато помню, как ее звали — мерзкое такое имя, Римма. Вообще, женские имена, точнее, их восприятие, вещь сугубо субъективная, естественно, все с той же точки зрения мужчины. Какие–то имена тебе приятны, какие–то вызывают отторжение, будто за ними — пропасть, в которую предстоит рухнуть и долго лететь до дна ущелья, которое уже ощерилось поджидающими острыми глыбами, что называется, упадешь — костей не соберешь.
Но продолжу.
Пока все с той же, мужской точки зрения. Она возникла в моей жизни внезапно, это было примерно через год после гибели Сергея и той моей проклятой — ударение на первый слог — любви. Я сильно пил тогда и постоянно бывал в одной сумрачной, но довольно неглупой компании, в квартире почти по соседству с домом. Туда она и заявилась как–то поздним вечером, а вот почему выбрала меня — этого я никогда не мог сказать.
Но в первый же раз мы занялись каким–то животным, воистину миллеровским сексом[33], несмотря на то, что в соседней комнате два провинциальных интеллектуала громогласно размышляли о Гегеле.
Через несколько дней я пришел к ней домой.
Мы ни о чем не говорили. Я принес бутылку коньяка. Мы выпили и она начала раздеваться.
В первый раз я так и не понял, что она не кончила. Но во второй она внятно сообщила мне, ЧТО ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬ ОТ МУЖЧИНЫ, и никогда не кончала!
Только сама. Я попросил ее сделать это прямо сейчас, при мне. Она послушно сползла с меня, села в кресло напротив и раздвинула ноги.
Наверное, надо было ее пожалеть. Наверное, мне вообще надо было ее жалеть, но чего–чего, а этого чувства у меня не было к ней все то время, пока мы встречались — что–то около полутора лет.
Ни когда я приходил к ней домой, ни тогда, когда она звонила мне на работу и говорила:
— Я рядом, зайти?
— Заходи! — отвечал я, прекрасно зная, что произойдет.
Как–то раз она пришла в большой красной шляпе с широкими полями. Черное пальто и красная шляпа — помню это до сих пор. Она торопилась, поэтому шляпу снимать не стала, просто опустилась возле меня на корточки и стала сосать, попросив перед этим придерживать шляпу, чтобы та не упала. Я бережно поддерживал широкие фетровые края обеими руками, с точки зрения мужчины
ЭТО БЫЛО НОРМАЛЬНО!
Только вот с точки зрения женщины — зачем она все это делала?
Почему всегда была готова принять меня и делать все, что я захочу?
Может, она меня просто любила?
НЕ ВЕРЮ!
Но тогда зачем, зачем ей все это было надо?
Она исчезла из моей жизни так же внезапно, как появилась.
Просто исчезла и все.
Наверное, поняла, что ничего не будет.
Того, чего бы она хотела.
А вот чего она хотела — кто и когда скажет мне об этом?
И тогда мне стало ее жалко. Я понял, что все эти полтора года делал ей очень больно, хотя может, я понял это и не тогда, а только сейчас.
Почему–то и зачем–то я всегда им всем делал больно.
Наверное потому, что они делали больно мне?
Мы все делаем друг другу больно, но с годами просто забываем об этом, ведь охота есть охота, и в ней четко выражена вековечная связь между мужчиной и женщиной, так что действительно: самая правдивая книга, написанная об отношениях полов, должна называться «The Cunt and the Cunt–chaser», вот только она никогда не будет написана, потому что есть и другие женщины, кроме так называемых @gbpljyj; tr@.
Они — лучшие из тех, кого мне доводилось знать и кому я до сих пор представлен. Но будучи такими умными, такими самодостаточными и сильными в своей слабости, они способны прекрасно обходиться без нас, за исключением тех определенных жизненных моментов, когда мы просто физически необходимы — ведь не всем и не всегда доставляют удовольствие как вибраторы, так и фаллоимитаторы.
Вот это и есть истинные женщины, те нежные и неукротимые создания, общение с которыми балансирует между партнерством и противоборством, в котором отнюдь не мы берем верх, ибо отчего–то они умудряются на самом деле знать про нас что–то такое, чего мы никогда не узнаем о них. Ни с женской, ни с мужской, ни с какой иной точки зрения.[34]
26. Про drinks&drugs
Тема, что называется, всей жизни.
Плотно закрытая раковина, изнутри до сих пор заполненная страхом.
Если разжать створки, то на одной будет написано DRINKS,
на другой‑DRUGS.
Шерочка с машерочкой, отчаянные любовники, кружащиеся в смертельном танго.
Хотя как по настоящему танцуют танго, я видел только в кино[35] и по телевизору.
Щелчок же включаемого/выключаемого ТВ похож на щелчок, звучащий в твоей голове после нужной дозы спиртного. Только так пьют настоящие алкоголики — не для кайфа.
Для того, чтобы отрубиться и очнуться уже внутри самой раковины, в полной темноте, сквозь которую оттуда, с воли, доносятся странные, невнятные крики, может, это орут чайки, прилетевшие из морей твоего детства, может, что еще, но только все равно ничего не увидеть, кроме темноты, разве что — да, свою тень, клон, подобие, жуткую рожу из мрачной комнаты смеха.
Между прочим, есть такие раковины, тридакны[36], их еще называют «раковины–убийцы» — стоит ныряльщику замешкаться, как они закрывают створки с такой силой, что уже не вырваться.
Я вижу все так отчетливо, будто это происходи сейчас. Он садится в такси, хотя даже не отображает этого. Пил весь вечер — водка, сухое вино, снова водка. Пока, видимо, бутылки не опустели.
«В МИРЕ НЕТ ЗРЕЛИЩА УЖАСНЕЙ ПУСТОЙ БУТЫЛКИ! РАЗВЕ ЧТО ЗРЕЛИЩЕ ПУСТОГО СТАКАНА!»
Малкольм Лаури[37]
Сколько он выпил тогда, бутылку, две? Да какая разница, главное — услышать щелчок. Это всегда для него было самым главным.
Я до сих пор хорошо помню, как он, оказавшись в Ереване в самом начале восьмидесятых, немного посидев в баре гостиницы, поднялся в номер с приятелями. У них было прикуплено несколько бутылок тех настоящих армянских коньяков, которые можно было купить или в самой республике или — лишь за границей. На закуску нашлись две банки свиного чешского паштета, коньяк же разливали в простые граненые стаканы, а вместо лимона заглатывали его водой из водопровода. Коньяк восьмилетней выдержки, десятилетней, пятнадцатилетней…
САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧОК!
Про щелчок очень много писал Ф. С. Фитцджеральд в своем «Крушении», когда тем поздним осенним вечером я в беспамятстве ввалился в такси, то оставалось еще несколько лет до прочтения этой книги.
Хорошо еще, что временами у него хватало сил читать.
Мне трудно сейчас сказать, куда он ехал. Да он и сам этого не знал.
Но вот такси остановилось и он вышел из машины.
Еще будучи там, в полной темноте, внутри зловонной раковины, мое отражение, клон, жалкое подобие, скалящее рожи в жуткой комнате уродливого смеха.
Ничего не помня и не соображая.
Когда же голова вдруг прояснилась, то он понял, что ему приходит конец.
Слева на него надвигался поезд, справа, бессмысленно грохоча колесами, мчался другой.
Два поезда шли навстречу друг другу.
Он стоял боком, между вагонами, в совсем еще недавно белом, а теперь заляпанном грязью плаще и с чьим–то портфелем в руках, не его портфелем, чужим.
ОН УНЕС ЧУЖОЙ ПОРТФЕЛЬ!
Поезда прошли и он увидел огни.
Он стоял на мосту, рядом начиналась дорога в аэропорт. Как он здесь оказался — я все еще не знаю. И никогда не узнаю. Но мне тогда стало страшно, первый раз в жизни, вот только — не в последний.
Про поезда — это не метафора, это действительно произошло осенью то ли 1978‑го, то ли 1979‑го, то ли 1980‑го годов.
Еще много лет мне временами становилось страшно. Иногда два, а то и три раза в неделю. Под конец — почти непрерывно, не жизнь, какой–то оголтелый комок страха. Клубок. Лабиринт. Все та же мрачная комната смеха.
В это время я уже пил практически не переставая. С работы из издательства меня должны были скоро уволить, но мне было все равно. Я выходил из дома и шел в гастроном, в отдел «соки–воды». Стакан сухого яблочного вина по 48 тогдашних копеек. Потом — в автобус и до конторы. Рабочий день с 8.30., в 9.00 уже открывался буфет в столовой по соседству. 150 коньяка или 200 водки. Дальше — еще, пока не щелкнет.
Днем меня кто–нибудь отправлял домой. Или я сам добирался. И засыпал: в кровати, в коридоре, на лестничной площадке. То есть, засыпал там, куда хватало сил добрести.
Створка раковины с надписью drinks.
Я не пью уже двадцать лет, с 4 октября 1984 года.
Алкоголики бывшими не бывают — через девять лет после первой завязки я попробовал, тогда только появилось итальянское «асти–спуманте». Через три месяца нажрался так, что блевал двое суток, после чего не выношу даже запаха.
НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
Есть и вторая створка,
DRUGS,
это даже не раковина, это бездонная дыра.
Черная пропасть, провал в люциферову бездну.
Что–то принимать я начал, еще когда пил — таблетки то с возбуждающим, то с расслабляющим свойством.
Это уже не щелчок, это сладкий туман, когда не жизнь, сплошное иль дольче фар ниенте, временами же ты чувствуешь себя богом, или вот так:
БОГОМ.
Просто богом, и все!
Барбитураты сменялись амфетаминами, амфетамины вновь — барбитуратами.
Особенно, когда бросил пить.
Врач в клинике постоянно жалела и советовала принимать успокаивающие.
И прописывала их.
Я начал выпивать по облатке в день и стал подделывать рецепты.
Покупал седуксен в ампулах и пил как микстуру: принимал, что называется, орально.
Вот только иногда боги быстро опускаются на землю.
Падают и даже разбиваются.
Когда ты закидываешься в день 12–13 таблетками, то ты не бог, ты
ДЕРЬМО!
Пилюльки разной формы, цвета и размера.
Совсем маленькие, желтые и овальные, чуть побольше, белые, такие же размером, но кремоватого оттенка, красные — намного больше, еще одни желтые, но размером с красные, от этих голова набивается песком, зато предыдущие действуют как удар, от которого искры сыплются из глаз.
А можно и смешивать, можно даже класть на кусочек хлеба, лучше белого. Только не посыпать сахаром, ни в коем случае не посыпать сахаром, а так же не стоит применять соль, перец, майонез, горчицу, кетчуп.
ЛУЧШЕ ВСЕГО — В ЧИСТОМ ВИДЕ!
И не стоит все это сопровождать травой.
Траву я тоже курил — дома, в застекленном шкафу с дедовской медицинской библиотекой, за толстым томом какого–то специального словаря, стояла полулитровая банка, доверху полная дури. Но от нее голова мякла, становилась пластилиновой и очень хотелось есть.
Пилюли же делали меня другим.
Без всякого щелчка.
Это называется:
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ!
Поэтому сейчас я не могу слушать музыку рэггей, что называется — не всасываю ее странный и мягкий кайф.
Как и некоторую другую музыку — живу не в том измерении, ведь я давно уже адекватен.
Или — хотя бы — стараюсь таким быть.
От пьянства меня излечила третья жена, от наркотиков — Наталья, четвертая.
Когда я бросил пить, то третья жена посчитала, что ей этого делать незачем, с тех пор я твердо знаю, что нет ничего хуже пьяной в драбадан женщины.
А Наталья меня даже не лечила, просто так уж вышло, что я умудрился это сделать сам.
ХОТЯ…
Хотя хорошо, что все это было в то время, когда что героин, что кокаин были известны нам лишь по буржуйским книгам.
Иначе бы меня уже не было.
Ведь я бы попробовал все это лет тридцать назад, а так долго — не живут.
Но зато у меня все еще есть раковина, полная страха.
Даже не гигантская тридакна, просто обычная двустворчатая раковина, лежащая на одной из книжных полок, между странным божком откуда–то из Малайзии и большой сосновой шишкой, привезенной с отрогов Пиренеев.
Раковину можно открыть, но лучше этого не делать — в ней темно и противно воет осенний ветер.
Я хорошо помню, что написано на ее створках, как помню и то, что можно увидеть внутри — дурное кино, начинающееся с того, что некто в грязном белом плаще боком стоит между двух навстречу друг другу идущих поездов.
Он качается, но как известно любому русскому — якобы Бог любит пьяниц…
Что же, может быть, это и так.
До сих пор мне сложно сказать, почему я остался в живых.
Но я благодарен Ему за это, как и за многое другое…
DRINKS&DRUGS.
DRUGS&DRINKS.
«— Хересу, пожалуйста. 800 граммов.
— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским
языком: нет у нас хереса!
— Ну… Я подожду… Когда будет…
— Жди–жди… Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!»
(Естественно, что Венедикт Ерофеев, естественно, что «Москва — Петушки».)
27. Про СэСэСэРэ
И вся эта моя непутевая жизнь проходила в государстве под названием СэСэСэРэ.
К счастью, его давно уже нет, но все равно интересно, есть хоть что–то, что мне в нем было бы жалко?
Чего не жалко — с этим давно все ясно. Пресловутой колбасы что по 2.20, что по 2.90, вонючих туалетов, черно–серой массы, заполняющей города утром и вечером, пролетарской гордости красных флагов, каракулевых воротников и пыжиковых шапок, пьяных демонстраций, двух телевизионных каналов, как первого, так и второго, знака качества, лысо–бородатого вездесущего Ленина с четко подмеченным Набоковым калмыцким прищуром глаз, а главное — тоски, постоянной, давящей, порою невыносимой, уж действительно:
экзистенциальной,
хотя само это слово здесь мало уместно, так как наделяет смыслом то, в чем НИКАКОГО СМЫСЛА НЕ БЫЛО: саму сэсэсэровскую жизнь.
Но ведь должно же быть что–то, о чем приятно вспоминать, и даже хочется, чтобы это было можно делать. Исходя лишь из одного того факта, что если бы все свои тридцать шесть лет при коммунистах я умудрился прожить в ощущении крайнего дискомфорта и полной выгребной ямы, то из меня получился бы не писатель Матвеев (Катя Ткаченко, Дал Мартин), а политик Новодворская, от чего Бог, как уже стало самому давно ясно, все же миловал[38].
Как оказалось, чтобы перечислить то, чего мне все–таки жаль, хватит пальцев и одной руки — не много, но зато честно, я вообще стараюсь писать эту книгу ЧЕСТНО, ничего не приукрашивая и не создавая никаких легенд.
Разве что про полуденные песни тритонов, но кто может мне абсолютно достоверно заявить, что
ТРИТОНЫ НЕ ПОЮТ!
Может быть, мы этого просто не слышим, как не слышим пения бабочек–мутантов, да и вообще до сих пор не можем ответить на вопрос «есть ли жизнь на Марсе?», все равно когда–нибудь окажется, ЧТО ЕСТЬ.
ИЛИ БЫЛА.
ИЛИ БУДЕТ, КОГДА НАШИМ ПОТОМКАМ ПРИДЕТСЯ СВАЛИВАТЬ НА ЭТУ ПЛАНЕТУ ИЗ-ЗА КАКОЙ-НИБУДЬ БРЕДОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.
В общем, то, что можно услышать полуденные песни тритонов для меня столь же ясно, как и то, что мне до сих пор жалко нескольких моих пальцев, оставшихся в той долбанутой жизни.
Например,
ЖАЛКО КРЫМА.
И это совсем не смешно.
Причем — мне абсолютно все равно, что он ныне принадлежит Украине. Мой любимый Бодрум[39] тоже неоднократно переходил из рук в руки, но это не мешает ему быть идеальным местом для отдыха. И таким же был Крым, когда всего остального мира просто не существовало. То есть, когда не было выбора, куда ехать, то ты ехал в Крым, на Черное море — другие моря, конечно, тоже были, но, в основном, лишь на карте.
А Крым был, и можно было, выстояв какую–то несусветную очередь — скорее же, прибегнув к помощи знакомых, то есть, по блату, — купить билеты на самолет, протащиться ранним утром на переполненном автобусе, сдать багаж, сесть в воняющий резиной и чем–то затхлым самолет, и через три с половиной часа оказаться в Симферополе, где было тепло и пахло чем–то приятным, даже рядом с неказистым по тем временам зданием аэропорта.
Ну а потом надо было купить билеты на троллейбус и еще почти три часа катить по трассе, сначала в ожидании перевала, а потом, когда трасса, петляя, начнет быстро разматываться вниз — моря, единственного, что пригодно для летнего отдыха не по карте, а, что называется, наяву, ведь Японское море — далеко, а все остальные — холодные.
Дальше все ясно, или Ялта, или Алушта, или Гурзуф. Темные ночи, россыпи звезд, барашки волн, черные силуэты кипарисов, удушающий аромат роз в Никитском ботаническом саду, курлыканье горных голубей.
В Бодруме, между прочим, дикие голуби тоже так курлыкают, и так же громко верещат цикады. Везде, где есть горы, есть дикие голуби, и везде, где жарко, есть цикады.
Например, в так мною любимой Барселоне
Но вот того моего Крыма больше нет, и мне его безумно жалко. Пусть даже я всегда могу купить билет, предъявить на границе загранпаспорт и дальше все, как и много лет назад: можно и троллейбусом, смотреть в окно, ожидая перевала, а потом вниз, к морю, что в Ялту, что в Алушту, что в Гурзуф.
Или уже автобусом — в Коктебель, Судак, Феодосию.
Только я все равно этого никогда не сделаю. Из принципа. Да и потом — есть места, где, как оказалось, мне СЕЙЧАС намного лучше
А если вернуться к тем самым долбанутым пальцам, то еще мне ЖАЛКО ДРУЗЕЙ.
Нет, это совсем не значит, что теперь их вообще нет.
Есть те, кому я верю, кому я нужен, кто мне близок, дорог и т. п. Есть даже те, кого иногда хочется назвать этим словом. Но все это — исключения, потому что я хорошо осознаю: настоящие друзья остались там, в смутных и скрытых туманом временах сэсэсэровского бытия, когда мы дружили не по необходимости или из–за того, что так легли карты, а по велению души, пусть этот оборот и звучит сейчас, в начале 2004 года, довольно высокопарно.
И так несовременно, что мне даже хочется его повторить:
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ!
По велению души я дружил много лет с Аркашей Бурштейном (ныне в Израиле), Вадиком Барановым[40], который даже стал моим крестным отцом (тоже в Израиле), Мишей Орловым (совсем спился), Сашей Виленским (опять же — в Израиле), Мишей Перовым (он стал нотариусом, это то же самое, что в Израиле), в общем — друзей никогда много не бывает, но список все равно не полный.
Хотя иногда они, давно исчезнувшие друзья, выскакивают, как чертики из коробочки, и ты радуешься, будто восстанавливается пресловутая связь времен. Так совсем недавно выскочил Женя Карзанов (ныне в Объединенных Арабских Эмиратах), по прозвищу «Женя Большой», хотя «Маленького» никогда не было — это был единственный Женя среди моих друзей, и действительно: ну очень большой, за метр девяносто и килограммов под девяносто — сто.
Он так же, как и я, тусовался с рокерами, а еще писал статейки в подпольные рок–листки под псевдонимом «Антивалютов».
Сейчас он — дизайнер в замечательном городе Дубай, у него есть мотоцикл, suzuki hayabusa, на котором hugoeuge[41] гоняет по скоростным эмиратским трассам. Это напоминает мне одну давнюю картинку, когда на обратном пути с океана машину, в которой я ехал, обогнал такой же дубайский байкер на «судзуки», и огонечек его фары еще долго маячил где–то далеко впереди, хотя ехали мы явно под сто пятьдесят, если не больше…
Про Женю Большого надо будет обязательно рассказать в меморуинге про то, как я работал в зоопарке — один раз он помог мне загнать на место слона.
Он вообще мне часто помогал, мы вместе ездили к моим старикам в сад, то чинили теплицу, то чистили колодец, то сажали/выкапывали картошку.
Это, между прочим, еще один долбанутый палец.
Мне безумно
ЖАЛКО ТОГО МЕСТА, КОТОРОЕ БАБУШКА НАЗЫВАЛА САДОМ, А Я — ДАЧЕЙ.
Ведь именно там я так часто бывал счастлив.
И когда играл в индейцев.
И когда собирал бабочек.
И когда ходил с дедом по узкоколейке или на «Графские развалины».
И когда читал на чердаке книги, в той самой малюсенькой комнатенке под крышей, в которой потом написал свои первые два романа — «Историю Лоримура» и «Частное лицо».
После смерти бабушки я был там всего два раза.
Пока старики были живы я ездил туда иногда каждую неделю, не потому, что мне так уж этого хотелось, временами, я ненавидел этот сад и необходимость чего–то там постоянно сажать, копать, подправлять, таскать, строить. Но все равно ездил.
Именно там я в последний раз увидел живым деда. Приехал ненадолго, за дочкой, которая ночевала с ними. Это было 16‑го июня 1991 года. Перед этим прошла ночная гроза, дорожки были мокрыми и грязными. Дед попросил помочь подправить доску у сарая. Я подправил, сказал, что пошел, и мы с Аней уехали.
А вечером, вернувшись домой, дед принял ванну, лег спать и умер. Ему было почти восемьдесят три года и он перенес пять инфарктов. Но тем летом в сад я ездил еще неоднократно — помогать бабушке.
А после ее смерти перестал.
В 2000 же году я сжег этот дом в своем романе «Indileto», после чего в тот же вечер свалился с приступом отвратительной головной боли, которая не проходила несколько дней, хотя все время, что я писал ту книгу, у меня безумно болела голова, наверное, это был просто синдром Миллениума.
Героя романа звали Лапидусом. Он вляпался в одну дурацкую историю, из которой так и не смог выбраться. Или смог? Я не знаю этого до сих пор.
А когда он поджигает дом, то бабушки уже много лет, как нет на свете.
«Лапидус сплюнул под ноги, обернулся, посмотрел на дом, на широко открытую дверь, на фонарь, который все еще держал в руках.
— Ну что ты медлишь, — раздался из дома голос бабушки, — если решил — то действуй, ну, Лапидус!
Лапидус вобрал в легкие воздух, размахнулся и метнул фонарь прямо в открытую дверь. Потом повернулся и, не оборачиваясь, зашагал вперед по тропинке, которая вела прямо от крыльца.
— Молодец, — крикнула ему вдогонку бабушка.
Лапидус не выдержал и обернулся. Дом уже горел, пламя с треском поднималось по стенам к крыше.
«Надо было взять журнал с собой, — подумал Лапидус, — интересно, чем там все закончилось?»
Но потом он вспомнил, что последняя страница тоже была оторвана.
Раздался сильный грохот — это обвалилась крыша.
Лапидус убыстрил шаги.
Потом еще убыстрил.
Потом побежал.
Как–то необычайно легко, дыша ровно и спокойно.
Пламя с треском пожирало остатки дома.
Цветы, если верить бабушке, назывались «метиолла».
А бабочек здесь раньше действительно было много.
То ли пятнадцать, то ли восемнадцать лет назад.»
Наверное, того дома мне жаль больше всего, даже больше, чем собственной наивности, которую мне тоже хочется уподобить одному из долбанутых пальцев, наверное, последнему.
Вот только
last but not least…
Хотя наивен я временами до сих пор, а иногда почти так же доверчив к людям, как много лет назад, в те времена, когда еще жил в дурацкой стране под названием СэСэСэРэ, исчезновения которой с карты мира мне совсем не жаль, а о том, чего мне действительно жаль, я уже только что написал, разве что остается добавить еще пару фраз про ту давнюю, давнюю жизнь:
ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ СТРАННАЯ.
КАК В КИНО.
28. Про кино
Я давно уже не хожу в кино.
Смотреть — смотрю.
Дома, по видео или же по ТВ.
Но ходить — не хожу.
Единственный раз, когда я выбрался с семьей собственно в кинозал, был несколько лет назад, когда в прокат вышел первый эпизод лукасовских «Звездных войн», «Скрытая угроза».
Я — фанат «Звездных войн», только вот фанатею как–то тихо.
Я вообще сейчас очень многое делаю тихо, поэтому смотреть в том же кинозале очередные серии «Властелина колец» мне бессмысленно, я могу сделать это и дома, лежа на диване, чтобы мне не говорили про качество звука и масштабность изображения.
Могу и вообще не смотреть: лучше взять с полки книгу и перечитать, особенно первый том, «Хранители».
Иногда мне кажется, что если бы Д. Р.Р. Т. написал только его, то он создал бы не культовую сагу, а величайшее в мире литературное произведение — ведь в нем была бы та недосказанность, которая «включала» бы и мою фантазию:
А ЧТО ТАМ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Но есть второй и третий тома, поэтому я знаю, что будет дальше и чем все закончится, а это уже не интересно, фантазия засыпает, остается простое любопытство.
Может, в этом и заключен ответ, отчего я уже много лет не хожу в кино — мне не интересно.
Меня это грузит, заставляет выключать собственный мир.
И очень редко случается так, что чужой оказывается созвучен моему.
Правда, отчего–то это происходит с некоторыми фильмами, которые я могу не просто смотреть, но и пересматривать.
По самым разным причинам.
Например, с «Рэмбо: первая кровь», часть первая. Я всегда жду того момента, когда Сталлоне в конце буквально выблевывает свой финальный монолог.
А еще — «Пес–призрак. Путь самурая.» Мне давно не интересно смотреть то, о чем снято это кино, но до сих пор изумляет, КАК это сделано.
Недавно же меня просто заставили посмотреть «Мир призраков» Терри Зиенгоффа, говоря, что это —
ну вообще просто гениально!
Это действительно оказалось просто гениально и я до сих пор бережно ношу в себе какие–то кусочки этого кино, например, старого дяденьку, ожидающего автобуса, который, судя по всему, никогда не придет.
Оказывается, что он приходит, надо только дождаться.
АВТОБУС ПРИХОДИТ НЕ ПО РАСПИСАНИЮ!
В общем — атмосфера, вот что заставляет меня пусть дома, но смотреть киношки.
Атмосфера и всяческие необъяснимые штуковины, с ней связанные. Имеющие отношение не столько к кино или литературе, сколько к жизни. Когда ты видишь отдельную деталь и понимаешь, что с тобой происходило такое же, пусть в других обстоятельствах и — соответственно — совсем, вроде бы, не так, но схоже.
Какая–то знакомая/незнакомая жизнь, как в фильмах по сценариям Пола Остера.[42]
А вот в стране под названием СэСэСэРэ я в кино ходил постоянно. Можно сказать, что я вообще жил в кино. То есть, все просмотренные мною фильмы каким–то образом становились частью меня, и я предпочитал существовать внутри них, а не в окружающей меня реальности.
Я даже помню некоторые из этих лент, что–то только по названиям, что–то более подробно.
Так, в самом далеком детстве моим любимым фильмом было нечто под названием «Кер–оглы»[43]. Это про азербайджанского борца за свободу порабощенного трудового народа во временам Ширван–шахов. Причем, я вспомнил об этом лишь тогда, когда оказался в Баку и нас повели на экскурсию в тот самый дворец Ширван–шахов, где героя фильма то ли мучили/истязали, то ли истязали/мучили. Когда же нам показали колодец, в котором некогда жили злые полосатые тигры, то я даже вроде бы заново увидел, как герой моего детства вручную побеждает огромного хищного зверя.
Только не исключено, что все это мне приснилось.
Потом появился «Человек–амфибия», ну, с этим все ясно.
Затем — выстояв долгую, чуть ли не часовую очередь на морозе — я купил за пятьдесят копеек билет на «Три мушкетера» с Жаном Маре в роли д’Артаньяна[44].
Тогда я понятия не имел, что этот д’Артаньян — гомосексуалист.
Равно как и то, что он — великий актер.
Но несколько лет я старался не пропустить ни одного фильма с ним, тем более, что появился «Фантомас», который вскоре разбушевался, а затем начал бороться против Скотланд — Ярда.
Между прочим, в том самом кинотеатре — он носил имя великого пролетарского поэта В. В. Маяковского, был расположен в одноименном парке культуры и отдыха и был разрушен по причине старости и ветхости еще до нашего всеобщего переселения из СэСэСэРэ в Россию — где я смотрел «Три мушкетера», первого «Фантомаса»[45] и еще много чего, я один раз попал на очень странное кино, которое, как сейчас понимаю, перевернуло меня всего.
Чтобы купить билет, мне даже не пришлось стоять в очереди. Просто подошел к окошечку кассы и приобрел.
А потом зашел в зал и уткнулся в экран.
Кино оказалось двухсерийным и документальным.
И называлось оно «Обыкновенный фашизм».
Наверное, я поперся на него думая, что там — про войнушку.
Отчасти я оказался прав, но только отчасти.
Но когда сейчас я попытался составить список фильмов, которые потрясли меня в ТОЙ моей жизни, то «Обыкновенный фашизм» опередил даже «Трех мушкетеров», по крайней мере, я точно помню, что несколько ночей плохо спал и мне хотелось плакать.
Еще в списке можно найти «Айболит‑66», «Большой приз» и «Белое солнце пустыни».
После чего совершенно внезапно я начал смотреть совершенно другое кино.
Поехала крыша и я стал записным киноманом.
Это было уже после школы, в школе я был нормальным.
Нормальные не смотрят по пять раз «Андрея Рублева» и по столько же — «Конформист».
«Профессию: репортер» и «Амаркорд».
«АМАРКОРД».
«Я ВСПОМИНАЮ».
Рекорд по просмотрам принадлежит «Зеркалу» Тарковского — я умудрился посмотреть его восемь раз.
Хотя это тогда была такая игра — ты смотрел «Зеркало» и пытался найти в нем что–то такое, чего не подметил до тебя никто. Потом вы собирались и начинали все это обсуждать и сравнивать. Что он хотел сказать? А почему это именно так? А вот это было зачем?
ДА ПРОСТО ТАК!
КИНО И ВСЕ ТУТ!
Но тогда именно так я просто не мог ответить…
На Тарковском и закончилась моя сэсэсэровская киномания. Душным летним вечером я отправился на «Сталкер», а выйдя из зала понял, что больше в кино ходить не хочу. Наверное, потому что такого больше не увижу. Мы шли обратно пешком, стемнело, от асфальта несло томящей дневной жарой. Рэдрик Шухарт все еще был там, в Зоне, совсем не похожей на то, что было придумано братьями Стругацкими в «Пикнике на обочине», хотя говорить о том, что всем прекрасно известно, нет никакого смысла.
Смысл — в другом.
Я шел по улице домой, и этой улица была Зоной.
До меня внезапно доперло, что я — сталкер в этом бредовом мире, ждать от которого не стоит ничего хорошего, хотя очень хочется, чтобы счастье было у всех и чтобы никто не был обижен.
Дома по обочинам кривлялись и хихикали.
Внезапно громыхнуло где–то сзади и разразился сильный, типично летний ливень. Было поздно, все уже было закрыто, мы втроем залезли в ближайшую телефонную будку и я до сих пор помню, как по грязноватому стеклу стекали потоки воды.
Вода заливала тротуар, асфальт проезжей части, вода была везде.
И так же внезапно дождь закончился.
На том вечере список фильмов можно было бы остановить, если бы не еще одно кино.
Просто по времени это случилось раньше, но мне совершенно неохота переделывать уже почти готовый меморуинг.
Осенью 1976 года, после двух месяцев военных лагерей, я оказался на дипломной практике в Хабаровске, в газете «Тихоокеанская звезда».
Сентябрь и часть октября были в тот год и в тех местах сказочными, если не сказать — божественными. Я жил в странной гостинице «Рыбак», неподалеку от набережной Амура, приглушенное осеннее солнце, кучи листьев, возле магазинов торговали ананасами, которых в городе Сврдл отродясь не бывало, сюда же их привозили из «братского» Вьетнама и они были навалены горами, как картошка.
Гостиница располагалась в жилом доме, на третьем этаже. Мы с однокурсником жили в дальней комнате двухкомнатной квартиры, в комнатушке перед нами обретались две странные личности, которые обожали покупать на рынке куриц, а затем опаливать их в ванной — запах стоял не для слабонервных.
Рабочая неделя, как и положено, была с понедельника по пятницу, на выходные сокурсник уезжал к своим местным родственникам, а я торчал в номере.
И ходил в кино.
То это был «Зорро», то еще какая–то подобная фигня.
А забытым уже напрочь уик–эндом я выбрался на дневной сеанс фильма с ничего не говорящим мне названием:
«ДЕТИ РАЙКА».[46]
Просто больше смотреть было нечего.
Я не помню сейчас ничего, что можно было бы рассказать об этом фильме.
Разве что:
а).он был черно–белым,
б.)в нем играл Жан — Луи Барро.
Но до сих пор я помню оглушающее ощущение печали и счастья, переполнившие меня после того, как фильм закончился и я вышел из почти пустого зала на предвечернюю хабаровскую улицу.
Я вдруг понял, что совершенно случайно стал намного богаче, чем был еще несколько часов назад.
Хотя что, собственно, произошло?
Мне рассказали историю, и рассказали ее так, что я умудрился забыть про ее нереальность, пусть даже это
БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ КИНО…
Мимо проходили какие–то непонятные люди, я бесцельно шел по улице, затем повернул куда–то налево и вдруг понял, что иду в сторону того места, где Амур сливается с Уссури.
Надо было лишь дойти до лестницы и спуститься вниз, к берегу.
Пляжи были пустыми — купальный сезон давно кончился.
Я нашел на песке какой–то брошенный бочонок, сел на него и достал сигареты.
Прямо передо мной в сторону берега разворачивался небольшой катер.
Я курил и думал, отчего иногда бывает так безумно грустно, когда хорошее кино внезапно подходит к концу.
29. Про Аркадия Стругацкого
Временами мне в жизни действительно везло и везет. Только вот сам не знаю, почему.
Может, Тот, Кто Знает Все отчего–то считает, что при всей странности моего бытия на этой милой планетке, порою стоит даже такому безумцу, как я, дать возможность почувствовать себя счастливым.
Правда, выражается это в каких–то довольно извращенных формах.
Например, я был безумно счастлив, именно вот так —
БЕЗУМНО СЧАСТЛИВ! —
когда припершись домой со встречи на тот момент нового, 1976 года, улегся читать на не очень свежую, что называется, похмельную голову, «Гадких лебедей»[47] братьев Стругацких.
До того вечера я их не читал, мне лишь пересказывали.
Тот же Сергей, к примеру.
Про доктора Рэма Квадригу и Голема.
И про писателя Виктора Банева.
И про Диану.
А еще — про мокрецов.
Это был мой мир, где все «пьянь, рвань и дрянь», где постоянно идет дождь, пьют джин, закусывая миногами, а модный писатель, которым тогда я очень хотел когда–нибудь стать, иногда — трезвея — думает о том, что вот как было бы хорошо написать что–нибудь в духе Оруэлла, его романа «1984».
Лучше же вот так:
«1984».
Сейчас я очень хорошо понимаю, что Тот, Кто Знает Все, сделал для меня самое благое уже тем, что не позволил стать модным: мода проходит быстро, мне доводилось видеть и писателей, и драматургов, и рок–звезд, которые на какое–то время становились всеобщими любимцами, потом им на смену приходили другие, а они сходили с ума.
Фигурально, конечно. Впрямую не рехнулся ни один. А жаль — было бы интересно посмотреть.
А может, и рехнулся? Не знаю…
Зато отлично знаю, как прав был Стивен Кинг[48], когда в «Как писать книги; Мемуары о ремесле» написал правду о том, зачем люди занимаются писательством:
«Писательство — это не зарабатывание денег, не добыча славы, женщин или друзей. Это в конечном счете обогащение жизни тех, кто читает твою работу, и обогащение собственной жизни тоже. Оно чтобы подняться вверх, достать, достичь. Стать счастливым, вот что. Стать счастливым.»
Вот и говорю — я давно уже счастлив!
Что же касается «Гадких лебедей», то там есть один абзац, о которого меня до сих пор бросает в дрожь. Вот он:
«Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед открытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что–то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по–прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто–то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.»
В ТУЧАХ КТО-ТО ВЫРЕЗАЛ РОВНЫЙ АККУРАТНЫЙ КВАДРАТ.
В ЦЕНТРЕ КВАДРАТА БЫЛА ЛУНА.
Меня до сих пор от всего этого бросает в дрожь…
Каждый вечер, когда я выгуливаю собаку, то смотрю на небо и пытаюсь понять, появится сегодня квадрат в тучах[49] или же нет.
Иногда кажется, будто что–то подобное есть. Но — лишь подобное.
Значит, надо ждать.
На днях такое почти случилось, только вот в не очень ровном квадрате был месяц — лишь пару дней, как народившийся, маленький, зловеще–красный.
Можно, конечно, спросить о том, когда это случится, у Того, Кто Знает Все, только я давно уже знаю, что мне ничего не ответят.
Он вообще не отвечает ни на какие вопросы, а если что и делает, то все равно не ясно:
ПОЧЕМУ.
Например, мне до сих пор не ясно, почему именно я был выбран им то ли осенью, то ли весной — хотя это тут не существенно — 1981 года, для встречи с одним из двух братьев, а именно, Аркадием Натановичем, когда тот приехал в город Сврдл получать премию «Аэлита» за написанный им вместе с Борисом Натановичем роман «Жук в муравейнике».
Точнее, встречались то с А. Н.С. многие, пили/говорили/порядок слов можно поменять, но смысл останется тем же. А я вот был именно избран — до сих пор в этом убежден, хотя бы потому, что тот часовой разговор в номере почти что единственной на тот момент приличной сврдлвской гостиницы оказался для меня чем–то вроде то ли незапланированного мистического опыта, то ли общения с сошедшим с горних вершин гуру, пусть даже на самом деле все это было не так, намного проще, тривиальнее и приземленней.
Просто я решил сделать с А. Н.С. интервью, в газетах никаких я тогда уже не работал, но городская «Вечерка» дала мне добро, узнав, предварительно в цензуре, насколько допустимо присутствие высказываний опального писателя[50] на страницах пусть и вечерней, но городской партийной газеты.
Им сказали, что высказывания переводчика с японского вполне уместны. Дальше мне оставалось лишь одно: найти возможность для общения.
Пробиться в номер.
Получить, что называется, допуск к телу.
И тут мне опять повезло. Мало того. что мой отец приятельствовал с теми самыми людьми, которые организовывали «Аэлиту», так еще и я знал их очень хорошо, можно сказать — с детства. Через матушку.
— Если сделаешь хорошее интервью — иди! — сказали мне. Но добавили: — Только если действительно хорошее.
Я пообещал и мне назначили.
Это было уже после вручения премии. Где–то через день.
И днем.
Все это время они, что называется, круто гудели, так что я попал не совсем вовремя.
Хотя «вовремя» в этой жизни почти не бывает. Или ты всегда кому–нибудь мешаешь, или мешают уже тебе.
Просто мне до сих пор кажется, что если что и хотелось в тот день А. Н.С., то это одного — спокойно продолжать пить портвейн (отчего–то мне кажется, что это был портвейн), который я умудрился разглядеть на тумбочке в номере.
Но это было уже после того, как из второй комнаты — спальни — ко мне выплыл А. Н.С.
Он был похож на старого моржа.
На самом деле.
Какая–то обшкуренная голова с большими, седыми усами. И мощными, серьезными щеками. А одет он был в вязаную кофту с аккуратно подшитыми налокотниками — видимо, чтобы скрыть дырки. Я почувствовал, что у меня слабеют ноги.
Наверное, это было смешно — тот юношеский[51] мандраж, равно, как и желание услышать нечто, что может воистину перевернуть твою жизнь.
У меня был заготовлен всего лишь один вопрос. Самое смешное. что сейчас я знаю — какой. Просто минувшей осенью совершенно случайно я наткнулся на то интервью в сети[52]. Меня это не просто поразило — я получил шок. Ведь это надо было в свое время найти газету, вырезать или перепечатать текст, сохранить его до иных времен, издать в какой–то совсем уж малотиражной книжке, а потом и поместить в интернет, хотя ничего такого особенного в тексте этом нет, просто мета времени, каких по миру рассыпано великое множество.
Но зато я говорил с ним и он даже попросил выслать ему потом все в Москву. Для одобрения.
Дал адрес и телефон.
У меня где–то должно хранится полученное от А. Н.С. письмо, точнее, оно есть, но вот где — понятия не имею.
А еще я с ним разговаривал по телефону.
И то ли по телефону, то ли в письме, он рассказал мне про диван.
Ну, почему он не любит ездить — лежишь на диване, надо встать, выйти из квартиры, сесть в лифт, потом выйти из подъезда, сесть в автобус, доехать до метро, потом до аэровокзала, там опять в автобус, но уже в экспресс, приезжаешь в аэропорт, рейс же откладывают, так что надо все это разворачивать в обратную сторону, и тогда ты снова оказываешься на диване, но тогда
ЗАЧЕМ С НЕГО ВСТАВАТЬ?
Что же касается интервью, то я допустил в нем абсолютно невинное вольнодумство.
Только вот сейчас оно невинное. Да даже и не вольнодумство это, а так — просто начал с цитаты.
Из книги «Гадкие лебеди», чего я, естественно, не указал.
Но А. Н.С., по всей видимости, это очень понравилось, и он сказал мне тогда что–то хорошее.
Ну, типа, парень — ты молодец!
Он ведь понятия не имел, что парень всерьез считает себя писателем, и вопрос свой задавал как писатель молодой — классику.
Потому что А. Н.С. был для меня классиком, да таким и остается.
Не от прилагательного «классический», а от схожего, но по сути совсем другого — классный.
КЛАССНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, ТО ЕСТЬ — КРУТОЙ!
Более того, из всех виденных мною в жизни писателей лишь два поразили меня тем, что они вот — действительно писатели. Из них это перло. Без всяких понтов, пижонства, умудренного опытом взгляда, котором априори тебя ставят на место.
И оба эти писатели — фантасты.
То есть, как бы и не писатели по серьезной критической шкале.
Один — это, естественно. А. Н.С., а другой — Роберт Шекли.
В них совершенно отсутствовало то, чем так грешат многие пишущие —
СТРЕМЛЕНИЕ СПАСТИ МИР.
Или, по крайней мере, уверенное знание того, что лишь они знают, как это надо делать.
Хотя вопрос, который я задал Аркадию Натановичу, был, как сейчас, понимаю, просто идиотическим:
В ЧЕМ ОНА, МИССИЯ ПИСАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Но почему–то ответил на него А. Н.С. совершенно серьезно.
Он сказал, что она — не в нравоучительстве. И что какие бы идеи, какие бы нравственные и моральные ценности ни исповедовал писатель, он должен соизмерять их с действительным миром, с реальными, живыми проблемами.
А потом началось самое забавное.
А. Н.С. сообщил мне, что дело писателя — это еще и писать.
И лучше, если увлекательно.
То есть, не как Пруст — это Стругацкий подчеркнул особо, видимо, догадавшись, что беседует с типом, который к этому самому Прусту относится с пиететом.
ХОТЯ Я И СЕЙЧАС ОТНОШУСЬ К ПРУСТУ ТАК ЖЕ, НО ДАВНО УЖЕ НЕ ПЕРЕЧИТЫВАЮ — НЕТ НИ ВРЕМЕНИ, НИ ЖЕЛАНИЯ.
А еще А. Н.С. говорил, что писатель — проводник идей.
И что они — БС по узаконенной ныне аббревиатуре — просто берут ампулу мысли, покрывают ее шоколадом увлекательного сюжета, обертывают в золотую или серебряную фольгу вымысла и — пусть читатель кушает на здоровье. После чего кто–то получает приятные эмоции, а кто–то вдруг возьмет да и поставит себя на место того же Руматы Эсторского или Рэдрика Шухарта. Только вот вывод из ситуации должен будет делать сам, потому что ответов авторы не дают. Это не их прерогатива — давать ответы. Писатель будоражит, подстрекает, иногда увлекает в ловушку, но остальное — дело читателя…
Наверное, это было для меня самым главным — услышать, что писатель не дает ответов.
Тогда я про это не знал. Иногда мне казалось, что все должно быть наоборот.
Тогда, больше двадцати лет назад.
А сейчас я это прекрасно знаю.
Писатель не дает ответов, он пишет книги.
Про что?
Понятное дело:
ПРО ЖИЗНЬ!
Только вот у каждого она настолько своя…
30. Про 1984
Для всего цивилизованного человечества 1984 был годом Оруэлла.
Для меня же — крутого рок–н–ролла.
На самом деле я тут ни при чем. Просто так получилось. Во–первых, рьяно исповедуя философию «своего среди чужих…», я предпочитал проводить время отнюдь не в обществе господ литераторов.
Хотя бы потому, что были они по большей частью людьми занудными и желали лишь одного: перейти из разряда непубликуемых в полярно противоположный. Мне же это не грозило. Сдуру напечатав несколько моих рассказов в 1981 году, сврдлвский журнал «Урал» предпочел сделать вид, что я или аннигилирован, или просто постоянно пребываю в тонком теле, а рукопись, которую я собрал для того самого издательства, в котором работал с конца семидесятых редактором краевой литературы — книжки про города, птичек и даже про спелеологов — вызвала у рецензента подозрительно чеширскую улыбку и предложение автору вправить себе мозги.
Только поступил я наоборот.
Ничего вправлять не стал.
И задружился с рокерами.
Тем более, что тогдашняя моя жена была певицей — голос у нее действительно был хорошим и хорошо поставленным — это уже во–вторых.
Вот эти–то два факта, выбор определенной среды обитания и наличие жены–певицы, и привели к тому, что 1984 стал для меня ну очень своеобразным годом.
Говоря пафосно:
временем осознания новых горизонтов и
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Ну и так далее…
Хотя Оруэлл в нем тоже присутствовал, хотя бы как метафора — тогда ведь об этом все талдычили.
Поэтому Новый год мы встречали слушая «Nineteen Eighty Four» Дэвида Боуи, а под самое утро кто–то из едва продравших похмельные глазки рокеров врубил на полную Джанис Джоплин и сопровождавших ее Big Brother and the Holding Company[53].
БОЛЬШОЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ!
В лежащем на моем столе томике Оруэлла в замечательном переводе В. Голышева написано «старший», но «большой» мне нравится — не напишешь же «больше», так что просто:
БОЛЬШОЙ БРАТ МНЕ НРАВИТСЯ!)))
Встречали мы тот самый 1984 на квартире одного бывшего студента–филолога, бас–гитариста из группы моей тогдашней жены и — как мне помнится — ее очередного любовника. Сейчас он живет в Израиле. Уже много лет. Какое–то время был там грузчиком, это все, что мне про него известно.
Но вообще–то я ему страшно благодарен.
ИМЕННО ТАК: СТРАШНО!
Такая вот наипревосходнейшая степень благодарности, и есть за что.
Только благодаря ему я попал в мае того оруэлловского года — а еще он был годом Крысы по восточному календарю — в Ленинград, на второй фестиваль питерского рок–клуба. Точнее, с помощью одного моего сокурсника появилась возможность получить билеты и место в гостинице, а благодаря бас–гитаристу группы моей тогдашней жены на это нашлись деньги. У него был приятель, который их нам ссудил. Но мы их так и не отдали. По крайней мере, я ничего не отдавал — это помню точно.
О самом фестивале я здесь писать ничего не буду. Про все это можно прочитать в моей книге «Live rock’n’roll. Апокрифы молчаливых дней», Екатеринбург, издательство «У-фактория», 2001 год. Это не самореклама, это просто отсылка для любопытствующих, лучше я напишу про свободу.
Потому что уехал я в Ленинград/Петербург одним человеком, а приехал совсем другим. И дело тут не в городе, с которым у меня какие–то невероятно сложные отношения — то ли это я слишком чувствителен для него, то ли совсем наоборот — это он настолько тонок, что отвергает меня, делает плохо, депрессивно, больно. До сих пор не могу в этом разобраться, но — пожалуй — лишь в самый первый раз мое пребывание в Петербурге, с бабушкой и дедушкой, когда мне было десять лет, обошлось без последствий для моей психики.
Такое вот честное признание…
А потом уже все время — с последствиями.
Или же: следствиями, главным из которых для меня оказалось то, что именно на фестивале я познакомился, среди прочих громкоименных субъектов — БГ, Майк, Цой, etc[54] — с одним человеком, который не то, чтобы открыл мне глаза на мир, но — скажем так — научил смотреть на него по–другому.
Причем — я совершенно не помню, как это произошло.
Каким образом мы с Курехиным заговорили и о чем.
На том нашем Вудстоке я все время был пьян, потому и не мог запомнить.
Но зато хорошо помню момент опохмелки на второй день, когда мы с бас–гитаристом моей тогдашней жены сидели в какой–то питерской пивной и ждали Курехина.
Самое смешное: он пришел.
Ему тоже было плохо, ему тоже требовалось пиво.
Под пиво мы и начали говорить, о чем — тоже сейчас не помню.
Но это и не надо, я давно уже понял, что никакой памяти не существует, да и меморуинги эти я пишу совсем не для того, чтобы гордо поведать — вот с кем сводила меня жизнь.
Скорее всего, я просто хочу окончательно выбраться из того мира теней, в котором временами бывает так горестно и тягостно бродить годами, хорошо зная, что когда–нибудь и для кого–нибудь ты тоже станешь такой вот тенью, с именем, фамилией, и расплывающимися чертами лица.
Хотя мне бы хотелось встретиться с тенью Курехина, просто для того, чтобы сказать ему
СПАСИБО!
Я не раз пытался сформулировать для себя самого ту роль, которую он сыграл в моей жизни. Проще сделать это здесь и сейчас следующим образом:
за три года до нашей встречи Сергей Анатольевич записал пластинку, которая называлась «The ways of freedoms», «Пути свободы». Я услышал ее как раз незадолго до того, как оказался в мае оруэлловского года в Петербурге. Это было, что называется, соло–пиано, две стороны виртуозной игры вне всяких стилей.
Или — в стиле абсолютно свободного музицирования, хотя слово здесь это не подходит, но так же не подходят «импровизиция», «исполнение», «композиция».
Так что пусть будет —
В СТИЛЕ СВОБОДЫ.
Именно стиле, а не духе, ведь стиль более конкретен, более осязаем, а значит — намного сильнее его воздействие.
ОН КОНКРЕТЕН.
Так что столкнувшись вначале с конкретной свободой музыки Курехина я, потом познакомившись с ним, открыл для себя очень простую вещь — его собственная свобода была не меньшей, чем свобода его музыки. А значит, если ты хочешь делать что–то такое же сильное по воздействию, как его «The ways of freedoms», ты тоже должен стать свободным.
Иногда мне кажется, что до встречи с Курехиным свободным я не был.
Скорее всего, так оно и есть.
Я и сейчас далеко не так свободен, каким был он.
Но это и понятно, не всем в этом мире дается одинаково.
Хотя в последнем своем романе, «Летучий Голландец»[55], я почти достиг того, чему еще тогда начал учиться у С. К.
За что до сих пор говорю ему «спасибо!», пусть даже его вот уже сколько лет, как нет на этом свете.
Гребанный мир, полный теней.
Ни о чем подобном в 1984-ом я, конечно, не думал. Может, мне казалось, что все мы вечны?
Вообще тот год весь был каким–то ошалевшим и мало предсказуемым.
Вернувшись с фестиваля и уткнувшись в томительно–дождливое лето, я — совершенно внезапно — задружился с Юрой Шевчуком, который тоже преподал мне урок освобождения, но уже на свой, какой–то толстовский по тем временам лад. Он полтора месяца жил у меня дома и все это время мы говорили не столько о рок–н–ролле, сколько о прочитанных книгах и о тех, которые нам самим предстоит написать.
Сейчас я давно уже об этом ни с кем не говорю.
Нет никакого смысла.
А тех книг я все равно не написал, хорошо хоть, что написались другие…
Тут можно было бы и дальше продолжать о всяческих замечательных личностях, вдруг возникших по странной прихоти жизни именно в 1984-ом году, о великом саксофонисте Чекасине, о том же БГ[56], про то, как в один прекрасный день мне позвонил милый молодой человек, назвавшийся Володей Шахриным, но делать я этого не буду. 1984 подходит к концу.
Единственное, что надо добавить — 4‑го октября того самого года тогдашняя моя жена затолкнула меня в такси и увезла в клинику. Лечиться от алкоголизма. Таким образом, у меня появился второй день рождения и еще одним шагом стало ближе к недостижимой курехинской свободе[57].
Что же касается Большого Брата, то он все так же смотрит на нас, как и тогда. И даже пристальней. Как известно, видеофайлы хранятся на серверах четыре недели, потом их стирают, а ведь камеры слежения расположены не только в супермаркетах. Но тогда мы даже не подозревали, что это возможно.
Уже давно написаны вариации/продолжения на тему оруэлловского романа — например, «1985» Энтони Берджеса. Есть «1985» и у венгра Дьердя Далоша. Можно написать «2004», можно и «2984», в любом случае — он все равно здесь.
Был, есть и будет, так и хочется сказать:
— Привет, Большой Брат! Что там с моей свободой?
31. Про зоопарк
Как говорит временами один мой близкий друг:
— Если бы мы с тобой все еще жили в сэсэсэровские времена, то я давно был бы третьим секретарем горкома партии, а ты все еще работал в зоопарке!
— Ночным сторожем! — добавляю я.
Хотя в трудовой книжке у меня иная формулировка:
«Работник по ночному уходу за животными».
Если начать рассказывать, как она там появилась, то это будут вариации на тему уже набившей оскомину песни «Поколение дворников и сторожей», да и меньше всего мне хочется заниматься концептуальным измышлениями.
Про зоопарк надо вообще даже не рассказывать, а КАК БЫ показывать, то есть, травить истории, добавив лишь несколько пояснений.
К примеру, зоопарк в городе Сврдл находится в самом центре города.
Он появился в тридцатых — если я правильно помню — годах, только вот за последние лет пять его перестроили, сейчас он красно–кирпичный, как пригородные безвкусные коттеджи, а самое главное:
ВОЗЛЕ НЕГО НИЧЕМ НЕ ПАХНЕТ!
Что уже абсолютно неправильно, потому что возле зоопарка просто обязано пахнуть — зверьем, клетками, дикостью, запущенностью, в общем, чем угодно, только не городом.
Там раньше так и пахло, напротив же забора, за которым располагались вольеры, были бараки. Сейчас вместо бараков — чуть ли не самые дорогие многоэтажные дома в городе, бутики и подземная автостоянка. Потому и не пахнет.
А РАНЬШЕ ПАХЛО,
и когда я шел к четырем на дежурство, то машин на улице уже не было. Лишь из печных труб бараков в стылое зимнее небо густо валил дым.
NB: в зоопарке я проработал почти девять месяцев. С февраля до половины сентября 1986 года. У меня было два напарника — плейбоистый Юрашка и занудный Санёк. С Юрашкой вечно происходили всякие казусы, а когда он с приятелями напоил обезьян дешевым портвейном из чайника, то его просто выгнали. Санёк же с философическим упорством продолжал ухаживать ночами за животными и после моего увольнения, но это и понятно: он действительно был студентом–старшекурсником философского факультета.
ЭТО ВСЕ ПОЯСНЕНИЯ.
На самом же деле те девять месяцев в зоопарке обогатили мою жизнь примерно так же, как все предыдущие тридцать два года.
Хотя бы потому, что я очень быстро обнаружил одну странную вещь — звери прекрасно понимают, что настоящая жизнь для них начинается ночью, когда власть человека заканчивается. А та парочка двуногих типов, что временами заходит в павильон и то включает, то выключает свет, стоит немногого — при желании можно попытаться даже ее сожрать.
Я не преувеличиваю и не пребываю в состоянии бреда. Как–то уже ночью — та зима была холодной и снежной, и даже в конце февраля морозы достигали минус двадцати, а то и больше, так что приходилось постоянно топить печь в сторожке и проверять температуру в т. н. «Павильоне теплолюбивых животных» — мы с Саньком медленно фланировали мимо клеток с хищниками из семейства кошачьих. Всякие там тигры, леопарды и пантера. Черная. С покарябанной мордой. И такими терпкими, желтыми глазами. Мы о чем–то говорили — то ли о философической ерунде, то ли о ерунде литературной. Или же просто обсуждали, чем бы нам сейчас перекусить. И вдруг оба встали. Застыли. Остановились как вкопанные — есть такая идиома. По спинам полз самый натуральный холодок. Струились мириады мурашек. Меня бросило в пот, ноги были ватными. Я не мог сделать ни шагу. Санёк — тоже. Потом мы оба, враз, как по команде обернулись.
Пантера лежала на спине, высунув лапу наружу, и выбивала замок. Он был не закрыт: то ли уборщица плохо проверила перед уходом, то ли что еще, но пантера пыталась открыть замок, выбраться наружу, а что будет дальше — и так ясно. Ей надо сделать всего один прыжок, вначале можно ударить в спину меня, потом — Санька. А можно и наоборот. Все можно, только через мгновение.
Санёк оказался быстрее зверя.
Он перемахнул через двойной барьер и резко вколотил замок на место. Пантера бесновалась в клетке — видимо, ей очень хотелось нам отомстить. Не сожрать даже — мяса ей давали навалом, нет, именно что отомстить, за все те дневные унижения, когда толпящиеся перед решеткой толпы кричали: Багира, Багира, а она затравленно лежала в углу и щурила глаза.
В ту ночь я понял, что зоопарк — далеко не самое безопасное место на свете.
А еще через пару недель убедился в этом вновь.
Это было в такой смешной день, как 8‑е марта. У меня как раз было дежурство, я только что на него заступил. Зоопарк закрывался в пять, а где–то в половину пятого раздался вопль.
Человеческий.
Я как раз собирался выйти на улицу покурить, а заодно и сделать первый обход.
Но покурить мне не удалось, пришлось вызывать «скорую».
Какой–то придурок засунул указательный палец в волчью клетку. Там была натянута очень крепкая и мелкая двойная стальная сетка. И висела надпись:
ПАЛЬЦЫ В КЛЕТКУ НЕ СОВАТЬ! ВОЛКИ КУСАЮТСЯ!
Вообще–то доходчивей не скажешь, но это был день 8‑е марта и тому типу пришло в голову показать своей подружке, какой он храбрый.
Большой тундровый волк просто отмахнул палец, челюсти лязгнули — и все.
Врачи «скорой» отчего–то сильно хихикали, а Саньку стало плохо и он отпросился домой.
Лучше бы он этого не делал, потому что ночью стало совсем весело.
Во–первых, начался снегопад — настоящий, когда фонарей не видно.
И мне приходилось под этим снегом каждые два часа шарашиться по тропинкам/дорожкам мимо клеток, слушая тоскливый вой волка, недавно откушавшего палец.
Но все было нормально, волк перестал выть, лишь снег валил и валил, да временами сквозь внезапные мимолетные просветы проглядывала неприятно–желтая луна.
И тут я увидел свет.
В одном из зданий, где были мастерские, и в котором еще два часа назад все было темным–темно, ярко светилось окно.
И в окне виднелась какая–то тень.
На дверях, между прочим, был замок, ворота были заперты, да и кому придет в голову лезть ночью в зоопарк через забор?
Так что это была уже какая–то полная мистика, после откушенного волком пальца в голову лезло черт знает что.
Зомби, привидения, несуразные мертвяки.
Я развернулся и пошел в сторожку. Снял со щита пожарный топор и потащился обратно. Снег мел в лицо, залеплял глаза. Окно светилось так же ярко, в нем кто–то был. Я пригнулся, поднял над головой топор и подобрался к окну.
И тут опять раздался вопль.
Как потом рассказывал загулявший еще днем зоопарковский столяр/плотник/алкоголик Толян — он отрубился и его закрыли, положив под верстак. А когда ночью проснулся, то понял, что его заперли. Он включил свет и решил выпить чая. И тут увидел в окне топор. Ну и заорал…
Я, между прочим, тоже…
Но отпер дверь, выпустил Толяна — будем считать, что его звали именно так — и даже пожелал ему удачно добраться до дому. Он не просто шел, он бежал, это я помню хорошо.
Вообще работнички там были все веселые. Нормальный человек не будет ведь за мизерные деньги нюхать эту вонь, так что — за исключением биологов и ветеринаров — все были алкашами, уволенными из других мест по статье.
И был еще слоновожатый Петя.
Главный по слонихе Макси.
В зоопарке был слоновник, там жила слониха[58], а еще — бегемот Алмазик.
Как–то раз — а это было уже в конце августа, незадолго до моего увольнения — Петя попросил помочь ему загнать слониху в слоновник.
Теперь я всегда гордо говорю: — Вы загоняли слона? А я вот — да!
Просто слоновник изнутри покрасили, а Макси оставили ночевать на улице, в загоне. И случились вполне ожидаемые уральские заморозки. Слониха могла простыть, подхватить воспаление легких и умереть. Так что Петя позвонил и сказал, что сейчас приедет и мы будем загонять Макси обратно.
У меня в гостях как раз был Большой Женя[59].
Ко мне в зоопарк вообще постоянно приходили разные гости — место было прикольное и душевное.
Так, именно в зоопарк ко мне пришел Кормильцев и принес демо–версию только что сведенной наутилосовской «Разлуки», когда этот альбом еще никто не слышал.
ВООБЩЕ НИКТО!
Причем — со «Скованными одной цепью», что по тем временам было лихо.
Но я отвлекся.
Пора возвращаться к слонихе.
Мы с Женей Большим посмотрели друг на друга.
— Тебе помочь? — спросил он.
Я кивнул головой.
Скоро приехал Петя.
Я сам — небольшого роста, метр семьдесят. В Пете было где–то под метр шестьдесят пять, не больше. И такая круглая, рыжая голова с оттопыренными ушами. Зато в Жене — за метр девяносто. Петя посмотрел на него и сказал:
— Это хорошо… Легче будет…
И объяснил нам, как все должно происходить.
Он будет отвлекать слониху морковкой, а нам предстоит открыть стальную дверь в слоновник. Даже не дверь — ворота, размеров я не помню, но очень большие, что в ширину, что в высоту. Открыть эти двери/ворота — и бежать, потому что слониха бегает быстро и может нас затоптать.
Мы все это выслушали и пошли.
Петя насыпал ведро моркови и пошел в загон, а мы, прокравшись мимо фыркающего и испражняющегося бегемота, стали пытаться отодвинуть дверь. Там была не ручка — такое большое колесо, которое надо было крутить. Обычно это делали несколько мужиков. Нас же было двое и дверь не открывалась.
С улицы раздались какие–то тяжелые шаги.
Как потом оказалось, начавшая замерзать слониха обрадовалась, увидев своего начальника, и прямиком направилась к закрытым воротам.
Но они никак не открывались.
Слониха начала сердиться.
Вдруг нам удалось повернуть колесо, дверь чуть поддалась и показался просвет. Небольшой, сантиметров в десять.
А потом в него залез хобот.
Мы с Женькой остолбенели и уставились на дверь,
ИДИОТЫ!
Хотя нам просто стало интересно: что будет дальше.
Только дальше ничего интересного не было.
Макси прихватила хоботом дверь, буквально впечатала ее в стену и с места ринулась на нас тяжелым слоновьим галопом.
Я больше никогда так не бегал.
Ни до, ни после того.
Женька тоже.
Он до сих пор вспоминает об этом в своих Эмиратах, хотя в Дубае тоже есть зоопарк.
Я его посетил в свое время.
Слонов там не было.
32. Про Шамбалу и камбалу
Шамбала — камбала.
Камбалу я ловил, а в Шамбале, понятное дело, не был.
Но, как и все нормальные придурки, жаждал ее найти.
Вообще–то это называется «духовные поиски», мятущееся сердце внезапно обнаруживает отсутствие смысла жизни.
А может — зачем–то просыпается мозг. И тогда всему организму дается сигнал:
ФАС! ИСКАТЬ!
Когда внутри меня прозвучала эта команда, то ноги отчего–то понесли на Восток.
Ну, типа:
НЕ ПОЙТИ ЛИ МНЕ В ДЗЕН-БУДДИСТЫ?[60]
Ловля камбалы всегда начинается на Востоке, потом — соответственно — кто–то возвращается обратно на Запад, а кто–то пытается заглянуть и в другие места.
Например, становится поклонником культа Вуду.
Самое смешное, что Восток начался для меня с небольшой повестушки Еремея Парнова «Проснись в Фамагусте». Я тогда еще работал в издательстве и был, как и полагается, с безобразного похмелья. Когда же в таком состоянии я приходил на работу, то или шел опохмеляться, или же — если опохмеляться не было сил — усаживался в кресло[61] и читал журналы: чем была хороша та работа, так это количеством выписываемых журналов, а еще тем, что человек, ими распоряжавшийся — милейшая дама сорока с небольшим по имени Лолита — работала в моей редакции, и все эти издания постоянно были под рукой.
В тот день под рукой оказался свежий номер журнала «Октябрь» за 1983. Под № 2.
А значит — это был или конец февраля, или — самое начало марта.
Только мне больше нравится февраль.
Я открыл эту самую «Проснись в Фамагусте» и попытался врубиться в текст. Наверное, получилось, потому что читал, не вставая с кресла. Пока не дочитал.
«Ты с красоткой усни на росистом лугу,
Пробудись под крестом в Фамагусте…
«Фамагуста?..»
Макдональда однажды занесло в этот пропахший жареной скумбрией городишко. Он живо представил себе греческое кладбище, посыпанные слепящей коралловой крошкой аллеи и пыльные, облепленные грязной паутиной кипарисы. Контраст с росистым лугом намечался разительный.»[62]
Это теперь я знаю, что Фамагуста — на турецкой части Кипра, я там никогда не был, но мимо проезжали жена с дочерью, они два раза ездили отдыхать на Кипр, и оба раза — без меня.
Зато мне рассказывал про Фамагусту один дипломат, с которым минувшим летом как–то вечером я разговорился в отеле, в Бодруме.
Наш дипломат, естественно. Специалист по Турции, много лет работавший на Северном Кипре.
Он описал мне фантастическую картинку: многоэтажный отель, стоящий прямо у берега, все стекла выбиты, а из одного растет большое дерево.
БОЛЬШОЕ.
ВЕТВИСТОЕ.
КАК РОГА.
Тогда–то я и вспомнил про Парнова — много–много лет спустя.
А причем здесь Шамбала–камбала?
Просто там, в этой повести, все про Шамбалу. Это потом я уже прочитал Рериха и разные другие подобные труды, но впервые узнал про всякие восточные мистические штучки именно из той повести. На какое- то время она меня просто заворожила.
Или это похмелье было таким сильным?
«Монахи в алых праздничных одеяниях хором читали священные тексты. Нарочито низкие рокочущие голоса сливались в невыразимое журчание, исходившее, казалось, из обнаженного чрева Майтреи — грядущего будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком, расписанном красным лаком алтаре, где пылали фитильки в растопленном масле и курились сандаловые палочки. Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо погромыхивал барабан, завывали флейты, сделанные из человечьих костей, весенней капелью рассыпался звон тарелок и колокольчиков.»
В общем, где–то год спустя я вовсю уже читал разные замудреные тексты, а потом и вообще стал пытаться найти себе живого гуру.
С этим, правда, никак не получалось.
Те, что попадались под руку, оказывались то какими–то неказистыми и с бегающими глазами, то требовали, чтобы я немедленно перестал есть мясо и сразу же сел в позу лотоса, то вообще обещали вывести меня в астрал, но обратного пути гарантировать не могли.
И тут я встретил Георга.
Это было уже тогда, когда я во всю трудился в зоопарке.
Никаким гуру Георг не был, он был польским евреем и артистом Рижского театра юного зрителя — Рига тогда еще не была заграницей.
У него были длинные черные волосы, заправленные в хвост, неправдоподобно голубые глаза и странный, не очень высокий лоб с длинными, глубокими морщинами.
А еще — низкий и предельно воспитанный голос.
Именно так: воспитанный голос.
Вежливый, уважительный, властный, доброжелательный.
И все — одновременно.
Его направили ко мне студенческие мои приятели — Сврдл город небольшой, и сумасшедших людей в нем не очень много.
А Георг искал именно таких.
Тут я и влип.
Оказывается, что артист рижского ТЮЗа был не только убежденным буддистом, пусть и принимающим алкоголь, но и каждый год, во время долгого театрального межсезонья, отправлялся на Памир, разнорабочим в экспедиции, какие — я плохо понял, вроде бы они наполовину были связаны с космосом, наполовину — с археологией.
В общем: бред, разбавленный мистикой!
Но очень занимательный бред.
Когда он в первый раз пришел к нам домой, то достал из своей заплечной сумки, якобы сшитой вручную из шкуры горного яка, странную флейту, которую назвал флейтой–шанаи.
И не просто достал — он начал на ней играть.
Уже позже я узнал, что это была типичная игра–медитация, какой развлекаются буддийские монахи в горных дзонгах. Причем, лучше всего, если это делается дуэтом, например: флейта и завывания ветра, флейта и шум горного ручья, флейта и посвист каких–нибудь невзрачных зверушек, название которых мне сейчас просто не приходит в голову.
Тогда–то я и подумал, что во всем, о чем рассказывает Георг, должна быть частица правды.
И в баснях о странных бородатых людях в белых одеждах, которых можно встретить в горах — ты идешь по едва заметной тропинке, скачешь по ней горным козлом, потом змеей начинаешь ползти по почти отвесным стенам и вдруг оказываешься на аккуратной площадке, вырубленной в скалах, горит костер, и сидят вокруг огня непонятные люди, пришедшие неведомо откуда и не боящиеся ни холода, ни злых духов.
Собственно, именно из рассказов Георга и возник через несколько лет мой первый роман, «История Лоримура». Я просто взял да и пересказал своими словами его байки, дав главному герою другое имя, а самого Георга тоже впустил в текст, причем — столь же реально, как то и было на самом деле.
Просто в один теплый и солнечный вечер того пасмурного и дождливого лета он пришел ко мне в зоопарк.
Достал из своей сумки несколько флейт, альт–саксофон, и начал музицировать, как уже упомянутый монах из горного дзонга, только вместо диалога с ручьем или с ветром, приличествующих нормальному красно- или желто–шапочнику, это был дуэт с африканском львом — тот был сонный и поэтому вел свою партию странно и недолго, затем леопардом — намного удачнее, с перкуссией по решетке и утробным рыком одуревшего зверя, но лучше всего удалось это с тигрицей, открывшей в себе вдруг ностальгическую память по тому времени, когда ночные охоты ее предков в джунглях требовали громогласных песен, которым сейчас зачем–то вторил альт–саксофон, в общем: куда там Полу Уинтеру![63]
Наверное, такое действительно надо было записать, как я потом и поступил в «Истории Лоримура», но именно в тот момент и тогда это было невозможно.
Только на том мои встречи с Георгом не закончились.
Мы даже сходили с ним на выставку: в краеведческий музей. Как раз выставлялось что–то из фондов по Индии и Тибету. Многорукие богини, черепа, страшные головы, обвитые змеями.
Слоновой кости, бронзовые, из серебра.
Слоновая кость пожелтела, бронза была покрыта патиной, серебро уже почернело от времени.
Когда мы вышли из музея, то он внезапно начал звать меня с собой — начиналось театральное межсезонье, пора уезжать на Памир.
Мне очень хотелось, но я вдруг подумал, что одно дело — трепаться обо всем этом в городе, а другое — там, где горы, на которых я никогда не бывал.
Так что Георг уехал один.
Потом он мне как–то звонил из Риги, тогда еще советской.
СэСэСэСэРовской…
Он не был гуру, но он был настоящим — это я понял тогда, думаю так и сейчас.
Мне даже кажется, что он вполне мог найти Шамбалу, хотя мог и сгинуть где–нибудь в ущельях Памира, Тибета, Гиндукуша, Гималаев, в общем:
ГДЕ-НИБУДЬ ТАМ…
И не дай бог, чтобы его кости белели сейчас возле морщинистой горной стены, если, конечно, их не растащили невзрачные горные волки.
Низкие, худые, с ободранными, рыжеватыми боками.
Трудное это делать — искать Шамбалу, как, впрочем, и вообще ЧТО-ТО ИСКАТЬ.
Иногда мне кажется, что свою я ищу до сих пор.
Что же касается камбалы, то последний раз я ловил эту придонную рыбу в июне 1988 года с борта яхты «Плутон» — небольшого четвертьтонника, на котором мои владивостокские родичи вывезли в море меня, Володю Шахрина и еще одного нашего приятеля, тогда работавшего в Чайфе звукооператором.
Мы сидели на борту, свесив ноги, и медленно подергивали удочками. Потом сматывали леску, отцепляли камбалу с крючка, бросали в ведро и снова забрасывали. Тупое это и предельно однообразное занятие — ловить камбалу.
Намного веселее — искать Шамбалу!
33. Про Наталью
Меморуинг удален из сведенного файла.
34. Про Дениса
Меморуинг удален из сведенного файла.
35. Про моего отца, про кровь и про охоту
Бабушка считала, что всем самым дурным в себе я обязан отцовским генам.
Не исключаю, что у нее к нему была классовая ненависть, хотя сейчас смешно об этом писать.
Но отец действительно происхождение свое ведет по материнской линии от столбовых дворян, а по отцовской — от разночинцев.
Бабушка же была из батраков.
Ее отца сослали на Урал за то, что то ли он сам, то ли кто–то из родственников обматерил святого отца во время крестного хода.
Дело было на Херсонщине, а сослали их всех в Челябинскую область, в деревню Черноречье.
Самое смешное, что я все это помню.
Хотя бы со слов бабушки.
А вот ее отца, своего прадеда, на самом деле хорошо помню — он водил меня кататься по детской железной дороге в нашем Парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, а так как это было летом, то на нем был светлый двубортный костюм и светлые туфли в дырочках.
Сейчас они похоронены вместе — прадед, дед, бабушка.
Дед, между прочим, был не из батраков.
Он был из подмосковных мастеровых с ногинских мануфактур. Точнее, из деревни Большое Буньково — в середине семидесятых мы приезжали туда с матушкой на пару дней, проведать родственников.
Скорее всего, никого из них давно уже нету.
Как нет давно и моих бабушки с дедушкой по отцовской линии.
Дворянка Ксения Михайловна Левшина умерла в 1964 году, а разночинец, по совместительству же профессор и доктор геолого–минералогических — так, по–моему, это называется — наук Константин Константинович Матвеев еще в 1951[64], за три года до моего рождения.
Ксения Михайловна оставила удивительные воспоминания, которые в 2001 частично были опубликованы в журнале «Урал»[65].
Я же их прочитал лет за двенадцать до этого, как раз в тот очень короткий период моей жизни, когда часто общался с отцом.
На самом деле я не живу с ним с моих шести месяцев.
Или это он со мной не живет?
В общем — мы не живем друг с другом с моих шести месяцев, как рассказывала матушка, поводом для этого послужил изучаемый им тогда древний язык санскрит: я орал, отец сидел и учил на кухне санскрит, а мои вопли ему мешали.
А еще отец постоянно ездил в разные экспедиции, что для семейной жизни тоже не очень подходит.
Тут надо сказать, что на самом деле как личностью отцом я могу только гордиться: он известный ученый, член–корреспондент Российской Академии Наук, один из крупнейших специалистов в области топонимики.
Пусть даже бабушка была права, когда частенько обвиняла меня в том, что самым дурным в себе я обязан его генам, хотя для кого — дурное, а для кого — наоборот.
Было время, когда мне очень хотелось, чтобы у меня был отец, было время, когда я его ненавидел, потом я начал строить свою жизнь так, чтобы ему нашлось в ней место, а заодно и делать все для того, чтобы его не коробило, когда ему говорили:
ВОТ ЭТОТ — ВАШ СЫН?
Отец всегда был личностью[66], мне оставалось одно — стать личностью тоже.
Надеюсь, удалось…
На этом все про кровь и гены.
Дальше мне хочется про охоту.
Просто так получилось, что задолго до того короткого — всего–то в два или три года — периода, когда мы с ним внезапно начали видеться каждую неделю, а иногда и не по разу, и он, посчитав, что я уже вполне сознательный элемент, дал мне прочитать воспоминания бабушки Ксении Михайловны[67], отец, будучи страстным охотником, вдруг выразил желание взять меня в тайгу с собой.
Между прочим, тогда ему было чуть больше, чем мне сейчас.
Мне скоро пятьдесят[68], ему было чуть за пятьдесят. Он родился в 1926.
Как я сейчас понимаю, он хотел посмотреть, на что я гожусь.
Проще говоря, окажусь я тряпкой или нет.
Если придется идти много километров.
По проселочной дороге. Потом по тропинке. Потом просто — по бурелому.
Первую охоту мне не забыть никогда. На нее мы уехали через два дня после похорон Сергея.
То есть, 28‑го сентября 1978 года.
Тогда у отца в собственности была лесная избушка.
У него и двух его приятелей.
Я до сих пор помню, как она называлась:
«ХИЖИНА ДЯДИ ТОЛИ»,
хотя о каких–то других точных деталях меня можно не спрашивать, в голове давно уже плотный и вязкий туман.
Хорошо еще, что тогда, сколько–то недель или месяцев спустя, я написал рассказ с примитивным названием «На стопятидесятом километре». Мало того, что из него можно узнать, на каком расстоянии от города была станция, до которой мы ехали с отцом, но я могу даже процитировать какой–нибудь абзац, хотя, честно говоря, самого меня воротит от чтения своих писаний такой давности.
Но, по крайней мере, это пусть немного, да рассеивает туман.
Делает его не таким вязким и плотным.
Что–то начинает брезжить.
Какие–то контуры, невнятные фигуры, блуждающие в ночной мгле странные огоньки.
Так что пока мне проще не цитировать, а вновь постараться представить себе ту ночную тайгу, журчание небольшого ручейка, что протекал метрах в пяти ниже отцовской хижины, ее широко распахнутую дверь, слабый отблеск затухающего костра, мириады звезд где–то высоко–высоко надо мной и совсем узенький — ведь был конец месяца, а значит, уже могло случиться новолуние — серпик народившейся луны, отчего–то не желтый, а болезненно–белый, хотя этого могло и не быть, а вот звезды были, как на самом деле была окружающая тайга с молчаливым ночным лесом, насупленным, настороженным, напрягшимся в чужой для меня тишине, лишь изредка разрушаемой непонятным уханьем, да еще настоящим волчьим воем, только вот доносящимся откуда–то издалека, будто с другого конца земли.
Для отца охота многие годы была той высокой страстью, которую непосвященным не понять. Это не просто давало ему энергию, как мне кажется, он и жил во многом ради этих двух месяцев в году, когда мог охотиться на боровую дичь и зайца — иной охоты он не признавал, ни на водоплавающую, ни с собакой, ни на крупного зверя.
ДЛЯ НЕГО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БЫЛО УБИЙСТВОМ!
Наверное, я и поехал тогда с ним лишь для одного: понять, что это за человек — мой отец.
Он хотел понять меня, я — его.
Какое–то время мне даже казалось, что я действительно что–то понял.
По крайней мере, когда он поднял меня ранним утром — еще не было шести и вокруг все на самом деле было в плотном и вязком тумане, — и мы, попив на скорую руку горячего чая и съев что–то абсолютно не поддающееся сейчас определению, пошли в те самые, густо покрытые лиственницами и елями горушки — как иначе обозначить нечто среднее между холмом и горой? — то я подивился лишь одному: той естественности, с которой он буквально вписался в пейзаж, став не просто его частью, скорее наоборот, они сомкнулись, слились, совпали с невероятной легкостью, как совпадают перепутанные в коробке части паззла и открывают тебе после этого кусочек иной, доселе неведомой жизни.
Он был в своей среде обитания.
Человек–одиночка. Матерый волк, идущий по привычной тропе.
Волчонок тащился за ним, порою на него временами клацали зубами.
Волчонок был здесь чужим, он шарахался от каждого звука.
Волк презрительно смотрел на него и вновь бежал вперед.
Звуков было много.
Я не понимал и сейчас не понимаю, как отец отличал треск взлетавшего на крыло рябчика от резкого свиста падающего вниз вальдшнепа.
Но он отличал и раздавалось
БА-БАХ!
Мне доверили нести дичь, я тащил тяжелый рюкзак, забитый кровоточащими тушками, и внезапно понял, что сам хочу убивать.
Крепкий осенний воздух, смешавшийся с запахом крови и густым духом давно уже опавшей листвы, разбередил во мне нечто, от чего я должен был прийти в ужас, но вместо этого почувствовал одно желание: поменяться с отцом местами, самому взять в руки ружье.
Опять раздался резкий звук: кто–то взлетел на крыло.
— Стреляй! — закричал я отцу.
Он выстрелил мгновенно, было слышно, как подбитая птица падает на землю.
Это оказался совсем маленький кулик–гаршнеп, дробь снесла ему голову, тушка же валялась на пожухлой траве, становящейся прямо на глазах красной.
— Я зря тебя послушался, — сказал отец, — таких маленьких нельзя стрелять!
Это случилось, когда мы уже возвращались на станцию, рюкзак был забит рябчиками, тетеревами, в нем был даже один глухарь.
Гаршнепа пришлось оставить в лесу — есть в этой развороченной дробинами птичке было нечего.
После этого я еще дважды ездил с отцом на охоту, уже на зайца.
Говорят, что зайцы кричат, когда их убивают — не слышал.
Мы еле похлебку из заячьего мяса, которую варили на костре у хижины, и нам было хорошо.
Хотя уже морозило, что утром, что вечером, но было холодно, даже вода в ручье покрывалась тоненькой корочкой льда.
Насколько я знаю, ту хижину давно сожгли какие–то местные придурки.
Да и отец уже не ездит на охоту — несколько лет назад у него был тяжелый инфаркт, одному сейчас в лес нельзя.
Я звоню ему дважды в год: в день рождения, а он у него за два дня до моего, 10‑го июля, и 31‑го декабря. Если не могу дозвониться, то ничего страшного — можно это сделать и на другой день.
Между прочим, на той первой охоте он все же дал мне ружье в руки. И я даже стрелял — по глухарю.
Естественно, что промазал.
36. Про любимую дочь
Анна пришла домой и заявила, что сотик пять раз падал со второго этажа.
Имелось в виду — в школе.
Как и каким образом: не уточняется. Просто падал. Видимо, сам по себе. Шел за ней следом и — бряк.
Ну, падал. И что дальше?
А дальше его следует немедленно продать за 1 (одну) тысячу рублей, потому что он уже не работает и работать не будет.
А кто его купит?
Да есть один, он ему нужен на металлолом.
Сотовый телефон на металлолом — это круто. Вообще–то я бы все сотовые, они же мобильные, телефоны в мире сдал в металлолом. На вырученные деньги можно было бы купить что–нибудь полезное. Например, муку и рис для голодающих в очередной Эфиопии.
Но конкретно этот телефон я ей подарил на Новый год. Не последний, а предпоследний. И купил его не на зарплату, а на часть гонорара, что мне заплатили за «Любовь для начинающих пользователей». Зарплата — это одно, а гонорар для любого писателя — нечто концептуально иное.
Как бы из души вынутые деньги.
Тем более, что суммы всех этих гонораров такие смешные, что на них если что и можно, то частично раздать долги, да купить подарок любимой дочери.
— Это подарок, — тупо[69] сказал я ей, — мне очень не хочется, чтобы ты его продавала!
— Он не работает, — говорит Анна, — он сегодня пять раз падал…
— Дай посмотреть…
— В нем нет сим–карты…
— А где она?
— Я ее уже достала, я ведь не буду продавать сотик со своей сим–картой!
— У тебя и так не осталось ни одного моего подарка! Все что я дарил тебе за последние два года…
Анна вздыхает.
С этим ничего нельзя поделать.
Все долгожданно–глобальное, что я дарил ей за последние два года, кануло в тартарары!
Сначала это был пейджер.
Сейчас эти пищаще–зудящие коробочки пропали, вымерли, практически испарились как класс. Отбегались, как тамагочи.
На памяти мимолетного вздоха/выдоха всего лишь одного поколения…
Но в тот день, когда я принес его домой, в подарочной новогодней коробочке, да еще и подключенным, Анна была счастлива и сразу стала звонить всем подругам.
Чтобы ей что–нибудь сбросили.
Какое–нибудь сообщение.
Или просто: добрые слова.
Через три месяца пейджер украли. Естественно, что в школе — где же еще?
Хотя учится дочь не просто в школе, а в лицее с углубленным изучением французского языка. И даже была во Франции. Ни Наталья, ни я во Франции не были, а она уже была. Хотя она много, где уже была, но все с нами.
А вот Франции — со школьным театром, на фестивале в городе Ортез.
Вообще–то театр она не любит, предпочитает аэробику. Спортивную и танцевальную. Как–то раз идет с тренировки по школьному коридору, а мимо — руководитель театра.
— Аня, — спрашивает та, — ты не знаешь, кто бы мог поехать с нами во Францию на фестиваль, нам надо девочку одну заменить?
— Я! — быстро соображает Анна и добавляет: — Загранпаспорт у меня есть!
Мне до сих пор сложно уяснить, что и как она играла в театре. Как и вообще — чем она занималась во Франции. Да и не отцовское это дело: лезть в такие детали, не все ведь мне знать положено.
Хотя один раз она позвонила домой. Ночью. Часа в четыре утра по екатеринбургскому времени.
Трубку взяла Наталья.
— Ты как?
Я пытаюсь услышать, что говорит дочь.
Видимо, что все хорошо.
Вернулась вот с ночной дискотеки.
Мне почему–то очень важно узнать, как ей Париж.
Когда–то мне самому очень хотелось в этот город, но я сейчас уже слишком стар. Или наоборот — еще слишком молод.
— Тебе понравилось? — спрашивает мать.
И я слышу, как дочь вопит в трубку:
— Париж отстой после Барсы!
Ну, типа, папенька, Барселона–то намного круче будет, хотя как она меня довела в Барселоне — знаю только я.
Ей пригрезилось, что мы туда заявились исключительно с одной целью: купить ей часы Swatch. На худой конец — обувь. Ничего мы ей тогда не купили, переругались вдрызг и, как выяснилось позже, одновременно влюбились в этот город.
Барселона, любовь моя….
Что же касается утраченных подарков, то жизнь вообще крушение иллюзий и череда утрат, физических, духовных, эмоциональных, материальных.
Хорошо, что у дочери моей утраты пока исключительно материальные.
После пейджера был еще плеер.
Вообще–то его я подарил ей на шестнадцатилетие с определенным умыслом. Иногда мне и самому хочется послушать музыку, а в последние годы это исключительно рэп.
Мазэфака, йо–йо.
Не знаю, почему так, но белая музыка меня давно не прикалывает, разве что Эминем. Если же действительно слушать рэп, то делать это надо исключительно в плеере.
Впрочем, может мне так кажется потому, что в самом начале июля 2003 года, когда мы с Анной отправились на десять дней отдохнуть в Бодрум, именно так — в огромных наушниках и с крутыми плеерами, болтающимися на шее — слушали рэп, грозно и маскулинно при этом пританцовывая, трое черных гигантов, состоявшие, казалось бы, из одних мускулов.
От них исходил запах угрозы.
Это были американские солдаты, приехавшие отдохнуть на уик–энд то ли из Ирака, то ли с военной базы из–под Измира.
Вся белая тусовка смотрела на них как бы по касательной. А они пили прихваченный с собой henessу, слушали рэп и никто из отельной прислуги не рисковал подойти к ним и сказать, что спиртное проносить на территорию отеля строго запрещается, ведь здесь и так его навалом, all inclusive, все включено,
НА ХАЛЯВУ!
Особенно меня интриговал один, самый здоровый, с фигурой Майка Тайсона и в интеллигентных очках с диоптриями, от него не так сильно исходил упомянутый запах угрозы, как от его корешков, но когда он поворачивался из–за своего столика в нашу сторону и мило улыбался, то его белоснежные зубы вспыхивали на солнце, будто во рту у него взрывалась маленькая атомная бомбочка.
В общем, после такого, чуть ли не сюрреалистического, видения мне захотелось плеер, если бы я купил его для себя, то жена бы не поняла, а как подарок дочери, причем, на знаковый, шестнадцатый день рождения, это вполне годилось.
И не просто плеер, а футуристический плоский овал с черно–матовой поверхностью, iRiver 550, которым мне один раз даже дали попользоваться.
Как сейчас помню — я слушал рэпера 5 °C, песню «Сутенер».
«I got the bitch by the bar trying to get a drink up out her/She like my style, she like my smile, she like the way I talk /She from the country, think she like me cause I'm from New York…»
Это можно и не переводить, хотя кому интересно, то там про одного брателлу, который подцепил сучку у бара и раскрутил ее на бухло, ее заколбасило от одного вида этого крутого чувака, да еще от того, что сама она из какой–то дыры, а он из Нью — Йорка, в общем:
МАЗЭФАКА, ЙО, ЙО!
Больше плеера мне в руки не давали, а через четыре месяца и его украли. Все в той же школе. Карма, видимо, такая.
Что же касается сотика, то последняя идея с его продажей была обставлена идеологически: дочь заявила, что ей нужны новые спортивные штаны, потрясая при этом в воздухе только что принесенной грамотой, где было официально написано:
МИСС АЭРОБИКА.
Я сдался и пошел гулять с собакой.
На улице мело, февральский ветер пытался оторвать нас от заснеженного асфальта и, закрутив, унести в стылое, звездное небо.
Мы быстро вернулись домой, Анна еще не приходила.
Когда же она заявилась, то никаких штанов у нее с собой не было.
— Где? — спросили мы с матерью в один голос.
— Сейчас! — подозрительно ласково ответила дочь. — Сейчас покажу!
Отправилась в свою комнату и через пару минут вышла, гордо демонстрируя новую татуировку на лодыжке.
Милый такой дракон, обвившийся вокруг родинки.
— Так больно было! — сказала она, а потом добавила: — Нравится?
— Сотик, — сказал я, — это ведь был мой тебе подарок!
— Папочка, — своим самым послушным голосом проговорила она, — но ведь теперь целых два года этот твой подарок постоянно будет со мной, каждую минуту, каждую секунду, днем, и ночью!
Я вздохнул и сел писать этот меморуинг.
37. Про писателей
Искусство быть писателем состоит, в основном, в искусстве занимать деньги.
Я придумал эту фразу тогда, когда решил, что один из меморуингов будет про писателей.
На самом деле — во всем мире лишь около одного процента писателей живет за счет гонораров. В США — пять процентов. Денег, которые ты зарабатываешь не писательским трудом, все равно не хватает, потому что большую часть времени, которую можно было бы отдать непосредственно денежным занятиям, ты тратишь на писание все тех же романов, а чем сложнее — с годами же так происходит всегда — возникающие перед тобой задачи, тем у тебя меньше возможностей отрываться от письменного стола с компьютером, следовательно, раз предполагаемое вознаграждение почти всегда мизерно,
ТО ИСКУССТВО БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ И СОСТОИТ, В ОСНОВНОМ, В ИСКУССТВЕ ЗАНИМАТЬ ДЕНЬГИ.
Хотя если говорить про писателей, то речь надо вести совсем о другом.
Например, про то, что когда я только начинал заниматься всем этим бредом, то о деньгах просто не думал.
Во–первых, казалось, что когда–нибудь они все равно будут.
А во–вторых, меня намного больше интересовало, есть ли хоть какой–то смысл во всем, что я пишу, имеется ли во мне пусть маленькая, но крупица таланта — эта идиома мне всегда безумно нравилась, так и представляешь полку с крупами в супермаркете, на одной из пачек написано: талант, и ярлычок с ценой за килограмм. А рядом рис, греча, манка, овсянка, и даже пшено.
Не знаю, как сейчас, но раньше было положено спрашивать совета у старших товарищей. Учитывая ТУ литературу, которую я читал, и ТУ, которая выходила из–под пера старших товарищей, было сложно придумать, у кого спросить совета, да и потом — как это сделать?
На самом деле, закомплексованность и робость нашего сознания в стране СэСэСэРии были грандиозны, потому была убежденность, что старшие товарищи обретались в непонятных эмпиреях, в общем — извечный и уже набивший оскомину русский вопрос:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что делать придумала матушка. Так получилось, что у нее были очень теплые отношения с Виктором Петровичем Астафьевым, книг которого я тогда не читал[70], но знал, что у нас они есть и даже с автографом.
Видимо, мать созвонилась с Астафьевым, тогда он жил еще в Вологде, и получила добро на отсылку рукописи ее придурошным сыном.
После чего мне был дан сигнал и я отправил бандероль.
В ней были две повести и сколько–то рассказов. Если ничего этого не сохранилось — я счастлив!
Ответ пришел через несколько месяцев, то ли два, то ли три.
Я жил тогда на квартире первой жены и у нас гостила моя первая теща.
Было лето — это я хорошо помню.
Я открыл бандероль с моими собственными рукописями, в них было вложено письмо на три страницы. От руки, черными чернилами.
ЭТО ПИСЬМО ХРАНИТСЯ ГДЕ-ТО ДОМА ДО СИХ ПОР, НО Я НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ!
Вначале В. П. писал, что просит извинения за долгое молчание — много работы, да еще и приболел.
А потом говорит, что мне не надо писать прозу.
НИКОГДА!
Что лучше попробовать себя в стихах.
И объясняет, почему.
Так как я довольно хорошо помню, что из себя представляла моя тогдашняя проза, то на месте Астафьева сейчас ответил бы тому придурку намного резче.
Я бы ему сказал: куда ты прешь, урод! Тебе тут нечего делать, это не для слабаков, любящих красивости. Ты жизни не знаешь, парень, поди вон!
Когда я дочитал письмо, то еле сдержался, чтобы не заплакать.
Внезапно за спиной возникла моя тогдашняя теща и спросила:
— Ну и что сейчас со всем этим делать, с этими твоими листочками?
— Ничего! — ответил я.
— А напечатать?
— Их нельзя печатать, это плохо.
— Чего же делать?
— Писать дальше! — ответил я, и подумал, что моя теща…
В общем, далее следует фигура умолчания.
На самом же деле то письмо Виктора Петровича сыграло в моей жизни колоссальную роль. Я впервые понял, что собираюсь заниматься чем–то очень серьезным и далеко не веселым. И что делать это надо всерьез. То есть — не хобби, не профессия, судьба…
А еще в письме было сказано, что в городе Сврдл живет его, Астафьева, ученик, некто Александр Филиппович. И было вложено рекомендательное письмо к нему с надписанным номером телефона.
Я, естественно, позвонил.
Мне очень хотелось стать писателем, и пусть В. П. Астафьев отказал мне в этой возможности, но я все равно должен что–то делать.
Жить, писать, общаться…
Можно и так:
ПИСАТЬ, ЖИТЬ, ОБЩАТЬСЯ,
ЖИТЬ, ОБЩАТЬСЯ, ПИСАТЬ…
Филиппович писал про жизнь горно–уральских поселков в стилистике Фолкнера и с лексикой Лескова. Я до сих пор убежден в том, что именно он может быть назван ВЕЛИКИМ УРАЛЬСКИМ[71] ПИСАТЕЛЕМ, а не тот же П. П. Бажов, сказы которого я помню больше по диафильмам, которые мне крутил дед на даче, чем по типографским изданиям. И более великим, чем многолетний житель С-Петербурга Мамин — Сибиряк. В прозе Филипповича на самом деле было нечто настолько уральское, что временами читать ее так же невозможно, как здесь жить — не то, что воротит с души, душу сворачивает!
Когда я в первый раз пришел к нему в контору — он был инженером и служил где–то возле вокзала, — то он выстукивал на старой пишущей машинке беловик своей повести «Высокие чистые звезды». Я запомнил название — мне тогда оно понравилось.
Мне он тогда вообще понравился, высокий, кряжистый, с бородой, в общем — писатель.
Непонятно почему, но он начал со мной общаться. Наверное, из — за письма Астафьева.
И общались мы много лет, до его смерти в 1983 году.
Тогда он давно уже был членом СП, у него был дом в деревне и он вел вроде бы типичную жизнь часто издающегося, пусть и в провинции, советского литератора, только когда мы увиделись незадолго до смерти, то я был ошарашен тем неистовым ревом, с каким он вначале кричал кому–то, мне неведомому, про «Записки из мертвого дома» Достоевского, а потом вдруг мрачно выдохнул из себя апокалиптическую фразу:
ГРОБЫ, ГРОБЫ!
Больше я его никогда не видел.
Иногда мне кажется, что вот все они и были настоящими, а мы какие–то невнятные существа, лишенные души. Я понимаю, что это бред, и что на самом деле если у меня и вызывает уважение их этическая позиция, то это не значит, что сам я придерживаюсь такой же, не говоря уже об эстетике.
Но я ничего не могу поделать с тем, что временами мне безумно жаль одного — дело не в том, что этих людей больше нет на свете, почему–то начинает возникать ощущение, что их никогда и не было, вот чего мне действительно жаль!
Наверное, в последний раз я ощутил такое болезненное и неприятное покалывание, когда узнал, что умер Георгий Витальевич Семенов.
Почему–то мне всегда везло на знакомства с писателями, которых я почти не читал!
Хотя какие–то рассказы Семенова я все же читал, а потом — уже была перестройка, и мне вдруг подфартило: решили отправить на писательское совещание/семинар в Белоруссию, в какой–то дом творчества — внезапно оказался в его творческом семинаре.
Это был декабрь 1987‑го, Наталья возилась дома с двухмесячной Анной, а я планировал, как перестать быть struggling writer, и всерьез надеялся, что эта писательская тусовка мне поможет.
Она помогла в одном: Семенов открыл мне секрет, как он может пить много кофе до позднего вечера и много курить, а потом все равно засыпает без всякого снотворного.
Он пил перед сном корвалол.
По 25–30 капель.
Каждый вечер, если, конечно, не пил водку.
С тех пор я стал записным корвалолистом, хотя надо честно сказать, что Семенов научил меня еще нескольким вещам.
Например, быть терпимым к тому, что делают другие.
Он с большим уважением слушал всех одинаково и ко всем относился одинаково тепло. Даже ко мне с моими тогдашними полумодернистскими вывертами. И находил в них именно то, о чем — вроде бы — я их и писал.
Ему все это действительно было интересно, он не был зациклен на себе.
Жаль лишь, что я стал понимать все это намного позднее.
Я вообще очень многое стал понимать гораздо позже, чем положено, хотя может, и сейчас не всегда еще понимаю.
Поэтому и думаю, что они были мудрее.
И Астафьев, и Филиппович, и Семенов.
Несоизмеримые величины по писательскому дару, но для меня во всех них есть одно общее — та человеческая составляющая, которая сейчас почти не встречается:
СОСТРАДАНИЕ.
В нас есть ирония, есть жалость, есть страсть.
Есть ненависть, есть любопытство, есть гордыня.
Есть отчаяние, есть опустошенность, есть печаль.
Только почему–то в нас нет сострадания…
В нас нет сострадания…
Нет сострадания…
Хотя на самом деле главное в искусстве быть писателем — это искусство занимать деньги.
38. Про мои дурацкие романы
Дурацкие, дурные, дурашливые, дураковалятельные, дурындовские, дуримаровские, но уж никак не дурновкусные и не — упаси господь — дурнопахнущие, хотя никому не зазорно считать по другому, но если я и взялся сейчас писать именно о них, то лишь по одной причине:
каждый из моих романов мог пойти совсем в другую сторону.
То есть — как я сейчас это понимаю — они не только могли, но отчасти и должны были развиваться по–другому, с иными поворотами сюжета и — что несомненно — совершенно другой развязкой.
ФИНАЛОМ.
ФИНИШЕМ.
КАБЫСДОХОМ.
Начиная с самого первого, «Истории Лоримура» и до предпоследнего на сегодняшний день, «Любви для начинающих пользователей».[72]
Вообще–то этот меморуинг я пишу скорее для себя, а не для читателей. Хотя эта книжка вообще пишется именно по такому принципу: скорее для себя, чем для читателя.
Или для таких же, как я, некогда слышавших
ПОЛУДЕННЫЕ ПЕСНИ ТРИТОНОВ!
Я до сих пор никак не могу понять, зачем в «Истории Лоримура» заставил главного героя, этого то ли гуру, то ли шарлатана, так по глупому исчезнуть в горах, а потом еще и начал обыгрывать это чуть ли не в вариации нового вознесения.
ВСЕ ЭТО ФИГНЯ!
Лоримур должен был создать секту, стать ее тоталитарным правителем, построить на костях последователей в тех самых памирских горах удивительный замок, наподобие того, что приписывали Горному Старцу, населить его гуриями, а сам, с помощью ближайших сподвижников, стремиться к владычеству над всем миром — это было бы более похоже на правду.
Еще, конечно, надо было закрутить параллельную линию с наркоторговлей, похищением Снежного Человека, ну а все эти поиски смысла жизни и дурацкие размышления об обретении веры пустить лишь фоном, как бы такой приманкой для интеллектуально страждущих.
Но отчего–то тогда я думал совсем по иному!
Дальше было «Частное лицо».
С ним проще, разве что невнятный финал, очень уже косящий под Набокова, требует немедленного delete.
Ну что это такое:
«Все!» — думает он, вытаскивая лягуху из–под кровати и чувствуя, как она давно ожидаемым металлическим предметом спокойно устраивается в ладони. Вдалеке, где–то в середине последней страницы, мерцая, появляется маленькая, пока еще плохо различимая точка.»?
Понятно, что чувак решил застрелиться, ну так и надо стреляться, а не таскать лягух из–под кровати. И что это за точка? Пуля? Так и надо было написать: он выстрелил себе в череп, мозги прыснули по обоям, залили кровать, на которой он совсем недавно еще трахался…
С траханьем в этом романе вообще отвратительно, одно беглое описание минета и практически все. Да и вообще книжка вышла какая–то серьезная и навзрыдная, как сейчас говорят — пафосная. Если что и надо было в ней сделать на самом деле, так не доводить героя до самоубийства, а отправить в эмиграцию, да каким–нибудь изощренным способом: например, бегством через Беринговый пролив в зимнее время года на резиновой лодке. Описать пару схваток с белыми медведями, любовь с какой–нибудь эскимоской на тухлых шкурах, в общем, что–то в этом роде, тогда роман еще имело бы смысл читать: —)).
ПРО «ЭРОТИЧЕСКУЮ ОДИССЕЮ» Я ПИСАТЬ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НЕ БУДУ, В ТОЙ КНИГЕ КАК РАНЬШЕ В СэСэСэРэ — СЕКСА ПРОСТО НЕТ.
Ну а «Случайные имена» хороши всем, кроме одного:
они не закончены — у меня не хватило дыхания, это а).
И б). Я испугался.
На самом деле этот мог быть очень мощный мистический роман, даже так: мистический роман ужасов. Где не надо было писать никакой второй и третьей частей, зато первую насытить вудуистскими ритуалами, настоящей черной магией, гаданием на картах таро, вызыванием дьявола, а закончить — как и полагается в таких случаях — глобальным Апокалипсисом, со вскипающими, причем — не фигурально, водами озера, черным пеплом, падающим с небес и потоками зеленой крови, заливающей окрестности.
А самое главное: в этом романе нет летучих мышей, я до сих пор не понимаю, как мог так опростоволоситься!
«Замок одиночества» более сложный вариант для самоанализа.
Там вроде бы есть все, и бредовая идея с писателем–неудачником, которого придурок–олигарх под дулом пистолета нанимает в гувернеры к собственному сыну, и приятный во всех отношениях замок с тайной, замурованной в одной из его стен, и даже некоторое подобие готической атмосферы, столь апофеозно нагнетаемой в некоторых главах, но вот абсолютно идиотское нежелание подумать, куда может увести авторская фантазия, да еще собственный эгоцентризм и желание пофилософствовать и порассуждать о нашей жизни в первой половине девяностых привели меня к убийственному для текста решению: ввести в него документальные главы о своем житье–бытье в те годы.
ЧТО Я И СДЕЛАЛ!
И был, конечно, не прав: —)).
Зато после этого романа я вдруг понял, что писать так, как раньше, больше мне просто нельзя.
То есть — в той же стилистике.
В этой мягкой, обволакивающей, тягучей русской манере.
Когда очень много ненужных слов.
Между прочим, у АГЕНИСА есть даже такое определение:
проза — это когда много ненужных слов.
Наверное, это было когда–то справедливо. Когда можно было сидеть у камина долгими зимними вечерами и не лезть каждые пять минут в компьютер, чтобы посмотреть почту.
Хорошо еще, что у меня нет мобильника, или — как говорит моя дочь — сотика или мобилы.
Принципиально нет!
Но с мобилой и с карманным компьютером тягучие романы не читают, поэтому я решил изменить стиль.
Точнее, он вдруг сам стал меняться.
Поэтому с «Истории Лоримура» и до «Замка одиночества» я один писатель, а с «Indileto» — другой. Даже на два года менял пол.[73]
Вообще–то «Indileto»[74] не роман, это такой клип очень длинный.
А еще — стрелялка и ходилка.
Там поэтому два финала.
Два финиша.
Два кабысдоха.
Для себя я знаю, что все заканчивается именно в первом. Но если кому не нравится — то пожалуйста, вот вам второй. В первом герой погибает, во втором он сам мочит всех уродов. «Indileto» я очень люблю. Почти так же, как «Летучего голландца». Все остальные свои романы я тоже люблю, даже написанные тем Андреем Матвеевым, которого уже давно нет, и те, которые написаны Катей Ткаченко:
«Ремонт человеков» и «Любовь для начинающих пользователей».
Если бы что я и изменил сейчас в «Ремонте…», так это ввел бы сцену женской любви.
Тогда помешала пресловутая правда текста.
На самом никакой правды текста не существует. Роман, который диктует свои правила игры — плохой роман, наверное, я могу сказать, что все мои романы — плохие.
Это не кокетство, это просто мгновенно пришедшее озарение.
Они плохи потому. что в одном из них главный герой — гг — не хотел стать властителем мира, в другом он не эмигрировал, в третьем не вызвал напрямую дьявола, в четвертом не сделал чего–то еще.
Ну а главная героиня тоже какого–то по счету романа — соответственно, гг — не переспала с одной странной рыжеволосой женщиной, хотя очень этого хотела.
После чего одну я убил, вторая забеременела.
И все это — враки!
Они должны были вначале иступлено вылизывать друг друга, а потом, перекошенные и взбешенные от счастья, пойти убивать мужиков. Всех подряд, чтобы улицы их города заскорузли от потоков крови. Обе в черной коже и с автоматами в руках.
И распевающие на два голоса «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН!»
Ну а про «Любовь для начинающих пользователей» говорить вообще стыдно!
Идиотское желание написать т. н. позитивную книгу, да еще под женским псевдонимом, лишило меня глобального удовольствия — когда не какой–то псевдо, т. е., невсамделишный, а самый настоящий маньяк похищает красноволосую Симбу, прячет ее в кладовке своей городской квартиры, плевать тут на все переклички с «Коллекционером» Фаулза, гораздо забавнее другое — потная, голая Симба клепает баннер за баннером, думая о том, что она сделает с этим ублюдком, графом Дракулой, ну а он, естественно, мечтает о грядущей сладкой минуте, когда все баннеры будут сделаны и вот тогда он сможет напиться ее сладкой–пресладкой крови, но тут вовремя появляется придурошный пятнадцатилетний племянник, насмерть укладывает маньяка Дракулу, играя с ними в Quake, после чего Симба для начала занимается с ним оральным сексом, ну а после и вовсе лишает девственности, а из компьютера Дракулы внезапно раздается голос лежащего тут же, на полу, покойника, обещающего, что они еще встретятся.
В ЭТОЙ ЖИЗНИ…
Вот это, я понимаю, были бы романы!
Наверное, когда выйдет «Летучий Голландец»[75], я тоже найду, к чему придраться.
Хотя главное в другом — к счастью для меня самого все эти книги уже написаны, а значит, я никогда не буду заниматься их переписыванием, менять сюжетные линии и сочинять другой финал.
В конце концов, если они именно так написались, то это было надо.
Кому?
Это тот вопрос, на который мне никогда не ответить.
39. Про Катю Ткаченко
Я действительно не знаю о ней ничего, что просто обязан знать мужчина, проживший с женщиной изо дня в день два года.
Причем — ни на минуту не расставаясь.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НИ НА МИНУТУ!
Например, я не знаю, сова она или жаворонок, хотя могу догадываться, что сова, как и я, и где–то в два ночи уже ложится спать, а встает не раньше десяти. Но не исключено, что я ошибаюсь, и все обстоит совсем наоборот — она просыпается в семь утра, а в одиннадцать вечера уже спит.
И тем более, я не знаю, КАК она спит, например:
предпочитает засыпать на спине или — на животе?
А может, на боку или свернувшись калачиком?
Храпит она или посапывает?
Спать предпочитает голой или в ночнушке?
Толкается во сне или нет?
Взять только сон — и уже множество вопросов, хотя я ведь должен знать о ней все.
Даже не так:
Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О НЕЙ АБСОЛЮТНО ВСЕ,
но выходит, что я практически ничего не знаю.
Спросите меня, какой у нее любимый парфюм и я начну мямлить.
Понятия не имею, хотя понимаю, что она должна как–то пахнуть.
Ей тридцать два года и она просто не может не пользоваться запахами.
НО КАКИМИ? И как часто она их меняет? И предпочитает что–то свежее, легкое, или наоборот — тягучее, тяжелое, дурманящее голову партнера?
Марки перечислять бесполезно, я все равно не угадаю, вот что предпочитает моя жена — мне хорошо известно, а что Катя…
НЕТ, НЕ ЗНАЮ!
И это касается не только парфюма.
Я ведь понятия не имею, какое она носит белье. Явно, что не чистую синтетику, но дальше дремучий лес — какого цвета, гладкое или кружевное, насколько белье это вызывающе, а может наоборот — верх целомудрия? Последнее, конечно, навряд ли, но не исключено, что таким образом она скрывает какие–то свои комплексы, ведь они есть?
ЕСТЬ! НО О НИХ Я ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!
Я не знаю, как она болеет и как переносит месячные, какие у нее сексуальные пристрастия, даже какой у нее голос — и это мне неведомо. То же самое можно сказать и о ее оргазмах, о том, бреет ли она лобок или пользуется какими–нибудь кремами, хотя не исключено, что предпочитает просто чуть подравнивать там бритвой, но я ведь все равно понятия не имею, какого там у нее цвета волосы!
А КАК ОНА ГОТОВИТ?
Что любит на завтрак? Что на обед и на ужин? Пьет вино или предпочитает более крепкие напитки?
ИНТЕРЕСНО, А КАТЯ ТКАЧЕНКО ЛЮБИТ ТАНЦЕВАТЬ?
ХОДИТ ЛИ ОНА В КИНО?
СЛУШАЕТ ЛИ МУЗЫКУ, А ЕСЛИ ДА, ТО КАКУЮ?
Самое смешное, что на часть этих вопросов я сам отвечал в разных виртуальных интервью, не на интимные, конечно, а на те, что называют «светскими».
Но ведь отвечал я, а не Катя, потому все эти ответы — мои, она бы, скорее всего, ответила по–другому.
И это самое странное, ведь Катя — это я.
Я хорошо помню, как она появилась на свет. Передо мною лежал листок бумаги, на котором были четыре имени и четыре фамилии.
— Какая лучше? — спросил я.
— Вот эта! — ответили мне и показали пальцем.
КАТЯ ТКАЧЕНКО.
— Почему Катя Ткаченко? — спросил меня через несколько месяцев Борис Кузьминский.
— Не знаю! — ответил я, не лукавя.
И до сих пор не знаю, хотя у меня есть одна версия, но лучше я ее оставлю при себе.
Гораздо интереснее другое:
ПОЧЕМУ ОНА ВООБЩЕ ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ.
Просто я начал писать роман. Очередной. Он должен был называться «Иллюзии любви и смерти», мне это название до сих пор нравится.
И начал я его писать от лица женщины, чему тоже была своя причина.
За сколько–то месяцев до того я закончил предыдущий роман, «Indileto», в самом конце которого герой переодевался в женщину.
Делал из себя женщину.
Перевоплощался в нее.
Так было надо, чтобы выжить — бывает, всякое бывает, и не только в книгах.
Я до сих пор помню, как мучился, пока он был вынужден копаться в женском гардеробе. Как точно называется это, а как — то? И как это надо одевать? И что должно лежать в сумочке?
— Ты сошел с ума! — сказала жена, но начала отвечать на вопросы.
Между прочим, после всего этого безумия мне временами нравится напялить на себя какую–нибудь ее тряпку и внезапно появиться перед всеми домочадцами.
Особенно я им нравлюсь в черной шелковой комбинации — с моими–то волосатыми руками и ногами!
Они просто катаются со смеху, я — тоже.
А роман, который должен был называться «Иллюзии любви и смерти», начинался просто:
ВЫВЕСКА ГЛАСИЛА «РЕМОНТ ЧЕЛОВЕКОВ»…
Один раз я на самом деле увидел вроде бы такую вывеску, но когда подошел поближе, то на ней оказалась совсем другая надпись. Там действительно было про ремонт, но дальше шло или слово «приборы», или нечто подобное по смыслу.
Никакого «Ремонта человеков», но в голове у меня щелкнуло и в ближайший же свободный день я написал первую главу.
Потом так же быстро еще две, а затем роман замолк. Покинул меня, оставил, можно сказать — бросил.
Почти на четыре с половиной месяца, на все лето и на первые две недели осени.
За это время мы с семьей съездили в Испанию, потом меня сократили на работе, потом из печати вышла моя многострадальная книжка о рок–н–ролле, потом я понял, что у меня нет денег, потом я впал в депрессию, потом наступило 11 сентября.
Да, все это было в 2001 году, и наступило 11 сентября.
Я смотрел это безумие как и все — в прямом эфире.
И утром проснулся с одной мыслью — или больше не надо жить, или что–то надо делать.
И сел продолжать роман.
От женского лица, про одну странную дамочку, которая втемяшила себе в голову, что муж хочет ее убить.
Написанные главы я показал знакомому редактору, с которой мы делали «Live rock–n–roll», хотя на самом деле книга должна была называться
АПОКРИФЫ РОК–Н–РОЛЛА,
но ведь известно, что почти все издатели — козлы…
— Хороша для нашей женской серии! — сказала редактор. — Только придумайте себе псевдоним!
Тогда было написано не больше восьми глав, но псевдоним, как уже известно, я придумал:
КАТЯ ТКАЧЕНКО.
— Только вам нельзя будет приходить к нам самому, сказала редактор, вы же знаете…
Да, я уже прекрасно знал, что этот издатель меня больше не любит, хотя не дело издателя любить или не любить автора, он может меня как не любить, так и вообще не терпеть, вот только почему это должно ему помешать меня издавать?
Хотя если это и вопрос, то —
РИТОРИЧЕСКИЙ…
— Поэтому, — продолжил редактор, — договоритесь с кем–нибудь, как с подставным лицом, сможете?
Во мне не просто есть толика безумия, иногда я становлюсь абсолютно сумасшедшим. Маньяком. Тогда я горы могу свернуть. Потом, правда, наступает депрессия, но и в ней я маниакален. Так что задача облечь придуманную Катю в чьи–нибудь плоть и кровь показалась мне совсем не сложной — ведь шли же со мной на откровенные разговоры те милые дамы, без психологических, физиологических и сексуальных откровений которых мне никогда бы не дописать «Ремонт человеков» до конца, так что, сложно одной из них до конца стать Катей?
Из четверых согласилась одна.
Дописанная книга отправилась к издателю, который меня на тот момент совсем не любил.
И называлась она уже так, как это вынесено на титул:
«РЕМОНТ ЧЕЛОВЕКОВ».
Это не я, между прочим, придумал, так мне подсказали — мол, это круче, чем твои «Иллюзии любви и смерти».
И я согласился.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КРУЧЕ!
Но издатель то ли унюхал что, то ли просто у него как не было, так и нет того куража, который позволяет издавать действительно стоящие книги, но мне позвонил редактор и сказал:
ВСЕ БЫЛО НАПРАСНО!
Значит, мало того. что я напрасно писал этот гребанный роман, так я еще напрасно придумывал ту самую Катю, про которую до сих пор практически ничего не знаю.
И я озверел.
Впал в маниакальную депрессию, перемежающуюся вспышками такого же маниакального безумия.
Распечатал рукопись и попросил псевдо-Катю отправить ее Борису Кузьминскому, в серию «Оригинал».
Почему именно ему?
НЕ ЗНАЮ!
Хотя вру, знаю: просто еще тем безработным летом 2001 года прочитал интервью с ним в «Экслибрисе НГ» и мне оно очень понравилось. И я его заочно зауважал. Вдобавок взял да позвонил своей пермской знакомой, критику и литературоведу, и спросил у нее:
— Марина, вы ведь знаете Кузьминского?
— Он очень серьезный человек! — ответила мне Марина, и я понял, что мне ничего не светит.
А когда тебе ничего не светит, то хочется дойти до конца.
Между прочим, рукопись до него не только добралась, но он ее быстро прочитал.
И позвонил псевдо-Кате.
А через несколько дней он вычислил, что это я.
Он тоже маниакален, поэтому решил посмотреть в «свойства файла».
А там было четко написано:
АНДРЕЙ МАТВЕЕВ.
Я оказался плохим Штирлицем, хотя этому только рад: иначе я бы не познакомился с Кузьминским и больше ничего бы не произошло.
Но про БК следующий меморуинг, этот про Катю Ткаченко.
Скажу лишь, что именно он вынудил меня придумать ей такую экзотическую биографию
Книга вышла 13 марта 2002 года, я сейчас специально уточнил дату по Бориному письму.
Через неделю мне передали сигнал, на ночь я положил его рядом с подушкой и гладил, как женщину.
Наверное, это был единственный раз, когда мы с Катей спали вместе.
Она оказалась хорошей писательницей, хотя и спорной.
Про нее начали много писать, я читал и смеялся.
Или не смеялся, а читал и думал: м–да–а…
После одной такой рецензии я долго смотрел на себя в зеркало.
Мне хотелось понять, как эта лысая и не очень молодая бородатая образина могла так обмануть критика, что та на полном серьезе написала:
«Со свойственной женскому темпераменту эмоциональностью автор поведала о тех вещах, которые были пограничными, маргинальными. Катя Ткаченко пишет о закрытых ранее темах, связанных с чисто женским опытом — опытом женской телесности, а также с опытом женской ментальности. Написать об этом может только женщина. Хотя попытки описать физиологический женский опыт были и у мужчин — например, Лев Толстой в романе «Война и мир» описывает роды, Борис Пастернак в «Детстве Люверс» появление у девушки первой менструации… Но в прозе, написанной мужчиной и описывающей женщину, всегда чего–то не хватало. Последней правды, что ли, о своих ощущениях, о восприятии мира мужчин, о любви».
У меня хватает чувства юмора, чтобы не равнять себя ни с Пастернаком, ни — Боже упаси! — с Львом Толстым.
Не говоря уже о том, чтобы гордо заявлять: у меня вышло то, чего они не смогли.
Просто какое–то время я действительно побыл Катей Ткаченко, но через два года наша совместная жизнь разладилась — я не выдержал того, что вот так запросто могу перестать быть собой. Мне даже захотелось ее убить, но потом я передумал — негоже уподобляться героям своих же романов.
И она исчезла.
Поехала в конце лета 2003 года в Непал, а там в начале сентября опять начались беспорядки. Насколько мне стало известно, она решила возвращаться на родину, минуя охваченный междоусобными разборками Катманду, а это долгий и нелегкий путь — по Гангу, через границу с Индией, и дальше —
НЕВЕДОМО КУДА!
Хотя все это совсем не значит, что больше мы никогда не увидимся, я ведь должен узнать про то, какой она предпочитает парфюм, какого цвета и качества носит белье, как она спит, да и на все другие свои мужские вопросы мне бы хотелось найти ответ.
40. Про Бориса Кузьминского
Мне приснилось, что я встретил Кузьминского в Барселоне.
Прямо у подземного входа/выхода на площади Каталонии. Рядышком с «Hard Rock Cafe».
Для встречи с Кузьминским место мне приснилось очень странное — он абсолютно равнодушен ко всей этой музыке, скорее бы подошло здание, известное как «Каса Мила», мало того, что оно построено Гауди, так еще и использовано Антониони в «Профессия: репортер» как тот самый лабиринт, в котором начинаются блуждания героев в поисках выхода.
ИЛИ ЖЕ КОНЦА.
БК не просто любит кино, он его очень много смотрит, в отличие от меня.
Но мы встретились именно у «Hard Rock Cafe» и мне ничего не оставалось, как сказать ему:
— Вот вы какой!
Дело в том, что мы никогда не виделись.
Обмениваемся письмами, разговариваем по телефону несколько раз в неделю.
Но живьем не встречались, in reality, в реальности.
Пока не столкнулись нос к носу в Барселоне.
Когда я впервые позвонил ему, то просто не представлял, что такое может быть. Мне надо было дозвониться и взять грех на душу: сообщить, что никакой Кати Ткаченко не существует, а роман «Ремонт человеков» написал я, хотя он об этом уже знал. Я набирал Москву из какого–то офиса, от знакомых. Люди работали и громко переговаривались о чем–то для меня не очень внятном и мало интересном. А я боялся — вдруг загадочный Кузьминский обиделся и после всего этого не захочет издавать мой роман, и тогда
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Ведь я помнил его рецензию на один из моих текстов в «Оме», точнее, абзац о романе «Частное лицо» в рецензии на «Антологию современной уральской прозы», выпущенную в Челябинске Виталием Кальпиди. Ничего в этом абзаце хорошего не было — критик Кузьминский честно написал, что время такой прозы ушло.
НАСТУПИЛО ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
а я вот должен звонить ему и говорить, что…
Бред собачий, полный дурдом, жизнь, вроде бы, только начала улыбаться, как снова повертывается к тебе задницей.
И мне опять придется быть the struggling writer, «пробивающимся» писателем.
— Ну и куда мы сейчас? — спросил Кузьминский.
Я не нашел ничего лучше, как повести его в ту самую кофейню, в которую сам забрел случайно несколько лет назад и которая произвела на меня такое впечатление, что я отправил туда одного из героев «Ремонта…» за последней чашкой кофе в его жизни.
«Jamaica Coffee Shop» на улице Портоферисса, дом № 22, там я впервые узнал, что существует сорт blue mountain.
Кузьминский, между прочим, не пьет вареный кофе, у него аллергия. Он предпочитает растворимый «чибо» с голубой этикеткой — по крайней мере, как–то он мне об этом рассказывал.
Или я просто запомнил, что он мне так рассказывал?
Точно так же я плохо помню и наш первый разговор, разве что в самом конце он спросил:
— Ну а ваши писательские амбиции, с ними–то как? — подразумевалось, что печататься под псевдонимом значит изначально ставить крест на всех этих амбициях.
Мне было сложно объяснить, что когда тебе уже сильно за сорок, то с амбициями просто никак. И одно то, что он на полном серьезе вначале принял мой роман за писание никому не известной и начинающей Кати Ткаченко удовлетворяет все эти амбиции. И вроде бы, он понял.
Сам еще не осознавая, что этим расположил меня к себе навсегда.
Я старше его на десять лет и три месяца, но возникшая тогда благодарность за спасение из писательского небытия, и реальное понимание масштаба его личности, помноженное на эту благодарность, привели меня к простому результату: осознанию того, что этот человек может меня многому научить и уроки эти не будут лишними.
ХОТЯ НИЧЕГО ЭТОГО Я НЕ СТАЛ ЕМУ ГОВОРИТЬ, КОГДА МЫ СВЕРНУЛИ В СТОРОНУ ОТ РАМБЛАС И ПОШЛИ ИСКАТЬ УЛОЧКУ ПОРТОФЕРИССО,
взмокшие от летней каталонской жары, проталкиваясь среди таких же ошалевших приезжих зевак.
Наверное, до Кузьминского такое влияние на меня оказал лишь один человек — покойный Сергей Курехин, чего я никогда не скрывал и не считаю нужным умалчивать об этом и сейчас, когда со времени моего последнего общения с ним прошло очень много лет. Но он был первым, кто дал мне понять, что степень творческой свободы безгранична, только вот ты обязан не останавливаться, иначе грош цена всем твоим талантам.
Кузьминский же учит меня другому.
Самое смешное, что он до сих пор дает мне уроки
ЛИТЕРАТУРЫ.
Как у Курехина был не просто абсолютный музыкальный слух, но еще и то чутье, которое позволило ему стать гениальным композитором, так Кузьминский, обладая абсолютным литературным слухом, наделен еще и шестым чувством текста, что, между прочим, и делает его не самым приятным собеседником и критиком.
Он всегда говорит правду и называет вещи своими именами.
И если он говорит мне, что плохо, то я понимаю —
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХО,
но когда он говорит, что это хорошо, я знаю — это действительно хорошо.
И мне, как прыщавому подростку, хочется одного: чтобы меня чаще хвалили, потому что это повышает мою же самооценку.
Хотя, как правило, все критические писания и брюзжания в мой адрес мне по барабану, я хорошо знаю, что у критиков свои правила игры, у меня — свои.
А если они злобствуют, то что поделать, наверное, желчи много или — как говорят в народе — кому–то в таком случае не дала жена, или наоборот — муж не постарался: —)).
Между прочим, как–то раз Кузьминский открыл мне, что называется, глаза на одного из таких господ.
Тот только что написал с сотню добрых слов о «Ремонте…», зато месяца за четыре до этого просто «опустил» меня за «Indileto» — роман может нравиться, может не нравиться, но есть грань, которую переходить нельзя, что называется, сохраняйте уважение к иной личности.
Уважения не то, что не было, из каждой строчки, хотя их было всего–то с десяток, лезло патологическое неприятие меня уже за одно то, что я существую, что было мерзко, обидно и странно.
Когда же я узнал, что «читая книгу Кати Ткаченко, не испытываешь раздражения ни от детализированного описания минета, ни от штампованных красот, ни от нагнетания всякого рода ужасов. Потому что ведет тебя ритм, подчиняет точность слов и фраз, завораживают личность и судьба героини. «Литература категории А» — как и было сказано.», то просто охренел и сразу же позвонил БК.
— Боря, — спросил я его, — скажите, почему он меня так не любит и так полюбил Катю?
У Кузьминского прекрасное чувство юмора, равно как и иронии, и сарказма, я уже научился вылавливать эти нотки в его обычно спокойном и где–то бесстрастном голосе, которым он тогда и произнес ответную фразу:
— Он не может именно вам, как мужчине, найти место в русской литературе!
Я не знал, смеяться мне или плакать.
Ну, не может мне этот человек найти место в русской литературе, так зачем злобствовать?
Сам Кузьминский никогда не злобствует.
Он просто говорит, что вот это как–то неинтересно…
Так получилось с текстом, который я начал писать сразу после «Ремонта…», тоже от женского лица, стремясь естественным образом продолжить не развитую в предыдущем романе и наглую для мужчины–прозаика сюжетную линию любви женщины к женщине.
Я писал бодро и быстро, и мне нравилось.
Когда же я послал Кузьминскому первые главы, то он просто не ответил.
Он вообще не очень любит писать письма, а если и пишет, то коротенькие. Иногда письмо может состоять из одних смайликов. Или ссылки. Или пары фраз, но это уже письмо! Так вот, он ничего не ответил, и я позвонил.
— Как–то похоже на предыдущий текст! — сказал мне Кузьминский.
И я понял, что ему не нравится.
Действительно: плохо, если один роман похож на другой, поэтому надо писать что–то совершенно иное.
Но вот что?
Через пару недель случайным образом я придумал «Любовь для начинающих пользователей», написал синопсис, куда впихнул давно уже парящих в моей дурной голове бабочек–мутантов, и послал БК.
— Пишите! — сказал он мне, и я начал писать, и даже посвятил роман ему, хотя при публикации посвящение он попросил снять.
Если будут переиздавать, то обязательно восстановлю, потому что истории про Симбу и Майкла я бы никогда не написал, если бы не он.
А посвящение он попросил снять потому, что был редактором книги. Когда я читаю его правку моих романов, то понимаю, какой я плохой писатель.
Последний, «Летучий Голландец», он так изругал, что я честно принялся переписывать текст. Хотя это мой лучший пока роман.
Но мы не говорим с ним о литературе в «Jamaica Coffee Shop» на улице Портоферисса, в доме № 22. Мы пьем кофе, естественно, что blue mountain, и говорим о чем–то другом.
НО О ЧЕМ?
Я могу запомнить сон, но разговоры, происходящие во сне — никогда.
Ясно одно: о чем–то интересном.
Может, просто о жизни.
О женщинах.
О кино.
Мне очень хочется с ним поговорить.
Наверное, мы когда–нибудь увидимся.
И ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО В БАРСЕЛОНЕ!
— Куда сейчас? — спрашивает Кузьминский, когда мы выходим обратно в палящую каталонскую жару.
— Пойдемте к морю, Боря, — отвечаю ему я, — пойдемте смотреть на корабли!
41. Про издателей
Одному моему доброму другу, человеку, между прочим, как пишущему, так и издающему, приснился страшный сон:
ну в очень крутом отеле, то ли в «Radisson», то ли в «Sheraton» проходят одновременно две торжественные встречи тире форума.
В одном конференц–зале собрались странные люди, проводящие дискуссию под лозунгом
«Писатели против издателей».
Это происходит на седьмом этаже.
А на пятом этаже дискутируют не менее странные, хотя более пристойно одетые люди. Тема обсуждения:
«Издатели против писателей».
После чего обе стороны встречаются в ресторане, где происходят два параллельных банкета.
И начинается вино–водочное братание.
С нежным поцелуями, взаимными обвинениями и громогласными заявлениями о том, что совместная жизнь могла сложиться совершенно иначе…
ВЕДЬ КОГДА-ТО БЫЛА ЛЮБОВЬ!
На самом деле сон этот не столько страшный, сколько точный.
Ведь для любого писателям мечта об идеальном издателе равна мечте мужчины об идеальной женщине. Или наоборот: мечте женщины об идеальном мужчине
Хотя в этой гендерной паре — писатель/издатель — именно писатель несет скорее мужское начало, пресловутый китайский ян.
Издатель же — стопроцентное инь, пусть даже считает, как правило, наоборот.
Писатель увлекается, влюбляется, считает, что только с этим вот человеком он способен обрести свое счастье.
Издатель раздумывает и потом решает, что отчего бы не попробовать. В конце концов, если что от него и потребуется — так это лишь произвести зачатое потомство: выпустить книгу.
Ну и заработать на этом!
Обычно ведь как считается: что именно писатель, беременный замыслом, рожает через сколько–то месяцев или лет шедевр.
А если взять за аксиому, что рукопись есть семя, то это писатель оплодотворяет издателя.
Причем, после развода дети, как и положено, в большинстве случаев остаются с матерью: издателем. По крайней мере, до определенного возраста, по закону. Отец может с ними иногда встречаться, но и все. Правда, с него не берут алиментов, но и он, по когда–то заключенному и уже расторгнутому брачному контракту практически ничего не имеет.
ЭТО ВСЕ НЕ ПРОСТО ГОЛОСЛОВНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ЭТО МОЙ ГОРЬКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Я ПОБЫВАЛ В ТРЕХ ТАКИХ БРАКАХ, ПОЭТОМУ МНЕ БУДЕТ ЧТО СКАЗАТЬ, ВЫСТУПАЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ ИЗДАТЕЛЕЙ».
Тезисы выступления на тему «Писательско–издательские браки. От первого свидания до развода».
Если отмести как несущественное все, что происходило в моей т. н. писательской жизни до 2000 года, то первое свидание с первым настоящим издателем проходило у меня очень странно.
Да, надо сразу же отметить, что все мои издатели были мужчинами.
К моменту встречи я давно знал, что этот человек — издатель, а он даже не подозревал, что я писатель. Хотя что–то обо мне слышал. Так часто бывает, когда в шумной компании некто смотрит на женщину, но не рискует подойти. Потом ей вскользь рассказывает об этом кто–то из подружек и следует чуть ли не истерика: боже, я ведь так хотела с ним познакомиться! Может, это судьба!
Тогда я к нему не подошел, а через несколько дней мне вдруг передали, что со мной не против встретиться.
Как и положено — текли ручьи, светило солнце, была весна. Я очень боялся опоздать на рандеву.
Почему–то оно происходило в библиотеке и продолжалось недолго, всего–то минут десять.
За эти десять минут оба внимательно присмотрелись друг к другу и подумали: а почему бы не попробовать.
В начале июня мы заключили брачный контракт.
А уже осенью я понял, что меня больше не любят.
Нет, книга выйдет[76], в этом я даже не сомневался, но любовь издателя прошла, точнее, он почему–то начал любить других — то ли они были красивее, то ли умнее, то ли что еще, но я‑то был весь в дерьме:
отдал ему душу и сердце, а взамен получил лишь аванс в 500 долларов по курсу на день выплаты, но ведь он мог любить меня и дальше, я бы с удовольствием платил ему за любовь своими романами!
Между прочим, когда книга вышла, то я решил заехать и сказать ему спасибо. Тем более, что действительно было, за что. Меня долго мариновали в приемной и я взорвался. Громко, на весь предбанник, сказал все, что думаю о своей бывшей любви. Будто дело шло перед комнатой судьи.
И тут меня сразу позвали, я вошел и сказал: спасибо, мне ответили: пожалуйста. И дали понять, что разговор окончен. Тогда я вспомнил, что оказался в ситуации брошенного супруга, у которого еще есть, что делить. Хотя нормальные мужчины так не поступают, они просто оставляют все и уходят.
Когда издатель бросает писателя, то писатель из мужчины превращается в женщину. Это тоже — аксиома.
— Деньги, — сказал я, — остаток!
Он посмотрел на меня и ответил:
— В конце недели!
— Сегодня — пятница! — нагло пробубнил я и посмотрел в его бегающие глаза.
В них было одно: желание больше никогда не встречаться со мной. Любовь ушла, но обрыдлая сучка еще чего–то клянчит, лучше дать ей денег и пусть сваливает.
Меня отвели в бухгалтерию. Почти что за руку.
Аривидерчи!
Я с тоской вспоминаю его странные, под свет солнца, глаза…
Если продолжать аналогию с браками/разводами, то в следующем случае я оказался в качестве деверя, бракоразводный процесс происходил не у меня, а у Бориса Кузьминского, которому досталось намного больше, чем мне, но говорить от его лица у меня нет никакого права.
Зато про свой следующий брак…
Так и хочется повторить уже ставшую расхожей фразу:
О БОГИ, БОГИ! ЯДУ МНЕ, ЯДУ…
Любовь по телефону и по e-mail’у, будто я пошел предварительно в брачную контору, выбрал креатуру посмазливее и у нас внезапно начался бурный виртуальный роман.
Как меня в нем облизывали, как объясняли, что я самый лучший!
И даже давали денег: дама попалась не бедная и не совсем жадная.
От меня требовалось одного: как можно больше книг.
Одна — «Любовь для начинающих пользователей» — уже была готова, и я быстро сел за следующую, «Летучий Голландец».
А все это время меня по прежнему убеждали в том, что
«Русская литература — это курица, несущая золотые яйца.»
Между прочим, я не исключаю, что это действительно может быть так. Но с иными партнерами. С теми издателями, которые любят не только деньги, но и книги. И хоть что–то в них понимают. А если начать говорить всерьез, без всяких этих матримониально–разводных прибамбасов, то практически ни один из ведомых мне издателей этим не отличается. Да, при каждом из них состоят визирями один или два умных человека, которые эти самые книги любят.
ТОЛЬКО НЕ САМИ ИЗДАТЕЛИ!
Те любят деньги, а значит, и те книги, которые прежде всего дают деньги.
И это было бы нормально, если бы не одно «но».
В своей замечательной книге «Легко ли быть издателем. Как транснациональные концерны завладели книжным рынком и отучили нас читать»[77] американский издатель с многолетним стажем и потрясающей репутацией, Андре Шиффрин, пишет:
«В течение почти всего двадцатого столетия минимальная рентабельность при первом издании книг в переплете считалась нормой… Литературные дебюты по большей части оказывались убыточными (при этом некоторые авторы создавали, так сказать, дебют за дебютом)… Новые идеи и авторы приживаются не сразу… И потому новая стратегия — выпускать только те книги, которые гарантируют немедленную прибыль — автоматически вычеркивает из каталогов множество интересных работ.» И далее: «Господство рыночной идеологии повлияло на другие сферы общества, что, в свою очередь, изменило сами принципы книгоиздания.»[78]
Мои последние издатели прежде всего торговали обувью. Точнее, главный из них.
А менее главный, с которым я и состоял в виртуальном браке, все надеялся, что доход как от моей книги, так и от остальной их конюшни, будет не меньшим, чем от ботинок, сделанных где–то в Бразилии.
К лету 2003 года, как раз тогда, когда я заканчивал «Летучего Голландца», мне приватно сообщили, что нашему странному роману скоро придет конец.
Курица никак не могла начать нести золотые яйца и потому ее решили прибить.
Больше это издательство просто не выпускает
НИКАКИХ КНИГ![79]
Хотя тут лучше вспомнить, чем закончилась история с прототипом этой курицы — знаменитой матушкой–гусыней, которая тоже несла золотые яйца, несла, а потом пришел новый хозяин, который сказал: мало! И решил посмотреть, что можно сделать для интенсификации производства. Гусыню разрезали, а потом зашили снова. Она продолжала нести яйца, только они были не из золота, а из олова.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА — КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ОЛОВЯННЫЕ ЯЙЦА!
Поэтому иногда мне кажется, что издатели не только не любят писателей, скорее всего, они считают само появление книгопечатания тем изобретением сатаны, с которым они и призваны бороться, пусть даже таким парадоксальным образом, как выпуск все новых и новых книг.
Хотя как любой наивный человек — а ведь почти все писатели люди наивные — я все равно надеюсь на нормальное человеческое счастье в этом идиотском писательско/издательском браке: вдруг меня кто–то полюбит, всерьез и надолго. И не только меня, у каждого хорошего писателя появится свой верный и хороший издатель. Любящий не только деньги, но и книги.
И понимающий, что издавать их занятие отчасти столь же безумное, как и писать, а потому не рассчитывающий ни на 50, ни на 15, ни даже на 10 процентов прибыли.
Вот только все это действительно —
СКАЗКИ МАТЕРИ-ГУСЫНИ.
42. Про «ссылку», про свободу и про другие города
На самом деле я живу в городе, которого нет.
Это очень смешное ощущение: ты идешь по улице, но она как бы не существует. Ты едешь в автобусе, только он набит тенями, да и сам ты тень того, кто в это время едет в автобусе, которого нет, по улице, которой тоже нет, ну и по городу, которого, соотвественно, тоже нет.
Это не прикол:
Я НА САМОМ ДЕЛЕ ЖИВУ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ.
Хотя бы потому, что первые лет двадцать своей жизни я был прописан по улице Декабристов, которая плавно переходила в Сибирский тракт, по которому некогда тех самых декабристов гнали в ссылку в Сибирь, но ведь на улице Декабристов я был прописан во времена города Сврдл, а не невесть откуда вновь взявшегося Екатеринбурга.
Во времена настоящего Екатеринбурга улицы Декабристов не было и быть не могло. Она была лишь в эпоху города Сврдл.
Но если сейчас я живу в Екатеринбурге и в нем есть улица Декабристов, то означать это может одно: это какой–то неправильный Екатеринбург, виртуальный, город, которого на самом деле нет.
А если он и есть, то называться должен по другому!
То же самое касается и моего нынешнего адреса. Вот уже почти тридцать лет, как я прописан на одном и том же месте: на улице Крауля.
Между прочим, никакого Крауля никогда не существовало, был такой, якобы литовский, революционер Краулис, в честь которого улицу и назвали, совершив простейшую лингвистическую операцию: оттяпали две буквы, «и» & «с», и вставили для чего–то мягкий знак, вот так:
«Ь».
Наверное, для города Сврдл это тоже было ничего, но вот для Екатеринбурга просто омерзительно, хотя если принять, что никакого Екатеринбурга нет, то очень даже и ничего получается.
НЕТ ТАК НЕТ!
А нет по причинам прежде всего метафизическим.
Естественно, что я никогда не был в том Екатеринбурге, но мне доводилось проходить по его следам. Они зияли по сторонам моего детства, как осколки сломанного зуба. От них некуда было деться и я до сих пор помню их запах: совсем даже не противный, но какой–то ненастоящий, невсамоделишний, невзаправдашний…
Запах города, которого нет.
В нем росли акации и было много тополей. А еще был дом, где убили царя.
Может, это и сгубило город — не мне судить, но, прожив на этом самом месте уже очень много лет, скажу одно: если оно и не проклято, то для жизни все равно малопригодно, оно не уютно, в нем жестокий дух, а значит, предназначено оно, скорее, не для жизни — для выживания.
Наверное, потому и говорят про «уральский характер».
Хотя меня это мало касается, зато я знаю другое: когда ты не живешь, а выживаешь, то это — ссылка.
Вначале в город Сврдл, потом — в остатки Екатеринбурга.
Если над этим словом тоже произвести лингвистическую операцию, то можно получить искомое:
БУРГ.
Город Бург.
Всего–то восемь букв пришлось отрезать, зато какая красота получилась в конце!
— Ты откуда, парень?
— Из Бурга!
— Дяденька, где вы живете?
— В Бурге!
Как это называлось во времена Сибирского тракта и декабристов, которых везли по улице–в–будущем–их-имени:
на вечном поселении…
Но когда ты живешь вот на таком поселении, то всю жизнь мечтаешь об одном: о свободе.
При этом реально понимая, что о ней и можно лишь мечтать, найти же невозможно, скорее всего, в этом и кроется объяснение тому, отчего я все еще живу здесь.
В Бурге…
Потому что нет никакого смысла менять шило на мыло, любой город, который есть, становится городом, которого нет, как только ты выбираешь его своим местом жительства.
Пытаясь таким образом сменить ссылку на свободу.
Последней, скорее всего, просто не существует.
Всю жизнь я считал, что стоит лишь сменить место жительства, как ссылка закончится, и обретенная свобода если и не изменит мою жизнь кардинально, то в любом случае придаст ей какой–то новый вектор.
И для меня всегда существовали города, куда меня манило, притягивало, порою даже всасывало, и дело совсем не в том, бывал я в них или не бывал.
Хотя с теми, где не бывал, намного проще, когда ты придерживаешься не столько реального, сколько литературоцентричного существования, то никогда не видимое бывает порою ближе и ощутимее действительно знакомого, так Бомбей, он же Мумбаи, мне отчего–то гораздо проще сейчас представить себе, чем Москву, в которой пусть я и не был уже очень много лет[80], но все равно знаю по цвету и запаху.
Бомбей, он же Мумбаи.
Лондон.
Эдинбург.
Нью — Йорк.
Токио.
Ванкувер.
Интересно, был бы я там свободен?
Вот в Абу — Даби я был свободен. В реальном Абу — Даби, хотя и провел в нем не больше пяти часов, а из этих пяти часа полтора не вылезал из машины, которая ездила по улицам, а я пялился в окно, за окном же были странные, какие–то игрушечно–виртуальные небоскребы, и совсем не было прохожих, зато было много машин, каких–то игрушечно виртуальных машин, ярких расцветок, желтые, красные, ярко–зеленые, а еще виднелось море, точнее, Персидский залив, наверное, поэтому мне и казалось, что я свободен — от его близости, хотя мы никак не могли найти нормального съезда на нормальный пляж, все было закрыто, чуть ли не заколочено, private beach, везде private beach, что у отеля «Hilton», что у «Holiday Inn», что у «Sheraton», что у неподалеку расположенного «Plaza», и не выйти из машины, не спуститься к берегу, не зайти в теплые и чересчур соленые воды залива, да и вообще была еще куча всякой раздражающей хрени, начиная от надписей над дорогой, гласящих, что тут нельзя сбрасывать скорость — рядом президентский дворец, и заканчивая бредовыми поисками какого–то невнятного ресторана, который, впрочем, вскоре нашелся, и там были не просто сносные, но отчаянно вкусные стейки, хотя не в этом дело, а в том,
ЧТО ТАМ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ СВОБОДЕН!
Пять часов свободы в Абу — Даби.
Десять часов — в Барселоне.
То ли три, то ли четыре — в Иерусалиме, хотя там быть свободным вообще нельзя.
ГОРОД БОГА — ОН НЕ ДЛЯ СВОБОДЫ!
А когда–то совсем давно я был свободен в Ялте.
А еще раньше — во Владивостоке.
И в городишке Старый Казалинск, которого, скорее всего, уже просто нет физически, тоже был свободен.
Как и в смешном по названию местечке Чегдомын, столице Верхне — Буреинского района Хабаровского края, где торчал что–то около суток, ожидая попутный газик, на котором должен был ехать дальше еще сто с чем–то километров по грунтовой дороге, в сопки.
Командировка у меня была такая на дипломной практике — от отдела культуры окружной газеты[81] меня послали на БАМ, что–то такое написать про — естественно — «культурное строительство».
Я ждал обещанную попутку и слонялся по поселку, которым и был этот районный центр. И постоянно доходил до самого края мира — асфальт обрывался и начинались сопки. Они лезли одна на другую, все выше и выше. И каждая была иного цвета. Причем — без полутонов. Красная. Золотая. Красно–золотистая. Коричневая. Снова красная. Опять золотая. И над всем этим было темно–голубое небо. Именно, что темно–голубое. А в небе — солнце. Какое–то странное, совсем непохожее на то, что здесь, некогда в Екатенринбурге, потом в городе Сврдл, а сейчас — просто в Бурге.
Ровный желтый круг, как бубен шамана.
Там когда–то действительно были шаманы, наверное, поэтому я так сейчас и написал.
В общем: это было очень красиво.
Скорее всего, там тоже должны были жить свои тритоны, которые умели петь полуденные песни.
Но тогда я их не слышал…
Наверное — уже.
УЖЕ НЕ СЛЫШАЛ!
Я просто доходил до края асфальта и смотрел в сопки. Видно было очень далеко — стояла середина октября, воздух был необычайно прозрачным, хотя и стылым. И я чувствовал себя АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫМ, несмотря на то, что это был 1976 год и для меня все только еще начиналось.
Вся эта веселуха.
Которая давно могла бы и закончиться — если, скажем, меня, как и хотели, в 1980-ом забрали бы в Афаганистан.
Командиром мото–пехотного взвода.
Я не понимал, почему я должен туда идти, и мы с моей второй женой сделали вид, что она беременна.
Хотя она не могла забеременеть, ей даже делали операцию, но все равно ничего не вышло.
Между прочим, я давно про нее ничего не слышал.
Равно, как и про первую жену, и про третью.
Знаю лишь, что они — как и я — все еще живут в Бурге, в ссылке.
На вечном поселении…
Живут в городе, которого нет.
И поэтому — наверное — счастливы.
По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы было именно так.
Что же касается меня, то я давно уже привык общаться большей частью с тенями, а потому не все ли равно, когда закончится эта ссылка, да и закончится ли вообще: главное, что с какого–то момента в жизни я вдруг осознал, что стал действительно свободным.
Вне зависимости как от долгот и широт, так и от того, в каком городе я живу: узаконенном Екатеринбурге или же непонятном Бурге, прямом и правдивом наследнике непроизносимого города Сврдл.
43. Про метеорологов, про метеозависимость и про «рачий угол»
Единственная песня, которую я умудрился написать в своей жизни, состояла всего из одной строчки, правда, повторяющейся какое–то патологическое множество раз:
«Убей метеоролога, убей метеоролога, убей метеоролога, убей!»
Ну и дальше, пока не надоест.
И дело не в том, что когда–то меня обидел какой–то метеоролог. Совсем даже наоборот: в давнем сврдлвском детстве, еще до школы, мне и самому очень хотелось то ли предсказывать, то ли даже управлять погодой, и как–то раз дед принес мне — до сих пор не могу понять, откуда он это взял — прибор для определения силы и направления ветра. Назывался он, вроде бы, анемометром[82].
Такая странная штучка со стерженьком, на котором то ли ложечки, то ли — лопаточки.
Я стоял на балконе и старался поднять эту хрень как можно выше. Мы жили на четвертом этаже, дом был старым, с высокими потолками, я до сих пор помню как адрес, так и номер квартиры:
314,
там просто была сквозная нумерация, во всех этих домах, когда мы с матушкой поселились отдельно, через два двора, то адрес был тот же, но под другой дробью, а номер квартиры —
27.
Так вот, я стоял на балконе и старался поднять эту хрень как можно выше. Как сейчас помню —
хотя на самом деле ни черта я не помню!
Просто размытая картинка осталась: торчу на балконе и держу в руке эту штуку, а дед стоит рядом и рассматривает циферки и буковки, показывающие скорость и направление ветра.
Почему–то до сих пор почти всегда он дует с севера.
А еще у нас дома был барометр, но давление тогда меня не волновало.
Это сейчас я знаю: если давление повышается — то мне будет плохо. А если наоборот — то неизвестно, хорошо или плохо, но скорее всего, что последнее.
Просто у меня такая хроническая наследственная болезнь — метеозависимость. Это когда тебя плющит на любое изменение в атмосфере. На дождь и на снег. На похолодание и на потепление.
Обычно все это безобразие предсказывают метеорологи, поэтому если их убить, то никаких предсказаний больше не будет, как — соответственно — меня не будет и плющить.
Ни на дождь, ни на снег, ни на похолодание, ни на потепление.
Правда, если бы я на самом деле стал метеорологом, то меня точно прибили бы первым.
Разгневанные пожиратели метеосводок. Метеопоглотители. Реципиенты погодных пргнозов.
На самом деле Мерлин из меня никакой — я это неоднократно демонстрировал.
Просто много лет подряд, начиная с апреля и до половины октября, каждый день мы с Мартином вечерами уходили гулять неподалеку от дома, но вроде бы уже в лес. Есть тут такой холм, на котором когда–то, при коммунистах, был даже мемориальный парк с памятником то ли комсомольцам, то ли еще каким полезным деятелям, а рядом — заброшенное мусульманское кладбище.
Но это так, топография дилетанта. На самом же деле там нам с Мартином было очень хорошо.
Парк с памятником исчезли еще в самом начале девяностых, а с лета 1996 года, когда мы с ним почти каждый теплый вечер начали проводить на горке, то временами у меня вдруг возникало странное ощущение, что это то ли Эдем, то ли — самые подступы к нему.
На подходе к раю…
У нас там даже появились друзья, отец с сыном, гуляющие с большим, мышиной масти догом.
Точнее, дожихой, но для столь благородной собаки это слово не подходит.
Ее звали Золинген, в просторечии — Золя.
Она умерла в конце 2003 года. Большие псы долго не живут. Да и на горку мы уже не ходим — там все засрали любители пива, шашлыков и копченных куриц, а так же малолетние наркоманы с одноразовыми шприцами.
ТАК ЧТО ЭДЕМА БОЛЬШЕ НЕТ.
Но когда он еще был, то я быстро убедился, что Мерлин я или никакой, или же — недоделанный.
Вот так:
НЕДОДЕЛАННЫЙ МЕРЛИН!
Просто неоднократно происходила примерно следующая сцена: мы сидим на траве, люди и собаки. Откуда–то начинают появляться тучи, вначале серые, потом они становятся все чернее и чернее. И кто–нибудь говорит:
— Будет дождь!
— Не будет! — отвечаю я. — Мы еще можем минут двадцать погулять, а вот потом…
Дождь начинался минут через пять. Причем всегда — сильный.
Зато если я говорил, что всем надо срочно вставать и быстро–быстро идти домой, потому что прямо сейчас ливанет, и все вскакивали и мчались в сторону дома, то дождь не начинался. Он не начинался даже через час. И через два. Он просто исчезал, лишь его давнее предчувствие еще как–то проплывало по небу серо–черными, гнусноватого вида облаками, зато под утро начинало не просто моросить, а лить — тяжело, безнадежно, надолго.
У нас даже игра такая была: кто сегодня работает Мерлином?
СЕЙЧАС УЖЕ НИКТО…
Но горки мне не хватает, все то время, что мы туда не ходим, я чувствую, будто меня лишили какого–то очень уютного местечка, норы, норки, «рачьего» уголка.
Места, где ты можешь почувствовать себя в безопасности.
Любой, кто по гороскопу — рак, подтвердит, насколько я прав.
Наверное, если когда–нибудь я решу еще написать какую–нибудь песенку, то она будет про астрологов…
Совершенно точно, что почти все астрологи не любят раков, а те, которые любят, скорее всего, раки сами.
У нас в городе долгое время по телевизору вела прогнозы одна дамочка с философским образованием, известная тем, что в начале девяностых зарабатывала на жизнь, обрубая энергетические хвосты.
Что это такое и как — не думаю, чтобы она сама знала. Но к ней приходили разные люди и говорили, что им плохо. Дамочка смотрела на них и говорила:
— М-да, у вас энергетический хвост, его надо срубить!
Я представляю человека, которому это говорят прямо в лицо, и мне его становится жалко. Ведь так можно с ума сойти. У тебя энергетическйи хвост, сейчас тебе его будут рубить! Скорее всего, топором. Положат на плаху и — бзяяк! Или — бзуум. Еще может быть — хрясть, но это когда хвостик так себе, не очень.
Зато потом снисходит облегчение и вся жизнь в радужных тонах.
А запомнил я эту даму потому, что она просто ненавидела раков. Всем знакам у нее в гороскопе хорошо и благостно, а ракам — гадость полная, то болезни, то неприятности, то еще какая напасть.
Теперь я знаю, что это называется СИГНИЗМОМ[83] — дискриминацией по зодиакальному тире астрологическому принципу.
Это хуже, чем расизм или сексизм.
Про сигнизм мне рассказал Денис, а он прочитал об этом у Томаса Пинчона в романе «Vineland»[84].
Денис вообще любит Пинчона, а «Vineland» — в особенности. И все время говорит, что когда–нибудь переведет его на русский. После очередного трансгрессивного Хэвока, культового Паланика и кого–нибудь еще. Если найдется издатель.
Дай Бог, чтобы нашелся, хотя бы потому, что про сигнизм — это круто. Я вообще подумываю о том, чтобы создать Партию борцов против зодиакальной дискриминации. Можно даже написать Пинчону письмо и предложить стать почетным президентом. Наверное, согласится.
Что же касается его романов, то у меня с ними отношения намного сложнее, чем у Дениса. То ли я как–то не въезжаю, то ли просто — тупой.
Зато его роман «Радуга земного притяжения» подсказал мне ту самую сцену в книге «Indileto», когда Лапидус натыкается в канализации на аллигатора.
Причем, «Радугу…» я не читал, разве что отрывок в каком–то очень давнем номере много лет назад исчезнувшего журнала «Америка», полностью же на русском она не выходила — видимо, ждет издателя, как и «Vineland». И в читанном мною куске ни про каких крокодилов и слова не было[85], но то ли в редакционной врезке к отрывку, то ли в сопровождающей статье что–то про это упоминалось, хотя опять:
НА САМОМ ДЕЛЕ НИ ЧЕРТА Я НЕ ПОМНЮ!
В общем, если бы не Томас Пинчон, то в моем романе «Indileto» никаких крокодилов бы не было, а это значило бы одно: герой романа, Лапидус, никогда бы не встретился с аллигатором и не трясся бы от страха, ожидая, когда
«…он просто ткнется Лапидусу в промежность и выкусит все гениталии. На сладкое. Лапидус взвоет от боли и потеряет сознание от шока. Лапидус упадет лицом в эту дурно пахнущую воду, а аллигатор зажмет его челюстями как бревно и утащит на дно. И Лапидус больше ничего не почувствует, потому что будет мертв. Вначале он потеряет сознание от шока, а потом захлебнется. И аллигатор спокойно потрапезничает Лапидусом, у аллигатора будет приятный ужин, а, может быть, что и завтрак — если аллигатор не сожрет Лапидуса в один присест.»
Вот только ему не повезло: они не встретились — наверное, Лапидус тоже подвергался зодиакальной дискриминации или сигнизму. Да и вообще он во многом похож на меня, так же страдает метеозависимостью и все время пытается отыскать для себя какой–нибудь «рачий угол». Но что касается песенки «Убей метеоролога!», то написал ее действительно я, хорошо еще, что она никогда и никем не исполнялась — ведь на самом деле метеорологи в этой идиотской жизни не играют практически никакой роли со времен того самого, печально известного Мерлина.
44. Про интернет
Я хотел бы посмотреть тому парню в глаза.
Который все это придумал.
Но прежде его надо найти, а для этого — знать, как зовут.
Я поступил просто: набрал в поисковой строке «Яндекса» дурацкую фразу: кто придумал интернет.
Без вопросительного знака, просто три слова через пробелы, вот так:
кто придумал интернет
«Яндекс» выдал кучу безумных ссылок.
Больше всего мне понравилась та, где объяснялось, что интернет никто не придумывал. Он существовал всегда.
КАК БОГ.
Жаль, что я не скопировал адрес, а то мог бы поместить здесь линк: —)).
Хотя как можно указать дорогу к жилищу Бога?
Ведь Бог, как известно, везде, в точности, как интернет.
Только вот Он был всегда, а интернет — нет.
Я хорошо помню время, когда его не было. И когда компьютеров еще не было. Я даже помню, как увидел первую такую фигню — мне позвонил Бурштейн и сказал, что им в контору поставили персональный компьютер. Настоящий. Маленький. И очень крутой.
То был какой–то IBM PC XT. Но эта аббревиатура мне тогда ничего не говорила. Я даже не помню, какой у него был дисплей — цветной или черно–белый[86]. Денис мне подсказал, что мы тогда играли в «Эволюцию». Я про это тоже ничего не помню, но пусть так и будет — когда я впервые увидел IBM PC XT, то мы сразу же начали играть на нем в «Эволюцию». После чего на долгое время упомянутая машинка так и осталась для меня неким артефактом.
Про компьютеры можно было читать, у каждого был какой–нибудь друг или приятель, имевший к ним доступ, но на самом деле их не было.
Как заграницы.
Смешное время, полной виртуальной невинности.
Компьютеров не было, а про интернет никто даже не подозревал.
Проще говоря: Бог спал…
Хотя лучше сказать: божество.
Для меня оно проснулось в 1996-ом.
У меня уже был компьютер, двойка, но «Оливетти».
«Оливетти», но двойка.
На нем можно было писать тексты и играть в примитивые игры.
Тексты я пишу до сих пор, а в игры уже не играю, хотя компьютер давно другой. Когда и этот сменю, то тексты все равно писать буду, а играть — нет.
Не интересно.
Наверное, если бы не интернет, то в игры я бы все–таки играл.
Вначале мне про него рассказали — что есть такой зверь. Или
НЕЧТО.
А может — не рассказали, а прочитал.
В общем, я услышал, что где–то там, далеко за горами, появилось новое божество. Незримое, но могущественное.
Один мой приятель познакомился с ним поближе и мог общаться прямо с работы. Через модем. На скорости в 28 800. Я пишу сейчас все это и не объясняю, что такое модем и что такое 28 800, все и так знают, или уже забыли, что знали, как знали и забыли множество других слов, каждое из которых — определенная грань божества. Или часть? Или воплощение?
Просто божество приобрело законченную форму.
Отдельных слов больше знать не надо.
Я пришел к приятелю на работу. Это была осень, но еще не было снега. Приятель включил компьютер и начал дозваниваться до провайдера. Мне до сих пор временами приходиться дозваниваться до провайдера, частенько удаленный компьютер не отвечает, особенно в праздники, отсюда я делаю вывод, что у того компьютера тоже выходной.
Или его сглючило.
Склинило камень, полетела мамка.
Сожрали вирусы, заполонили черви.
И не стоит вдумываться в то, что я сейчас несу:
все это просто виртуальный бред!
Но тогда, в первый раз, все было по–другому.
Приятель дозвонился до провайдера. У меня было ощущение, что меня сейчас попросят надеть стерильные перчатки. И вообще: где мой белый халат? И такая же белая, накрахмаленная шапочка?
— Что ты хочешь посмотреть? — спросил приятель.
Почему–то все это напомнило мне давние походы на «видак» к тем счастливым знакомым, у кого они были.
А еще — про совсем уж давние сборища «на цветной телевизор».
Только я не понимал главного — что интернет если и не божество, то все равно:
ОН ЖИВОЙ!
— Про далматинов! — ответил я приятелю, потому что мне действительно тогда хотелось узнать как можно больше про далматинов, сделать же это можно было в Америке, но для этого был нужен интернет.
Далматинов в нем оказалось множество.
Я пытался читать английские тексты, а приятель объяснял мне что–то про world wide web и про язык html.
Давно это было…
Почти так же давно, как интернет появился и у меня дома — где–то в феврале 1997‑го.
Вначале мы тоже собирались на него всей семьей.
У каждого в компьютере была папка, куда скачивали всякую ненужную хрень.
Например — коллекцию виртуальных Барби для маленькой Анны или что–то про музыку для Дениса.
Наталья к интернету равнодушна, как и к компьютерам.
А я поначалу в нем даже девок смотрел, хотя так все делают.
Потом же началась эпоха писем.
Божество пошло на контакт, только отчего–то поначалу все первые письма посылались в Америку.
Ответы, соответственно, приходили оттуда же.
И все — про далматинов.
Как–то раз мне даже написал самый главный американский далматиновский врач, проще говоря, ветеринар. Профессор из университета в Чикаго. Он сочинил большую поэму о том, что dalmatiаn нельзя писать как dolmatiаn, это то же самое, что далматинов называть далматинцами, я высказал свое восхищение и спросил, что делать, если очень сильно сыплется шерсть. Он поблагодарил за восхищение и посоветовал купить более мощный пылесос. Сейчас пылесосы мы меняем раз в два–три года, и каждый раз на более мощные, хотя шерсти на полу от этого не убавляется: —)).
А потом у меня начался целый эпистолярный роман. Не в плане любовных отношений — конфидент был мужчиной, а именно роман как текстовая организация жизненного пространства, с завязкой, кульминацией и развязкой. Мой друг жил в Австралии и звали его Нейлом. По национальности он был англичанином. Глупо даже говорить, с чего началась наша переписка: понятно, что с далматинов. Он был фермером и у него жило то ли пять, то ли шесть собак. Он писал мне письма, в которых рассказывал про свою жизнь. Они до сих пор все хранятся у меня в машине, из них на самом деле может получиться увлекательнейшая книга, более того, это тот редкий случай, когда я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО убежден в физическом существовании моего давнего адресата: как–то раз он мне позвонил.
Это был в ночь Миллениума, я лежал с температурой за тридцать девять. До Нового года оставалось около двух часов. Я дремал. Потом открывал глаза — по телевизору показывали, как мир радостно сходит с ума. Я снова впадал в дрему.
И тут раздался звонок.
— Hi, this is Andrew?
Andrew офигел, весь дальнейший разговор проходил примерно таким образом:
— How are you, Andrew?
— М–м–м-м…
— I wish you…
— М–м–м-м…
Между прочим, параллельно с писанием этого меморуинга я решил проверить почту. Удаленный компьютер не отвечает, чего и следовало ожидать.
А связываюcь я с провайдером по модему, который мне подарил Нейл, редкий в наших краях зверь марки «Texas Instrument», нареканий не вызывает, разве что кот случайно выдергивает шнур из телефонной розетки и тогда там, у себя за горами, божество ложиться спать.
Но даже если я поставлю выделенку, то это не гарантия, что спать оно не будет.
Может полететь сетевуха, может накрыться хаб. Вникать не надо. Все это виртуальные слова, за которыми мало что стоит. Несуществующий мир, который нам придумали. Только что тогда делать с Нейлом, ведь он мне звонил?
Хотя у меня была температура за тридцать девять, так что не исключено: никаких звонков не было, все это пригрезилось, примерещилось, очередная галлюцинация в новогоднюю год.
Но только жить без этого божества, именуемого интернетом, уже нельзя. Это то же самое, что без кофе и сигарет. Когда сеть не работает, то возникает ощущение, будто мир перестал существовать.
БЕЗ ИНТЕРНЕТА Я БЫ НЕ НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ.
Мало того, что я сразу отправляю написанные меморуинги друзьям, так еще и спрашиваю у него все, что приходит в голову.
Например, сейчас меня интересует, кто придумал интернет.
Я БЫ ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ ЭТОМУ ПАРНЮ В ГЛАЗА.
Нужный ответ находится в «Русском журнале», .
«У идейных истоков будущего Интернета стоял психолог Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер. Многочисленные имена профессора Ликлайдера если когда и употреблялись, то разве что во время сугубо официальных церемоний. Все поголовно обращались к нему запросто, без церемоний: Лик. Скромняга Лик. До того скромный, что о его решающей роли в возникновении Интернета вспоминают нечасто и негромко.»
()
Сам я давно перестал писать слово «интернет» с большой буквы, божество стало слишком домашним, наверное, я просто привык.
А этому парню в глаза я все же посмотрел: нормальный такой высоколобый профессор. В очках и с добрым лицом. Никогда не скажешь, что именно он лишил нас всех виртуальной девственности, хотя именно такие добрые и умные лица частенько принадлежат самым настоящим маньякам, встреча с которыми может таить в себе все, что угодно, особенно, если ты уже вышел в сеть.
Удаленный компьютер считал мой пароль, появляется надпись:
связь установлена!
45. Про пришельцев, про мутантов и про маньяков
Когда–то больше всего на свете я мечтал с ними встретиться. И дело не в полете Гагарина — про тот день я помню лишь одно: нас отпустили с уроков, но вместо того, чтобы пойти домой, первоклассник Андрюша пошел с приятелями плавать на плотах в котловане, вырытом под фундамент нового дома.
Все это происходило в городе Перми. Мы там с матушкой прожили год. Хотя матушка, наверное, больше — точно не помню, а спрашивать не хочу.
Котлован был полон воды — весна стояла бурная.
Вместо плота была старая дверь. Я взгромоздился на нее, взял в руки шест и оттолкнулся от берега. На мне были зимнее пальто и зимняя шапка — отчего–то сейчас мне кажется именно так. Наверное, это была не первая попытка пересечь котлован, но в тот день она явно не удалась — то ли я подскользнулся, то ли что еще, но дверь стала переворачиваться и я плюхнулся в ледяную воду. Шапка слетела, погружаясь, я успел посмотреть на небо: еще совсем недавно в нем летал Гагарин[87].
Потом я пошел ко дну.
Вода была желтая и вокруг было много воздушных пузырей. Сверху плавала дверь — ее я видел. А потом каким–то образом мне удалось выбраться. Может, меня достали: тритоны молчат по этому поводу.
Но в тот день мне было точно не до пришельцев.
Они появились года через два, когда я уже вовсю читал фантастику. Зимой я выходил во двор и пялился в небо. Черное. Глубокое. Усыпанное многочисленными звездами. Почему–то мне кажется, что тогда звезд было больше, хотя все совсем наоборот — это просто небо было чище.
Я пялился в небо и пытался понять, где живут пришельцы. Больше всего меня интересовали те, которые явно не подходили под описанных Ефремовым[88] замечательных гуманоидов.
Намного больше прикалывали всякие мыслящие пауки, думающие трепанги, наделенные недюжим интеллектом шарообразные грибы.
Авторов сих творений перечислять не буду — им несть числа…
Но я был убежден, что вся эта космическая нечисть действительно существует и, в свою очередь, пялится сейчас на меня откуда–нибудь с неба, то ли стороны созвездия Ориона, то ли — Веги, а может, из самого центра шарового скопления ZDRS 1259874, хотя это первые попавшиеся буквы и цифры, что пришли мне сейчас в голову.
Когда, одной уж совсем давней зимой, мать взяла меня с собой на три дня в обсерваторию — ее позвал туда покататься на лыжах один милейший университетский профессор–физик — то я был оглашенно счастлив, мне казалось, что с помощью настоящего телескопа мне удастся разглядеть тех, кто должен изменить всю жизнь на земле.
Да, именно так, вот почему мне хотелось с ними встретиться.
ОНИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ!
Причем, мне было по барабану, в какую сторону — в лучшую или в худшую. Просто жаждалось приключения.
Между прочим, по какой–то странной внутренней градации все пришельцы делились для меня на несколько категорий.
Прежде всего, собственно пришельцы.
Нормальные жители иных миров. Внешний вид описывать нет смысла: у кого–то из них может быть и восемь ног, но зато все они ПОЗИТИВНО настроены по отношению к нам, землянам. Или безразлично, что тоже неплохо. Я их не боялся и именно их прилета так хотел.
Далее следовали пришельцы–мутанты.
Это уже были ненормальные жители иных миров. Настроенные к нам, землянам, НЕПОЗИТИВНО, слова этого, как в утвердительном, так и в отрицательном смыслах я тогда, конечно, не знал, но понимал, что одни — ХОРОШИЕ, а другие — ПЛОХИЕ.
И очень боялся, что именно тех, ДРУГИХ, увижу в телескоп.
Но были еще и третьи,
ПРИШЕЛЬЦЫ-МАНЬЯКИ,
на самом деле тогда то ли маньяков было меньше, то ли говорили про них между собой больше, но моя покойная бабушка постоянно стращала меня какими–нибудь водопроводчиками и газовых дел мастерами, которые могли днем, в отсутствие матери и соседей[89], постучаться в дверь, а я бы — недоросль–идиот — пустил их в дом.
Они бы убили меня и съели.
А перед этим… Ну, ты еще мал, говорила бабушка.
Я догадывался, что со мной могли бы сделать.
Когда вечерами мне приходилось отправляться на ночевку к ним на квартиру — у матушки могли быть гости, она могла быть в гостях, да и вообще, я любил ночевать у них — я набивал карманы какими–то странными предметами: плоскогубцами, молотками, гаечными ключами.
Чтобы обороняться от маньяков.
НО ПРОТИВ МАНЬЯКОВ-ПРИШЕЛЬЦЕВ ЭТО БЫ МНЕ НЕ ПОМОГЛО!
МАНЬЯКИ-ПРИШЕЛЬЦЫ, они же ПРИШЕЛЬЦЫ-МАНЬЯКИ. Самые злобные, самые гадкие, самые отвратительные, и обязательно — зеленого цвета.
Причем, у них может не быть глаз. И носа. Есть только рот, огромный, на пол–лица. Изо рта высовывается щупальца, на конце каждого — фосфоресцирующий зуб.
Этим маньякам по фиг, кто ты такой: землянин или тоже — пришелец. Они высматривают тебя из космоса и выпускают изо рта щупальца. Фосфорицирующие зубы вонзаются в шею[90] и из тебя высасывают кровь. А так же все остальное.
Например — душу.
Если бы мне довелось увидеть в телескоп такого гада, то я бы испугался и завопил.
Но на самом деле никаких пришельцев в телескоп тогда я не увидел, как не увидел в него и далекие галактики, и шаровые звездные скопления, и многое чего еще, что так хотел рассмотреть.
Просто вечером сильно потеплело и небо затянуло тучами. А у нас тут не Памир и не Тянь — Шань, чтобы звезды в телескоп было отчетливо видно почти каждую ночь.
Какое–то время я сильно переживал. То ли несколько дней, то ли — недель.
А потом забыл навсегда.
И не потому что пытаться разглядеть пришельцев в телескоп бессмысленно, да и потом — они давно не просто вокруг нас.
На самом деле все гораздо хуже: они уже в нас.
ПРИШЕЛЬЦЫ.
ПРИШЕЛЬЦЫ- МУТАНТЫ.
ПРИШЕЛЬЦЫ- МАНЬЯКИ.
В детстве мне хотелось, чтобы они прилетели и мир изменился. Что же, как–то очень незаметно, но это произошло. И точно — не в лучшую сторону. Более того:
МОЙ КОТ — ТОЖЕ МУТАНТ!
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ОН — ПРИШЕЛЕЦ, И СОВЕРШЕННО ТОЧНО — МАНЬЯК!
МОЯ СОБАКА — СТОПРОЦЕНТНЫЙ МУТАНТ!
НУ А Я, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОСТО МАНЬЯК, ХОТЯ ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРИШЕЛЕЦ.
Но вообще с самого детства для каждого из нас все люди на этой планете делятся на своих и чужих. Свои — они хорошие по определению, чужие же: маньяки, пришельцы, мутанты, мутанто–маньяки, маньяко–пришельцы, пришеле–маньяко–мутанты, в общем, если ты чужой, то на Земле тебе места нет, а если ты здесь, то это явно ошибка, и тебе надо убираться обратно, в какое–нибудь дурацкое шаровое скопление ZDRS 1259874, у нас и своих пришельцев хватает, а что уж говорить про мутантов и маньяков, включишь телевизор — пришельцы, маньяки и мутанты, откроешь газету — маньяки, мутанты и пришельцы, выйдешь из дома — то же самое, по одной стороне улицы. по другой, в автобусах, в метро, в трамваях, в троллейбусах, в машинах.
Это совсем не тот мир, в котором я когда–то начинал жить.
Из него что–то исчезло, не могу сказать, что очень доброе и нежное, но то, что окрашивало его в иные тона.
Наверное, моей дочери повезло, что она не знает другого мира, лишь этот, поэтому она почти всегда весела.
Со стороны я тоже многим кажусь веселым, только это неправда. Я — не веселый, мне просто постоянно смешно. Например, я иду по улице и вдруг понимаю, что у меня изо рта сейчас начнут выползать щупальца. Идущая мимо дамочка это увидит и грохнется в обморок. Мне, по идее, надо бы помочь ей подняться и извиниться, хотя — за что? Да и потом: вдруг щупальца обовьют её за шею и фосфорицирующие зубы вонзятся ей в плечи? Объясняй потом в ментовке, что это не я, а живущий во мне пришелец тире мутант тире маньяк, который и творит все эти гнустности, а я добропорядочный член общества, который, что называется, и мухи не обидел, хотя это не правда.
МУХ Я ПЕРЕБИЛ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!
У меня с ними война. Они жужжат и действуют мне на нервы. А осенние еще и кусаются.
Правда, в Средние века мух было больше. А в прошлом веке так и вообще временами не знали, куда от них деваться. Но потом они стали исчезать, цивилизация не любит мух, мухи принадлежат культуре.
Цивилизация — это удел пришельцев. А так же пришельцев–мутантов и пришельцев–маньяков.
Между прочим, про культуру, про мух и про цивилизацию когда–то была написана одна очень забавная книжица, она так и называлась:
«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»[91].
Мне до сих пор безумно нравится конец ее предпоследнего абзаца:
«И, стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по имени Хрюша.»[92]
Хотя для завершения этого меморуинга больше подойдет иная цитата, из романа Дугласа Коупленда «Пока подружка в коме»:
«Идите, освобождайте землю под новую культуру. Беритесь за топоры, косы, за оружие. Если каждая минута вашего нового времени не будет посвящена обдумыванию того, как можно перевернуть мир, если вы не станете ежесекундно плести заговор, подтачивая изнутри опоры мирового порядка, — считайте, что этот день потерян впустую».
Что же касается всех этих зеленомордых пришельцев, то мне все равно хочется дожить до момента, когда они по–настоящему объявятся. Может, тогда в этом мире действительно хоть что–то, но изменится, пусть даже не обязательно к лучшему.
46. Про Роберта Шекли как пространственно–временной портал
Чтобы изложить все нижеследующее, мне придется вначале прибегнуть к математике, хотя в ней я полнейший кретин — уже с шестого класса учителя ставили мне «3», держа в голове «2». Но есть в моей семье умные люди — тот же Денис — которые до сих пор понимают и ценят т. н. красоту формул, так что когда я попросил его помочь мне облечь одну мысль в математические символы, то он не отказался и меньше, чем за час сделал это.
А мысль была такая:
когда–то, уже много лет назад, мне пришло в голову, что общаясь с каким–то человеком, ты общаешься не только с ним, но и со всеми, с кем он общался в своей жизни.
Три раза в одном предложении для глагола «общаться» многовато, но в этом случае допустимо.
И вот что получилось:
(xY)(yZ) X Z,
где x, y и z произвольно взятые лица, а X, Y и Z это — соответственно — множества людей, с которыми эти лица общались в жизни.[93]
Хотя для того, чтобы вывести эту формулу он вначале произвел на свет другую.
Более конкретную, построенную на домашних величинах и данных:
(dbAM)(amRSh)RShDB
db здесь — это Денис Борисов, am — естественно я, Андрей Матвеев, ну а RSh — множество людей, с которыми общался в жизни Роберт Шекли.
То есть, раз я встречался с Робертом Шекли, то и Денис с ним тоже встречался, вот такая заморочка.
Но и я, в свою очередь, встречался/общался со всеми, с кем за свою жизнь общался мистер Роберт, для этого можно тоже написать подобную формулу.
Соответственно, для меня мистер Роберт Шекли — это пространственно–временной портал, которым для того же Дениса могу быть и я.
Вот такая мулька.
Хотя прежде, чем мистер Роберт откроет этот портал, мне надо кое–что объяснить.
Например, почему я так ухватился за возможность с ним встретиться. Просто его «Паломничество на Землю», вышедшую в «мировской» серии современной зарубежной фантастики в 1966 году, я прочитал тогда же. Мне было 12 лет и именно в тот год у меня чуть не вышла двойка по математике. А я читал про «Ордер на убийство» и про «Особый старательский», и математика мне была по фиг. И тогда я даже подумать не мог о том, что когда–нибудь он приедет, уже не Сврдл, а в Екатеринбург, но все равно — сюда, на Урал.
Но он взял, да и приехал. Я подловил его сразу, как он вышел из машины и, сутулясь, направился к дверям того здания, где должны были вручать премии писателям, про которых он никогда не слышал.
— Мистер Шекли! — воскликнул я, и радостно поведал всю предысторию, про книжку, читанную почти сорок лет назад, и про то, как бы хотелось поговорить с ним о чем–нибудь таком…писательском…
— Хорошо! — сказал он, а потом, помолчав, добавил: — Всего–то почти сорок лет, мой мальчик, и ты дождался!
Мальчик охренел и внезапно предложил мистеру Роберту поехать на рыбалку.
Именно там и открылся этот пространственно–временной портал.
Для начала мы ухнули в конец семидесятых, на Ибицу.
Я сидел в баре в Санта — Эвлалии, только меня никто не видел.
Бар был без названия, зато я знал, что хозяина зовут Артуром.
Молодой, примерно моих сегодняшних лет, Шекли сидел за угловым столиком и ел стейк. Он был не один — с ним были еще двое.
— Кто это? — спросил я старого Шекли, пьющего колу в гостевом рыбацком домике.
Он хмыкнул.
— Что повыше — Пит Синфилд, знаешь?
Я его знал: Питер Синфилд писал тексты для альбомов King Crimson, даже сноску можно не давать — стыдно. Кто захочет, пусть сам посмотрит в интернете.
— А что пониже — Брайан Ино.
Тут уже хмыкнул я.
Баронет Брайан Питер Джордж Сент Джон Ле Баптист Де Ла Селл Ино пил пиво и смотрел на то, как молодой, примерно моих сегодняшних лет, писатель Шекли ест стейк.
Брайан Ино, один из создателей Roxy Music.
Брайан Ино, автор «Another Green World», «Музыки для аэропортов» etc, etc…
— Они сейчас уйдут! — говорит старый Шекли.
— Нет, — отвечаю я, — мы еще не договорились!
— Так что, ты согласен, Боб? — спрашивает меня Брайан Ино.
Я думаю. Мне действительно стало скучновато в последнее время: Ибица — райское место, но порою хочется чем–то занять голову, не все же дни курить гашиш. Хорошо, что появился Пит, с ним стало повеселее, мы уже вместе ходили по барам, а потом, поздним вечером, спускались к морю и травили друг другу разные байки, я ему — про Нью — Йорк, а он мне — про Лондон.
Но становилось все жарче и даже вдвоем нам стало вечерами тоскливо.
И тут к Питу приехал на пару недель друг.
Друг Брайан.
Как потом говорил мне Синфилд:
«Сидели мы с ним в баре, и я жаловался на тоску и жару, и на то, что даже для меня слишком много алкоголя, и что Ибица стала портиться, и что Бобу Шекли, который тусуется здесь не первый год, тоже становится в облом вся эта средиземноморская развлекуха, тут–то Ино и предложил поразвлечься. Сделать совместный проект. Прямо здесь, на Ибице. Ну что, Боб, слабо?»
Это было не слабо, это было круто.
И как раз сейчас, в баре у Артура, мы обговаривали все детали будущей записи моего рассказа «In The Land Of The Clear Colors», музыка Брайана Ино, читать текст должен Питер, история — моя, Боба Шекли.
В СТРАНЕ ЧИСТЫХ КРАСОК[94]…
Записывать же все это мы будем в студии одного галериста, нарисовать обложку согласился знакомый южноамериканец, то ли мексиканец, то ли парень из Венесуэлы, Леонар Куэльо.
Ино и Синфилд уходят, я дожевываю стейк и смотрю на Артура.
Тот улыбается и машет мне рукой. В глазах у него пляшут чертенята.
Я встаю из–за столика и иду к стойке. Артур смеется и внезапно суёт мне в лицо носовой платок, пропитанный амилнитратом[95]. Моё сердце начинает бешено колотиться, происходит короткое замыкание чувств, и я на мгновение погружаюсь в беспамятство…
Последние выделенные строчки принадлежат непосредственно мистеру Роберту Шекли. Я просто их цитирую[96].
Что же касается беспамятства, то когда я прихожу в себя, то понимаю:
ПОРТАЛ УЖЕ ЗАКРЫТ.
Мы едем на лодке с мотором к небольшому островку. Самое удивительное, что жара, от которой все изнывали еще с утра, внезапно спала: небо затянуло странными, белесыми тучками, сквозь которые еле пробиваются палящие лучи беспощадного августовского солнца.
Такое чувство, будто Шекли это наколдовал.
Лодка подходит к островку, глушится мотор, мы поочередно сходим на берег. Первой по камням прыгает моя дочь, потом идет переводчица Шекли, потом он сам.
Последним тащусь я.
После Ибицы мне все еще не по себе.
Голова кружится и ноги ватные.
Но мне вновь безумно хочется, чтобы этот старый человек прибегнул к своей непонятной магии.
Чтобы опять заработала формула (xY)(yZ) X Z и я смог увидеть то, чего самому мне никогда не увидеть.
Шекли устраивается под деревом, переводчица садится рядышком, хотя она нам не очень и нужна: я понимаю все, о чем он говорит, он понимает меня, а когда открывается портал, то языковой барьер вообще исчезает, как исчезает и сам язык.
Не видения, не галлюцинации.
Если это как–то и можно назвать, то
полуденными песнями тритонов,
хотя на часах уже третий час дня и полдень давно позади.
Шекли засыпает, минут на пять, прямо тут, под деревом.
Потом открывает глаза и закуривает очередную сигарету. Он много курит. Camel. Крепкий Camel, но с фильтром[97].
— Ну что, — спрашивает он меня. — Еще хочешь?
Я хочу.
Безумно хочу вновь погрузиться в темную, бездонную шахту времени.
Потому что где–то там должен быть свет.
А еще я знаю, что вновь смогу пережить то ощущение какого–то безграничного удивления перед жизнью, благодарности за присущее ей чудо, случающееся всегда в тот момент, когда ты этого уже просто не ждешь.
Как в запомнившемся еще с детства рассказа мистера Боба «Особый старательский»
«Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Попросить бы мне флягу», — говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял «Особый старательский» — выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
«Надо было еще заказать чашку или стакан», — подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды.»[98]
— Ну что, мы едем? — спрашивает Шекли.
— Летим! — отвечаю я.
— Падаем! — смеется он.
Портал вновь открывается.
— Хочу увидеть Берроуза! — кричу, чтобы заглушить рев времени.
— Живого? — уточняет Шекли.
— Живого! — еще громче ору я.
— Тогда в Нью — Йорк, — так же громко кричит мистер Роберт, в 1971, а может, и раньше! Вон видишь человека, похожего на труп?
Человек, похожий на труп, стоит у окна и смотрит куда–то вниз.
Я набираю в легкие побольше воздуха и на секунду зажмуриваюсь.
Потом открываю глаза и думаю, о чем мне сейчас лучше всего поговорить с Берроузом.
47. Про острова
Именно Шекли зародил во мне очередную придурошную мечту.
Точнее, нужным образом ее конкретизировал.
Можно даже сказать: — вербализовал: —)).
В его до удивления внятном американском произношении мечта звучала кратко и обрывисто:
NAXOS!
— Я люблю читать про греческие острова! — перед этим сказал я ему и добавил: — Может потому, что там никогда не бывал.
— Поезжай на Наксос! — ответил мне Шекли.
Вообще–то я всегда любил читать про острова. Задолго до того, как впервые оказался в Средиземноморье. На каких–то я даже бывал, ничего особенного, но все равно забавно — тот же остров Русский, что неподалеку от Владивостока, не только надолго въелся в память своими склонами, густо поросшими лимонником и какими–то таинственными, темными, широколиственными деревьями, так еще запомнился безумной эскападой одного давнего приятеля, решившегося прогуляться к вершине и случайно угодившего в яму, из которой долго не мог выбраться, да и не смог бы сам, пока мы его оттуда не извлекли.
ХОТЯ НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВСЕ ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ:
ГЛЮКИ ПРОШЛОГО,
иначе говоря — меморуинги.
ПОЛУДЕННЫЕ ПЕСНИ ТРИТОНОВ…
Но те острова, о которых мне доводилось читать, были совершенно иными.
Дело даже не в Стивенсоне с его «Островом сокровищ», и не в «Необитаемом острове» Жюля Верна.
И не в полинезийском рае Гогена, про который я тоже читал — вроде бы «Луна и грош» Моэма.
Дело вообще в рае.
Островной рай — island paradise.
А рай, как известно, ожидает нас отнюдь не в этой жизни.
Хотя все возможно…
Наверное, поэтому я и отправил в последней части своего романа «Летучий Голландец» главных героев на один из необитаемых островов архипелага Мергуи, что в Андаманском море — чем безумнее развязка, тем прекраснее должны быть окружающие пейзажи.
Пусть даже иногда.
Но к этому времени я уже кое–что понимал в действительном островном раю, пусть даже опыт опять пришел опосредованно, из книг.
Началось все с «Волхва» Фаулза, попавшего мне в руки — по странному стечению обстоятельств — примерно в те же дни, что и наш с Катей Ткаченко «Ремонт человеков» оказался у Бориса Кузьминского.
Только здесь это лишь очередная мета времени, не больше.
Намного существеннее про Фаулза.
Точнее — про остров Праксос, который на самом деле называется Спеце.
Это один из островов залива Сароникос, не так уж далеко от Афин.
Остров, покрытый сосновыми лесами.
А вокруг — Эгейское море.
На самом деле рай сейчас для меня давно уже там, именно на Эгейском море. С того самого момента, когда я только его увидел, то понял: моя душа, наконец–то, нашла, что искала.
Это было ранним утром, где–то в самом начале девятого. Мы с дочерью, ошалевшие после дороги, бросили сумку на рецепции, и — чтобы скоротать время до завтрака — решили дойти до пляжа, хотя «дойти» звучит слишком громко: пляж был метрах в пяти от отеля, надо лишь перейти узкую каменную прогулочную дорожку, громко именуемую здесь бульваром, и вот он — пляж, полоска мелкого, светлого песка, уходящая в розовато–лазоревое зеркало еще не проснувшегося по утру моря…
Напротив же, в стороне горизонта, темным расплывчатым пятном проступал понемногу греческий остров Кос, мало чем похожий на Спеце/Праксос. Как сказано в путеводителе «Греческие острова» из знаменитой английской серии «Dorling Kindersley» — первый всегда отличался мягким климатом и плодородной почвой, на которой выращивали и выращивают знаменитый зеленый салат, второй же еще в древности прозвали «Сосновым». Что же касается Фаулза, то одну из его фраз о Спеце стоит привести почти целиком:
«Праксос прекрасен. Другие эпитеты к нему не подходят: его нельзя назвать просто красивым, живописным, чарующим — он прекрасен, явно и бесхитростно. У меня перехватило дух, когда я увидел, как он плывет в лучах Венеры, словно властительный черный кит, по вечерним аметистовым волнам, и до сих пор у меня перехватывает дух, если я закрываю глаза и вспоминаю о нем. Даже в Эгейском море редкий остров сравнится с ним…»
Между прочим, если считать и те острова, что находятся в Ионическом море, то у Греции их более двух тысяч.
И, скорее всего, когда–то действительно все они были раем, потому что лишь побывав на Эгейском море начинаешь понимать, отчего эллинские боги выбрали именно те места.
Я шел по набережной города Бодрума и мрачно смотрел на причалы, от которых дважды в день отходили небольшие скоростные суда, что–то типа «ракеты», в сторону островов Родос и Кос.
Купить билет не было проблемой: всего–то двадцать долларов до Коса и обратно, и что–то около сорока–пятидесяти до Родоса.
Такие деньги у меня были.
Но у меня был неправильный паспорт.
Как и положено человеку, родившемуся в неправильной стране.
Любой турок мог сесть в «ракету» и поехать на Кос, не говоря уже об англичанах, немцах, шведах и даже израильтянах.
А мне нужна была шенгенская виза.
У меня в паспорте есть одна шенгенская виза — еще со времен поездки в Испанию, но она давно не действительна.
У дочери даже две шенгенских визы, но обе они уже не действительны.
Остров же Кос холмился на горизонте и был недостижим, как недостижим и таинственный Праксос Фаулза, хотя когда я спросил очень давно Кузьминского: — Что это за остров на самом деле? — тот мне почему–то ответил:
— Самос!
А МОЖЕТ, МНЕ ЭТО ПРОСТО ПОСЛЫШАЛОСЬ?
На самом деле Самос относится к северным Эгейским островам, Кос — к Южным Спорадам, Спеце, он же Праксос, как я уже говорил, к островам в заливе Сароникос, а Наксос, куда мне велел поехать мистер Шекли — к Кикладам.
ВЕДЬ НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ГРЕЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ БОЛЕЕ 2 000 ОСТРОВОВ!
Только это еще не весь путь, который мне пришлось пройти до уяснения всей необходимости путешествия именно на Наксос.
Куда, между прочим, самолеты из Екатеринбурга не летают.
Вот из Копенгагена летают — моя хорошая знакомая, ныне живущая там замужняя фру с плохо произносимой фамилией, летала минувшей осенью с мужем именно на Наксос.
А из Екатеринбурга можно на Родос, на Крит, но —
НЕ НА НАКСОС!
Хотя до Наксоса я хотел еще на Санторин и на Лесбос.
Даже так: вначале на Лесбос, потом уже — на Санторин.
Про Лесбос я даже начал писать роман. Это было сразу после «Ремонта человеков». Я написал страниц тридцать и бросил. Называться он должен был «Дорога на Митилини»[99], мне до сих пор нравится его первый абзац:
«Ветер был с моря, соленые брызги долетают до тела, я лежу на песке, уткнувшись в него лицом, подставив спину под солнце, зажмурив глаза, чтобы не сильно слепило — очки не помогут, солнце здесь яркое, а небо безоблачно, пасторальный пейзаж, если оглядеться вокруг: уютная бухта с полосою песчаного пляжа, белые коробочки домов на окрестных склонах и нежно–зеленоватая морская гладь с редкими синими проблесками там, где поглубже.»
Главной героиней тире рассказчицей в этом романе тоже собиралась стать женщина, но наброски текста так и остались в рабочей папке компьютера с названием unrealised —
нереализованное.
А про Санторин/ Санторини — сами греки называют остров Тира — мне поведала вначале жена. Она прочитала в «Иностранной литературе» рассказ супруги Павича, Ясмины Михайлович, и со словами: — Почитай, вот куда мне совсем не хочется! — дала журнал мне.
«Не осталось никакой линии горизонта. Одни облака, с ужасающей силой и скоростью неслись из глубины, где раньше было море, облизывали черные скалы берега и на той же скорости устремлялись дальше, выше, туда, где должно было находиться небо. Солнце в глубине этого пространства выглядело черным кружочком. Дул ледяной ветер. Откуда–то доносился вой собак. Слегка попахивало серой.»[100]
Уже не рай, а прямо–таки ад, хотя все объяснимо: надо же было угодить на этот осколок Атлантиды — есть ведь и такая версия.
Странный такой осколок, где белые деревни рассыпаны по черным вулканическим скалам, а пляжи мрачно сверкают на ярком эгейском солнце своим черным–черным песком…
— Мы не поедем на Санторин! — успокоил я жену, пусть даже самому мне безумно хотелось, да, наверное, и сейчас хочется побывать в этом месте, где — скорее всего — ад и рай на самом деле смыкаются, становясь чем–то единым, какой–то адорай, вобравший в себя одновременно и весь свет, и всю черноту мира.
А потом писатель Шекли сказал мне про Наксос и слово это стало для меня просто наваждением.
Невиданный остров снился мне ночами.
Мерещился днем.
В жару и в дождь, в наступившие осенние заморозки и в первые снегопады.
Я не мог понять, почему мне обязательно надо ехать на Наксос, чего там можно найти такого, что не увидишь ни на Спеце/Праксосе, ни на Косе, ни на Самосе, ни на Лесбосе, ни на Санторине.
От наваждения рукой подать до сумасшествия.
Про него начали говорить: он свихнулся на греческих островах!
Я не хотел, чтобы эта двусмысленная фраза стала пророческой и отправил Шекли e-mail.
Вот что он мне ответил:
«Я не могу вспомнить, почему вдруг заговорил о Наксосе. Я был там недолго, и он показался мне милым и относительно не загаженным туристами островом. Считается, что Тесей бросил на нем Ариадну. Я нашел там чудесный пляж, покрытый галькой всех мыслимых расцветок».
Он не может вспомнить…
Ясное дело: склероз!
Но почему тогда ТАК настойчиво он велел мне ехать именно на Наксос?
Между прочим, Ариадна, брошенная Тесеем, выгодно вышла замуж на том же Наксосе — за Диониса.
Свадьба была шумной, на ней гудели сатиры, силены и нимфы.
Менады пели хвалебные песни. Рекою лилось вино.
Потом же пьяные тени гурьбою отправились к морю.
Скорее всего, их следы до сих пор сохранились на том чудесном пляже — ведь чем еще может быть упомянутая в процитированном выше письме галька всех мыслимых расцветок?
48. Про книги (3) и настоящее
1. Ричард Бротиган: Ловля Форели В Америке
2. Ричард Бротиган: Арбузный сахар
3. Ричард Бротиган: Месть лужайки
4. Ричарод Бротиган: Аборт
5. Уильям Берроуз: Джанки
6. Уильям Берроуз: Гомосек
7. Уильям Берроуз: Голый завтрак
8. Уильям Берроуз: Пространство мертвых дорог
9. Уильям Берроуз: Города красной ночи
10. Стивен Хоум: Отсос
11. Стивен Хоум: Встан(в)ь перед Христом и убей любовь
12. Брет Истон Эллис: Американский психопат
13. Брет Истон Эллис: Гламорама
14. Тони Уайт: Трави трассу
15. Тони Уайт: Сатана! Сатана! Сатана!
16. Лидия Ланч: Парадоксия. Дневник хищницы
17. Теннесси Уильямс: Мемуары
18. Теннесси уильямс. Что–то смутно, что–то ясно. Пьесы
19. Торнтон Уайлдер: Каббала
20. Джон Фаулз: Волхв
21. Джон Фаулз: Мантисса
22. Джон Фаулз: Кротовьи норы
23. Дуглас Рашкофф: Медиавирус
24. Дуглас Рашкофф: Стратегия исхода
25. Самюэль Хантингтон: Столкновение цивилизаций
26. Линор Горалик, Сергей Кузнецов: Нет
27. Доминика Мишель: Ватель
28. Тургрим Эгген: Декоратор
29. Андре Шиффрин: Легко ли быть издателем
30. Стив Эриксон: Явилось в полночь море
31. Михаил Кононов: Голая пионерка
32. Уильям Хьёртсберг: Сердце ангела
33. Дэвид Хаггинз: Чмоки
34. Эрик Браун: Нью — Йоркские ночи
35. Григорий Чхартишвили: Писатель и самоубийство
36. Барри Гифорд: Дикие сердцем
37. Ароматы и запахи в культуре. Том I
38. Ароматы и запахи в культуре. Том II
39. Мурашкинцева Е. Д.: Верлен. Рембо
40. Чак Паланик: Бойцовский клуб
41. Чак Паланик: Колыбельная
42. Роберт Шекли: Алхимический марьяж Алистера Кроули
43. Роберт Шекли: Великий гиньоль сюрреалистов
44. Робер Шекли: Божий дом
45. Роберт Шекли: Лабиринт минотавра
46. Софи Делассен: Любите ли вы Саган?
47. Мишель Уэльбек: Элементарные частицы
48. Мишель Уэльбек: Платформа
49. Путеводитель «Греческие острова»
50. Путеводитель «Испания»
51. Путеводитель «Таиланд»
52. Путеводитель «Мальдивские острова»
53. Путеводитель «Израиль»
54. Путеводитель «Крит»
55. Путеводитель «Греция»
56. Симсон Гарфинкель: Все под контролем
57. Андре Моруа: В поисках Марселя Пруста
58. Ромен Гари: Обещание на рассвете
59. Клайв С. Льюис: Пока мы лиц не обрели
60. Гилберт Адэр: Любовь и смерть на Лонг — Айленде
61. Гилберт Адэр: Мечтатели
62. Дж. М. Кутзее: Бесчестье
63. Дж. М. Кутзее: Осень в Петербурге
64. Томас Стоппард: Пьесы
65. Петр Вайл: Гений места
66. Артур Конан Дойль: Жизнь и творчество
67. Дуглас Коуплен: Generation X
68. Дуглас Коуплен: Пока подружка в коме
69. Дуглас Коуплен: Рабы «Майкрософта»
70. Фрэнк Заппа, Питер Оккиогроссо: Настоящая книжка Фрэнка Заппы
71. Испания: Кулинарный путеводитель
72. Чарльз Буковски: Блюющая дама
73. Чарльз Буковски: Хлеб с ветчиной
74. Хьюберт Селби: Последний поворот на Бруклин
75. Эдуард Лимонов: Книга мертвых
76. Эдуард Лимонов: В плену у мертвецов
77. Фредерик Бегбедер: 99 франков
78. Фредерик Бегбедер: Рассказики под экстази
79. Фредерик Бегбедер: Любовь живет три года
80. Жозе Сарамаго: Евангелие от Иисуса
81. Русская Кавафиана
82. Брайан Бойд: Владимир Набоков. Русские годы
83. Биография Джона Р. Р. Толкина
84. Джулиан Барнс: Попугай Флобера
85. Карл Проффер: Ключи к «Лолите»
86. 100 магнитоальбомов советского рока
87. Пол Остер: Тимбукту
88. Пол Остер: Храм Луны
89. Аллах не любит Америку
90. Альфред Жарри: Папаша Юбю
91. Ирвин Уоллес: Слово
92. Харуки Мураками: Слушай песню ветра
93. Харуки Мураками: Пинболл 1973
94. Харуки Мураками: Охота на овец
95. Харуки Мураками: Дэнс, дэнс, дэнс
96. Харуки Мураками: Хроники заводной птицы
97. Харуки Мураками: Норвежский лес
98. Дэн Симмонс: Бритва Дарвина
99. Артуро Перес — Реверте: Клуб Дюма
100. Артуро Перес — Реверте: Кожа для барабанов
101. Артуро Перес — Реверте: Фламандская доска
102. Артуро Перес — Реверте: Учитель фехтования
103. Томас Диш: Концлагерь
104. Томас Диш: 334
105. Уильям Гибсон: Все вечеринки завтрашнего дня
106. Уильям Гибсон: Джонни–мнемоник
107. Уильям Гибсон: Граф Ноль
108. Уильям Гибсон: Монна Лиза Овердрайв
109. Уильям Гибсон: Нейромант
110. Ирвин Уэлш: На игле
111. Ирвин Уэлш: Фармацевтический романс
112. Франц Кафка: Дневники
113. Том Клэнси: Реальная угроза
114. Том Клэнси: Самолет президента
115. Том Клэнси: Все страхи мира
116. Фернан Бродель: Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филлипа II
117. Меридит Этерингтон Смит: Сальвадор Дали
118. Пол Феррис: Зигмунд Фрейд
119. Филипп Арьес: Ребенок и семейная жизнь при старом порядке
120. Эмманюэль Ле Руа Ладюри: Монтайю. Окситанская деревня (1294–1324)
121. Джон Кеннеди Тул: Сговор остолопов
122. Константин Плешаков: Красный камень
123. Александр Мильштейн: Школа кибернетики
124. Павел Мейлахс: Избранник
125. Альберт Голдман: Джон Леннон
126. Лоренс Даррел: Жюстин
127. Лоренс Даррел: Бальтазар
128. Лоренс Даррел: Маунтолив
129. Лоренс Даррел: Клио
130. Умберто Эко: Остров накануне
131. Генри Миллер: Колосс Марусский
132. Анаис Нин: Дневники
133. Тама Яновиц: На прибрежье Гитчи — Гюми
134. Стивен Кинг: Как писать книги[101]
И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее и так далее,
только на самом деле все эти книги были прочитаны (а некоторые — перечитаны) не за последний год. Начиная примерно с Милленума, то есть, с 2000‑го. Но главное, что их объединяет, так это следующее:
ЕСЛИ ПРОЧИТАТЬ ИХ ВНИМАТЕЛЬНО, ПУСТЬ НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ, А ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ, ТО ОЧЕНЬ ПРОСТО СОЙТИ С УМА.
Потому что они говорят об одном: мир сошел с ума.
Или вот–вот сойдет.
Но скорее всего — уже сошел.
Так что если вы не хотите сойти с ума, то не читайте и половину этих книг.
А мне сожалеть уже поздно: —))
PS: Я специально не вспоминал этих авторов и эти названия в алфавитном порядке. И в той последовательности, в которой их читал. Просто лез в память, а еще шарил глазами по столу и по книжным полкам. Пока не надоело. На самом деле среди всех этих томов действительно наберется с десяток стоящих, может, что и два. Но точно не больше трех.
Сегодня я опять зашел в книжный магазин и прикупил роман, уже помещенный в мой список под тридцатым номером. Стив Эриксон, «Явилось в полночь море». У него два эпиграфа, первый из Кьеркегора, второй — строчка из Бьорк:
«Я — фонтан крови в форме девушки.»
Мне до сих пор не верится, что если смотреть из космоса, то наша планета такая симпатичная: вся сине–зеленая, с небольшим добавлением желтого.
ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВДОЙ!
49. Про Дала Мартина, рэп, футбол и прочее телевидение
В конце февраля внезапно наступила весна, снег начал таять, хотелось снять шапку и надеть темные очки.
В начале марта снега уже не было, лишь на обочинах да кое–где на газонах, грязный, слежавшийся, не снег — коровьи лепешки.
А потом в одночасье все переменилось, еще вечером, гуляя с Мартином, я радовался, что асфальт стал сухим, и дома не надо будет мучить собаку душем или — что еще хуже — долгим и нудным протиранием лап и живота мокрой тряпкой, как к полуночи замело, снег валил всю ночь и утром опять настала зима.
Холодная, ветреная, неуютная.
Мне надо было на работу. Троллейбус застрял в пробке — когда после оттепели наступает зима, то всегда возникают пробки. Кто–то с кем–то не может разъехаться, кто–то на кого–то наехал и все: машины встают, равно как автобусы и троллейбусы, можно или торчать в стылом салоне, или идти пешком.
Водитель открыл переднюю дверь, я чертыхнулся и вынырнул в ветер.
Он мел по улице, срывая с афишных тумб, фонарных столбов и остановочных комплексов обрывки глянцевых афиш, напечатанных на желтоватой бумаге рекламных объявлений, каких–то предвыборных листовок, в общем — всей той макулатуры, которая сейчас хлопьями покрывала небо.
Один из слишком уж наглых обрывков больно ударил меня по глазам.
Я схватил его и начал отдирать от лица, как осеннюю паутину. Это был надорванный лист небольшого формата, в самом вверху которого крупными буквами было написано слово
WANTED!
«Разыскивается!».
Как во всех этих идиотских голливудских фильмах.
Кто–то выпендривается, выдрючивается, выеживается. Нет, чтобы написать попростому:
РОЗЫСК!
Ветер подгонял меня в спину, я машинально скомкал листок и сунул его в карман. Перешел улицу и увидел, как к остановке подруливает нужный мне автобус. Нырнул в открывшуюся дверь, плюхнулся на свободное сиденье и полез за деньгами.
Расплатившись, вспомнил про листок и достал его из кармана.
На нем действительно было написано:
WANTED!
А пониже, кеглем помельче, но такими же черными, рублеными буковками было набрано:
Андрей Матвеев, он же Дал Мартин, он же Катя Ткаченко.
Мне стало дурно, заныло сердце. Ехать оставалось две остановки, в автобусе кроме меня, водителя и кондуктора было еще трое пассажиров, но двое приготовились выходить.
Кто–то решил подшутить и прилепил на афишную тумбу эту дурацкую листовку.
Хотя откуда он мог знать, что я буду проходить мимо, что поднимется ветер, сорвет ее и бросит мне прямо в лицо?
Разыскивается Андрей Матвеев, он же Дал Мартин, он же Катя Ткаченко.
С фотографии на меня смотрит мое собственное лицо. Единственное, чем мы различаемся, так это тем, что на портрете у меня есть серьга в левом ухе, а в жизни — нет.
Пока еще нет, хотя кто, кроме домашних, может знать, что я решил сразу после своего пятидесятилетия проколоть мочку и вставить в ухо серьгу? Конечно, не золотую, а серебрянную, но ведь до сих пор неизвестно, сделаю я это, или нет.
Все остальное — действительно мое: лысина, борода, глаза.
Глаза за темными очками, очки — мои.
Те, что я так люблю.
Купили с женой в Испании, в Бланесе, неподалеку от отеля. Простые темные очки в узкой оправе. Было очень сильное солнце и у меня заслезились глаза.
— Ты в них как какой–то рэпер! — с осуждением сказала Наталья.
— Мне они нравятся! — ответил я, и полез за кошельком.
Почему–то увлечение рэпом перечислено среди особых примет.
А вот откуда они могут знать про Дала Мартина? Этим псевдонимом я подписываю тексты для журнала, где работаю и где мне платят зарплату. В честь далматина Мартина — Дал Мартин. По–русски же это звучит смешно: кому и что дал Мартин?
Например: Мартин дал мне лапу, выпрашивая печенье.
Но они знают про Дала Мартина, знают про то, что я люблю рэп, знают, что собираюсь проколоть себе мочку левого уха.
ОНИ МНОГОЕ ЗНАЮТ!
Ехать остается одну остановку, это минуты три. Если не будет пробки. Мне даже хочется, чтобы она была.
Я ведь должен узнать, что они накопали еще!
Например, они знают, что я люблю смотреть «Лигу чемпионов». Особенно, когда играет «Реал» или «Барселона». Я не то, чтобы равнодушен к футболу, я к нему миролюбив. Но когда играют «Реал» или «Барселона», то меня не оттащить от телевизора. Все же остальные матчи для меня — просто способы психологической релаксации. Нравится смотреть, как разноцветные фигурки бегают по зелелому полю, это успокаивает. Быстро засыпаешь или начинаешь заниматься заппингом.
САМОЕ ПРОТИВНОЕ, ЧТО ОНИ ВСЕ ЗНАЮТ ПРО ЗАППИНГ!
Больше двух минут на одном канале я не задерживаюсь.
Как будто кто–то в спину толкает.
Листаю с первого по последний и с последнего по первый. На моем телевизоре сейчас восемнадцать каналов. Два на восемнадцать — тридцать шесть. Это если по две минуты. А бывает, что и по несколько секунд. С первого по восемнадцатый, с восемнадцатого по первый. На MTV рэп, на НТВ ночные новости, на первом кино, на втором — тоже кино.
Если бы сегодня с кем–то играл «Реал», то я бы отложил пульт и начал внимательно пялиться в экран!
Но «Реал» ни с кем не играет, как не играет и «Барселона».
Мне пора выходить.
Все так же холодно и ветряно.
Надо выбросить автобусный билетик в урну, туда же можно бросить скомканный, затем расправленный, потом снова скомканный листок.
WANTED!
Хотел бы я знать — за что.
Только чего гадать, об этом я тоже успел прочитать еще там, в автобусе.
За грехи.
Какие?
Они все про меня знают, так что написали и об этом. Даже не грехи — грех.
А ведь я про него забыл!
Швыряю смятый лист бумаги в урну и иду к перекрестку.
Сколько мне тогда было? Лет десять — одиннадцать. У меня был приятель. Жил в бабушкином дворе. В подъезде наискосок. Как это говорится — из неблагополучной семьи. Хотя это, может, было и не так.
Я не помню, как его звали. Помню лишь кличку — Косой.
Он действительно был косым, крутейшее косоглазие, глаза в разные стороны, один намного больше другого. Будто в череп вмонтировали разного размера осколки стекла.
И я ему сказал, что мы с ним станем летчиками!
Тогда я действительно хотел стать летчиком — придурок!
Больше всего мне нравилось смотреть, как в летнем небе летают самолеты и оставляют за собой длинные узкие следы. Прошивают небо. Разрезают его. Небо голубое, следы — белые.
Очень красиво.
Мы залазили на крышу гаража и смотрели вверх.
Я — своими нормальными глазами. Он — косыми.
И я его убеждал, что он тоже сможет летать.
Мы даже собрались как–то раз в Парк культуры и отдыха, на аттракцион «Мертвая петля». Но без родителей нас не пустили. Как потом оказалось, он весь вечер плакал.
Об этом рассказала моей бабушке его мать.
Она пришла к нам на следующей день, очень расстроенная и суровая.
Смылся из дома, а когда вернулся, то бабушка начала меня отчитывать.
А может, все было не так, и отчитывали они меня обе — на самом деле я плохо все это помню.
Но кто–то мне тогда говорил, что я дурю парню голову, что я даю ему мечту.
А давать мечту, зная, что она не осуществится — это грех.
С его косоглазием его ни в какие летчики не возьмут. Он вообще никому не нужен с его косоглазием! Он инвалид, ты понимаешь?
ИНВАЛИД!
Больше мы с ним не дружили, я выходил во двор — он уходил домой, он выходил — уходил я.
А потом мы с матушкой переехали, вначале в другой район города Сврдл, затем — во Владивосток.
Когда же я вернулся обратно к бабушке, то ни разу его не видел. Вроде бы, они куда–то съехали. Не знаю. Я вообще обо всем этом напрочь забыл, пока ветряным мартовским днем мне глаза не залепил листок с надписью:
WANTED!
Теперь я про это уже никогда не забуду. Даже если после того, как отмечу свое долбанное пятидесятилетие, действительно пойду и проколю себе мочку левого уха. Я уже ни про что и никогда не забуду, ни про полуденные песни тритонов, ни про того мальчика, который до сих пор временами проскальзывает мимо меня в наплывающих сумерках и боится, что я его вдруг окликну.
Он не хочет увидеть того, кем стал.
Наверное, когда он мечтал быть летчиком, то представлял себя в будущем по–другому.
Мы все представляем себя в будущем по–другому.
Главное — знать, что оно будет. Как всегда надо знать то, что прошлое никуда не девается, пусть даже оно и остается лишь ошметками памяти, осколками странно прожитой жизни, размышлять о которой временами необходимо, но чаще всего это никчемное и мазохистское занятие приводит лишь к тому, что у тебя, вслед за Томасом Стерном Элиотом, возникает желание сказать
«обломками этими я подпер свои руины»,
и отправиться дальше, в мир, пока еще не подвластный любым меморуингам.
50. Про будущее
Я ДО СИХ ПОР ДУМАЮ, ЧТО ОНО ЕСТЬ!
Примечания
1
Роберт Шекли скончался 9‑го декабря 2005 года в больнице города Поукипси, штат Нью — Йорк. Последнее письмо от него я получил 16‑го июля 2005‑го, как раз в день его рождения.
(обратно)2
Джеймс Джойс, «Улисс», эпизод 18, «Цирцея» Перевод В. Хинкиса и С. Хоружего.
(обратно)3
Эмоциональное ощущение в день, когда писался меморуинг. Каждое новое посещение книжного магазины вызывает новые эмоциональные ощущения.
(обратно)4
Когда Денис прочитал, то сказал, что на самом деле это подметил вовсе не он, а Илья Кормильцев, когда был у нас в гостях.
(обратно)5
Это был фильм пакистанского производства «Мазандаранский тигр», бред полный. Предыдущий фильм, который они смотрели вместе с этой девицей, назывался «Пусть говорят», она тащилась от Рафаэля, даже не зная, что тот — гей, для нее он был просто ну очень красивый мальчик: —))
(обратно)6
Перевод В. Спасской.
(обратно)7
Самое начало рассказа Х. Кортасара «Другое небо» в переводе Н. Трауберг.
(обратно)8
«Театральный роман» Михаила Булгакова.
(обратно)9
В романе «Что–то случилось».
(обратно)10
Так после воссоединения стали называть уроженцев Западной («весси») и Восточной («осси») Германии.
(обратно)11
Перевод Г. Шмакова под редакцией И. Бродского.
(обратно)12
Опять перевод Г. Шмакова под редакцией И. Бродского.
(обратно)13
Это первая строчка одного из последних стихотворений давно забытого поэта Сергея Дрофенко.
(обратно)14
Шверник Николай Михайлович (1888, Петербург — 1970, Москва), политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1958). Из семьи рабочего. Окончил городское училище. С 1905 член РСДРП(б). В 1905— 17 на партийной работе в Петербурге, Николаеве, Туле, Самаре. В 1918–23 на военно–политической и профсоюзной работе. Член Президиума ВЦИК, ЦИК СССР. Член ЦКК РКП(б) с 1923. В 1923–25 член Президиума ЦКК ВКП(б) и нарком Рабоче–крестьянской инспекции РСФСР. В 1925–28 секретарь Ленинградского и Уральского обкомов партии. С 1925 член ЦК ВКП(б), в 1926–27 и 1930–46 член Оргбюро ЦК. С 1929 в Москве… Урна с прахом в Кремлёвской стене.
(–bin/art.pl? art=mos/mos/19000/53537.htm&encpage=mos)
(обратно)15
Цитата из романа «Ремонт человеков» приводится, естественно, в сокращении.
(обратно)16
Перевод В Хинкиса и С. Хоружего.
(обратно)17
Перевод В. Стенича, в цитате могут быть неточности.
(обратно)18
Крэк — чистый кристаллический кокаин.
(обратно)19
Мать познакомила меня с Мишей Шаевичем то ли в последние дни июля, то ли в самом начале августа 1966 года, Мао переплыл Яянзцы в возрасте семидесяти лет 25 июля того же, 1966 года. Так же в этот день Брайан Джонс в последний раз выступил с Rolling Stones, а Эрик Клэптон сыграл на гитаре песню Джорджа Харрисона «While My Guitar Gently Weeps», хотя этому я почему–то не верю: скорее всего, сие произошло двумя годами позже. А может — и нет.
(обратно)20
Сергей был насмерть сбит машиной 23 сентября 1978 года.
(обратно)21
Цитируется по изданию 1979 года, перевод Ю. Ванникова.
(обратно)22
«Гон спозаранку» и «Богова делянка». Вообще–то известным для всех нас это имя стало после выхода «Колыбели для кошки» Воннегута и двухтомника Акутагавы в его же оформлении.
(обратно)23
Из письма Бурштейна после прочтения этого меморуинга: «…с фотокопиями все было не так, а еще более по кафкиански. Это случилось осенью, жгли листву на улицах, в парках и аллеях. И я ходил по городу и искал такой костер. И нашел — там, где ул. Малышева у стадиона поворачивает налево и уводит к церкви. Там было что–то вроде небольшого парка, аллеи тянулись вдоль забора, за которым были мебельная фабрика и тюрьма. И в аллеях горели кучи листвы. И я начал жечь там это фотопленки. А они никак не загорались, т. к. в то время уже делали фотопленку на несгораемой основе.
И я выгреб их из костра. Не помню, что я с ними в конечном счете сделал, то ли закопал, то ли выбросил — обугленные — в мусорный бак. Но помню чувство страха, испытанное в тот день. Спасибо, что напомнил мне эту историю.»
(обратно)24
Журнал «Урал», 1988, № 3–6. Смешно, но я до сих пор горжусь этим. Впрочем, как и тем, что в 1991 году с моей легкой руки был издан (в неудобоваримом оформлении и с кучей опечаток, зато безумным, 100-тысячным тиражом) роман Набокова «Бледное пламя» в переводе Сережи Ильина, «Я тень, я свиристель, убитый влет/Подложной синью, взятой в переплет…»
(обратно)25
Соответственно, часть июля 1970‑го, конец июня — начало июля 1972‑го и первая половина июля 1975‑го годов.
(обратно)26
5‑го августа 2003 года.
(обратно)27
«Шифр: F42. Основной признак — обсессивные мысли и/или компульсивные действия: повторяющиеся, представленные в большинстве дней как минимум в течение 2 недель, вызывающие дистресс или мешающие социальной или индивидуальной деятельности больного, обычно за счет пустой траты времени. Обсессии (мысли, идеи или образы) и компульсии (действия, ритуалы (стереотипные поступки)) включают следующие признаки, все из которых должны присутствовать: они воспринимаются больным, как возникшее в его собственном разуме и не навязаны окружающими влияниями или лицами (даже если возникают непроизвольно и невыносимы). Они повторяются и неприятны (тягостны); как минимум, одна обсессия или компульсия должна пониматься больным как чрезмерная или бессмысленная (могут быть также агрессивными или непристойными). Субъект пытается (безуспешно) противостоять им, но если они долго существуют, то сопротивление некоторым обсессиям или компульсиям может быть незначительным. Как минимум должна быть одна обсессия или компульсия, сопротивление которой оказалось безуспешным.» Ну и так далее.
(? s=1&w=3&a=8&sid=1cb70e5c03250d824c81425c68b291bc)
(обратно)28
Мои самые любимые герои — Лапидус из «Indileto» и Максим из «Летучего голландца» — вообще аутсайдеры из аутсайдеров. Но отчасти это относится ко всем моим героям и героиням, включая даже Симбу из «Любви для начинающих пользователей».
(обратно)29
Все еще так и не собрался посмотреть мексиканский фильм «Сука–любовь» Алехандро Гонсалеса Иньяриту.
(обратно)30
Не могу же я, в самом деле, вынести в заглавие словосочетание «Про пизды и про «пиздоножек», так что пришлось набрать русскими буквами, не переключая клавиатуры с латиницы.
(обратно)31
На всякий случай сообщаю, что Петер Хандке — известный австрийский писатель, предпочитающий жить в Париже. Хотя где он обитает сейчас — мне неведомо.
(обратно)32
«…Есть пизды смеющиеся, а есть говорящие, есть чокнутые, истеричные пизды, имеющие форму окарин, а есть сейсмографические пизды, регистрирующие подъем и падение духа; есть людоедские пизды, раскрывающиеся широко, как пасть кита и заглатывающие вас целиком; есть еще мазохистские пизды, крепко захлопнувшиеся, как створки устрицы, снаружи у них твердая ракушка, а внутри, возможно, найдется жемчужина–другая; есть несдержанные пизды, которые пускаются в пляс при одном приближении пениса и в экстазе проливают потоки влаги; есть пизды–дикобразы. Эти распускают свои иглы и размахивают маленькими флажками в Рождество; есть телеграфические пизды, которые пользуются азбукой Морзе, и после них мозги забиты точками и тире…» Генри Миллер, «Тропик Козерога», перевод Г. Егорова. Там еще больше страницы в том же духе.
(обратно)33
Ассоциирующимся, скорее всего, не с «Тропиком Рака», а с «Сексусом».
(обратно)34
Этот меморуинг нуждается в общем комментарии. Так получилось, что уже довольно давно на время написания нового текста я собираю небольшую «фокус–группу» (беру специально в кавычки), то есть просто начинаю рассылать очередные главы разным людям, мужчинам и женщинам, совсем юным и старше меня, образованным и еще получающим образование. Мне просто интересна реакция. Так вот: никогда еще ни один мой текст не вызывал столь разных оценок, от пожелания/требования немедленно убрать — мол, кощунственно, да потом, ни один издатель эту часть меморуингов не допустит к публикации, — до просто заклинания оставить все как есть и не трогать ни строчки. Я решил оставить, пусть и убрав один абзац. А еще решил добавить историю, поведанную мне в телефонном разговоре одной дамой, между прочим, доктором наук, которая, приняв все в целом, сказала, что я все равно не сообщил о женщинах главного — все они действительно ищут большой любви. И поведала байку про одну свою знакомую, которая, проведя ночь с незнакомым мужчиной, так загорелась, что ПОЛТОРА года каждый день оставляла в дверях записку с указанием часа, когда вернется. Перестала же делать это лишь тогда, когда из квартиры воры вынесли практически все, а он так и не пришел.
(обратно)35
Например, старый фильм «Бал» Сколы.
(обратно)36
«Поистине «царь–ракушкой» среди всех современных двустворчатых моллюсков по своим размерам и мощности раковины является гигантская тридакна (Tridacna gigas), достигающая иногда 1,4 м длины и общего веса 200 кг, причем вес только ее тела достигает 30 кг. Однако обычные размеры тридакн меньше — около 1 м, чаще 30–50 см.
…Человек, неосторожно бродящий по рифу, может не только тяжело пораниться об ее острые края, но и накрепко защемить ногу, попавшую между створками. Однако морские охотники–полинезийцы успевают просунуть внутрь крупной раковины руку с ножом и перерезать ее могучий мускул, прежде чем тридакна захлопнет створки.»
()
(обратно)37
Самая лучшая книга, написанная об алкоголе и алкоголике. Малкольм Лаури, «У подножия вулкана». Я даже цитату из нее подобрал большую и подобающую, вот она: «И вдруг он увидел их, все эти бутылки, в них водка, анисовка, херес, «Королева Шотландии», и стаканы, вавилонское столпотворение — они устремились вверх, как в тот день устремлялся дым паровоза, воздвигались до небес, а потом рухнули, стаканы падали, подпрыгивая и разбиваясь, с высоты садов Хенералифа, бутылки разлетались вдребезги, опорто, красное, белое, перно, кислое столовое, абсент, бутылки раскалывались, прыгали в разные стороны, бутылки со стуком сыпались на аллеи парков, закатывались под скамьи, под кровати, под кресла в кинематографе, прятались по шкафам в консульстве, бутылки кальвадоса ускользали из рук, трескались, брызгали осколками, громоздились в кучи на свалках, низвергались в моря, в Средиземное, в Карибское, в Каспийское, бутылки плыли по океану, по валам Атлантики. Усеивая крутые вершины, словно трупы шотландских горцев — и теперь он видел, обонял их от первой до последней, — бутылки, бутылки, бутылки, стаканы, стаканы, стаканы, а в них пиво, «Дюбонне», «Фальстаф», водка, «Джонни Уокер», виски многолетней выдержки, канадское белое, аперитивы, настойки, крепкие, полукрепкие, французские, немецкие, скандинавские напитки, бутылки, бутылки, дивные бутылки с текилой и баклаги, баклаги, целые миллионы, полные дивного мескаля.»
Перевод В. Хинкиса.
(обратно)38
При всей моей ненависти к коммунистам и определенном уважении к упомянутой даме.
(обратно)39
Город Бодрум, бывший Галикарнас, находится, соответственно, на Бодрумском же полуострове, что на эгейском побережье Турции. А раньше все это было Грецией. Когда–то очень давно.
(обратно)40
Я очень веселился, когда он уезжал. Внезапно оказалось, что у моего крестного обе бабушки, и по отцу, и по матери — еврейки, а значит и сам он стопроцентный еврей. По фамилии Баранов.
(обратно)41
Имя его e-mail’a, заодно и странный англоязычный каламбур. Hugе — большой, Eugene — Юджин, то бишь, Женя. А hugo — он, как известно, Босс. В общем, Женя Большой.
(обратно)42
«Дым» и «С унынием на лице».
(обратно)43
«Героический эпос народов Ближнего Востока и Ср. Азии. В основе сюжета — подвиги богатыря, борца за народное счастье и справедливость Кер–оглы (Сын слепого — по западным версиям) или Героглы (Сын могилы — по среднеазиатским версиям). Сложился ок. 17 в.» ()
(обратно)44
На самом деле Жан Маре не играл в той версии «Трех мушкетеров», это, что называется, уже полная амнезия. Наверное, памяти просто захотелось, чтобы он был в ней д’Артаньяном так же, как был им потом, в «Железной Маске», как был графом Монте — Кристо, героем «Парижских тайн» и т. д. Об этом мне написал, прочтя главку, один из друзей. В начале я не поверил и полез в интернет. Все правильно, можете сами посмотреть в фильмографии Ж. Маре по ссылке: /#actor1960. Изменять же что–то в тексте я не стал.
(обратно)45
Остальные два — уже во Владивостоке.
(обратно)46
«Дети райка». Драма. Франция.1945; 3,15; Режиссер: Марсель Карне. В ролях: Арлетти, Жан — Луи Барро. «Тот, кто смог устоять перед его ярким очерованием, не заслуживает того, чтобы увидеть Париж», — написал критик Эндрю Саррис о «Детях райка». Этот фильм называли ответом Франции на «Унесенные ветром», величайшим французским фильмом во все времена и… затянутой скучищей… Фильм, действие которого происходит в Париже 20–30‑х годов прошлого века — обширный рассказ о безответной любви, тайных романах, ревности и страсти в мире театра, преступности и аристократии. «Дети райка» — это бедняки, занимающие галерку театров в «Бульвар Дю Темпль». Они становятся свидетелями истории любви театрального мима Баптиста (Барро) и его обожаемой Гаранс (Арлетти). По ходу действия мы видим великолепные театральные номера, дуэли, любовь под проливным дождем и непонимание с трагическими последствиями. Фильм снят режиссером Карне в намеренно театральной манере с большой любовью — поражает внимание к деталям, острота глаза. Даже если Барро сыграл бы только эту роль, его можно было бы назвать одним из величайших актеров столетия.» (? idFilm=17306)
(обратно)47
До сих пор никак не могу привыкнуть к тому, что «Гадких лебедей» называют повестью. Это один из самых любимых мною когда–либо читанных романов: —)).
(обратно)48
Я убежден в том, что Кинг — один из самых потрясающих современных писателей. Не во всех романах, конечно, для этого их у него слишком много. Но лучшим хочется временами подражать так же, как Виктору Баневу хотелось написать что–нибудь в духе Оруэлла. Вот закончу меморуинги и примусь за что–нибудь в духе Стивена Кинга, типа его «Мизери».
(обратно)49
Тучи у нас почти круглый год, за редким исключением небо всегда затянуто.
(обратно)50
Об этом периоде жизни братьев Стругацких лучше всего прочитать в книге Бориса Стругацкого «Комментарии к пройденному», СПб., Амфора, 2003.
(обратно)51
Мне тогда было всего 27.
(обратно)52
(обратно)53
«Большой брат и Компания держателей акций», можно — «акционерная компания».
(обратно)54
С кем–то это знакомство упрочились и продолжается даже сейчас, к примеру — БГ. Майка и Цоя давно нет, хотя с последним мое общение свелось к одному — пьяный в дымину я носился по коридором рок–клуба за Цоем с воплями: — Витя, выпьем! — Мне до сих пор за это стыдно.
(обратно)55
Естественно, на момент написания этих меморуингов.
(обратно)56
Про БГ очень много в уже упомянутых мною «Апокрифах молчаливых дней».
(обратно)57
Нет никакого смысла писать о последних годах жизни С. К. Во–первых, в то время мы уже не общались, и сам я ничего ТОЧНО не знаю. Во–вторых, я всегда исповедывал и исповедываю принцип «Не судите — да не судимы будете…»
(обратно)58
Уже годы спустя какие–то уроды кинули ей булку, напичканную битым стеклом. Она съела ее и через несколько дней умерла. Такие вот мы добрые!
(обратно)59
См. меморуинг «Про СэСэСэРэ».
(обратно)60
Впрочем, можно и в любые другие «исты» и «иты»: ламаисты, индуисты, просто буддисты, синтоисты, кришнаиты, etc…
(обратно)61
Вообще–то кресло предназначалось для авторов, но в те дни, когда у меня был синдром профессора Корсакова, авторы мне были по барабану.
(обратно)62
(–on/xussr_mr/parnoe11.htm)
(обратно)63
Знаменитый американский альт–саксофонист, автор записей музыки с голосами китов и волков, изобретатель термина «нью–эйдж».
(обратно)64
На самом деле, дед умер в 1954-ом, об этом мне рассказал отец, с которым мы увиделись на поминках по моему младшему сводному брату Косте, в декабре 2005‑го. Каким–то образом родственники мои обнаружили в Интернете эту главу, отец прочитал ее и уточнил фактографию, которую я, естественно, полностью перепутал. Но если бы она была правильной, то это были бы не меморуинги.
(обратно)65
№№ 10–12.
(обратно)66
Точно могу сказать одно: я его безмерно уважаю. Хотя бы за один тот факт, что будучи многие годы заведующим кафедрой общего языкознания Уральского Государственного университета он не был членом партии.
(обратно)67
Свое половинчатое дворянство отец скрывал многие годы, а дворянская грамота была уничтожена Ксенией Михайловной еще в тридцатых. Объяснять почему не стоит, и так ясно. А вообще–то после октябрьского переворота, насколько мне известно, ВСЕ остальные Левшины, кроме К. М., эмигрировали.
(обратно)68
Я пишу этот меморуинг 12‑го февраля 2004 года, пятьдесят мне исполняется 12‑го июля. Ровно через пять месяцев.
(обратно)69
Тупо я сказал это потому, что терпеть не могу несколько раз в неделю говорить об одном и том же. Речь же о желании продать сотовый заходила постоянно, т. к. этот надоел, папа все равно купит новый, а деньги можно потратить на… Каждую неделю на что–нибудь другое.
(обратно)70
Позже я прочитал. И много. В чем–то он мне абсолютно чужд, но я до сих пор искренне уверен, что В. П. Астафьев был чуть ли не последним настоящим БОЛЬШИМ русским писателем. В нем была человеческая правда, а это не игры стиля и ума.
(обратно)71
Именно уральским, то есть изначально ориентированным на такой малый спрос, что мог, да и был востребован лишь местными критиками и литературоведами.
(обратно)72
Лишь в «Летучем Голландце» все так, как и должно быть. Разве что называться он должен по–другому: «Сперма Палтуса»: —)).
(обратно)73
Про Катю Ткаченко — в следующем меморуинге.
(обратно)74
Готовя роман для книжной публикации, я изменил название, и как оказалось, погорячился, хотя звучит «Зона неудач» хорошо, особенно на английском, «Failure Zone», вот только книги обладают свойствами управлять действительностью, особенно, книги с таким названием. Впрочем, это совсем другая история.
(обратно)75
Он вышел в издательстве «Ультра. Культура» 29‑го ноября 2004 года. Почти ровно через месяц случилось цунами в Юго — Восточной Азии. Я бы не писал об этом сейчас, если бы роман не заканчивался именно этим самым цунами и именно в том же самом месте. Как написано в одной из рецензий: «Поражает в книге пророческий финал. На берегу острова близ Таиланда сидят пара русских, голландец и негр и смотрят на приближающуюся волну цунами.» Добавить остается лишь одно — роман был закончен еще в мае 2003 года.
(обратно)76
«Live rock’n’roll. Апокрифы молчаливых дней» действительно вышли летом 2001.
(обратно)77
Издательство НЛО, М., 2002, библиотека журнала «Неприкосновенный запас».
(обратно)78
Страницы 134–135, перевод С. Силаковой.
(обратно)79
Точнее, с июня 2003 года и по сегодняшний день оно выпустило лишь одну. С такими объемами это уже просто не издательство.
(обратно)80
На данный момент — с осени 1992 года, до этого по пять, шесть, семь раз за год. А потом вдруг как отрезало!
(обратно)81
Она смешно называлась — «Тихоокеанская звезда». До Тихого океана от Хабаровска еще ночь езды на поезде: —)).
(обратно)82
В первом томе четырехтомного академического «Словаря русского языка» это слово расшифровывается как «прибор для измерения скорости движения воздуха». Гораздо симпатичнее получается дословный перевод с греческого, означающий «ветромер» или — «измеритель ветра».
(обратно)83
От латинского signum — знак.
(обратно)84
«Край дикой виноградной лозы» — так называли восточное побережье Американского континента высадившиеся там (около 1000 года) под предводительством Лайфа Эриксона викинги. Именно заросли дикой виноградной лозы прежде всего бросились им в глаза.
(обратно)85
И не могло быть, потому что про охоту на аллигаторов в канализации Томас Пинчон написал в своем романе «V».
(обратно)86
Я написал Бурштейну в Израиль, и он ответил, что персоналка была «отечественная, типа ХТ, но не ХТ, без жесткого диска, с двумя флоппиками и зеленым экраном».
(обратно)87
Не обязательно, что все это происходило в один и тот же день.
(обратно)88
В романе «Туманность Андромеды».
(обратно)89
Все это происходило тогда, когда мы с матушкой жили от бабушки с дедом через два двора, одну помойку и одну арку.
(обратно)90
Плечи, руки, живот, ноги…
(обратно)91
Ее автором был замечательный английский писатель Уильям Голдинг.
(обратно)92
Перевод Е. Суриц. Цитируется по изданию: Уильям Голдинг. «Шпиль» и другие повести. М., Прогресс, 1981.
(обратно)93
— данный элемент принадлежит множеству, — логический знак конъюнкции, то же самое, что означает союз «и», — логический знак импликации, то же самое, что «следовательно», — данное множество лежит в другом множестве.
(обратно)94
Robert Sheckley: «In A Land Of Clear Colors». Mensajero D-2007, Mensajero GM‑2001.A boxed set containing a book and an LP issued by the Galleria El Mensajero, Ibiza, Spain, in an edition limited to 1000 copies. The book is a science fiction story written by Robert Sheckleyand an essential part of it is narrated on the LP — supplemented with back–ground music by Brian Eno. Narration: Peter Sinfield. Music: Brian Eno. Narration engineered & Final mixdown and final mixdown production by Poli Palmer.
(обратно)95
Амилнитрат — это твердое вещество, в маленьких стеклянных капсулах, эффективное лишь в ингаляциях. В медицине используется при сердечных приступах. Пациент должен разбить ампулу и немедленно вдохнуть содержимое. Он должен уложиться в секунду, но эффект длится 2–3 минуты. Это очень сильный наркотик, он имеет свойство продлевать оргазм. Во многих штатах он продается без рецепта. Передозировка может вызвать головную боль, тошноту, но отравления очень редки.
(–book.narod.ru/other/)
(обратно)96
По тексту, присланному мне Робертом Шекли 7‑го октября 2003 года.
(обратно)97
Есть Camel без фильтра, голову прочищает только так. Или наоборот — засаживает:)).
(обратно)98
Перевод А. Иорданского.
(обратно)99
Митилини — главный город острова Лесбос. Героиня романа, что совершенно естественно, была бы лесбиянкой. Иногда мне все–таки жаль, что я его не написал: —)).
(обратно)100
Перевод с сербского Л. Савельевой.
(обратно)101
Со времен этого поминальника прошло почти два года. Я прочитал еще очень много книг. И не могу сказать, что узнал нечто кардинально новое.
(обратно)





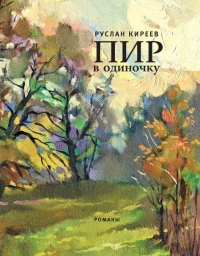




Комментарии к книге «Полуденные песни тритонов[книга меморуингов]», Андрей Александрович Матвеев
Всего 0 комментариев