Андрей Матвеев Случайные имена Роман
«…Что есть Бог и что есть Дьявол?»
Фридрих Штаудоферийский,
«Амфатрида»
Часть первая Другая кровь (Сюзанна)
1
Все началось двадцатого июля, где–то в одиннадцать часов утра. Именно в это время раздался телефонный звонок, и мой мюнхенский издатель, господин Клаус В., с печалью в голосе поведал, что — как стало ему известно из абсолютно достоверных источников — премия Хугера, на которую мой последний роман «Градус желания» был выдвинут именно издательством господина Клауса В., досталась не мне, а некоему мулату с островов Теркс и Кайкос.
После этого замечательного сообщения господин Клаус В. положенным образом поутешал меня несколько дорого стоящих ему минут и положил трубку, пообещав напоследок, что сие печальное событие никоим образом не отыграется на наших с ним (точнее, на моих и его фирмы) взаимоотношениях. «Что ж, не отыграется — так не отыграется», — подумал я, тупо смотря на смолкший телефонный аппарат, при этом отчего–то вспоминая первую фразу так и не получившего премию Хугера романа. Она гласила, что «В июле, когда наступает жара, время останавливается и повышается градус желания». Мне она нравилась, как, собственно, нравился и сам роман, как нравилось его первое издание, предпринятое господином Клаусом В. (точнее же будет герром Клаусом), правда, не на русском (что совсем не странно, ведь в бедной России найти сейчас издателя для приличной книги нелегко), а на немецком, которого я не знаю, но это никакой роли не играет.
Собственно, мой расчет на премию Хугера и сводился не столько к пятидесяти тысячам марок (интересно, сколько это будет в фунтах и долларах, надо бы посмотреть по сегодняшнему курсу), сколько к тому, что — в случае, если Хугер все же достанется мне, — найдется и в России издатель на мой несчастный «Градус». Увы, сейчас с уверенностью можно сказать, что не найдется, а это значит многое, хотя бы то, что через пару месяцев мне не на что будет покупать сигареты и делать Сюзанне подарки, впрочем, о Сюзанне речь еще впереди.
Но тут надо сразу же приоткрыть в колоде одну малозначащую карту: то, о чем шла речь в первых абзацах повествования, случилось не сегодня, да и не вчера. Больше года прошло с того дня, когда в одиннадцать часов утра мне позвонил милейший Клаус, и день тот стал основой для всего, что случилось, хотя собственно категория случая не относится к тому интеллектуальному ряду загадок, забав и шарад, над которыми я привык ломать голову, ведь случай — это не больше чем чья–то шутка, хотя временами шутка эта все ставит с ног на голову, и тогда не знаешь, куда бежать. Но я отвлекся, карту пора вновь убрать в колоду, хотя есть ли смысл в том, чтобы я снова — будто и не было моего признания, будто время на самом деле дискретно — вновь вернулся в тот самый день?
Все еще одиннадцать часов утра. Так возвращаться или не возвращаться? Может, просто признать, что день тот был переломным в моей жизни? Подумаем вслух. Любой рассказ, вокруг которого ты наворачиваешь целую кучу недоговоренностей и оговорок, подразумевает, что за ним стоит некая тайна. Но тайна — всегда молчание, а молчать я не могу, молчание есть не что иное, как невозможность пуститься в новую эскападу, попытка уложить себя заживо в гроб, лишить услады еще большей, чем любое плотское наслаждение. Так, наверное, чувствует себя профессиональный ловец бабочек или охотник за акулами, которого тяжелая болезнь приковывает к койке и он больше не может физически ощутить это томление в ногах и сердце, почувствовать, как в преддверии опасности в крови начинает вырабатываться адреналин, сердце учащенно стучит и сладкие спазмы охватывают тело. Для меня такая койка — молчание, а значит, сачок и морилка, снасти для ловли акул, пара ружей и здоровущий охотничий нож, альпеншток, ботинки с шипами, страховочная веревка и многое другое уже приготовлено и свалено кучей в углу комнаты, остается сложить все в рюкзак (или вещевой мешок, кому что больше нравится) да невзначай упомянуть, что молчание молчанию рознь — бывает так, что нарушить его равнозначно самоубийству, ибо бывают тайны, принадлежащие не только тебе. Есть силы более могущественные, силы, с которыми я в буквальном смысле связан кровавой клятвой — ведь стоит повнимательнее присмотреться к запястью моей левой руки, еще и сейчас, столько месяцев спустя, можно различить оставшийся на нем белый шрам (разрез был сделан обоюдоострым кинжалом с тяжелой, украшенной переливающимися драгоценными камнями рукоятью; глубоким получился разрез, и тоненькой непрерывной струйкой бежала из него алая кровь — моя кровь, надо отметить). Кровь сцедили в небольшой хрустальный бокальчик, в который — в свою очередь — брызнула еще одна струйка крови, только не алой, а темной, почти черной, да еще с зеленоватым отливом. Густая, как патока, струйка, перемешавшаяся с моей. И я взял бокальчик и приложил к губам, я хлебнул из него, но это уже не метафора, это случилось на самом деле, и…
Но это все о молчании. Сейчас же меня начинает интересовать иное — стоит ли раскрывать собственное инкогнито, то есть внятно и просто объяснить, от чьего лица ведется это безумное повествование, хотя сохранить инкогнито намного труднее, чем кажется, ведь мною уже приоткрыта еще одна карта: «Градус желания». Стоит любому затребовать немецкое издание этой книги, и предполагаемое инкогнито развалится само собой, и я из просто «я» стану наделенной именем и фамилией личностью, но не это смущает меня, а то, как лучше вести повествование. В том же «Градусе», к примеру, был герой, мною вымышленный, но сейчас–то я рассказываю о том, что произошло конкретно со мной, это мое левое запястье украшено небольшим белым шрамом, это я пил из хрустального бокальчика свою кровь — алую, что отметим особо! — смешанную с темной, почти черной, со странным зеленоватым отливом. Густой, как патока, была эта чужая кровь, а вот о вкусе ее я еще ничего не сказал: странный у нее, надо заметить, был вкус. Не солоноватый и не сладковатый, не солоновато–сладковатый, если уж на то пошло, а с явным привкусом сероводорода, то есть чего–то гнилостного, затхлого, болотного. Но пил я не морщась, пил с видимым удовольствием, и пил–то именно я, не какой–то выдуманный И. Мя. Рек., так что не станем раскрывать инкогнито, а тот, кому уж совсем невтерпеж, пусть найдет мюнхенское издание «Градуса желания», узнает фамилию автора, пойдет в библиотеку и посмотрит библиографию, из которой узнает, что тот же автор написал еще несколько книг, в том числе «У бездомных нет дома» и «Император и его мандарин», хотя романы эти выпущены такими незначительными тиражами, что отыскать их сейчас нет никакой возможности, если, конечно, не попросить экземплярчик у меня.
Но все это несущественно, не больше, чем преамбула, разминка мускулов, разборка снаряжения и укладка рюкзака, хотя на самом деле рюкзак давно уже собран, карта аккуратно свернута и уложена в нагрудный кармашек рубашки из плотного хлопка, что делать дальше?
Надо просто встать, выйти на улицу и закрыть за собой дверь. Что я и делаю.
Делаю чисто фигурально. Метафора сознания, не больше. На самом деле ничего не происходит, я кладу трубку на аппарат и долго смотрю на смолкшее чудовище, хотя понимаю, что это ничего не изменит, и дело совсем не в том, что уже неоднократно упоминаемую премию Хугера присудили не мне, а какому–то неведомому мулату с островов Теркс и Кайкос (кстати, на каком языке они говорят и пишут, если у них там, конечно, есть письменность? И это не праздный вопрос, мулат может быть очень образованным и писать, к примеру, на английском. Или на немецком. Или на французском. Но ведь нет же терксианского и кайкосианского языков). Дело в другом: жизнь каждого представляет из себя подобие лабиринта, в котором есть глухие камеры–тупички, куда забрести довольно легко, а вот выйти… И так случилось, что лабиринт моей жизни, тот лабиринт, по которому я странствую почти сорок лет, к этому самому дню двадцатого июля, к этому самому часу (что–то в районе одиннадцати утра) и завел меня в такую вот камеру–ловушку.
Замечу, что случилось это не впервой, но те, предыдущие, были более светлыми и просторными, да и выбраться из них оказалось довольно просто. Эта же камера оказалась творением почти совершенным, как я ни пытался, так и не мог понять, где выход, и я не грешу ложной многозначительностью, просто жизненные обстоятельства к тому утру сложились именно так, что разрешиться они могли либо в одну, либо в другую сторону. Получение премии Хугера означало не только конец финансовой неразберихи, порождавшей, естественно, и бытовую неустроенность, но могло сказаться и на тех планах, что роились в моей голове, неполучение же… Скажем проще: я поставил на премию Хугера, как безумный игрок на ночном пароходе ставит на кон свою жизнь в русскую рулетку. Медленно катятся океанские волны, палуба пуста, лишь двое, чьих лиц не различить из–за наступившей ночи, не спят, крутя барабан одного и того же револьвера. Щелчок курка, выстрела нет. Ваша очередь, милейший. Упомянутый милейший берет револьвер, крутит барабан, вновь раздается щелчок курка, переходящий в грохот выстрела, мозги разлетаются по палубе, и больше нет ничего. Он проиграл, как проиграл я. Смысл, целесообразность — всего лишь слова, а ведь слова не больше чем подобия реально существующих, но невидимых путей нашей собственной жизни, путей, которые можно сравнить с тенями, отражениями, мрачной игрой ночных палубных огней все на том же, случайно возникшем из небытия пароходе. Я проиграл, и ставкой в этом проигрыше было нечто большее, чем вся предшествующая жизнь, ставкой была моя душа, я не задаюсь тут вопросом, смертна она или нет, это то, на что каждый из нас в свое время найдет правильный ответ, я имею в виду совершенно конкретный момент отношения тела и души еще при физической, биологической жизни: их соподчиненность.
Просто в ту ночь, когда я узнал, что выдвинут на премию Хугера, Сюзанна спросила меня:
— А что ты будешь делать, если ее не получишь?
— Удавлюсь! — рассмеялся я.
— А если серьезно?
— Ну, — задумался я, — об этом пока трудно что–то сказать…
— А ты попробуй!
— Продам душу дьяволу, — ответил я, и Сюзанна сказала, что ловит меня на слове.
Теперь–то вы понимаете, что испытывал я в то утро, когда узнал, что некий мулат с островов Теркс и Кайкос получил премию Хугера, а стало быть, мне всерьез придется выполнять условия пари, ибо Сюзанна не из тех женщин, что забывают о подобных вещах (пари было заключено сразу же, как у меня с языка сорвались опрометчивые слова), а чтобы понять, почему она не из тех женщин, мне надо рассказать, кто такая Сюзанна, чем я сейчас и займусь, приоткрыв еще одну карту из колоды и сообщив, что Сюзанна вот уже почти десять лет как моя жена, что же касается всего остального…
2
На самом деле ее зовут совсем по–другому, но это не играет никакой роли, ибо если уж втемяшилось в голову, что она Сюзанна, то прежнего имени не то что произносить, но и вспоминать не рекомендуется. Да я его уж и не помню, лишь где–то в одном из закоулочков мозга, ведающих той сладкой амброзией, что называют памятью, таятся несколько запавших (или выпавших) букв, среди которых есть и мягко шепчущая «с», и горделиво–упругая «н», но «тс-с», говорю я сам себе, оставим закоулочек в покое, нечего соваться туда, куда не просят, и пусть Сюзанна до конца дней своих так и остается Сюзанной, чем–то непривычно–зкзотическим для лишенного подобной роскоши отечественного слуха. Фамилия у нее, естественно, моя, а вот отчество самое простое: Сергеевна. Так что она Сюзанна Сергеевна, дальше идет прочерк, и можно переходить к следующему абзацу, начать который я позволю себе…
А собственно, с чего? С описания Сюзанниной внешности? С психологических характеристик? С того, как мы познакомились? Или вообще с того, что уже вот почти десять лет, как мы женаты? Что есть главное, а что второстепенное, что можно опустить, а что — оставить? Ну, опустить, скорее всего, ничего нельзя, так что начну я с того, что прежде всего приходит в голову, вползает в нее скользким угрем, длинным, гибким змеиным телом, оплетает мозг виноградной лозой, начну–ка я с того, дорогая, как ты вошла в мою жизнь, а потом уже все остальное, хотя почему потом, скорее всего, рассказ пойдет одновременно, надо лишь набраться терпения, перевести дыхание, прислушаться (и внимательно) к тому, что происходит в сердце, хотя наличие этого органа в моей груди сама Сюзанна ставит под сомнение, но я‑то знаю, что он есть, недаром постоянно таскаю в кармане валидол, а в кухонном шкафчике стоит пузырек с валокордином, и бывает, что, проснувшись под утро, когда еще не рассеялись сумерки, часов, скажем, в шесть (особенно это касается осени, то есть осенних утренних сумерек, чернильно–синих, промораживающих ранние октябрьские лужи тонюсенькой корочкой льда), я чувствую упомянутый орган, да так, что вылажу из кровати, ненароком коснувшись безмятежно–раскинувшегося наискосок неправдоподобной геометрической загогулиной (распаренной, горячей, умиротворенно посапывающей загогулиной) все еще манящего меня тела, и иду на кухню, лезу в шкафчик, достаю пузырек, капаю в стакан положенные двадцать пять капель, разбавляю водой и опрокидываю в рот, ожидая того момента, когда боль отпустит и можно будет снова рухнуть под бок к Сюзанне. Так вот, если повнимательнее прислушаться к тому, что происходит сейчас в сердце, понимаешь, что рассказ уже в самом разгаре, остается лишь наполнить его дыхание и интонацию определенным содержанием, описав для этого хотя бы то, как произошло наше с Сюзанной знакомство.
Если сейчас мне почти сорок, то тогда — соответственно — было почти тридцать. К тому времени я уже успел жениться и развестись, но эта линия судьбы не интересует меня в истории событий последнего года, просто констатируем факты: да, был женат, да, успел развестись — и не все ли равно, чем я занимался тогда? Гораздо больше меня интересует Сюзанна, точнее — самый первый момент нашего знакомства, но не будем ссылаться на кружево Мнемозины, на таинственные нити паутины, что ткут волшебницы Парки, хотя тема парков (пока это всего лишь игра слов) обязательно возникнет на последующих страницах, парки/сады, сады/парки, волшебная паутина судьбы, что ткут в парках Парки, вот только не в парке познакомились мы с Сюзанной, хотя, надо сказать, искус изменения некогда бывшей реальности преследовал меня довольно долго, и, Боже, как мне хотелось, чтобы это было именно так!
Но случилось это (повторим) не в парке, а на даче одного моего приятеля, который только что закончил строительство бани и позвал меня на положенный в таких случаях пикник. Сюзанна сидела на оставшемся от строительства обрубке бревна, была она в джинсах и свитере, длинные каштановые волосы падали на плечи, лицо ее показалось мне не очень красивым (чуть запоздало произнесем «тогда»), просто хорошее русское лицо с небольшим вздернутым носиком и с таким же небольшим ртом (вот только губы пухлые, будто сильно нацелованные с вечера, но со временем я понял, что они такие от природы), глаза не слишком выразительные — но опять же, если судить по первому впечатлению. На самом же деле они были переменчивыми, то серо–зелеными, то льдисто–голубыми, но тогда я не заметил этого, а лишь подивился, что имя находится в столь разительном несоответствии с внешностью. Боже, как я ошибался!
У Сюзанны был тогда роман (меня всегда отчаянно забавляла эта игра понятий роман/роман, то есть роман, как нечто выдуманное, никогда до этого не существовавшее ни на земле, ни под небом (впрочем, есть теория, что все ненаписанные книги витают в так называемой ноосфере, но это отдает шаманством), и роман как любовная интрига, взаимоотношения двоих, может, именно поэтому любой роман невозможен без романа, семантика обязывает к единению в одно сущее, точно так же, как (в идеале) любовный роман — и не только в романе — обязательно должен закончиться слиянием в одно существо двух обнаженных тел), она была увлечена им, и явление перед глазами постороннего объекта мужского пола совсем не взволновало ее. Я же приехал к приятелю на баню и шашлыки, а отнюдь не для объятий на (предположим) солнечном и колком сеновале, так что мы забавно провели вчетвером (приятель был с женой) время до вечера, ночной электричкой я отбыл обратно, оставив троицу на крутом речном берегу, совсем уже неразличимом из–за полуночной августовской черноты, прерываемой разве что редкими штрихами падающих откуда–то из района Млечного Пути звезд, что были — проявлю остатки школьных познаний — так называемыми Леонидами, то есть звездным потоком, появляющимся каждый год в августе со стороны созвездия Льва. И так бы все это и закончилось — лишь еще одним воспоминанием, окутанным таинственным флером ночного августовского неба, если бы через месяц роман Сюзанны не закончился трагическим фиаско (никакой, впрочем, крови, лишь слезы), и мы опять встретились с ней все у того же приятеля, на дне рождения его жены, в его городской квартире, окна которой выходили (это не игра случая и не нить судьбы, а то, что было на самом деле) на боковую ограду старого городского парка, некогда бывшего монастырским садом, и липовые кроны, уже тронутые налетом осени, тихо шелестели за открытым окном, у которого мы и стояли с Сюзанной, вспоминая милый августовский пикник.
Она много выпила в тот вечер, и я вызвался проводить даму домой. Дама не возражала, хозяева же были только рады, ибо — как поведала мне перед нашим уходом именинница — «сейчас у Сюзанны трудные дни!», так что вышли мы из подъезда вдвоем и мне пришлось сразу же взять ее под руку, ибо — что поделать, но моя спутница не очень твердо стояла на ногах. И вот так, под руку, мы шли с Сюзанной мимо ограды старого городского парка, когда–то давно бывшего монастырским садом, парк был погружен во тьму, на нашем же пути изредка попадались неяркие фонари, отбрасывающие на усыпанный листьями асфальт низкие и отчего–то гофрированные конусы света, Сюзанна молчала и только часто вдыхала в себя свежий — что естественно после прокуренной квартиры — ночной воздух, я чувствовал локтем ее тело, то бок, а то и мягкую, довольно полную, как мне показалось, грудь, жила она неподалеку, в нескольких кварталах от приятеля с приятельницей, и, миновав парк, мы вышли на сонную ночную улицу с почти отсутствующими светляками окон, лишь все те же фонари, только уже не желтые, а молочно–белые, люминесцентные, ровно горели по обочине, наполняя воздух негромким гулом.
К этому времени мне уже не казалось, что поступь моей спутницы нетверда, нет, нормальная походка чуть подвыпившей в гостях женщины, а вот и ее дом прямо перед нами, в тихом темном палисаднике, вход в подъезд со двора, третий, если идти по часовой стрелке, но не надо искать никаких мет и знаков, это просто то, что запомнилось, третий подъезд, если идти по ходу часовой стрелки, а если против, то — соответственно — второй, ибо в доме всего четыре подъезда, квартира, в которой она живет с теткой, уехавшей сейчас на побывку к дальним родственникам в странный город Карталы, находится на четвертом, предпоследнем этаже, что я узнал именно в этот момент, ибо внезапно Сюзанна пригласила зайти к ней и немного выпить на ночь, совсем при этом не смутившись, а как бы давая понять, что я вправе отказать, но не предложить она — по только ей известным причинам (и кто знает, входило ли в эти причины упомянутое фиаско недавнего романа) — не может.
Я не отказался и вот тогда–то узнал, что квартира находится на четвертом этаже, номер не имеет никакого значения, значение имеет дверь, точнее, замок, еще точнее — ключ, который Сюзанна долго не может отыскать в сумочке (сделаем скидку на усталость и алкоголь) и суетливо перебирает в ней все те забавные мелочи, которые так много могут поведать любопытному и пытливому взгляду.
Но вот ключ найден и вставлен в замок, два плавных оборота вправо, дверь открывается, и меня впускают в прихожую, где уже включен свет и видна вешалка с печально поникшим тетушкиным драповым пальто, которое она оставила дома, отбыв в таинственные Карталы, и с какими–то еще, совсем уже не запомнившимися мне вещами, что, впрочем, и неважно, ибо это не что иное, как обрамление интерьера, ночная декорация, миновать которую можно очень быстро — пройдя в большую комнату, куда и приглашает меня Сюзанна и где я нахожу такие вещи, как круглый стол некрашеного дерева, полированный сервант–горку, да еще замечательный диван с высокой спинкой, зеркалом и полочками, на которых тетушкиной рукой нежно расставлены дважды по семь слонов, а напротив замечательного дивана, зажатое с двух сторон одинокими разнокалиберными стульями, возвышается резное кресло, которое (будем считать так) намного старше и круглого стола, и полированного серванта–горки, да и замечательного дивана с зеркалом и полочками.
На сиденье кресла брошена старая волчья шкура, и я блаженно забираюсь в него с ногами, думая, что если чего и не хватает мне сейчас, то лишь камина, но откуда взяться подобной роскоши на четвертом этаже ничем не примечательного дома? Да ниоткуда, и я успокаиваюсь на том, что хватит и двух рядов слоников, два по семь, итого четырнадцать, у левого вожака обломаны бивни, правый цел, но у следующего за ним нет хвоста, мне хочется взять их в руки и ощутить тепло камня, ведь они должны быть сделаны из мрамора, белого, чуть просвечивающего, но тут входит Сюзанна, и в руках у нее бутылка сухого вина и два бокала на тонких ножках.
— Показать тебе квартиру? — внезапно спрашивает она.
Я соглашаюсь, и она горделиво, будто мы находимся в Версале или в Сан — Суси, проводит меня по комнатам. Вот тетушкина (совсем не странно, что она уехала в Карталы), а вот и ее — узкая длинная комната, зашторенное окно, большой, разложенный диван, простенький книжный шкаф, два легкомысленных кресла, стола нет, а вот и кухня, вот туалет (подожди, говорю я, почувствовав непреодолимое желание опробовать непристойно подмигивающий унитаз), а вот ванная (опустим запамятованные детали). В общем, ничего необычного, старая, запущенная квартира, в которую я невесть зачем забрел в этот поздний час, ведь даже если уйти немедленно, то добраться до дому смогу или на такси, или пешком, а если просидеть еще час или два, то лишь пешком, ночное такси — роскошь, никогда не виданное чудо, загадочное порождение дурной фантазии, колеблющейся на зыбкой грани между явью и сном.
Сюзанна чувствует, что мне не по себе, и, стараясь быть гостеприимной хозяйкой, вновь зовет в большую комнату, где я снова устраиваюсь на старой, тертой волчьей шкуре, собственноручно выделанной много лет назад еще дедом Сюзанны — ведь надо о чем–то говорить, вот я и выслушиваю подробный рассказ о деде и бабке, да еще с показом старых фамильных фотографий, наклеенных на пожелтевшие от времени паспарту, а вот и отец с матерью, но все это несущественно, абсолютно несущественно в этот ночной час, почти десять лет назад, в темный сентябрьский ночной час, когда я попиваю из высокого бокала на тоненькой ножке кисловатое сухое вино, в то время как Сюзанна развлекает меня байками и сама, по–моему, плохо представляет, зачем затащила меня в гости. Конечно, от одиночества, конечно, из–за фиаско романа, конечно, оттого, что хочется еще выпить, да и тетушка в отъезде, но мне–то от этого не легче. Но — с другой стороны — что меня заставило принять ее приглашение и подняться на четвертый этаж? Разве не почти то же самое?
— Еще хочешь? — спрашивает Сюзанна, когда мы допили вино и я поставил бокал на круглый старый стол некрашеного дерева.
— Нет, — говорю я, — да и пора мне, наверное.
— Уже поздно, как ты будешь добираться?
— Ногами, — смеюсь и встаю с кресла.
Она молчит, она смотрит на меня потерянно и выжидающе одновременно, и я принимаю правила игры, то есть делаю то, что и должен по всем законам романной фабулы: крепко обнимаю ее, прижимаю к себе и — ведь сделав один шаг, надо обязательно идти дальше — долго целую в (повторим) от природы пухлые губы.
Она размякает, она обвисает в моих объятиях, она закрывает глаза, то есть играет всю сцену так, как это сделала бы очень плохая актриса, и вновь в темноте мелькают еще неведомые мне и мягко шепчущая «с», и горделиво упругая «н», и тут вдруг она ломает ход всей сцены, шепча мне на ухо:
— ….. меня, только посильнее ….. меня! — И поймите правильно: точки я ставлю совсем не от смущения!
3
Сколько лет прошло с той ночи, но и до сих пор никак не могу взять в толк: что случилось тогда с Сюзанной? И дело не в том, что просьба ее шокировала меня — да и где вы найдете мужчину, которого бы смутило подобное желание. Недоумение мое в ином — сколько лет прошло с той ночи, но ни разу впоследствии Сюзанна не была со мной так бесстыдно хороша и страстна, как тогда, никогда впоследствии она столь откровенно не отдавалась мне и не желала меня, о, долго еще можно нанизывать слово за словом, одно определение за другим, но стоит ли копаться в таком давнем уже для нас прошлом, ведь это не более чем штрих к портрету моей жены, необходимый исключительно для того, чтобы проще было повествовать о событиях последнего времени, тех самых событиях, которые и привели… Да, вы правы, и не стоит в очередной раз оголять левое запястье, что же касается Сюзанны, то на следующее же утро мы отбыли с ней в некое подобие свадебного путешествия, хотя собственно бракосочетание (великолепное, надо заметить, слово!) произошло двумя годами позже, когда моя благоверная была беременной. Впрочем, с родами так ничего и не получилось — есть такое понятие «выкидыш», больше же Сюзанна на этот эксперимент не пошла.
Так вот на следующее же утро мы отбыли с ней в подобие свадебного путешествия, и если попытаться расшифровать свою жизнь как набор знаков, то уже тогда я мог бы предположить все то, что случилось со мной вскоре после знаменательного утра двадцатого июля. И начать надо с того, что канву именно той поездки я взял за основу сюжета романа «Градус желания», главный герой которого встречается на борту теплохода, следующего из Одессы в Ялту, с замужней дамой, которая только что узнала, что муж ей неверен. Типичная завязка, долго и красиво происходящая на фоне красивого описания моря. Всю первую главу герой и дама, назовем ее К., смотрят друг на друга в теплоходной ресторации, герой строит самые разнообразные планы насчет возможного знакомства, но знакомства не происходит, на ночь они расходятся по своим каютам, а рано утром теплоход швартуется в ялтинском порту, и герой легко сбегает по трапу, думая о том, что все, вот и еще одна возможная ниточка оборвана и незнакомка так и останется незнакомкой, а ведь могло случиться…
Многоточие идет не только в конце предыдущего предложения, почти вся последующая глава «Градуса» представляет из себя такое же многоточие, ибо именно из нее читатель узнает кое–что о загадочной даме, о той самой К., ибо как же иначе прикажете вести рассказ хотя бы о том, что она испытала, когда узнала, что муж ей неверен?
Дама тоже сходит в Ялте, стоит томительная жара (мы с Сюзанной попали в затяжной и холодный дождь), что, впрочем, следует из первой же строчки романа, дама едет в санаторий подлечить нервы, а герой занимается невесть чем, то есть валяется на пляже и рефлексирует, пока их не сводит судьба, и происходит это — соответственно — опять же вечером. Но тут сделаем паузу в скороговорке пересказа и перейдем — нет, не к цитированию страниц из романа, а к тому, что было на самом деле, точнее говоря, могло быть, и Ялта тут не больше чем произвольно взятая географическая точка, это могли быть и Буэнос — Айрес, и Элджернон, да и любой другой город мог бы быть вместо Ялты, даже Венеция, где одним прекрасным вечером по каналу неторопливо двигалась гондола, на подушках в которой и возлежала уже упомянутая дама, а гондольер без всякого перевода, на отличном итальянском рассказывал ей о достопримечательностях сказочного города на воде. Даму же интересовало совсем другое (кстати говоря, по воле богов именно в Венецию вдруг переходит действие романа «Градус желания», что при первом чтении произвело колоссальное впечатление на господина Клауса В. из города Мюнхена), к примеру, то, отчего супруг ей изменил и что ей, бедолаге, делать. Как вы понимаете, сделать она могла только одно, но для этого требовалось очередное появление нашего героя, которое задерживалось, ибо пока дама каталась на гондоле по венецианским каналам, он все еще рефлексировал на ялтинском пляже. Но недолго, ведь как у фабулы, так и у сюжета свои законы, нельзя бесконечно испытывать терпение читателя. Остается добавить, что в последней главе дама стреляет в героя из большого старого револьвера, как бы уничтожая этим все персонифицированное мужское зло, а дух героя, отлетая к небесам, тихо отпускает ей все грехи, что, впрочем, было сделано исключительно по воле Божьей. На этом можно оставить тему «Градуса», как и темы Ялты, Венеции, героя и дамы, и вновь обратиться к нам с Сюзанной, сказав лишь, что сразу после нашего возвращения из памятного путешествия Сюзанна вновь закрутила роман с покинувшим ее незадолго перед нашей встречей любовником, который откликался, как оказалось, на совершенно замечательное имя Паша.
И целый год после этого в моей жизни царил абсолютный дурдом!
Впрочем, если бы не уже упомянутый дурдом, то мне бы никогда не написать «Градуса». Ведь все, что выходит из–под пера (примем эту фразу как некое обобщающее определение любого творческого процесса), в какой- то степени базируется на автобиографической канве самого И. Мя. Река. Не больше, чем толчок, импульс, внезапная вспышка света, называйте это как хотите, но не будь упомянутого толчка, подобного импульса, внезапной вспышки света, то перо никогда не заскрипит о бумагу, ибо не из чего будет его обладателю ткать словеса, создавая новую, никогда до этого не существовавшую реальность. И кто знает, но если бы не было Паши Белозерова (вот и фамилия вынута из захламленного ящичка, стоящего в самом углу заваленных всяческим барахлом антресолей), то не было бы и дамы–незнакомки, репродуцированной мною в мир под мало что значащим инициалом К., не было бы и самого героя, да и финальный выстрел — скорее всего, произошла бы осечка, и роман развалился бы на куски!
Что же касается дурдома, то основным диагнозом его обитателям я бы поставил параноидальный синдром с разнообразнейшими маниями и фобиями. И с кого тут начать — с меня, с Сюзанны, с Паши, с Паши, Сюзанны, меня, Сюзанны, меня, Паши? Тасование именной колоды можно продолжать дальше, но это бессмысленно, ибо лучше всего говорить сразу о всей троице, но это невозможно технически (точнее, возможно, вот только лишено повествовательного смысла), так что вновь бросим карты веером и возьмем первую попавшуюся, пусть ей станет червовый валет Паши.
Паша Белозеров, так внезапно вторгшийся в нашу с Сюзанной трехнедельную идиллию, имел на нее (то есть на Сюзанну) гораздо больше прав, чем я. И это немудрено, учитывая, что их роман (роман/роман, закавычивать больше не станем) длился около года и проходил исключительно в фортиссимо, переходящем в крещендо. Причем если мы составляли не очень–то равносторонний треугольник, то в него был вписан еще один, ибо Паша был женат и как бы изменял своей жене с Сюзанной точно так же, как Сюзанна изменяла мне с ним (или ему со мной, но это как посмотреть на происходящее). Конечно, можно выкинуть блестящий финт и соединить оба треугольника в один большой многоугольник, уложив, к примеру, меня в постель с Пашиной женой и связав таким образом всех воедино, но Парки решили не прибегать к столь сильнодействующему средству, как бы лишь приоткрыв занавес над будущим и сказав: возможно и так! Но лишь сказав, лишь очертив контуры гипотетического будущего, а на самом деле я никогда не видел Пашину жену, лишь слышал о ней несколько раз от Сюзанны, да один раз нарвался на нее по телефону. Почему Паша и Сюзанна расстались незадолго до описанного в конце предыдущей главы вечера? Вот этого я так никогда и не узнал, как, честно говоря, так никогда и не понял, почему в результате всех этих сложных геометрических комбинаций Сюзанна оказалась моей женой, а не — к примеру — Пашиной. В общем, вновь возникнув в ее жизни вскоре после нашего возвращения с юга (тетушка уже посетила Карталы, и мы сидели втроем в уже упомянутой большой комнате, за уже упомянутым круглым столом, сидели и пили чай с вареньем, за окном клубилось первое октябрьское ненастье, и со дня на день должен был выпасть снег, правда, лишь затем, чтобы вскорости растаять), он пришел сам (продолжим чаепитие, оборванное в предыдущих скобках. Раздался звонок в дверь, тетушка встала и пошла открывать. Была она женщиной пожилой и невозмутимой, на меня реагировала абсолютно спокойно, впрочем, так же спокойно реагировала и на племянницу, и так же спокойно пошла открывать дверь, а открыв, заглянула в комнату и сказала: «Сюзанночка, к тебе Паша пришел!» Сюзанна, как и положено, обомлела, а у меня внезапно задергалось левое веко, хотя дергалось оно, надо отметить, недолго. Паша оказался высоким стройным красавцем, с бархатным голосом, густой шевелюрой, тоненькими черными усиками и странноватой формы ушами. «Знакомьтесь», — сказала Сюзанна. Мы познакомились), пришел для того, как он не очень складно выразился, проторчав с нами за столом битый час, чтобы попросить прощения и замолить грехи. Грехи он собрался замаливать бутылкой коньяка, которую мы втроем (тетушка алкоголь не употребляла) и оприходовали, после чего изрядно захмелевшая Сюзанна (хмелела она, надо отметить, быстро) попросила меня оставить их с Пашей вдвоем, ибо (процитирую дословно) «Нам с Пашей есть о чем поговорить!».
Я не сопротивлялся и быстренько отбыл домой, безо всякой тоски или меланхолии рассуждая на тему женского коварства, а следующим утром она буквально вломилась ко мне в двери и сразу же начала раздеваться, говоря попутно (то есть одновременно скидывая с себя все шмотки и разбрасывая по комнате слова), что больше она с этим подонком ничего общего иметь не хочет, что как был он клиническим идиотом, так им и остался, пусть катится, пусть идет сами знаете куда, и вот она уже скользит в мою постель и впервые проводит со мной первый из сеансов параноидально–группового секса, что с успехом продолжались весь следующий год.
Не могу сказать, что я любил Сюзанну, как — с еще большей уверенностью! — не могу заявить во всеуслышанье, что Сюзанна была от меня без ума, совершенно точно я знаю лишь одно: в течение всего этого года мы с Павлом одновременно были ее любовниками, порою даже в один и тот же день — утром, скажем, я, а вечером Павел, и наоборот, — из чего не надо делать вывода о присущей Сюзанне гиперсексуальности, как не стоит считать ее и морально нечистоплотной, ничего подобного, как раз обостренные нравственные понятия, столь присущие моей жене, и заставляли ее ложиться попеременно то со мной, то с Павлом, ибо, не любя ни одного из нас в отдельности (то есть не любя по–настоящему, а не как бы любя), она любила именно дуэт «я — Павел» и, страдая от ситуации, в которой оказалась, она не могла представить себе жизни без этого страдания, ибо лишь в нем — как оказалось — и могла наиболее четко и ощутимо проявить себя как личность нерешительную, сомневающуюся, постоянно нуждающуюся в моменте выбора, порою столь же странную и несуразную, как ее заимствованное имя, то есть именно такое страдание и было, по ее понятиям, истинным служением, наиболее правоверным воплощением ее томящейся души.
Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы год спустя двери дурдома не приоткрылись перед Сюзанной и мною, оставив внутри — и уже навсегда! — Павла, сердце которого не выдержало (это всего лишь лобовая метафора) и он, первоначально хватанув уксуса (шесть часов кряду его откачивали в реанимации), погрузился после выхода из больницы в непробиваемый кокон душевной комы и был увезен женой (той самой, на телефонный голос которой я однажды нарвался) к дальним родственникам, в тихий южный украинский городок, где следы его затерялись, и мы с Сюзанной остались на какое–то время вдвоем.
Но это еще не конец главы, было бы странно, если бы она закончилась точкой в конце предыдущего абзаца. Ведь именно в таком финальном изломе до сих пор еще, наверное, не сошедшей с круга Пашиной жизни, и содержался тот таинственный финальный выстрел, прозвучавший потом и в моем лучшем романе, тот самый выстрел, после которого душа главного героя тихо воспарила к небесам. Что же касается дамы (она же — таинственная К..), то она вернулась к своему шалопаю–мужу, навсегда оставив в своей душе след от мимолетнего пребывания в жаркой летней Венеции, хотя на самом деле это была всего лишь набившая оскомину Ялта, впрочем, на этот раз без набережной и собачки, ибо это уж настолько простые слагаемые, что каждый может домыслить их сам.
Конец главы последует сейчас, и будет в нем сказано вот что: никто не знает, каким образом отражения становятся реальностью, а реальность вновь претворяется в отражения. Парки, один раз уже разыграв забавный треугольник, так и не перешедший в более сложную и многоугольную фигуру, не остановились на этом, как не остановились и на том, что, однажды отправив вымышленную даму в Венецию, открыли этим дверь и для меня, только уже не в реально существующий итальянский город, а… Но тут еще одно многоточие, ибо не подоспело время: ни для первой авантюры моих надзирательниц, ни для второй, хотя связь между ними гораздо большая, чем между — скажем это во всеуслышание — давно успокоившимся сюжетом почти десятилетней давности, моим, так и не получившим премию Хугера, романом, и еще многим, многим другим, пусть даже все это явным образом способствовало тому самому пари, что было заключено между мной и Сюзанной в ту ночь, когда я пообещал ей, что… Еще одно многоточие, как краткий залог долгой незавершенности рассказа.
4
Но тут меня вновь отвлекает тема случайности, столь мимолетно возникшая в первой главе. Пытаясь осознать все произошедшее в последний год, и не для того, чтобы понять, сон это или явь, а чтобы уяснить саму сущность, то есть подоплеку и смысловой стержень события (а может, не столько события, сколько его — нет, ни моральных дефис нравственных, это как раз не существенно, а — вновь продолжаем через тире, сколько его предопределенности, и тут вновь неотвратимо возникает тень случая).
Если принять за аксиому понятие неотвратимости судьбы, то не только многие вещи становятся изначально ясны и прозрачны, хотя я прекрасно понимаю, что эти мои размышления не являются прозой, а могут рассматриваться всего лишь как технический элемент в создаваемой сложной и плотной ткани текста, без которого, впрочем, не обойтись, как не обойтись без завтрака или утреннего похода в сортир с шуршащей газетой под мышкой (для чтения, заметим в скобках, исключительно для чтения, для других целей — другая бумага). Так вот эта аксиома вытягивает за собой — как котенок лапой нить из плотно намотанного клубка — целую череду прочих аксиом, теорем, гипотез и тому подобного, говоря же в ином словарном ряду, то не просто одно порождает другое (чему — приоткроем авторский замысел — и был посвящен роман «Градус желания»), в этом «одном» другое уже существует, ведь я никогда не поверю в то, что — скажем — момент нашей встречи с Сюзанной на даче у приятеля (баня, дымок от мангала с шашлыками, туман, поднимающейся от реки) не таил в себе Пашиного сумасшествия, как не скрывал и много лет спустя заключенного пари, да и это непосредственное мгновение моего рассказа — кто знает, но, может, именно для него все и произошло? Вот только читать эту предопределенность, разгадывать знаки судьбы дано столь малочисленной группе людей, что все прочие блуждают во тьме, и это отнюдь не метафора.
Отношусь ли я к сей малочисленной группе? Или мое место там, в общей стае бредущих в потемках слепцов? Никакой практической ценности вопросы эти не имеют — просто досужие размышления человека, привыкшего размышлять почти обо всем, хотя сама тема знаков так же неотвратимо связана с темой судьбы, как — к примеру — Парки связаны с парком, и это не просто изящная игра слов.
Вообще–то мне нравится коллекционировать знаки, хотя подобное собрание невозможно выставить на глаза любознательным зевакам как коллекцию монет, марок или — скажем — бабочек (стоило написать это слово, как нос уловил четко различимый запах эфира, которым внезапно потянуло в открытое окно моего кабинета, и не стоит приплетать сюда «дежа вю» и с его помощью выстраивать метафизическую парадигму, все проще — плеснул, наверное, кто–нибудь эфира под окном, вот и потянуло), хотя писать о чешуекрылых давно стало дурным тоном, так что и я — как бы этого ни хотелось — избегну столь притягательной (впрочем, как и хорошо мне знакомой) темы.
Нет, собирание знаков — это не что иное, как самоуслада, ибо даже то, что является знаком для тебя, для другого лишь мусор или рядовая случайность в цепи остальных.
Примеры? Да сколько угодно, как на бытовом, так и на любом другом уровне. Случайно прочитанная реклама оказывается не чем иным, как смысловой доминантой всего дня, ибо это была реклама того банка, в котором хранятся твои деньги и куда ты как раз в этот же день собирался отправиться. Совпадение? Мне так не кажется, а ведь если привести знаки более серьезные, относящиеся уже не столько к материальной стороне твоей жизни, сколько к жизни в целом, то получаются совсем уж удивительные, а порою и тревожащие душу вещи, это касается (опять же, к примеру) давнего знака парка, ибо не чем иным, как оказалось, не была та наша давняя с Сюзанной прогулка, как знаком того, что парк этот (в ином своем воплощении) возникнет в будущем, но опять же — тс-с, еще не время, говорю я, отгоняя рукой как надоедливо зудящую муху все так же струящийся из открытого окна запах эфира (кружится голова и становится дурно).
Сюзанна всегда смеялась над моей особенностью придавать происходящему метафизический смысл, и не потому, что была примитивна, как раз в примитивности я бы никогда не упрекнул жену, просто у нее было настолько иное отношение ко всему происходящему, что порою я удивлялся одному: как могут двое таких разных людей жить под одной крышей?
И тут опять возникает тема Сюзанны, и прежде всего потому, что до сих пор меня волнует один странный вопрос: а насколько я вправе считать, что хорошо ее знаю? Хотя бы как женщину? Естественно, что при этом я не могу даже сосчитать, сколько раз обладал ее телом, но не про то речь, понятно, что обладание и знание — далеко не синонимы. Вот только кто может с полной уверенностью гарантировать мне, что столь запавшее в память восклицание Сюзанны было обращено не к другому мужчине (хотя бы к тому же Паше Белозерову?), а ведь это говорит лишь о полном незнании мною женского естества Сюзанны, и тут можно предположить, что я просто оказался не ее мужчиной, а значит, наша связь не стала сакральной, и не стоит ли тогда забыть памятные слова?
Мучился ли я? А от чего? Если рассматривать все в терминах, относящихся к написанию романа, то в нашем романе (простите за полюбившуюся игру понятий) было две завязки, и первая (ночь, последовавшая за тем осенним вечером) оказалась ложной, то есть завязкой–ловушкой, всего лишь романтической увертюрой, хитроумным ходом романиста, за которой и должна была последовать вторая — выход на сцену Паши Белозерова. Но и это было не чем иным, как еще одним пробным шаром (хоть черным, хоть белым, хоть из пластмассы, хоть из слоновой кости, пусть каждый выбирает то, что ему больше нравится, впрочем, черный может быть и из эбенового дерева), ибо по–настоящему сюжет завязался на следующий день после того, как законная жена Паши впервые набрала номер психиатрической клиники (в нашем городе она на полпути между последними домами и аэропортом, но это не топографическая подробность, а ритмическая необходимость) и я увидел Сюзанну такой, как никогда до этого: будто ее отпустили давно мучившие злые духи (пока не буду прибегать к сравнению с вселением в душу дьявола, и не потому, что это несвоевременно).
Только не стоит утверждать, что именно Пашина сторона треугольника оказалась губительной для нее, кто знает, может, лишь его–то она и любила, но что толку гадать, все случилось так, как и должно было произойти: Паша исчез, злые духи оставили Сюзанну и кротость внезапно появилась на ее челе. Больше того: вскоре после Пашиного исчезновения (остановимся на таком определении случившегося) Сюзанна как–то ночью прижалась ко мне с подобием давно не ощущавшейся страсти и стыдливо попросила «сделать ее беременной» (порядок и значение слов были такими, как я их сейчас передал). Тут сюжет формируется окончательно, и очередное действие начинается с того, что муж и жена (которые тогда еще не были мужем и женой) сливаются в объятиях ради зачатия. И Сюзанна зачала, но чем это кончилось — известно, произошел выкидыш, и вместо пасторали (идиллии) сюжет выбредает в захламленный ландшафт коммунальной кухни. И вновь появляются злые духи, хотя в официальном статусе главных героев уже произошли формальные изменения, то есть Сюзанна стала моей женой, а я — соответственно — ее мужем. Но в сюжете произошел роковой сбой, и произошел он (как того и следовало ожидать) на седьмом месяце Сюзанниной беременности.
Хотел ли я стать отцом? Несомненно, ведь это должным образом изменило бы последующий ход событий, по крайней мере, сейчас мне кажется именно так. Но взаимосвязь предопределенности и случайности уже упоминалась мною, а значит, что я мог хотеть сколько угодно, но Господь не стал менять одному ему ведомый план, по которому наши отношения с Сюзанной должны были измениться. Любовь, которой — что я сейчас понимаю хорошо — никогда не было в романтическом понимании этого слова, перешла — нет, не в ненависть, подобное не стоило бы и обыгрывать, да и слишком это банальный ход для романиста. Скажем так: для нас с Сюзанной отсутствующая любовь стала навязчивой необходимостью события, но уже с явным психопатологическим оттенком, и стоило бы автору быть менее искусным в построении сюжета (не о себе говорю в данном случае). Если все же расшифровать приведенный выше пассаж, то Сюзанна возомнила себя грешницей, испытывающей постоянную потребность в раскаянии, я же должен был стать не только свидетелем, но и постоянным действующим лицом ее ежедневных радений.
Естественно, что это не могло мне понравиться, и — видит Бог — много усилий приложил я к тому, чтобы вытащить Сюзанну из вышеописанного состояния, вот только это не просто не помогло, но еще больше усугубило происходящее. В свое оправдание скажу, что, будучи человеком самонадеянным, я прибегнул к тому способу, который посчитал наиболее простым, — предложил Сюзанне не обращать внимания на печальный результат первого опыта и побыстрее перейти к следующему, но это–то и послужило тем толчком, после которого — чего и следовало ожидать — произошел взрыв.
Любая грешница кается в своих грехах, это аксиома. Но грехи надо еще определить. Так вот нерождение младенца и стало тем основным грехом, который Сюзанна вывела из своей преступной (как она считала) жизни со мной и с Павлом на протяжении целого года, до того самого дня, когда милейший месье Белозеров, хватанув уксуса, попал в реанимацию, а затем был отправлен в дурдом. То есть судьбу Павла она тоже посчитала своим грехом (я уже вскользь упоминал, что — на мой взгляд — все эти телесные эскапады были для Сюзанны не чем иным, как обостренным ощущением нравственности, долга и даже какой–то превратно понятой благодарности), как грехом — без сомнения — считала и то, что улеглась со мной в постель в первый же вечер, когда мы оказались наедине. И естественно, что мое предложение еще раз попробовать родить наследника (или наследницу, мне, в принципе, было все равно) заставило Сюзанну всерьез посчитать меня дьяволом–искусителем (не будем уточнять, насколько и в чем она была права), самим Велиалом, оросившим ее лоно, ведь грехопадение началось тогда, когда я появился в ее жизни.
То есть она все перевернула с ног на голову!
О нет, я не хочу оправдываться и пытаться снять с себя часть несуществующей (так оно и есть) вины. Ну, а если в чем и была виновата Сюзанна, то — повторю — лишь в обостренном ощущении тех понятий, которые — на мой взгляд — давно потеряли свое первоначальное значение. Моя же вина… Об этом смешно говорить, но разве можно быть виноватым в том, что сюжет идет по не тобой придуманному плану, и ты оказываешься лишь статистом, мало что значащим в общем ходе событий действующим лицом, и так же не виноваты в этом ни Сюзанна, ни Павел, ни его жена, как не виноваты… Но нет, не стоит заходить так далеко в своем стремлении переложить ответственность с человеческих плеч на (скажем) Божьи, есть вещи, явно идущие вразрез с представлением и планами Того, Кто Там, хотя насколько Он всемогущ: кто скажет мне это?
Лучше опять вернуться к сюжету. Шел уже четвертый год нашей жизни, я только что закончил свою первую книгу (ею стал роман «Император и его мандарин»), Сюзанна же посвящала себя тому, что называют общественной деятельностью (в стране внезапно сложилась подходящая обстановка), предоставив мне честь зарабатывания средств к существованию, но все это не больше, чем проборматывание деталей, которые не несут никакой смысловой нагрузки, ведь важным было лишь то, что внезапно Сюзанна наложила на себя довольно строгую епитимью. Это заключалось в молчании, неупотреблении скоромной пищи и полном игнорировании супружеских обязанностей и продолжалось в первый раз две недели. Если ей надо было что–то мне сообщить, она писала записку (собственно, из записки я и узнал о начале нового периода в нашей жизни), которую потом — после прочтения — тщательно сжигала на крохотном язычке пламени в большой и круглой стеклянной пепельнице, что стояла у нас на кухонном столе.
Я не очень переживал, ведь две недели — не два года (но так мне казалось лишь тогда), это было даже забавно, будто я присутствовал при чрезвычайно увлекательной, немного инфернальной феерии, где быть зрителем намного приятнее, чем участником. Но когда подошел срок двум новым неделям (две через две, ритм оставшегося в прошлом года), она решила и меня вовлечь в эту кутерьму, на что я категорически отказался, чем вначале изумил ее, а потом как бы заставил взять на себя искупление еще и моих «грехов».
Может, она стала сходить с ума? Не думаю, ведь любой из нас наполняет свою жизнь самыми разнообразными играми, чтобы как–то заполнить промежуток между двумя датами, первой и последней. Сюзанна выбрала те, что больше других подходили ей по абсолютно непостижимым для меня причинам, но это ведь не сумасшествие, хотя надо признать, что подобные игры создавали немало ежедневных проблем, но пока это было внове, с ними еще можно было мириться, ибо сие придавало всей интриге элемент увлекательного безумия. Однако за полгода они мне надоели до чертиков, и тогда я впервые заговорил с Сюзанной о разводе, но сделал это настолько мирно, что она лишь посмеялась над моими словами (это было как раз в период «говоренья») и предложила разъехаться на время, ибо совсем со мной она не расстанется, так как это — да, вы правы, это не что иное, как ее крест.
И тут я должен сказать, что тот разговор тоже был вполне определенным знаком, вот только прочитать его у меня не хватило ни сил, ни умения, и суть его дошла до меня не скоро. Что же касается предложения разъехаться, то я был не против, ибо пусть моя жена и не была сумасшедшей, чувство душевной и физической опустошенности, преследовавшее меня на протяжении последних шести месяцев, все крепло, а значит, угрозе сойти с ума подвергался уже я сам. Как раз в это время из издательства (маленького, надо сказать, и финансово довольно убогого) прислали верстку «Императора», так что я мог совместить приятное с полезным, то есть выбраться куда–нибудь на природу, почитать верстку, отдохнуть, обдумать разлуку с женой, хотя последняя часть предложения принадлежит, естественно, Сюзанне.
Знак опять накладывается на знак, Парки вновь начинают свою разноголосицу в парке, ибо дом отдыха, куда мне помог устроиться один приятель, находился в отреставрированном здании старой дворянской усадьбы, вокруг которой раскинулся большой и запущенный парк, и если бы я в действительности был наделен провидческой силой, то уже тогда бы понял, к чему подводят меня все события столь странно проходящей жизни, ибо у каждого из нас есть такая точка, в которой соединяются линии судьбы, ее прошлое и будущее, причины и следствия, все те же предопределенности и случайности, то есть то место, где обрывается сюжет, замыкается (пусть всего лишь на какое–то время) интрига, это не провал, не пауза, не томящая душу передышка, а грозовой всполох, несущий в себе навязчивый зигзаг молнии, за которым и следуют громовые раскаты грядущего.
Да, естественно, что давно уже наступило лето.
5
И последняя фраза не есть лишь попытка эстетически–точно закруглить предыдущую главу. Декорации необходимы не столько самому повествователю, сколько тому, о чем он повествует. Что же касается лета, то выдалось оно в тот год невнятным, прогорклым, с долгими и мающими душу дождями, с неприятным ознобом, место которому в сентябре, но не в июле, а ведь именно в июле (опять случайность или же новый знак?) Сюзанна и предложила мне разъехаться на время, в июле же, но неделей позже, я оказался в уже упомянутом доме отдыха, только было это довольно далеко от дома — в том месте, что в России называют обычно «центральной полосой».
Путевка у меня была на две недели, верстку я прочитал в первые же три дня, оставалось еще одиннадцать, но прежде, чем перейти к изложению последующих событий, я должен набросать хотя бы приблизительный план местности, сделать эскиз, и отнюдь не твердой рукой.
Что касается самого дома отдыха, то находился он в здании старого барского особняка, долгие годы стоявшего запущенным, но несколько лет назад восстановленного и пусть и переменившего свою внутреннюю сущность, но все равно оставшегося старым барским особняком, с большим пролетом центральной лестницы, с широким холлом на первом этаже и гулкой залой — на втором, с анфиладой комнат, стараниями строителей превращенных в маленькие и не очень уютные палаты, на третьем же этаже, где когда–то были подсобные помещения (то бишь комнаты прислуги), сейчас находилась администрация и была комната отдыха, в которую я, впрочем, не захаживал.
То есть типичный, немного унылый бывший барский особняк, о котором и говорить бы не стоило, если бы не парк, в самом начале которого и стояло здание.
(Повторим: это не произвольно воздвигаемые декорации. Я давно понял, что по странной воле судьбы любая история происходит только в ей присущем окружении, а значит, сюжет того же «Градуса желания» мог возникнуть не где–нибудь, а в Крыму, как «Император и его мандарин» — порождение бестолковых городских улиц и узких переулков с черными дырами подворотен. Вот и эта, нынешняя история, как бы изначально накладывается на изображение парка, причем нескольких, к описанию одного из которых я сейчас и перейду.)
Впервые в парк я пошел утром третьего дня, сразу после завтрака (меню приводить не стоит), день выдался солнечным (в этих местах лето не было невнятным), но пора вновь пережить момент первого со–прикосновения, а значит, приступить к следующему абзацу.
Я долго иду по аллее, окруженной высокими дубами и липами, хотя аллеей назвать это сложно — когда–то аллея, ныне просто пригодное для ходьбы место. Что же касается временного определения «долго», то это значит сто пятьдесят–двести шагов, потом открывается большая поляна, от которой веером расходятся то ли тропинки, то ли дорожки, ровно шесть, как я насчитал впоследствии. Каждый день я взял себе за правило проходить до конца одну, но сделать это было непросто, ибо собственно конца у такой вот тропинки/дорожки нет, внезапно ты оказываешься в лесу, а лес, как известно, в самой своей сути бесконечен. Но и не только в этом дело, через пару дней мне стало казаться, что со времен прежних владельцев я оказался первым, кто взял на себя благородную миссию исследователя, ведь не может быть, думал я, чтобы еще кто–нибудь отыскал все эти потаенные места, наполненные по прихоти давно отошедших из этого мира самыми странными — чем, вещами? Да нет, какие это вещи, скорее уж просто материализовавшиеся картинки прошлого, нечто, сошедшее с пожелтевших от времени листов старинных гравюр, вот то ли тропинка, то ли дорожка делает замысловатую петлю, и ты оказываешься возле развалин оранжереи, прямо у входа в которую высятся все еще действующие (что, если вдуматься, не странно) солнечные часы, на гранитном постаменте которых еле заметны остатки латинской надписи. Вот другая тропинка/дорожка выводит тебя к маленькому прудику, на котором — будто в тумане — чуть проявлен маленький насыпной островок, с развалинами беседки, которой некогда (то есть очень давно) чьи–то руки постарались придать форму античной вазы, но сейчас можно лишь догадываться, как выглядела эта беседка тогда, когда была еще новой и сплошь увитой плющом. Вот следующий изгиб следующей тропы, и ты минуешь мраморное надгробие со скульптурным изображением широколапого приземистого пса с бессмысленно зияющими пустыми глазницами, из которых — если реконструировать замысел создателя — давным–давно били две тоненькие родниковые струйки, только пересох родник, да и мрамор потерял свою белизну. Вот… Но хватит, надо остановиться, сколько можно пытаться поймать время за хвост там, где времени не существует, как не существует, скорее всего, и самого места, ибо что это, как ни греза, внезапно посетившая меня, странная, подернутая точно такой же, как и островок, пеленой тумана, иллюзия, мираж, тысячами километров отделенный от ближайшей пустыни?
Но об одной достопримечательности этого загадочного (самое, между прочим, подходящее слово) парка я еще не сказал: статуи. И дело не в том, что они были изысканно–особенными, нет, обыкновенные мраморные копии (битые, изломанные, изувеченные) хорошо известных античных изваяний, а то и просто неудачные вариации на древние темы. Суть была в их расположении, непонятно по какой причине, но все они были собраны в одно место, хотя по логике любого паркового архитектора их надо расставлять по ходу, чтобы они акцентировали красоту пейзажа, то появляясь, то вновь исчезая в складках земли и деревьев. Здесь же все было не так, между третьей и четвертой тропинками/дорожками образовывался как бы загон (скромный перелесок все из тех же дубков), в котором хаотично стояло около десятка скульптур. Впервые я увидел их вечером, в предзакатный августовский час (да, июль сменился августом, что, если подумать, справедливо), картинно–красный, безветренный августовский час. Даже живности не слышно, молчание парка, помноженное на молчаливую недосказанность неба и заходящего солнца. Тут–то я и увидел эту группу статуй и внезапно застыл, будто сам превратился в битое временем мраморное изваяние, и застыл (надо признаться) не от изумления или восторга, а от неожиданности и страха, ибо показалось мне, что это не что иное, как преддверие входа в ад. Но шок прошел, я подошел ближе и с удовольствием стал разглядывать эти ломаные, битые, изувеченные порождения чьего–то давнего резца. Больше всего мне понравилась двойная скульптура нимфы и сатира, сатир, как то и положено, был мускулистым и некрасивым, его руки плотоядно тянулись к изящным плечам и шее нимфы (у козлоногого не хватало ноги, что до нимфы, то либо время, либо злой умысел лишили ее грудей, сделав гермафродитом, только без мужской оснастки между ног). Самым же замечательным в этой скульптурной группе были не изваяния, а притяжение, которое существовало между ними, будто скульптору удалось ухватить главное, что возникает порою между людьми, — взаимную тягу энергий.
Увиденное настолько поразило меня, что следующим же утром я вновь решил побывать в том месте, но обнаружил, что столь понравившаяся мне вчера парочка опрокинута на землю и разбита на мелкие кусочки — кто мог это сделать, зачем? Тогда я еще даже не представлял себе, что силы, окружающие нас, ведут свою, лишь им подвластную игру и что суть этой игры никогда не станет известна нам, смертным, любопытство, приведшее меня минувшим вечером в заповедное (а никаким другим оно быть не могло) место, нарушило его покой, приоткрыло покров неведомой тайны, а как следствие — наказание и предостережение, вот только при чем здесь бедные мраморные изваяния, думал я, стоя у груды осколков и вновь пытаясь вызвать в памяти то напряжение, что повисло между протянутыми руками сатира и телом убегающей нимфы.
Два раза я посетил это место и больше решил этого не делать, ибо до меня внезапно дошло, что если я приду в третий раз, то еще одна из скульптур (к примеру, тот маленький фавн, наигрывающий на свирели) будет валяться на поросшей мелким кустарником земле, а дубки, печально шевеля кронами, еще теснее придвинутся к статуям, как бы стремясь побыстрее сжить их с поверхности земли.
Что же касается второго, еще более неправдоподобного случая (повторю, никакую цельную картину я не мог тогда даже представить), то он произошел в тот же вечер, то есть утром я нашел развалины еще вчера существовавшей наяву скульптурной группы, а вечером, сидя у себя в комнате и лениво листая толстую книгу, взятую в местной библиотеке (что–то о семантике английских парков ХVIII века, самым странным было наличие этой книги между потрепанными томиками Сименона и Семенова), наткнулся вдруг на гравюру, изображавшую точно такую же скульптурную группу — сатир, пытающийся поймать убегающую нимфу. Из пояснительной надписи, набранной петитом внизу страницы, я узнал, что это типичная малая скульптурная группа для так называемых парков в стиле позднего романтизма, авторство ее неизвестно, а сам сюжет настолько расхожий, что впоследствии его делали все, кому не лень. Но не это было интересным, а то, что шло под звездочкой, обозначающей сноску и набранной уже не петитом, а бриллиантом, и гласящую, что именно с этой скульптурной группой связана одна легенда, далее сноска рассказывала то, что я узнал без посторонней помощи — история повторяется, и сатир, по всей видимости, никогда не догонит нимфу, ибо бег их всегда заканчивается грудой мраморных осколков на усыпанной дубовыми листьями земле!
Я медленно закрыл книгу, отложил в сторону и подошел к окну. Парк чернел в темноте ночи, был сильный ветер, но шума деревьев не слышалось. Не могу сказать, что мне стало страшно или что вдруг на секунду показалось, будто я схожу с ума. Нет, я был опустошен, я стоял и смотрел в безжизненную черноту ночи, в которой непонятным образом вдруг забрезжил просвет, но лучше бы его не было. Впрочем, это не что иное, как метафорическое изображение моего тогдашнего состояния.
Но и это еще было не последним звеном в цепи странных случайностей того двухнедельного промежутка времени. Уже перед самым отъездом из дома отдыха мне захотелось еще раз взглянуть на книгу, но библиотекарь поведала мне, что она пропала, и даже посмотрела на меня неприятно–пристальным взглядом, будто спрашивая: а не ты ли, голубчик, прикарманил ее, ведь кому, кроме тебя, была она здесь нужна?
— Что вы, что вы, — пробормотал я, выскальзывая из библиотеки, и отправился укладывать чемодан.
Всего лишь три странных события, связанных воедино присутствием одного и того же действующего лица. Что это было? Я неоднократно упоминал о Парках, в чьих руках находятся нити судеб, — неужели это они сплели паутину таким образом, чтобы в один прекрасный момент раскинуть передо мною сеть, лишив полного представления о сути происходящего?
В день же, когда я покидал то зачарованное (применим новое прилагательное) место, начался дождь, что сразу же перенесло меня домой, в невнятицу и сумрачность того пейзажа, в котором чуть больше двух недель назад я оставил Сюзанну.
(Тут можно закончить преамбулу. Ведь дальнейшее больше относится к «сейчас», а не к «тогда», ведь мы с Сюзанной так и не разошлись, и еще несколько лет наше сосуществование было примерно на том же уровне, что и в прошлой главе. Но перед тем, как вновь обратиться к той ночи, когда Сюзанна предложила мне пари, а — как я начинаю понимать — собственно та ночь, а не роковой звонок двадцатого июля, и стала непосредственным началом всех последующих событий, я хотел бы рассказать еще кое о чем, относящемся уже не к таким отвлеченным вещам, как таинственные парки и внезапно разбивающиеся скульптуры.)
Сразу по возвращении — да, на удивление, я даже испытывал что–то наподобие тоски по жене, и с радостью позвонил в дверь… Сюзанна открыла и молча чмокнула меня в щеку, из чего я понял, что попал в период молчания. Такая последовательность в поведении внезапно стала мне нравиться, я смотрел, как Сюзанна молча накрывает на стол, как так же молча сидит напротив, пока я ем с дороги, как молча позволяет обнять себя, видимо, решив хоть в чем–то нарушить епитимью после двух недель разлуки, но тут я был не прав — дальше объятий дело не пошло. А значит, все вернулось на круги своя, но вот тут–то я был не прав, ибо мерцала вдалеке таинственная точка, постепенно превращающаяся в мраморные осколки, хотя сейчас мне трудно сказать, было ли это наяву. Когда же очередной цикл молчания закончился (произошло это через три дня), я сразу же поведал Сюзанне историю, приключившуюся со мной в доме отдыха, она отнеслась к ней намного серьезней, чем я мог представить, и, подумав, сообщила, что не видит в этом ничего хорошего.
— Но почему? — изумился я, впрочем, лишь для того, чтобы хоть что–то сказать.
— А потому, — ответила она, — что это просто указание на то, что ты выбрал не тот путь.
— Ну знаешь, — возмутился я, — что это значит, «выбрал», да и как это — «не тот»?
Тут Сюзанна пустилась в длинные и бестолковые объяснения, из которых я понял, что жена моя еще больше укрепилась в понятии греховности и необходимости искупления грехов, чем в тот момент, когда у нее все это началось. Не «тот путь», по ее словам, был не чем иным, как попыткой свержения Бога, хотя — к Господу же и апеллирую — ничем подобным я никогда не грешил (греховности, грехов, грешил, что поделать, если выстраивается именно такой лексический ряд). Пусть даже слово «свержение» слишком многому обязывает, но оно, по ее мнению, самое точное, ведь в нем изначально содержится определение того, чем я занимаюсь.
— Чем же? — поинтересовался я, и тут она вывалила на меня кучу всякой занимательной ерунды, главным в которой было то, что именно мое писательство и заставляет идти по этому ложному пути.
— Смешно, — констатировал я, почтительно дослушав до конца вышеупомянутый бред.
— Нет, — парировала она, обосновав это тем, что нельзя самому бросать вызов Богу и творить несуществующие миры.
— Бред! — повторил я.
— Ты не прав, — сказала Сюзанна и заплакала.
Я был изумлен, я почувствовал, насколько далеки стали мы с ней друг от друга, гораздо дальше, чем в тот первый, пресловутый сентябрьский вечер, когда я еще не мог и представить, насколько дурной метафизикой обернутся невымышленные приключения собственного письма, но что поделать, если именно такой вот дурной метафизикой отдавали, на мой взгляд, безумные размышления Сюзанны о гибельности того пути, на который я вступил, и о том, что судьба подала мне знак (вот и она впервые употребила это понятие), сломав — почти на моих глазах — статуи сатира и нимфы, о чем я и поведал ей с такой страстью.
Бред, какой же все это бред, говорил я Сюзанне, но она то плакала, то смеялась, а потом заявила, что не исключает и той возможности, что наша с ней жизнь есть не что иное, как параллельное исследование двух путей, из тьмы к свету и от света во тьму. Последнее, естественно, относилось ко мне, и тогда–то я впервые и поинтересовался, не увидит ли она ничего странного в том, что я когда–нибудь продам душу дьяволу?
— О нет, — ответила она, вытерев слезы, — странного в этом я ничего не увижу, но пока об этом рано говорить.
— Когда же? — поинтересовался я.
— Через несколько лет.
И вот эти несколько лет прошли, и в ту ночь, когда телефонный провод принес мне известие о том, что за роман «Градус желания» (можно не продолжать, все и так известно)… и Сюзанна спросила меня, что я буду делать, если не получу Хугера, то я ответил теми словами, которые она когда–то уже спровоцировала во мне.
— Серьезно? — спросила Сюзанна (развернем уже прозвучавшую тему).
— Серьезно.
— Хочешь пари?
— А какое?
— Если ты этого не сделаешь, то бросишь писать.
— А если сделаю?
— Если сделаешь, то я пойду за тобой, куда бы это ни привело.
— А ты не боишься?
Сюзанна улыбнулась:
— Хочешь залог?
— Какой? — спросил я.
— Узнаешь. Потерпи до утра.
6
Мы молчали до конца завтрака, а потом я не выдержал и спросил ее:
— Интересно, что ты придумала на этот раз?
— Ничего особенного. Я просто хочу сама помочь тебе завести параллельный роман.
— Но зачем тебе это надо, да и потом — почему ты сама хочешь выбрать мне объект?
— Подходящее словечко — объект, — заметила Сюзанна.
— Ты не ответила на вопрос…
— А я и не собираясь отвечать, я просто предлагаю тебе пари, а так как я абсолютно уверена в выигрыше, то предлагаю и залог, ведь он все равно мало что значит в сравнении с выигрышем.
— Дурь собачья, — сказал я, — ты хоть меня спроси, нужен ли он мне?
— А это не играет никакой роли. Просто мне хочется, чтобы залог был именно таким, но с одним условием — я сама хочу помочь тебе сделать это.
— Что — это? — не унимался я.
— Завести роман.
На этой фразе наш диалог замкнулся, и я понял, что мне не то что не переубедить Сюзанну, мне даже не стоит пытаться это сделать, ведь если уж что она вбила в голову, то будет стоять до конца, впрочем, при всей лестности предложения мне совсем не хотелось его принимать, ведь я знал и подоплеку такого поворота событий: это означало бы еще большее погружение Сюзанны в невнятный мир ее переживаний и того, что она называла словом «искупление».
Можно, конечно, просто взять да посмеяться над всем этим и предложить ей не маяться дурью, а жить со мной и впредь так, как живут все нормальные пары, но я хорошо знал, что мы давно уже не были нормальной парой, да и потом: сам смысл пари! Расскажи кому–нибудь о том, ради чего оно заключено, то любой скажет, что мы безумны. Но ведь я не отвергаю ни само пари, ни то, чем оно может стать для меня.
Так не стоит ли тогда принять и залог (или непременное условие, такая формулировка тоже возможна). Принять хотя бы ради того, чтобы попытаться выяснить, чем закончится этот странный сюжет, столь внезапно возникший в моей жизни и оказавшийся более изысканным и напряженным, чем сюжеты моих собственных, вот только не пережитых, а написанных романов?
(Тут вновь стоит вернуться к «Градусу желания» и пересказать одну из сцен, хотя бы ту, где главная героиня, уже упоминавшаяся К., долго идет по ночной Венеции, думая лишь об одном — где ей взять револьвер, чтобы убить — естественно — героя, но заниматься пересказом я не буду.)
И даже то, что Сюзанна сама решила подобрать мне «объект» (закавычим это дурное определение), вполне поддается объяснению: таким образом и она включается в интригу, а значит, несет за нее ответственность, то есть является и участницей, и создателем одновременно. Непонятно лишь то, каким образом она собирается создать романное пространство, и не в том дело, что у нее нет подруг — нет близких, но хорошие знакомые есть, вот только знакомые эти (чего Сюзанна не может не понимать) не способны заинтересовать меня в предложенном качестве, а значит, завязка романа малореальна. Но оказалось, что я ошибался, ведь все было предрешено.
Через несколько дней (опять же — было утро, и мы только что уселись завтракать) Сюзанна объявила мне, что у нее есть небольшой сюрприз.
— Какой же? — поинтересовался я.
— Я предлагаю тебе поехать на недельку в лес.
— А почему не к морю?
— Ну, море — это слишком серьезно…
— Это что? — въедливо спросил я. — Первый акт новой драмы?
— Если бы драмы, — засмеялась Сюзанна, — но, в общем, считай, что так.
— Поехали, — кивнул я, — а кто там нас будет ждать?
— Увидишь, — вновь засмеялась Сюзанна, и я согласился с тем, что — скорее всего — действительно увижу.
(Перечитав написанное, я пришел к выводу, что главное обвинение, которое могу услышать, будет касаться психологической недостоверности происходящего. Попытаюсь возразить. Собственно психологическая достоверность не является той панацеей, что делает изображаемое жизнеподобным. Да и вообще — что есть жизнеподобность и так ли она необходима? Тут можно прибегнуть к одному трюизму, гласящему, что жизнь намного богаче любого выдуманного сюжета. Но ведь мой последний сюжет как раз невыдуман, что же касается достоверности поступков жены, то чего в них странного? Я уже говорил, что Сюзанна — женщина необычная, и наша с ней жизнь никогда — с самого, между прочим, первого любовного объятия — не проходила по банальному сценарию. Отсюда я и делаю вывод, что предложение ее — как это ни смешно — психологически обоснованно и реально, а все остальное (хотя бы та цепь размышлений, которая привела ее к этому предложению) меня не интересует, ведь собственно интерес могут представлять лишь сама интрига, само действо, то есть то, что случается и еще должно случиться (произойти, если кому–то хочется большей глагольной определенности), а не подоплека, так что лучше сразу же перейти к дальнейшему изложению событий.)
Теперь раскроем понятие «поехать на недельку в лес». Это значило, что Сюзанна приобрела путевки в знаменитый местный лесной оазис, известный под названием «Приют охотников», хотя отчего именно такое название было дано этому райскому месту — кто знает. Мой приятель–филолог, обожающий заниматься выискиванием всяческих скрытых значений, даже попытался вывести генезис сего словосочетания из одного известнейшего англо–русского романа, но мне–то кажется, что это просто случайность, за которой — как водится — ничего не стоит, и не надо искать отражений там, где их нет. Добавить следует еще то, что попасть в этот (повторим) оазис было не просто, ведь места эти славились не только красотой (о чем ниже), но и целебностью хвойного (а еще горного, так что считайте это более точным указанием месторасположения «Приюта…») воздуха и неописуемой прелестью (о чем тоже ниже) озера, на берегу которого и располагался «Приют…». Мне давно уже хотелось побывать там, и вот — благодаря совсем уж странному повороту событий — это удалось.
Переходим к описанию места, мне не доводилось бывать в Швейцарии, но если верить плохо отпечатанной рекламной брошюрке, которую Сюзанне всучили вместе с путевками, то разницы между каким–нибудь горным кантоном и поросшими соснами, елями и лиственницами склонами в небольшой долине, между которыми располагался «Приют…» (чтобы не раздражать моего приятеля–филолога, я посчитал нужным именно так писать это название) не было, ибо (как гласил путеводитель) «…сходство знаменитейших горных курортов Швейцарии и нашего скромного пансионата может привести в трепет истинного ценителя и знатока красоты подобных ландшафтов». Тут надо отметить принципиальную бездарность автора рекламного текста, но я этого делать не буду, хотя вполне возможно, что сходство между склонами швейцарских Альп и подобными же склонами (горы — они всегда горы) нашего неприметного и древнего по времени возникновения хребта все же имелось, но — повторю — в Швейцарии я не был, а посему оставим эту тему.
Но как оставим, так и продолжим. Сам пансионат представлял из себя (что поделать, если описания как домов отдыха — см. предыдущую главу, так и пансионатов — см. эту, схожи изначально, то есть всегда начинаются (невольно, то есть вынужденно) с этого самого «представлял») уменьшенное подобие маленького средневекового (кому интересна более точная характеристика, то позднесредневекового, то есть уже стилизованного, уже «как бы», то есть соединение витиеватости ложного — и позднего! — барокко с замшелой непосредственностью не менее ложного раннего романтизма) охотничьего замка, построенного в форме прямоугольника, с четырьмя ажурными башенками по краям и большой башней во внутреннем дворике, соединенной с уже упомянутым прямоугольником крытыми галереями, которых было — соответственно — тоже четыре. Этажей же наличествовало три, имелась и куча всяческих подсобных помещений, включая ресторан, каминный зал, бильярдную, кинозал, бар и бассейн с сауной (сауну с бассейном). Горы начинались сразу за зданием, то есть сам псевдозамок как бы упирался в склон, что же касается фасада, то он выходил прямо к озеру, занимавшему собой почти всю долину. Вокруг озера шла тропа, переходящая в узкую дорогу, которая и была единственным, как это принято говорить в таких случаях, мостиком, соединяющим пансионат с внешним миром (что можно было бы чудесно обыграть, если бы события развивались зимой, тогда придуманный снегопад враз бы отъединил всех гостей псевдозамка от внешнего мира, что и дало бы возможность разыграться настоящей драме, вот только мы с Сюзанной оказались в пансионате летом, а — следовательно — ни о каком снегопаде не может быть и речи). Озеро называлось Глубоким, хотя я бы назвал его Черным или Безымянным, ибо цвет воды его был черным, а в слове «безымянность» можно уловить странную связь с наименованием самого пансионата, к примеру: пишите по адресу — озеро Безымянное, горный (он же лесной) пансионат «Приют охотников», письма доставляются исключительно голубиной почтой (отыщи тут хотя бы одного голубя, смеясь выговаривает мне Сюзанна).
Приехали мы утром, и когда маленький автобус, посланный к поезду, вывернул из–за последнего поворота и въехал на заасфальтированную площадку, от которой и начиналась тропа (до пансионата идти еще минут двадцать пешком, неся вещи с собой, — что поделать, условности ландшафта), то у меня буквально перехватило сердце, ибо то, что я увидел (еще можно сказать так — то, что открылось перед глазами), было действительно прекрасно: и ласковое августовское солнце, еще только- только окрасившее черную воду озера своими спокойными лучами, и нахохлившиеся, не успевшие отойти со сна горные склоны, мрачно–зеленые от всех этих сосен, елей и лиственниц, кое–где перемежаемых большими серыми проплешинами замшево–грубых гранитных валунов, и четко различимое на другой стороне озера (сейчас мы были как раз напротив) здание «Приюта…» с четырьмя ажурными башенками по углам и одной большой внутри темно–кирпичного прямоугольника, который и был той точкой, куда нам еще предстояло добраться, подхватив свои шмотки, уложенные в небольшой кожаный чемодан и серьезно–вместительную кожаную сумку, а для этого следовало… Но мы выбираем иной путь и добираемся до ворот пансионата за каких–то восемь–десять минут на быстроходном белом катере, вмещающем, за исключением моториста, шесть человек.
(Как потом оказалось, катер высылался только к утреннему и вечернему поездам, в дневное же время он стоял на приколе, то ли в целях экономии горючего, то ли для сохранения тишины, впрочем, это не играет никакой роли, ибо не стоит думать, что уже на катере Сюзанна представила меня тому «объекту», ради встречи с которым и привезла мою скромную — это не кокетство, а всего лишь дежурное прилагательное — персону в уже неоднократно упомянутый пансионат, что же касается собственно «объекта»…)
Что же касается собственно «объекта», то — как оказалось впоследствии — ничего (никого) конкретного у Сюзанны не было (и слава Богу, а то я уже начал считать, что встречусь в этом райском уголке с одной из блекло–задумчивых Сюзанниных подруг, что, впрочем, ставило под сомнение всю интригу), просто ей показалось, что именно это место подойдет для исполнения плана, а значит, надо лишь приехать сюда — и все, остальное приложится, надо только подождать, хотя ждать — честно говоря — можно очень долго, ибо контингент (континент, абстинент, отчего–то шухерно промелькнувший «мент») отдыхающих был не из тех, что могли воздействовать на мое тоскующее (по мнению Сюзанны) либидо: главным образом, пожилые и респектабельные семейные парочки, затесавшаяся между ними стайка оголтелых туристов, каждое утро устремляющаяся на покорение очередного муравьино–зеленого склона, две непарные семейные ячейки (в одной — мать с сыном, в другой — соответственно — отец с дочерью, там, похоже, намечалась своя интрига, но оставим ее в покое) да совсем уж здесь случайные молодожены, инфантильно радующиеся каждому чиху и смешку друг друга (как раз они да еще отец с дочкой и были нашими соседями по катеру в то утро, когда раннее августовское солнце внезапно проявило из только что отступившей ночной пелены заманчиво–глубокие воды прелестного горного озера).
А значит, планы, выношенные моей женой, могли окончиться грандиозным крахом, но все же этого не случилось. Но прежде, чем выйти на пристойное подобие дофинишной прямой (ибо какой возможен финиш, когда еще ничего не случилось?), я должен хотя бы в двух словах описать, чем мы занимались с Сюзанной во время нашего вынужденного ожидания.
Так вот если в двух, то практически ничем. То есть мы почти не разговаривали (что было естественно), не занимались любовью (этому тоже нетрудно найти оправдание), а если ходили гулять, то врозь — когда Сюзанна, скажем, решала пойти в горы (но только недалеко, уходить далеко от пансионата она боялась), то я бродил вдоль озера, а если идея пройтись под мрачно–зеленой сенью хвойного леса появлялась у меня, то прогулка вдоль озера доставалась ей. Вместе мы ходили в ресторан (питаться по отдельности было бы странно) да — как это ни смешно — в сауну. И я даже стал забывать о том, что явилось главной (если верить моей жене) причиной нашего появления в этом заколдованном (ведь прекрасное — как и прелестное — всегда заколдовано) месте, как в один прекрасный день (для любителей точного времяисчисления скажу, что пошел восьмой день нашего пребывания в «Приюте охотников»), когда я, проведя полдня в горах, приняв душ (номер, надо отметить, был благоустроенным) и переодевшись, отправился в ресторан, где меня за столиком уже поджидали и обед, и Сюзанна, то последнюю я обнаружил в наипрекраснейшем расположении духа. Сюзанна улыбалась, Сюзанна поигрывала вилкой и ножом, Сюзанна будто пела неведомую мне победную песню, что сразу же заставило меня насторожиться.
— Ты чему радуешься, ангел? — довольно агрессивно спросил я.
— Увидишь, — таинственно промолвила Сюзанна и начала резать бифштекс, рядом с которым на тарелке высилась грудка хорошо поджаренного картофеля да кроваво маячили ломтики аккуратно разрезанного помидора.
— Что увижу? — продолжал допытываться я.
— Я тебя попозже познакомлю с одной, сегодня приехавшей, дамочкой, так вот мне это кажется тем, что надо.
— С чего ты взяла?
— Да вот взяла, — и Сюзанна продолжила терзать бифштекс, как бы приглашая и меня последовать ее примеру. А уже после обеда, когда мы в номере вышли на лоджию (естественно, с видом на озеро) и я уселся в потрепанный гостиничный шезлонг, Сюзанна поведала мне, что еще утром, лишь только я, по обыкновению, отправился в горы, к ней подошла молодая женщина лет двадцати восьми–тридцати, и от нее исходила такая странная энергия, что Сюзанне сразу же показалось, будто это и есть та самая незнакомка, ради встречи с которой мы и торчим здесь (так она и выразилась — «торчим») уже восьмой день.
— Ну и что в ней такого особенного, что именно ее ты решила сделать жертвой своего плана?
— Сейчас расскажу, — загадочно (то есть одновременно и невнятно, и многозначительно) улыбнулась Сюзанна, начав с того, что имя этой женщины — Катерина…
7
Я давно уже догадывался, что сюжеты могут не просто влиять друг на друга, но плавно переходить один в другой и — более того — пересекаться, совпадать, внезапно исчезать и столь же внезапно возникать снова, но только тогда, когда ты этого совсем не ждешь, как не ждал я этого в тот самый послеобеденный час, когда Сюзанна произнесла уже упомянутое женское имя (Катерина), за которым со странным смешком сразу возникла из небытия все та же К. из все того же романа «Градус желания» (мюнхенское издательство «Кворум», владельцем, директором и главным редактором которого имел честь быть господин Клаус В.). Честно говоря, я не испытал никакого особого чувства — ни недоумения, ни напряженного ожидания. Лишь вполне объяснимое любопытство и — соответственно — желание поскорее узнать, что за сюрприз приготовила мне жена.
И начну с того (запомним, что все это пока изложение со слов, то есть пересказ, то есть незнакомка так же незнакома со мной, как и я с ней, и кто знает, произойдет ли в конце концов обещанная встреча?), что молодая женщина, подойдя к Сюзанне вскоре после завтрака (я уже был далеко в горах), обратилась к ней с довольно странными словами: «Знаете, — сказала она, — я приехала рано утром, и вы первый человек, с которым мне захотелось поговорить, позволите?» Сюзанна позволила и даже предложила вновь прибывшей составить ей компанию в традиционной утренней прогулке по берегу озера — в то время как я в гордом одиночестве неторопливо передвигался под замшелой тенью скал, по поросшей горным мхом тропинке, порою теряющейся между гранитными валунами, окруженными мохнатыми перьями папоротников и прочей августовской порослью.
— Послушай, — говорила мне Сюзанна с непривычным восторгом, — она не дала мне и рта открыть, такое ощущение, что у этой девочки («Хороша девочка, — подумал я, — в тридцать–то лет!») так наболело на душе, что она вцепилась в меня с одним желанием — выговориться… — Ну и что, выговорилась? И Сюзанна вкратце передала утренний монолог Катерины. (И вновь — случайный поворот сюжета или случайность, запрограммированная тем, кто и так знает каждый наш шаг? Мне опять вспоминается знакомство героев «Градуса…», мимолетный обмен взглядами в теплоходном ресторане, невидимые нити судьбы, что тянут и тянут молчаливые и таинственные Парки…)
По профессии Катерина была секретарем–референтом в фирме с невыразительным названием и таким же родом деятельности, хотя и закончила в свое время престижный институт, что дало ей уверенное знание нескольких иностранных языков. Но это — лишь прочерк, маловразумительное объяснение социального статуса, ибо отнюдь не то, кем является каждый из нас, определяет то, что он значит, говоря же проще, все вышесказанное столь же естественно и необходимо для начала абзаца, как и следующая фраза: жизнь ее была непрерываемой полосой разнообразных несчастий («О Боже, — подумал я, — если так, то ничего не выйдет!»). И несчастья эти не были чем–то фатальным, просто бабе (выражение, естественно, Сюзанны) катастрофически не везло, и тут я вновь делаю прочерк. Если учесть, что все, пока рассказываемое, есть не больше чем очередная затянувшаяся преамбула, то надо признать, что линия судьбы той же Катерины до ее (Катерины, не судьбы) появления на этих страницах не играет никакой роли в нашем повествовании. Конечно, я мог бы дословно передать рассказ Сюзанны и перечислить все те несчастья, что выпали на долю нашей незнакомки, начиная с детства (развод родителей еще в младенческом ее возрасте, а потом и гибель одного из них в бессмысленной и нелепой то ли авиа–, то ли автокатастрофе, в чем искушенный в психоанализе ум нашел бы первопричину, но я делать этого не буду) и заканчивая последним семейным эпизодом: совершенно случайно, выйдя в обеденный перерыв на улицу — пройтись по магазинам, ничего более завлекательного я не могу сейчас придумать, она столкнулась, что называется, нос к носу с мужем, находившемся в обществе молодой, прелестной, длинноногой спутницы с роскошными платиновыми — вот только крашеными или нет? — волосами, и спутница эта прижималась к ее — без разрядки, но с акцентом на последнее «е» — мужу так нежно и вызывающе, что все вопросы отпали сами собой. А вслед за этим — вечерняя перепалка на кухне, отъезд мужа в неизвестном направлении, а она…
— А она, само собой, ничего другого не могла придумать, как приехать сюда! — с мрачной экспрессией закончил я.
— Вот именно, — многообещающе улыбнулся мне Сюзанна.
На этом мы с ней и расстались (встреча с незнакомкой была назначена на вечер), и я по обыкновению отправился…
Но тут необходимо пояснить, что, поскольку обещанная женой неделя грозила обернуться тремя (таким был срок путевки), я начал уже тосковать, но вдруг обнаружил маленькую лодочную станцию и каждый день после обеда стал на два–три часа уходить кататься на лодке. Это привнесло в мое пребывание на озере подобие смысла, ибо было одним из тех немногочисленных занятий, что доставляют мне истинное наслаждение в жаркий летний день (спокойная черная вода, размеренная работа веслами, без всплеска, то есть почти без всплеска, ведь совсем — невозможно; стрекоза, неподвижно застывшая над водой в нескольких метрах от лодки; внезапно скользнувшая по поверхности большая рыбина, скользнувшая и исчезнувшая (так и хочется добавить — как фантом); гибкие плети кувшинок, звенящая тишина, невесть откуда залетевшая бабочка–шоколадница (она же траурница, большая темно–коричневая бабочка с ярко–желтой окантовкой крыльев, ничего экзотического, обыкновенный призрак надвигающейся осени) да где–то высоко в небе точкой застывший то ли сокол, то ли ястреб — мгновенная остановка и сердца, и памяти), а то, что доставляет наслаждение, никогда не приедается!
В тот день я, как обычно, неторопливо греб с полчаса и уже предвкушал минуту, когда лодка уткнется носом в берег, я выпрыгну на песок и разомну затекшие ноги, а потом пойду бродить по берегу, не стараясь открыть ничего особого (это невозможно), просто еще один случайный и прелестный пейзаж, внезапно представший взору: горы, уходящие в небо, сине–зеленая стена сосен, елей и лиственниц с изумрудными вкраплениями травяного ковра у озера, сменяющегося бурыми и дымчато–серыми проплешинами мха на таких же бурых и дымчато–серых скалистых склонах. Всю последнюю неделю я собирал эти маленькие пейзажики и складывал их в один большой, как бы играя в чудесную и успокаивающую душу и сердце мозаику, почти беззвучную (беззвучная мозаика — согласитесь, что в этом есть нечто). Но тут опять Парки (они же Мойры, но сколько можно упоминать на этих страницах мифические порождения древних и затуманенных ужасом существования душ?) вмешались в ход и времени, и событий — с берега ударил мощный шквал ветра, озеро словно взбесилось, причем — да, все это произошло действительно внезапно, минуту назад меня окружала блаженная тишина, но вот она повергнута в прах, солнце скрывается в мглистой пелене тумана, черная клокочущая вода бьет о борта лодки, стараясь захлестнуть и мое суденышко, и меня, капли воды попадают в лицо, но это уже не капли, а целые потоки, которые гонит внезапно поднявшийся ветер, и я понимаю, что до берега мне (хотя он уже различим, рукой, что называется, подать) не доплыть, надо поворачивать обратно и все так же — около береговой линии, плыть назад, к пансионату, ведь навряд ли смогу я пересечь озеро по прямой: захлестнет, перевернет лодку, утянет на дно.
Вслед за ветром начался дождь, тяжелый, плотно хлещущий дождь. Я моментально промок, но страха, настигшего меня с первым порывом ветра, больше не было, наоборот, мною овладела непонятная радость, я греб сильно и уверенно, понимая, что ничего ужасного не произойдет, вот только жаль не увиденного пейзажа, но еще не вечер, думал я, будут завтра и послезавтра, и кто может помешать мне окончательно сложить свою прелестную мозаику, свести ее элементы в один, подобрать смальту к смальте, камушек к камушку, травинку к травинке, волну к волне, ветер утихнет, дождь кончится, снова выглянет солнце, а пока надо грести, лодка со скрипом переваливается на очередную волну, берег, что был по правую руку, когда я плыл туда, оказывается по левую, но это уже совсем другой берег, серый и мрачный, с тревожно уходящими в неизвестность скалами, издающими ревущие и отчего–то утробные звуки. А вот и тот пляжик, на котором однажды я увидел прелестную картинку — загорающую обнаженную женщину, бело–нежное тело на мельчайшем смугло–желтом песке. Ни песка, ни женщины, но что это, кто кричит: «Помогите!»?
Замечательный поворот сюжета!
Кто из нас не мечтает хоть раз в жизни спасти таинственную незнакомку? Кто из нас, мужчин, в свои юношеские романтические ночи (если, конечно, вы были подвержены приступам романтизма) не создавал вымышленные картины таких вот встреч–спасений, не бросался в поисках неведомой красавицы в самую гущу злых и смрадно–зеленых тропических джунглей, не прыгал с самолета, не рвался очертя голову в бушующие языки пламени, не вступал в схватку то с мафией, то с пиратами, оставаясь на самом деле простым обитателем скучного и малахольного мира, говорить о котором на полном серьезе нет никакого интереса, как для многих нет интереса и жить в нем, хотя последнее — увы — зависит уже не от них.
Что же до меня, то — признаюсь — я в полной мере отдал дань подобным юношеским (а может, что и подростковым — ведь прошло слишком много времени) грезам, впрочем, сейчас лишь случайно попавшая в руки фотография напоминает о той поре, но уже не с ностальгией всматриваюсь я в странное, что–то мне смутно напоминающее лицо, а с изрядной толикой холодного любопытства: Боже, неужели это был я?
А значит, и грезы остались там, где и юноша (подросток) с фотографии, и неполученный Хугер интересует меня гораздо больше, чем все красавицы и пираты мира, вместе взятые, какие красавицы, какие пираты, когда тебе почти сорок и если что и ждет впереди — то лишь странная линия судьбы, в которую внезапно так неумолимо стала вмешиваться твоя же собственная жена, носящая загадочное и смешное имя Сюзанна, хотя на самом деле зовут ее совсем не так (вновь упомянем зеркально мелькнувшие «с» и «н»), но это не играет никакой роли, как, собственно, и вся задуманная ею интрига, ведь конец ясен, стоит лишь мельком взглянуть на левое запястье, как сразу понимаешь, на чьей стороне победа.
Понимаешь, но подгребаешь к берегу, несмотря на. то, что ветер и волны не дают тебе этого: к пляжику не подойти — шмякнет лодку о корягу или камень, пробьет днище, сюда, кричу я отчаявшейся и напуганной незнакомке, идите сюда! Она входит в воду, и вот я уже протягиваю ей руку, помогая влезть в лодку.
— Садитесь! — кричу, стараясь переорать шум воды и грохот ветра. — Садитесь! — А сам начинаю грести еще сильнее, стараясь поскорее добраться до той тихой бухточки, на берегу которой уютно светит огнями пансионат со странным для наших мест названием, будто сошедшим со страниц уже упоминавшегося англоязычного романа.
Незнакомка садится на корму, но первая же окатившая волна заставляет женщину перебраться на нос, чудом сохраняя при этом равновесие. Теперь я не вижу ее, а лишь чувствую, что больше я в лодке не один, но — по правде говоря — меня это мало волнует, главное — добраться до берега, ведь осталось совсем немного, да и ветер стихает, и дождь — судя по всему — подходит к концу, ибо из ливня он превращается в скучный серый дождичек, мрачно сеющий с неба. Самое смешное в этой ситуации то, что я вдруг понимаю всю неправдоподобность юношеских (добавим: и подростковых) грез, когда даже такой незначительный штрих, как реальный дождь с ветром на небольшом горном озере, полностью разрушает очаровательную картину романтического спасения, то есть делает ее ложной и показывает всю иллюзорность подобного, проще говоря, сама ситуация убивает весь романтизм, ибо нет времени даже познакомиться, как, в общем–то, нет и желания, главное — совершенно верно, добраться до места и поскорее надеть на себя что–нибудь сухое.
Но дождь прекращается, как прекратился и ветер, лодочка уверенно входит в бухту, на берегу которой (что более чем естественно) уютно светят огни пансионата, вдруг ставшего для меня долгожданным домом. Руки болят от весел, я замедляю ход лодки и пытаюсь перевести дух.
— Спасибо, — слышится из–за спины, — большое спасибо, я уже не надеялась, что выберусь.
— Как вас туда занесло? — не поворачиваясь, спрашиваю я.
— По кромке, почти по воде, иначе не пройти, но когда пошла волна, то идти обратно стало невозможно, и я испугалась.
— Ладно, — говорю я, — все хорошо, что хорошо кончается, — и вновь берусь за весла, стараясь плавно и пристойно подгрести к пирсу, на котором уже маячит смугло–загорелый коротыш–лодочник, явно переживший несколько неприятных (мягко говоря) минут.
Нос лодки тыкается о доски настила, я вспрыгиваю на пирс, подтягиваю суденышко за цепь и закрепляю ее замком, снимаю и передаю перепуганному мужичку весла, а потом поворачиваюсь и протягиваю спасенной (даже говорить подобное смешно) незнакомке руку. Она с благодарностью опирается на нее и вылазит (именно что вылазит, то есть тяжело переваливается через борт и неуклюже встает на доски настила) из лодки. На ней майка и шорты, насквозь мокрые. В иной ситуации это дало бы мне повод оценить и описать ее фигуру, создав из ничего плавную крутизну бедер, тяжелую (или напротив — легкую) полноту стана, обыграть хорошо заметные пипочки сосков, резко торчащие на замерзшей до пупырышек груди, затем перейти к описанию роста незнакомки, скользнув пристальным и внимательным взглядом по ее ногам (длинные или чуть коротковатые, полные или худые, красивые или так себе, впрочем, последние можно не заметить), оставив напоследок лицо со спутанными и мокрыми (а как иначе?), потерявшими всю прелесть и блеск (черные? каштановые? пепельно–серые? — отошлем читателя к следующей главе) волосами и с глазами, в которых за испугом стал неразличим цвет, хотя для женских глаз он имеет такое же значение, как — скажем — название для той книги, что я сейчас пишу.
— Даже не знаю, как отблагодарить вас! — говорит незнакомка, ежась от холода и смущения. — Я понимаю, что ничего смертельного бы не произошло, правда, я всегда попадаю в дурацкие ситуации, но если бы не вы, то…
— Не стоит благодарности, — устало отвечаю я, решив оборвать фразу на полуслове и тем самым перейти непосредственно к следующей главе, в которой и должно произойти (как на этом после обеда, в уже успевший стать прошлым солнечный час, настаивала Сюзанна) мое знакомство с К.
8
Проводив глазами незнакомку, исчезнувшую за быстро закрывшимися дверями (так и хочется написать «дверьми»), я, перебросившись парой фраз с лодочником («ничего страшного не могло случиться, гребец я не из плохих»), поставил весла на место и пошел к себе в номер с одним лишь желанием — принять горячий душ и переодеться. Сюзанна уже проснулась и сидела на кровати, забравшись на нее с ногами и меланхолично глядя перед собой, пребывая то ли в трансе, то ли в медитации, то ли погрузившись в то состояние, которое рифмуется и с прострацией, и с тоской.
— Чего ты такой мокрый? — спросила она, внезапно выходя из комы.
— А ты что, спала все это время?
— Да-а! — И она сладко потянулась, а потом посмотрела на часы: — Боже, да мы можем опоздать!
— Куда? — не понял я.
— Нас с тобой ждут ровно в семь часов у входа в ресторан, ты что, забыл?
— Забыл, — кивнул я. — Но знаешь, я попал в такой ливень…
Она легко соскочила с кровати, скороговоркой велев мне срочно идти в душ (умница!) и столь же быстро переодеваться (ну что за умница!), ибо похож я — цитирую — «на мокрого и облезлого петуха, а ведь идешь на встречу с женщиной». Опустим момент принятия душа, оставим вне белого поля страницы весь (надо отметить, что очень быстрый) процесс переодевания, выйдем вслед за моей женой из номера и направимся к ресторану. Для этого надо спуститься этажом ниже, войти в крытую галерею и, пройдя по ней сколько–то метров, открыть большую резную дверь, за которой начинаются уютные ряды четырех– и двухместных столиков, как бы гарцующих вокруг большого круглого стола, расположенного в самом центре зала. Тут отметим (заметим, пометим), что до семи вечера ресторан был столовой, а вот с семи — соответственно — рестораном, то есть стоимость блюд, подаваемых вечером, не входила в стоимость путевки, да и меню было (естественно) иным, то есть ужин как бы существовал сам по себе, и если ты не хотел платить за него отдельно, то просто мог не ужинать, хотя кто скажет мне, зачем я рассказываю об этом?
Ресторан был пуст, видимо, прошедшая гроза (назовем именно так описанное в предыдущей главе явление природы) напугала постояльцев пансионата и загнала их в уютные норки комнат: отойти, отогреться, вновь почувствовать себя комфортно.
Мы выбрали столик на четверых неподалеку от входа и сели за него, не знаю, что чувствовала Сюзанна, я же, мягко говоря, был в бешенстве от нелепости происходящего. Даже хорошо понимая абсурдность ситуации и — более того — немало сделав сам именно для такого ее развития, я внезапно ощутил, что развертывающееся действо все более приобретает фарсовые черты. Пари — это еще можно понять, это относится к тому бреду, который можно назвать нашей (то есть моей и Сюзанны) жизнью и что, в общем–то, мало кого касается, то есть в этом мы вольны поступать так, как нам хочется, и лишь от меня зависит, продавать душу дьяволу или нет, как от Сюзанны зависит, что ей делать в этой ситуации. Нас слишком многое связывает, вспомню хотя бы тот год, когда мы жили втроем — Сюзанна, Павел, я, Павел, я, Сюзанна, не продолжаю тасовать имена, ибо результат все равно известен. И даже безумие, ввергнувшее Пашу Белозерова в черный и смрадный омут запределья иной, никому из нас, нормальных смертных, неведомой реальности — это то, что касается лишь нас. Не думаю, чтобы мы с Сюзанной были за происшедшее в ответе перед Богом, но даже если и так, то платить должны именно мы, то есть я и Сюзанна, Сюзанна и я, два кубика, которые, как ни складывай, все равно составляют единое целое, осколки смальты, выпавшие из мозаики, но накрепко прикипевшие друг к другу, даже цвета я могу назвать: пусть один будет фиолетовым, а другой, к примеру, нежно–зеленым, хотя почему именно так — кто знает?
Но решение Сюзанны вовлечь в этот распавшийся треугольник еще один элемент и таким образом вновь склеить давно несуществующее: что, кроме бреда, можно увидеть в этом сценарии, честь и написания, и постановки которого принадлежит исключительно моей жене? Я никогда не доходил до того, чтобы начать ненавидеть Сюзанну, да, собственно, за что? Только за то, что она такая, какая есть? Но это лишь бессмысленная игра слов, жонглирование существительными и наречиями, каждый из нас такой, какой он есть, дешевая софистика, место которой в латиноамериканских мелодрамах, а любителем последних я никогда не был и не буду, хотя сейчас чувство, отдаленно похожее на ненависть, внезапно — ну не скажешь ведь «посетило меня»! Да и потом, собственно, ненависть хороша тогда, когда за ней виднеются высокие и мрачные котурны трагедии, когда плавно льется из уст персонажей белый стих, разящий направо и налево обжигающими душу метафорами («о смрадный день, улегшийся, как труп, у ног того, иного кто достоин…» и так далее, примеров существует предостаточно), за которыми чудится лязг мечей, и не бутафорских, а самых настоящих, разящих и в мозг, и в сердце, мечей, вызывающих потоки крови и: а вот тут надо разобраться, каким должен быть финал? Но это тогда, когда есть трагедия, мне же происходящее напоминало фарс, и чувство, внезапно (тут я пропускаю одно слово) меня, лишь отдаленно походило на ненависть, скорее, это было нечто среднее между брезгливым (вот отчего только?) недоумением и ощущением полной бессмыслицы и нелепости сюжета, что, между прочим, случается всегда, когда ты не можешь управлять ни жизнью, ни персонажами.
— Успокойся, — равнодушно говорит Сюзанна, проглядывая меню, — лучше скажи, что будешь есть?
— А что будет есть наша гостья? — агрессивно спрашиваю я.
Сюзанна начинает смеяться, а потом тихим и бесцветным (хотя обычно голос у нее совсем другой) тоном просит меня не беситься, не сходить с ума, не буянить, не (жаль, что под руками нет словаря синонимов), а набраться терпения и посмотреть, что из всего этого выйдет, ибо сейчас она вообще сомневается, что гостья придет, а значит, что она может снять вопрос о предоставлении залога за пари, проще говоря, не суетись, дорогуша, если ничего не выйдет, то плакать не буду, а там посмотрим.
Но посмотреть так и не удастся — как раз в этот момент двери ресторана открываются и в них влетает (впархивает, опять же — кому что больше нравится) особа лет двадцати восьми–тридцати, подходит к нашему столику и застывает — тут употребим штамп «как вкопанная», ибо именно так и застывает перед нашим столиком незнакомка, что немудрено, так как… Да, вы абсолютно правы, мы уже знакомы, мы прекрасно знакомы, мы провели около часа в одной лодке, я не знаю ее имени, она (как и никто из вас) не знает моего, но сейчас нас представят друг другу, хотя я‑то соврал, ее имя мне известно, еще после обеда, перед тем как я отправился спасать незнакомку, Сюзанна назвала мне его, позволь тебе представить, говорит жена, приглашая мадам сесть за столик, вот это и есть та самая К., о которой я рассказывала тебе…
Но прежде, чем Катерина сядет за столик, я все же должен придумать ее облик, ну-с, приступим.
Прежде всего надо отметить, что мокрые майка и шорты остались, понятно, где–то там, несколько страниц назад. Хотя начинаю я не с того. Прежде всего надо отметить, что столь внезапно впорхнувшая в зал ресторана К. была женщиной спортивного телосложения, не очень высокой, с приемлемо–узкой талией, не очень крутыми и — соответственно — мягко–плавными (плавно–мягкими, то есть такими, по которым сразу же хочется провести рукой) бедрами, ноги ее, открытые выше колен (короткая черная юбка из блестящего шелка) были стройными, полными, с полными же, по–детски аппетитными (никогда не понимал этой фразы) коленками, еще не загорелыми, но уже загорающими, то есть смешно покрасневшими от нежаркого августовского солнца (стеснялась она этого? нет?), обутыми в белые открытые туфли на высоком каблуке (что делало ее высокой). Почему белые? Да потому, что на ней была белая кружевная блузка, под которой смешно топорщились по–детски маленькие груди (маленькие недоразвитые грушки–треугольнички с упоительно–вытянутыми сосками, но я этого, конечно, пока не знаю, впрочем, забудем это «пока»). Оголенные руки, тоже тронутые красноватым налетом августовского загара (кожа у К. от природы белая, а у Сюзанны смуглая, поэтому Сюзанна всегда кажется загорелой, а К. — смущенной и краснеющей от стыда), полные красивые руки и такие же полные, красивые плечи, что осталось? А, лицо, глаза, волосы… Ну что же… К. была брюнеткой и носила большую копну от природы вьющихся волос, только она еще завивала их, что придавало ей нечто африканское (латиноамериканское, в общем, экзотическое, возьми карандаш и быстренько набросай на бумаге портрет), глаза были сине–зелеными (зелено–синими, обожаю вносить уточнения в скобках), нос — маленьким и вздернутым, рот — большим, с пухлыми (почему–то хочется, чтобы это было именно так) губами, накрашенными мягко–перламутровой помадой, за которыми притаились два ряда небольших и очаровательно–белых зубов, то есть, если суммировать вышесказанное в нескольких фразах, была К. женщиной милой, симпатичной, можно даже сказать — очаровательной, хотя любая женщина может быть очаровательной, все зависит от того, когда и как ты на нее смотришь.
Я смотрел на К. из–за ресторанного столика, с удовольствием понимая (слово «удовольствие» можно заменить на «удовлетворение»), что эта самая К. и дневная незнакомка, спасенная мною с затапливаемого грозой берега, — одно и то же лицо, а значит, сценарий пишется не одной Сюзанной, есть еще силы, которым подвластно происходящее, ведь иначе судьба распорядилась бы по–другому и К. никогда не совпала бы с той самой одинокой дивой (девой, дамой, стоит ли еще раз повторять «мадам»?), с которой мы плыли в лодке?
— Так садитесь же! — еще раз настойчиво говорит Сюзанна, и К. послушно занимает место за столиком напротив меня, так как Сюзанна сидит рядом, то есть если считать, что моя жена сидит во главе стола, то мы с К. будем (соответственно) по левую и по правую руку от нее, одно место пустует, что вновь напоминает мне хитросплетения геометрических фигур, и кто знает, чья тень может превратить сейчас треугольник в четырехугольник — Павла или мужа К., которого, впрочем, я никогда не видел?
Но тут четвертый угол столика занимает замещающий то ли Павла, то ли мужа К. официант (пришла и ему пора явиться на свет Божий), вот только роль его сведена к минимуму — он берет заказ и уходит, а то, что мы заказали… да пусть каждый выберет, что ему по вкусу, ибо порою нет ничего смешнее, чем читать затянутые гастрономические описания, так что официант берет заказ и уходит, а мы трое сидим и молчим, пребывая в той нелепой ситуации, когда говорить еще не о чем, да и вообще непонятно — что свело вас вместе?
Но вот официант приносит заказ, и молчание сменяется бряканьем ножей/ вилок да звяканьем рюмок — пока всего лишь одна бутылочка сухого вина на троих, — а затем возникает и разговор, правда, я в нем не принимаю участия, я просто сижу и наблюдаю за своими сотрапезниками, и вновь чувство фарса посещает меня, браво, хочется крикнуть Сюзанне, молодец (это я обращаюсь уже к К.), как у вас это здорово получается, милые дамы, вот так, из ничего, создать целую картинку, осталось лишь озвучить ее, что же, прибавим громкости и прислушаемся к разговору.
— Милочка, — говорит Сюзанна, — мне искренне жаль вас, надо же, нос к носу встретиться с мужем и его любовницей — это ведь отвратительно! А что он вам сказал?
— Да ничего, — говорит К… — он просто посмеялся вечером и заявил, что он вообще не был в городе, так что я, мол, ошиблась, но я‑то знаю, что это был он…
— А вы действительно уверены, что это был он?
— Конечно. — И мне кажется, что на глазах у К. появляются слезы.
— И поэтому вы приехали сюда?
— Да, я не могу видеть его, мне надо отвлечься, я даже готова изменить ему…
— А вы любите его?
— Не знаю, я вышла замуж так внезапно, да и потом — что это такое, любовь?
— А ты как думаешь? — Сюзанна обращается ко мне. Она застала меня врасплох, необходимость из партера перейти на сцену и сразу же принять участие в происходящем бывает довольно мучительна, так что я долго подыскиваю слова, а потом уже отвечаю:
— Я тоже не знаю, я лишь пытаюсь понять, кто стоит за ней — Бог или Дьявол?
— А что есть Бог и что есть Дьявол? — внезапно произносит К., дословно цитируя знаменитый постулат мистического трактата «Амфатрида», принадлежащего перу известного средневекового чернокнижника, великого магистра, князя Фридриха Штаудоферийского, хотя к данному повествованию это не имеет никакого отношения, так что я даже не спрашиваю у К., читала ли она сам трактат, написанный, между прочим, на латыни.
— Ну, — вновь вступает в разговор Сюзанна, — это вопрос как раз для моего мужа, вполне возможно, что вскоре он продаст душу дьяволу и тогда сможет вам ответить во всех подробностях.
— Это правда? — К. смотрит на меня и краснеет (краснеющая брюнетка с сине–зелеными глазами). — Или вы надо мной смеетесь?
— Нет–нет, что вы, — отвечаю я, — только лучше спрашивайте об этом мою жену.
— Можно? — обращается К. к Сюзанне.
— Конечно, — уверенно разрешает та и без всяких наводящих вопросов начинает рассказывать К. все то, что и так уже известно читателю.
— Но зачем же продавать душу? — так и не понимает К.
— Да потому, — отвечает Сюзанна, — что душа должна принадлежать тому, кто ею управляет. Душа моего мужа, соответственно, должна окончательно перейти под юрисдикцию Князя Тьмы, ибо он занимается дьявольским ремеслом — играет людскими судьбами, не имея на это никакого права, ведь право это дано лишь Богу, а не Дьяволу, согласны?
— А вы? — обращается К. ко мне.
— Все вопросы к моей жене, — вновь отвечаю я, — это она задумала наш милый ужин, так что ей и отвечать.
— А зачем вы его задумали? — спрашивает К. у Сюзанны. (Что мне очень нравится в бывшей незнакомке, то это присущая ей очаровательная наивность, впрочем, было бы странно, если бы она сразу же включилась во всю суть наших с Сюзанной отношений.)
— Да потому, — начинает объяснять Сюзанна, — что мы с мужем заключили пари. Но главное даже не это, а тот залог, который я пообещала ему. И — так уж получилось — вам отведена в нем главная роль.
— Какая же? — интересуется К.
— Вы можете закрутить с моим мужем роман.
— Да? — удивляется К. и продолжает с интересом слушать Сюзанну.
— Это не значит, — продолжает та, — что вы обязаны это сделать, вы можете это сделать, если захотите, только учтите — если вы все же сделаете это, то я постоянно буду вместе с вами, это тоже одно из условий залога…
— Ничего не понимаю, — говорит К., а потом спрашивает: — А при чем здесь пари и Дьявол?
— Это проще всего, — отвечает Сюзанна, — мы поспорили, что если случится одна вещь (точнее же говоря, не случится, это уточняю уже я), то мой муж продаст душу дьяволу (вновь перейдем к написанию с маленькой буквы). Если он не сделает этого, то пари выигрываю я. В качестве залога я предложила ему завести то, что называют романом на стороне — с моего согласия и — более того — при моем участии. Если вас интересует, почему именно такую форму залога я предложила своему мужу, то отвечаю: все дело в том, что между нами сложились довольно странные для постороннего взгляда отношения, то есть мы не обычная супружеская пара, мы практически не живем вместе как муж с женой, но на это есть свои причины, о чем говорить сейчас нет смысла…
— Но почему? — удивляется К.
— Это долгая история, — отмахивается Сюзанна, — поверьте, что ничего криминального в этом нет, да и никакой особой тайны тоже не существует, просто так уж случилось, что между нами сложились именно такие отношения, а разорвать их, расстаться — этого мы не можем. А значит, должен появиться еще один человек, и почему бы им не оказаться вам, согласны?
К. не отвечает, она молча крутит в пальцах правой руки бокал с остатками сухого вина (рикошет из нашего с Сюзанной прошлого), а потом говорит:
— Не знаю… Все это так странно… Ведь мы почти незнакомы…
— Ну и что? — удивляется Сюзанна. — А то, что незнакомы — ведь это всегда к лучшему, так соглашаетесь?
По всей видимости, К. просто не может больше выносить напора моей жены и всю инфернальность происходящего разговора, так как на этот раз она (сгустившиеся за окнами ресторана сумерки и приглушенный электрический свет не позволяют в очередной раз сказать «покраснев»), еще немного помолчав, вдруг кратко и весомо говорит:
— Да, соглашаюсь… — А потом опять добавляет: — Но все это так странно…
— Вот и хорошо, — с облегчением заявляет Сюзанна и просит официанта принести еще бутылочку сухого вина, а я пытаюсь понять, к чему относится это ее «вот и хорошо» — то ли к согласию К., то ли к тому, что все это так странно. — Не ломай голову, — улыбается мне жена, и я послушно наполняю бокалы терпковато–кислым рислингом прошлогоднего разлива..
— Выпьем за знакомство! — предлагает нам Катерина.
9
— Зачем вы согласились? — спрашиваю я у К. часом позже, когда мы, как то и следует по законам жанра, впервые остаемся наедине, вот только происходит это не в спальне (что было бы просто смешно) и даже — скажем так — не в геометрически замкнутом пространстве, а на берегу, хотя августовские сумерки свежи и К. в своей тонюсенькой блузочке мерзнет, но это не играет никакой роли, просто так уж положено — что мы с ней оказались именно в этот самый момент вдвоем на берегу, в час поздних августовских сумерек, то есть если посмотреть на часы, то времени около одиннадцати вечера, и вот–вот наступит ночь, скроются в темноте окружающие нас горы, исчезнет поблескивающая в свете луны поверхность Глубокого (Черного, Безымянного) озера, да и сама луна — большой ноздреватый полукруг красновато–зловещего цвета — уйдет за тучи, которые с минуты на минуту пригонит внезапно поднявшийся ветер, впрочем, настоящего ветра, такого, как днем, когда мне (предположим) все же довелось спасти К. во время грозы, не будет, слабый ветерок нагонит из- за гор тучи, скроется луна красновато–зловещего цвета, не будет видно ни зги, лишь две тени в свете тусклых фонарей, что слабо мерцают у дверей пансионата, останутся у кромки берега, но кому, скажите мне, придет в голову высматривать их в эту черную августовскую ночь, когда ни летучих мышей, ни крупных ночных бабочек (ни совок, ни бражников), даже таинственных сумеречных птах нет и в помине, а если и есть, то в каком–то ином, волшебном измерении, где нет ни пансионата, ни столь подробно описанного озера, ни героев этого повествования, вновь соединившихся по воле Парок из далекого (скорее всего, существующего тоже в ином измерении), заброшенного парка, в странный, разносторонний треугольник.
Но я отвлекся, так что вновь задам К. свой вопрос:
— Так зачем вы согласились?
Она не отвечает, она садится на ближайший к воде булыжник, с которого днем пацаны удят рыбу длинными, далеко выдающимися в озеро удочками, просит у меня сигарету, а потом отвечает вопросом на вопрос:
— А почему вы не сказали жене, что мы с вами уже встречались?
— А зачем? — недоумеваю я. — Она просто сделала бы из этого вывод о том, что наша с вами встреча предопределена, а значит, все действительно будет так, как ей этого хочется, хотя я, например, в этом не уверен.
— Почему? — отбрасывая в озеро лишь наполовину докуренную сигарету, спрашивает К.
— Тогда получилось бы, что мы с вами просто марионетки, исполняющие волю того, кто стоит за моей женой, а сознавать это не очень–то приятно, согласны?
— А кто за ней стоит? — И ни тени сомнения в том, что безумие нашего сумеречного (впрочем, уже ночного, луна скрылась за обещанными тучами, ни зги не видно, лишь смутный силуэт К. угадывается напротив меня, ибо она, как уже сказано, сидит, я же стою — вассал, оказывающий подобающие знаки внимания сюзерену) разговора лучше отнести к сценам из жизни приюта скорби (сумасшедшего дома, дома для умалишенных), а не к обычному разговору, что происходит после посещения ресторации между парочкой, которой — по нелепому стечению обстоятельств — судьба уготовила (мне хотелось бы с этим поспорить) одну постель.
— Вы еще не догадались? — смеюсь я. — Что же, порою мне кажется, что тот самый, которому по условиям нашего пари я должен продать душу, давно уже в таком близком контакте с моей женой, что ближе, как говорится, не бывает. Впрочем, пока это лишь мои догадки, но отчего–то кажется, что они близки к истине.
— Зябко, — говорит К., поеживаясь, — может, погуляем?
— Темно, а у меня нет фонарика…
— Ну и что? — удивляется она. — Я хорошо ориентируюсь в темноте.
— Пошли, — говорю я и протягиваю ей руку.
Да, я протягиваю ей руку, но это ничего не значит. На какое–то время К. перестает существовать, хотя и идет рядом по прибрежной тропинке, нежно и влажно сжимая мою ладонь в своей, в тучах образовался просвет, утих ветер, и вновь видна луна, ноздреватая, неполная, как бы обкусанная, зловеще–красного, то есть столь мною любимого августовского цвета, то есть луна цвета августовских ночей, то есть августовская луна, освещающая сейчас неверным, мерцающим цветом нас с К., идущих по тропинке, которая вот–вот должна разветвиться и можно пойти или в горы, или спуститься к озеру, так что будем делать?
— Пойдем к озеру, — тихо говорит К. И мы спускаемся к озеру, берег ровный, песчаный, внезапно в прибрежных зарослях начинает бормотать неведомая ночная птица, над поверхностью озера туман, если бы не было так прохладно, то я бы искупался сам и предложил К. составить мне компанию, но ей и так холодно в своей тонюсенькой беленькой блузочке, какого черта Сюзанна впутала ее в эту историю, бедной девочке своих проблем достаточно — взять хотя бы неверного мужа! — а тут… Я даже не продолжаю, я сажусь прямо на песок, стягиваю свитер и предлагаю К. сесть на него (мне и в одной рубашке не будет холодно, это я хорошо знаю), К. послушно садится и ждет, что я буду делать. Конечно, проще всего было бы нежно опрокинуть ее навзничь, столь же нежно задрать черную шелковую юбку, стянуть такие же шелковистые на ощупь (они обязательно должны быть шелковистыми на ощупь) трусики, властно раздвинуть полноватые, сильные ноги и войти в нее, совершая этим сакральный акт знакомства плоти с плотью, акт слияния, единения, на земле (на желтом озерном песке) и под звездами (под черным августовским небом с уже описанной луной и мельком упомянутыми звездами), вполне возможно, что именно этого и ждет от меня К., но я даю себе слово, что юбка ее не будет задрана в этот вечер, да и трусики останутся не стянутыми, как бы ей этого ни захотелось. Слишком тиха и упоительна, описываемая ночная минута, чтобы вот так брутально, по–мужицки, разрушать ее, да и потом — кто знает, но, может, как раз этого и ждет не только Сюзанна, но и ее таинственный повелитель, а ведь в том, кто он, я уже не сомневаюсь, ибо еще один знак парок вспомнился мне: да, тот самый парк с той самой разрушенной скульптурной группой, нимфой и сатиром. Отчего именно сейчас дошло до меня истинное значение уже хорошо подзабытого знамения? А отчего именно сегодня случилось все это — кто может ответить? впрочем, так ли уж важно знать ответ, произошло то, что и должно произойти, и эта максима вновь дает мне уверенность в собственных силах, хотя одновременно я понимаю и то, что все намного сложнее, чем казалось. А главное — то, что ждет меня самого, смогу я избежать уготованной участи или же и меня постигнет участь Сюзанны?
— Ты не хочешь покататься на лодке? — внезапно спрашивает К., так и не дождавшись того, чтобы я нежно и властно повалил ее на песок и раздвинул ноги.
— Отчего же, — отвечаю я, — это можно, только лодочник уже спит, ну да что–нибудь придумаем.
Конечно, сарай с веслами закрыт на большой висячий замок, конечно, моя любимая лодочка, которую я знаю уже вдоль и поперек, тоже прикована до утра большой и толстой цепью, но мы должны, мы просто обязаны что- нибудь придумать, ведь кроме всего прочего эта ночь — ночь бессонницы, ночь открытий и откровений, следы выпитого сухого вина давно исчезли из крови, мозг ясен, сердце работает ровно и спокойно, сюжеты перетекают и пересекаются, превращаются в один, ялтинский мол и венецианская набережная, берег Глубокого — оно же Черное, оно же Безымянное — озера и давний барский парк в самом центре России — все это крутится перед глазами, наполняется отражениями, смутно мерцающими в тут и там расставленных зеркалах, в самой глубине которых мелькает и сегодняшняя луна, которую как раз в этот момент закрывает внезапно ставший гигантским силуэт летучей мыши, как бы возвещающий мне, что ее появление — тоже предостережение со стороны того, кто неотступно преследует нас с Сюзанной, а значит, что страх покинул меня не окончательно и я даже не могу пока представить себе весь тот ужас, что ожидает меня где–то там, в еще лишь подбирающемся к моей глотке будущем, но что будет — как известно — то будет, и стоит ли лишний раз акцентировать это? Я обхожу сараюшку лодочника и естественно, что нахожу полуотломанную доску — видимо, не одни мы с К. любим ночные прогулки по озеру. Фонаря нет, но есть зажигалка, я забираюсь в сарай, тоненький язычок пламени пусть плохо, но дает возможность оглядеться. Все как и положено: лодочник, судя по всему, изрядно поддавший к вечеру, оставил прямо на столике, за которым днем собирает мятые купюры за пользование инвентарем, связку ключей, так что надо взять весла, захватить на всякий случай черпак да прибрать ключи — вдруг удастся освободить лодочку из заточения? Удалось, иначе было бы странно. Первый же ключ подошел к нужному замку, звякнула отброшенная цепь, я соскочил в лодку, помог забраться в нее К., взял весла, вставил их в уключины, предварительно оттолкнувшись правым веслом от пирса. Итак, я оттолкнулся правым веслом от пирса, вставил весла в уключины и начал медленно и размеренно выгребать из искусственной бухточки, где покачивались сейчас на почти не видимой и не слышимой волне с десяток лодок да тот самый катер, на котором мы с Сюзанной добрались сюда. И мне, и К. было все равно, куда плыть — озеро выглядело пустынным, берег был вымершим, ни одно окошко не светилось в пансионате, лишь фонари у входа по–прежнему слабо и тускло рассеивали тьму, впрочем, на воде вдруг стало удивительно светло, хотя луна была такой же тусклой и зловеще–красной, и лодочка наша тихонько плыла по извилистой лунной дорожке, все дальше и дальше уходя от берега. К. молчала, за то время, что мы провели с ней на берегу, она не сказала ни слова, видимо, пораженная тем, что довелось ей услышать от меня еще в самом начале прогулки, хотя, может, я слишком многое решаю за нее, и молчит она совсем по иным, одной лишь ей ведомым причинам. Но меня это устраивает, мне не хочется вести светской, ни к чему не обязывающей беседы, ведь — если быть честным перед самим собой — то К. сейчас не больше чем случайная попутчица, а значит, можно и помолчать, тем более, если сам ты бежишь, как бегу я — от Сюзанны и того ужаса, что ждет меня впереди и что порожден не только моей фантазией.
— Мы долго так будем плыть? — наконец спрашивает К.
— Надоело?
— Да нет, мне так хорошо, как уже давно не было…
— Тогда сидите спокойно, — говорю я, — и мы еще поплаваем, хорошо?
— Хорошо, — отвечает она и вновь замолкает, откинувшись на корму и опустив одну руку в воду, совсем как маленькая девочка, что катается с отцом на лодке (сейчас мне не хочется приводить аналогию с влюбленной парой). Я же вновь возвращаюсь мыслями к Сюзанне, меня вдруг не на шутку начинает волновать, обнаружила ли она мое (именно что мое, повторю — пока К. не больше чем случайная попутчица, на ее месте в лодке мог быть кто угодно) бегство, и если да, то что собирается предпринять? Ведь не может быть, думаю я, чтобы она позволила мне вот так, просто взять да бежать, оставив ее наедине с ее же властелином, недаром она так часто убеждала меня в том, что я сам вскоре предстану перед ним, чтобы это было случайно и не играло никакой роли в ее, Сюзанниной, судьбе. Видимо, ставки слишком велики, думаю я, а значит, что ни о каком бегстве без погони не может быть и речи, а погоня — это всегда пальба, всегда кровь, по крайней мере, если верить теле– и кинобоевикам. Я же не люблю крови, а от пальбы у меня закладывает уши. Что же, мозг ясен, сердце работает уверенно и четко, если нельзя убежать вот так, сразу, то можно убежать через несколько дней, взяв хитростью, изворотливостью, создав такой поворот сюжета, чтобы бегство было естественным, а не внезапным, например, я могу разыграть, что у нас с К. и в самом деле начался роман, вот тут–то и возникает необходимость совместного отъезда, конечно, придется сделать К. единомышленницей, но отчего бы и нет, сколько она может оставаться статисткой в этом запутанном лабиринте невнятных ходов, по которым я и сам пробираюсь с трудом, решено, думаю я, надо предложить К. стать моей подельницей, вовлечь ее в эту, не нами придуманную игру, хотя порою кажется, что сама она не стремится к этому, а интересно, к чему она, собственно говоря, стремится? Я опускаю весла в воду и перестаю грести, лодка продолжает плыть по инерции, я же смотрю на К. — она надела мой свитер, ей уже не холодно, она все так же булькает рукой в воде, ну действительно — девчонка–подросток, дорвавшаяся до развлечений и еще не знающая, что уготовила ей жизнь. Она не знает, но знаю — к сожалению — я, потому и не стремлюсь вступать с ней в долгий разговор, а просто говорю:
— Ну что, плывем обратно?
Она кивает, я вновь налегаю на весла и разворачиваю лодку (как и было обещано в предыдущей строке) обратно к берегу, полночь давно осталась там, по направлению к горным склонам, уже второй час ночи и послушные детки должны бай–бай, и, что бы ни думала Сюзанна о том, как мы с К. провели эту ночь, она все равно не права, ибо я выиграл описываемую часть партии, хотя это, конечно, еще ничего не значит, ведь главное — не поддаться собственному успеху, а посему надо как можно тщательнее закамуфлировать следы нашей лодочной прогулки (связку ключей я кладу на то же место, где их обнаружил, весла же, предварительно протерев удачно отыскавшейся ветошью, поставил в ячейку, отправив вслед за ними на полагающуюся жилплощадь и черпак) и вернуться в пансионат. Я проводил К. до дверей ее комнаты, пообещав, что мы встретимся за завтраком, а сам направился — что вполне естественно — к себе. И, тихо войдя в номер, стараясь лишний раз не скрипнуть половицей, обнаружил, что Сюзанна не спит, а ждет меня, сидя все в той же дневной позе (скрестив под собой голые ноги, как индийский факир) на кровати.
— Ну и что тебе удалось? — спрашивает жена.
10
И мне опять становится страшно. Даже физически я начинаю ощущать присутствие в комнате чего–то абсолютно чуждого мне, чего–то такого, что раньше никогда не ощущал в обществе Сюзанны. Конечно, это могут быть лишь проявления моих собственных дурных вибраций, ведь я прекрасно понимаю, что человек способен вообразить все что угодно, а от воображаемого до реально существующего порою меньше, чем шаг, и не мне, профессиональному романисту, опровергать это. Но я и не собираюсь заниматься подобным опровержением, я стою у входа в номер, смотрю на жену, сидящую на кровати в чем мать родила, и страх все больше овладевает мною, ноги становятся ватными, внезапная слабость заставляет качнуться назад и прислониться к дверному косяку, что с тобой, спрашивает Сюзанна, у тебя лицо белое, но я не могу ответить, я вообще не могу вымолвить ни слова, а просто стою и смотрю, чувствуя лишь, как жестокие и безжалостные эманации до сих пор неведомой энергии узкими и острыми пучками протыкают мое тело, будто кто–то, привязав меня, как святого Себастьяна, к дереву, открыл прицельную стрельбу из лука, и неужели этот «кто–то» моя собственная жена?
— Успокойся, — говорит Сюзанна и легко вскакивает с постели, — хочешь, я тебе помогу?
Я продолжаю стоять, прислонившись к косяку, стоять и все так же молчать, ибо лучшее, что я мог бы сделать (понимание этого становится столь же безжалостным и жестоким, как и та энергия, что все еще продолжает атаковать меня), так это не возвращаться в номер, а — бросив лодку на противоположном берегу озера — уйти в горы, затеряться где–то там, в мрачном и темном поднебесье, и даже К. не могла бы помешать этому, ибо как можно помешать тому, что может спасти тебе жизнь? Но я не сделал того, что был должен, я вернулся, я стою у дверного косяка, а Сюзанна, легко соскочив с постели, так ничего и не набросив на себя, подходит ко мне, властно берет за руку и говорит:
— Пойдем, тебе надо лечь, тебе очень плохо… — Я делаю шаг, не сопротивляясь, у меня нет сил, чтобы помешать этой женщине сделать со мной все, что она хочет, лишь уже упомянутый страх, жуткий, дремучий, первобытный, змееподобный страх существует во мне, и я послушно иду, влекомый властной женской рукой, все так же безмолвно валюсь на постель и смотрю в потолок, ошарашенно хватая широко открытым ртом воздух: таких усилий потребовал от меня этот коротюсенький — от двери до кровати — переход. — Лежи! — Незнакомым, тяжелым голосом говорит Сюзанна. — Я помогу тебе! — И она начинает раздевать меня, умело и быстро расстегивает и снимает рубашку, так же умело и быстро стягивает джинсы, носки и плавки, а потом вдруг моим же ремнем связывает руки, закрепив один из концов пояса вокруг кроватной стойки. Мне становится интересно, что она сделает с ногами, конечно, всего час назад не надо было прилагать особых усилий, чтобы не дать ей проделать этого, но сейчас все не то и не так, и мне остается лишь печально смотреть, как моя рубашка становится силками для моих ног, вот они стянуты, подобно рукам, нет, я не испытываю боли, я вообще не испытываю ничего, кроме уже упомянутого страха, но сейчас к нему примешиваются сожаление и печаль, но к чему сожаление, но от чего печаль? — Ты болен, — ласково улыбаясь, говорит Сюзанна, — ты очень болен, а потому мне и пришлось связать тебя, понимаешь?
— Понимаю, — почти шепотом отвечаю я, — слава Богу, что ты еще не додумалась вставить мне в рот кляп.
— А зачем? — недоумевает она. — Я не хочу принести тебе боль, я люблю тебя, пусть это ничего и не значит, единственное, чего бы мне хотелось, так это вылечить тебя, успокойся и доверься мне, лежи спокойно…
— Куда уж спокойней, — говорю, пытаясь напрячь стянутые ремнем руки, — знаешь, я не знал, что ты такая сильная!
— Все будет хорошо, — продолжает Сюзанна, как бы не слыша моей реплики, — все действительно будет хорошо, сейчас ты выпьешь лекарство, а потом уснешь, когда же проснешься, то мир станет другим, он будет новым, начнет сверкать и переливаться изумительно чистыми красками, поверь и не мешай!
Я и не мешаю, я лежу и смотрю, как она подходит к тумбочке, достает из нее какой–то флакончик (как он оказался в ней, откуда?), берет стакан для питьевой воды, стоящий рядом с наполовину пустым (или наполовину полным) графином, наливает в стакан воды из уже упомянутого графина, а потом начинает капать из флакончика, первая же капля придает бесцветной воде ярко–рубиновый цвет, он прямо на глазах начинает сгущаться, пока не становится темно–вишневым, почти черным.
— Выпей, — говорит Сюзанна. Я мотаю головой. — Не дури, выпей, ведь я не сделаю тебе ничего плохого!
Я все так же мотаю головой, и тогда Сюзанна берет стакан и подходит к кровати, с внезапной ловкостью и (повторим) совершенно несвойственной ей силой она заставляет меня открыть рот, делая при этом мне очень больно, когда же я, не выдержав, разжимаю челюсти, то она вливает в меня всю жидкость из стакана, оказавшуюся на вкус чуть сладковатой и приторно–терпкой, с легким травяным привкусом.
— Вот и все, — говорит она мне, — а ты боялся!
Я не могу ей сказать, что боюсь до сих пор, мне просто не хочется ничего говорить, я лежу и смотрю в потолок, ожидая, когда выпитый раствор начнет действовать, но пока ничего не происходит, лишь чуточку подташнивает, но ведь это от нервов, скорее всего, это просто от нервов, так что я совершенно напрасно ожидал чего–то зловещего, разве может Сюзанна желать мне зла, думаю я, ощущая, как в теле появляется необычайная легкость, несмотря на путы, которыми стянуты руки и ноги, несмотря на то, что я распластан голым на кровати, как большая бабочка в расправилке безумного лепидоптеролога, уже большая, звонкая игла проткнула ее мягкое, покрытое нежнейшим ворсом брюшко, и руки профессора с еще большим азартом тянутся к иглам поменьше — приходит черед крылышек, пора и их спеленать тонюсенькими полосками мягкой папиросной бумаги!
— Помнишь, — внезапно говорит Сюзанна, устраиваясь на кровати у меня в ногах (большой свет, ярко горевший, когда я вошел в номер, она погасила, тускло светит лишь ночник, что стоит в изголовье, на прикроватной тумбочке), — ты мне рассказывал про скульптурную группу, что видел в парке того дома отдыха, где тебе довелось побывать? — Я так же молча, киваю головой. — Еще тогда я начала догадываться, что с тобой происходит не совсем то, видимо, ты слишком много работал в последнее время, и в твоей голове совместилось два мира, один обычный, в котором и проходит наша с тобой жизнь, и тот, который ты конструируешь за письменным столом, согласен?
— Нет, — говорю, — и ты прекрасно знаешь, что дело не в этом!
Сюзанна начинает смеяться, а потом вдруг приближается ко мне и целует в губы, взасос, умело и долго, то есть так, как она не делала этого никогда, я чувствую ее голое тело, набухшую, полную желания грудь, плоский, хотя и мягкий живот. Сюзанна смотрит на меня широко раскрытыми глазами, рот ее плотно сжат, мне становится душно, комната заливается красным светом, рука Сюзанны пробегает по моему животу, гладит, отпускает меня, но это не значит, что пытка закончена, все еще только начинается, красный свет в комнате становится все гуще, он клубится, переливается, спрессовывается в непонятную массу, которую можно резать ножом как студень. Мне хочется спросить, входит ли эта процедура в прописанное лечение, я пытаюсь разжать губы, но понимаю, что это не удастся, как не удается разорвать ремень, стягивающий руки, и рубашку, плотным жгутом удерживающую ноги, как не удастся встать и покинуть эту пещеру, в которой застывшая красная масса закрывает уже верхние своды, лишь журчащая струйка воды нарушает тишину подземелья, соединяясь с хриплым дыханием Сюзанны, вновь начавшей обследовать руками мое тело.
Но внезапно я понимаю, что Сюзанна оставила меня в покое, просто исчезла, растворилась в окружающем красноватом (да будет так) мраке. Ни ее хрипловатого дыхания, ни касания теплого и властного тела — я один, вокруг пустота, да вдобавок такое ощущение, что все эти чертовы путы, всего лишь мгновение назад сковывающие меня, исчезли и я свободен, хотя что толку от подобной свободы — непонятно где и в каком окружении, лишь все та же красноватая, желеобразная масса, но хоть можно встать с ложа (не кровать ведь это), встать и сделать первый шаг.
Он дается с трудом, ноги ноют от веревок, кисти рук ломит от боли, но все это ерунда в сравнении с той свободой, которая внезапным даром свалилась на меня, и я смело (что уж совсем странно) иду в эту срамную, желеообразную, красноватую темноту, чувствуя лишь, как непонятно откуда взявшаяся вода холодит ступни ног, да порою некая мерзкая тварь — то ли крыса, то ли ящерица, хотя может ли последнее порождение Господа быть такой же волосатой, как любимый грызун всех подземелий, — невзначай касается меня и тогда озноб пробегает по всему телу.
«Но где же Сюзанна, — думаю я, — куда подевалась эта безумная женщина? Неужели ее роль окончилась и она передает меня просто из рук в руки? Вот сейчас и начинается моя дорога скорби, долгая, вековая дорога, мощенная грубым булыжником, отполированным множеством ног таких же, как и я, страдальцев. Тысячелетиями проходили они по ней, неся за собой весь убогий скарб нажитых за жизнь — чего, грехов? А насколько греховен человек, чтобы вот так, как я, попадать в руки тому, кто не просто порождение тьмы, но сам есть тьма, хотя опять же — если свет, который в тебе, тьма, то что есть тьма?»
Но тут я упираюсь в развилку дорог, хотя дорогами–то это назвать нельзя, узкие боковые ходы, то ли гномами, то ли троллями пробитые штольни, и непонятно, куда сворачивать — направо, налево? Я сую руку в карман, нашариваю коробок спичек и подкидываю вверх, решив, что если поймаю его стоймя — то идти влево, а если он упадет плашмя (очаровательная рифма: стоймя–плашмя), то, естественно, вправо… Что же, так и происходит, и вот я уже карячусь на четвереньках, красноватый, желеобразный туман рассеялся, пусть ход и узкий, но видно, что откуда–то падает свет, нет, не спереди, сбоку тоже сплошная темнота, но свет, неяркий, в описании какого–нибудь элегического романного момента я бы употребил эпитет «предвечерний», так вот этот предвечерний свет позволяет мне разглядеть стены этой чертовой штольни, блестящие, будто по ним проходят выходы золотоносной породы, хотя — скорее всего — это самый простой пирит, но я слишком далек от геологии, минералогии и прочих подобных наук, и если что и продолжает волновать меня, то это та встреча, которая — в этом я уже не сомневаюсь — ожидает меня совсем скоро, чуть–чуть, и в дамки, ваша карта бита, говорит старый игрок, приготовивший на всякий случай шандал — вдруг я играю крапленой колодой. Но тут ход (штольня, лаз, продолжайте, доверясь собственной эрудиции) делает еще один поворот, и я вновь оказываюсь в каком–то зале, его размеры мне не ясны, они скрыты постоянно клубящимся туманом, только уже не красновато–желеобразным, а светло–молочным, цвета лунного камня.
Хватит нанизывать слово за словом, пора отложить сигару в пепельницу, перевести дух, осмотреться и вновь подумать: что делать дальше, куда идти, может, назначенная встреча ожидает меня здесь, может, именно там, в самом центре этого молочно–белого тумана, высится резной трон из обсидиана, и дьявол, сатана, злобный буддийский мара уже поджидает меня, потирая руки от сладострастия и готовя все для обряда посвящения и прежде всего — да, вы правы: уже упоминавшийся в самом начале моего повествования обоюдоострый кинжал и инкрустированный золотом маленький хрустальный бокальчик, по обоим сторонам от трона его ближайшие сподвижники, и кто знает, но, может, и мне выпадет честь со временем занять такое же место, пусть для этого и придется припасть устами к зловонной заднице повелителя тьмы и осквернить свое левое запястье длинным и глубоким разрезом, из которого польется кровь — не потечет, не закапает, именно польется, алая человеческая кровь, которая смешается в этом самом бокальчике тончайшей работы (как бы мне хотелось, чтобы это было изделие самого Бенвенуто Челлини!) с темно–зеленой, почти черной, но пока все это домыслы, пока еще лишь туман, через который надо пройти, как проходят сквозь строй, как пробираются долгой и искривленной линией собственных сновидений, как вновь пытаются отыскать утробу матери, будто зная, что от жизни ничего хорошего ждать не приходится, насколько женщина несет в себе бессмертие, настолько мужчина с детства принадлежит танатосу и лишь совокупление, пусть на мгновение, но дает ему ощущение вечности, и поэтому, как бы женщины ни завидовали мужским играм, им никогда не понять того страха, что владеет каждым из нас, и мной, и всеми моими братьями, ведь смерть — это то, что неотвратимо машет крылом над твоей головой и лишь вот так: пройдя сквозь туман, дойдя до кресла из черного обсидиана, я могу обрести бессмертие, и это очень хорошо понимала Сюзанна, посылая меня на гибельную прогулку.
Но вновь облом, зал оказывается пуст, я прохожу до самого конца, туман остается за спиной, и никакого трона из черного обсидиана, никакого дьявола, сатаны, мары, вновь развилка дорог (штолен, тоннелей, лазов, кто подбросит еще парочку синонимов?), на этот раз выбирать сложнее, фокус со спичечной коробкой хорош лишь раз, так что я поступаю просто наобум и сворачиваю в первую же попавшуюся дыру, не понимая только одного — сколько мне еще плутать по собой же придуманному лабиринту и что ожидает меня в конце, может, Сюзанна просто пошутила, может, я давно уже подхватил болезнь имени Паши Белозерова, и единственное, что мне остается — занять местечко в палате рядом с ним, а не шастать уже который час по непонятному месту, в котором если кто–то и ждет тебя, то этот кто–то все еще предпочитает оставаться инкогнито, и проходят надежды на обоюдоострый кинжал и на хрустальный бокальчик тончайшей работы (чем черт не шутит, может, и действительно его делал сам Бенвенуто Челлини?), ведь ни одной души вокруг, теперь–то я понимаю всю надобность в Вергилии, но мой Вергилий — женщина с замечательным именем Сюзанна — внезапно исчезла, растворилась еще там, в гостиничном номере, в уютной комнатке пансионата «Приют охотников», где сейчас, вполне возможно, неторопливо ведет беседу с милой и обходительной К., которую ей все еще не удалось подсунуть мне в постель, а ведь это и было целью нашего приезда сюда, если, конечно, не считать целью вот это блуждание во тьме неведомого лабиринта, а ведь у меня даже нет нити, чтобы выбрести обратно, и кто знает, но вдруг остались считанные метры и то чудище, что древние именовали Минотавром, все же пожрет меня? Но зачем? Что толку, если плоть моя превратится лишь в груду костей, валяющихся на дне темной и затхлой пещеры? Лучше уж трон из обсидиана и восседающий на нем властелин: мне хочется встать на колени, мне хочется биться головой об пол и так ползти, долго, метр за метром, бороздя брюхом эту дорогу скорби, но — судя по всему — все это лишь очередная иллюзия, и реальность никогда не позволит воочию увидеть князя тьмы, пусть даже Сюзанна и сделала все возможное, чтобы это случилось. Хочется кричать, хочется взорвать стены пещеры, долбануть их динамитом или какой прочей пакостью, но вокруг вновь лишь темнота, вновь сырость и тлен, есть ли ты, спрашиваю я того, тень которого давно пытаюсь увидеть, а если есть, то кто ты и как тебя зовут, скажи хоть слово, дай знак, любой, докажи, что ты есть, ну же… И тут я слышу голос, обычный, глуховатый, произносящий еще с детства до боли знакомую фразу: «Ради всего святого, Монтрезор!»
И после этого вновь ощущаю на своем лбу руки Сюзанны.
— Надо же так спать! — говорит она с порога, улыбаясь мне нежно и понимающе. — Я уже думала, что ты продрыхнешь до вечера.
— Когда я лег? — нейтрально спрашиваю я.
— Сразу после ресторана, ты слишком много выпил, чем, честно говоря, порушил все мои планы! — И она начинает смеяться, а я же абсолютно ничего не понимаю и только смотрю на нее широко открытыми глазами.
— Так, значит, ничего не было?
— А что должно было быть? — интересуется Сюзанна.
— Ну, — мямлю я, — мне кажется, что я ночью катался с К. на лодке…
Сюзанна смеется еще громче, а потом неторопливо говорит, что уже в ресторане я начал клевать носом, когда же мы вышли, то я просто не мог идти, хорошо еще, что К. помогла ей довести меня до кровати, раздеть и уложить в постель, я захрапел сразу же, как рухнул, ей даже пришлось ночевать у К., так как я уснул наискосок постели, и она не могла меня подвинуть, впрочем, она чудесно выспалась, и они с К. уже успели погулять после завтрака, который я, соответственно, проспал, хотя это ее и не удивляет: я редко напиваюсь, но когда напиваюсь, то всерьез — и она вновь начинает смеяться.
— Значит, — продолжаю допытываться я, — так ничего и не было?
— А вот этого ты никогда не узнаешь! — вдруг очень серьезно говорит Сюзанна и предлагает быстрее завтракать, а то на кухне еду для меня и так грели во второй раз.
11
Отчего–то мне кажется, что завершенность круга — всего лишь возможность для дальнейших попыток в поисках выхода (рука Сюзанны, выводящая из мрака тоннеля), хотя меня все больше и больше начинает занимать иная тема: а стоит ли его, этот выход, искать?
В самом деле. Если предположить, что все, происходящее со мной, не есть лишь бред моего подсознания, то вполне возможно, что я могу стать самым счастливым из смертных, ведь тогда мне будет дана возможность увидеть, понять и пережить нечто такое, что дано далеко не каждому. И тут опять надо подойти к отправной точке, к тому самому пункту «А», из которого узкая, извилистая дорожка ведет к дальнейшим, соответственно, «В», «С» и так далее, в одном из которых меня и ожидает давно обещанная встреча (все же будем считать, что она еще впереди), на которой столь настаивает таинственная женщина со смешным и нерусским именем Сюзанна, хотя я‑то знаю, как ее зовут на самом деле, но вспомним лишь обезличенные «н» и «с» да еще раз повторим, что все это не имеет никакого отношения к развертывающемуся прямо на глазах сюжету.
Но прежде чем продолжить его изложение (и кто знает, куда он еще может завести), надо немного поразмышлять, и прежде всего над тем, почему именно такое пари предложила мне жена. Как уже было сказано, разговор о пари зашел в ту ночь, когда я узнал, что роман «Градус желания» выдвинут на премию Хугера. Сюзанна давно уже поговаривала, будто мой писательский труд не является чем–то богоугодным, более того, она считала, что пером моим по большей мере двигает лукавый, ведь иначе — цитирую — «ты не создавал бы в своих книгах столь мерзких созданий и такие непристойные ситуации, как это обычно у тебя получается».
Я не собираюсь вдаваться в дискуссию «автор–читатель» и долго и нудно размышлять о том, на что пишущий имеет право, а на что нет. Да, собственно, все это имеет очень отдаленное отношение к той истории, что произошла (происходит, произойдет, опять зеркала, опять мерцающая невнятица иллюзий) со мной и в попытках рассказать которую (естественно, что преобразив, переведя с языка жизни на язык текста) я провожу уже не первый день (неделю, месяц), но ведь каждый проводит свой досуг так, как ему заблагорассудится, что же касается меня, то с этим все ясно.
Дело в ином, в самой сути пари, ибо — если следовать логике Сюзанны — человек, занимающийся чем–то таким, в чем гораздо больше от сил тьмы, чем от (естественно, сил) света, должен им (силам тьмы) и продаться со всеми потрохами. Тут прежде всего не ясно, отчего Сюзанна вообразила, что все, что я делаю — всерьез, то есть абсолютно непонятно, откуда моя жена взяла, что именно дьявол двигает моим пером, а не — скажем так — некая интерпретация дьявольского сознания, то есть попытка встать на сторону того, кому и решила Сюзанна предложить мою душу. Второе. Собственно говоря, кого она имеет в виду? Если рассмотреть эту проблему, отталкиваясь от того, что дьявол — не кто иной, как падший ангел, то есть ангел света, Люцифер, сброшенный Господом за прегрешения в ад, то сразу надо отметить наличие довольно серьезных расхождений, касающихся непосредственно самой фигуры князя Тьмы. И главным здесь будет то, что кроме всем известного владетеля преисподни есть еще один, известный как «серый ангел», проще говоря, если представить картину мироздания как постоянную борьбу добра со злом (то, что именуется «массовой концепцией»), те место серого властелина — между, как бы на границе, вне, серый ангел — существо (не знаю, как обозвать его точнее), не занимающее ничью сторону, а ведь именно этим (на мой взгляд)он наиболее близок любому творцу, ибо истинный творец никогда не встает на сторону лишь одного из созданных им образов, а значит, борьба добра со злом как таковая теряет смысл и вопрос, что есть добро и что есть зло, ассоциируется тут для меня с великим парадоксом уже упоминавшегося создателя «Амфатриды», князя Фридриха Штаудоферийского: что есть Бог и что есть Дьявол?
Не думаю, чтобы Сюзанна разделяла мою точку зрения, да — если говорить на полном серьезе — я никогда не пускал ее в те тайники души (пусть критик подчеркнет мое пристрастие к банальным и клишированным идиомам), в которых можно отыскать размышления на подобные темы, хотя опять же! — я глубоко убежден в том, что размышлять — не дело пишущего человека, его задача проще: создавать то, что до него не существовало, а какие силы призывает он себе на помощь — Света, Тьмы или же серого ангела пограничья — в этом нет разницы, ибо для построения мира сгодится любой кирпичик.
Вот поэтому–то я и согласился принять пари, ведь для меня продать душу дьяволу намного проще, чем бросить писать, так как, сделав последнее, я преступлю против того, что дал мне Господь, — против собственного дара и, соответственно, тех умений, которыми Он наделил меня, ведь это (априори) в любом случае от Бога, а не от Дьявола, значит… моя встреча с последним богоугодна, как бы парадоксально это ни звучало! А вот бедная Сюзанна не понимает этого, хотя если довериться моему же собственному открытию и допустить, что она сделала то же, что предлагает мне, только намного раньше, то вероятна еще одна точка зрения: она просто провоцирует меня для того, чтобы я был намного решительнее в своем выборе (трон из обсидиана, обоюдоострый кинжал, темная, почти черная, чужая кровь). Сюзанна специально создает такие ситуации, избегнуть которых, зная, что главный писательский бич — любопытство, невозможно, и этим сама подталкивает меня туда, где бывал мало кто из смертных.
Но я добьюсь правды, любой ценой, чего бы мне это ни стоило. Не может быть, чтобы все это был лишь сон. Я хорошо помню эти часы, проведенные в странном тумане, я прекрасно вижу лицо жены, сладострастно связывающей мои ноги. Иллюзии и реальность, реальность и иллюзии, можно было бы, конечно, привлечь в свидетели К., но стоило ли, когда проще подняться к себе в номер, распахнуть дверь и…
— Что с тобой? — спрашивает (добавлю: удивленно) Сюзанна, когда я беру ее за руку и стаскиваю с кровати (все та же любимая поза: поджав крестом голые ноги). — Ты делаешь мне больно!
— Еще не так сделаю! — бормочу я и волочу ее из комнаты, она упирается, кусает меня в запястье, но я продолжаю волочить ее за собой как безжизненный куль, и она понимает, что сопротивляться бесполезно, как бесполезно и кричать, все равно я настою на своем, добьюсь того, чего должен добиться (иллюзия и реальность, туман, так и не увиденный трон из черного обсидиана), хотя сам еще плохо понимаю, что всем этим преследую и куда пытаюсь увести Сюзанну.
Куда? Открою тайну: ведь здесь, на берегу, рядом с пансионатом, я знаю каждую щель, и отнюдь не в будку лодочника (что можно предположить) веду жену. Не собираюсь я и увозить на противоположный берег, нет, все это слишком сложно, да и потом — мне не нужны свидетели, то, что я собираюсь проделать (а я уже хорошо понимаю, что), касается лишь двоих — меня и моей жены, но тогда почему (предположим) не в номере?
На это тоже есть ответ. Вспомните ту ночь, правды о которой я пытаюсь добиться сегодня с самого утра (точнее, с полудня), и вы поймете, что в номере мне ничего не удастся, ибо он полон подвластными Сюзанне духами, и я проиграю, еще не выйдя за канаты. А ведь гонг прозвучал, рефери взмахнул рукой, что, вам все еще непонятно, куда я веду Сюзанну? Слушайте.
Неподалеку от пансионата, стоит лишь пройти будку лодочника и повернуть в сторону гор, начинаются густые заросли репейника, крапивы и иван–чая, посреди которых расположены развалины то ли амбара, то ли сарая, то ли какого еще подсобного помещения. Потолок просвечивает, да потолка–то, собственно, и нет, деревянный настил, из щелястых досок, сразу над которыми трухлявые стропила, поддерживающие дырявую, крытую рваным толем крышу. Видимо, раньше здесь хранили сено, может, что это вообще был хлев, но — судя по всему — уже много лет никто не пользуется этим прелестным строением, за исключением, правда, забулдыг и подгулявших парочек, впрочем, несколько раз во время своих экскурсий по окрестностям я забредал в эту развалившуюся хибару, и ни один человек мне не встретился, лишь ветер дул сквозь щели в стенах, да пустые осиные гнезда хрустели под ногами.
Вот в это–то райское пристанище я и тащил Сюзанну, хотя внешне это выглядело так, будто супружеская пара решила прогуляться и мило направляется в сторону от пансионата, цель же прогулки не интересна никому, кроме самой парочки, и не стоит провожать их глазами, мало ли что собираются делать эти двое добропорядочных и милых людей?
Сюзанна покорно шла рядом, поняв, что я не шучу, и не стоит сопротивляться, да и потом — кто знает, что думала моя жена о цели нашей прогулки? Главное, что она не подозревала о конечной цели — уже упомянутом полуразвалившемся (полу, полностью — какая разница, это просто антураж, декорации для сюжета, не больше) амбаре (это определение развалюхи нравится мне больше всего), окруженном почти непроходимыми зарослями репейника, крапивы и иван–чая, то есть таком месте, куда нормальный человек по своей воле не пойдет, как никогда не пошла бы она сама, но вот вынуждена продираться, царапая и обжигая ноги, да еще подталкиваемая мною в спину: быстрее, как бы говорю я, быстрее!
Но вот цель достигнута, я вталкиваю Сюзанну под зияющую дырами крышу и, не говоря ни слова, тащу в дальний угол, где давно уже приметил два столба, поддерживающих — по замыслу неведомого мне пейзанского архитектора — то, что когда–то давно можно было назвать потолком.
— Что ты собираешься делать? — в ужасе спрашивает Сюзанна. Я молчу, я молчу сегодня весь день, но это не значит, что я не знаю, что собираюсь сделать. Заранее приготовленная бухточка крепкой веревки лежит под ногами, привязать же брыкающуюся Сюзанну к одному из столбов — как бы она ни сопротивлялась — дело нескольких минут, и я привязываю ее, внезапно ощущая не только тело, уже забытое за последнее время, но и странное желание овладеть им прямо тут, в дурно пахнущем сарае (амбаре), но ведь не ради этого затеял я все описываемое безумие, и вот я срываю с Сюзанны кофту, снимаю лифчик (нежно–розового цвета, с большими и твердыми чашечками, в которых она так любит покоить свои груди) и беру широкий кожаный ремень с тяжелой металлической пряжкой, настоящий ковбойский ремень, которым можно не только изуродовать, но и убить.
— Ты сошел с ума, — кричит Сюзанна, — ты еще пожалеешь об этом!
— Не думаю, — медленно и спокойно отвечаю я, поигрывая ремнем перед ее лицом, — мне терять нечего, а от тебя лишь и требуется, что сказать правду!
— Но ведь ничего не было, — испуганно кричит она, — ты и так все знаешь, так какую правду тебе надо?
Я подхожу ближе и осторожно провожу кончиком ремня по голому животу.
— Ты сама знаешь, какую, — говорю я, — расскажи мне правду о прошедшей ночи, о том, сон это был или явь, и я отвяжу тебя. Но пока… — И я взмахиваю ремнем, правда, вполсилы, но Сюзанна вскрикивает, испуганно, беззащитно, по плечу — куда я попал ремнем — проходит широкая розовая полоса, в ее глазах появляются слезы, ты безумен, кричит она, ты сошел с ума, мне жаль ее, мне безмерно жаль ее, но я должен добиться ответа, мне надо узнать правду, всю правду, и я снова взмахиваю ремнем, но не успеваю ударить, ибо чья–то сила, намного превосходящая мою, задерживает руку в воздухе. Я оглядываюсь, но никого не вижу, лишь приоткрытая, поскрипывающая под ветром дверь сарая, и больше ничего. Я вновь пытаюсь взмахнуть ремнем, и снова ничего не получается, я чувствую мучительный спазм в желудке и вдруг начинаю блевать, прямо тут, стоя перед привязанной к столбу Сюзанной, на коже которой все еще виден след от удара ремнем, меня выворачивает мерзко и долго, не знаю, что откуда взялось, ведь сегодня я почти не ел, но я блюю и блюю зелено–желтым месивом, слишком густым для того, чтобы быть желчью.
— Развяжи, — спокойно говорит Сюзанна, — видишь, для тебя это может плохо кончиться!
Я валюсь на землю, нет даже желания отодвинуться от кучи той мерзости, что извергнулась из меня мгновение назад, хотя от нее несет смрадной вонью, будто тут испражнялась стая злобных и хищных тварей, питающихся лишь гнильем, трупами да отбросами.
— Развяжи меня! — уже совсем твердым и властным тоном говорит Сюзанна, но я не могу встать, и тогда она вдруг напрягает мышцы рук, и крепкая — я ведь специально проверял! — веревка рвется, как тоненький бумажный шпагат, лишь глухо хлопают разлетающиеся концы. Сюзанна разминает затекшие руки и, даже не прикрыв голую грудь, подходит ко мне.
— Идиот, — мягко и нежно говорит она, — чего ты лезешь не в свое дело, видишь, чем все кончилось!
Я смотрю на нее снизу вверх и вновь давно не испытываемое желание овладевает мною, хотя — надо прямо сказать — это более, чем странно сейчас, ведь некто вычерпал всю мою силу, заставил сложиться непристойно–прямым углом, извергнув из меня прорву дурно пахнущей желто–зеленой дряни. Я сижу на земле у ее ног, мне хочется плакать от собственных слабости и никчемности, но одновременно я хочу прямо здесь и сейчас войти в Сюзанну и насладиться ею так, как у меня этого не получалось с нашей первой ночи, с той самой, которая была много лет назад, в большой и странной трехкомнатной квартире с круглым некрашеным столом, старым креслом и тенью тетушки, отъехавшей в неведомые Карталы. Парки, Парки, что вы делаете со мною!
И Сюзанна понимает, что происходит с ее мужем, она нежно стирает блевотину с моего лица, потом валит на спину и укладывается на меня так безмятежно, будто это не я только что пытался избить ее в кровь, привязав перед этим к столбу толстой и крепкой веревкой, украденной из каморки лодочника и предусмотрительно занесенной в хибару (я понимаю, что противоречу сам себе, несколькими страницами ранее признавшись в спонтанности замысла и воплощения, но только не спрашивайте меня о том, как все было на самом деле, повторю: мерцания, зеркала, иллюзии…). Она ложится на меня, расстегивает мои джинсы, лицо ее становится успокоенным, глаза закрываются, я чувствую влажную глубину, и Сюзанна кричит, только вот крик этот совсем не похож на тот, что я слышал сколько–то минут назад, когда мой ремень оставил все еще не проходящий след на ее красивом, полном, смуглом плече. Этот крик совсем другой, он полон сладкой истомы, и я сам закрываю глаза и проваливаюсь во что–то мягкое и покачивающееся, меня уже не интересует правда той ночи, что толку, если я и узнаю ее, каким образом может это повлиять на мою дальнейшую судьбу, о, Парки, Парки, шепчу я про себя, так и не пригодилась мне ваша очередная тоненькая ниточка, из лабиринта нет выхода, а значит, его не стоит и искать, хотя не вечер, думаю я, еще не вечер, и пусть прозвучал финальный гонг и рефери засчитал мне поражение, это ничего не значит, как ничего не значит и то, что Сюзанна сладко заходится на мне, пытаясь продлить феерическое ощущение и три раза оглашая стены — щелястые, грязные, дощатые стены — торжествующим воплем, превращаясь в тень грозного каманча, содравшего скальп с врага, и враг этот распластан под ней, но это ничего не значит, как я уже говорил несколькими строчками выше, ибо я так и не узнал всей правды о минувшей ночи, а теперь к этой загадке примешалась еще одна — кто задержал мою руку в тот момент, когда я хотел вновь хлестнуть Сюзанну ремнем, и откуда в моей жене взялась такая сила, что она смогла — и это ей ничего не стоило! — порвать крепкую и толстую веревку, которой я спеленал ей руки и плотно привязал к столбу, к тому самому столбу, что различим сейчас за обнаженным Сюзанниным плечом, чуть вправо, то есть вправо над плечом, если быть точным, но тут Сюзанна сползает с меня, одевается и говорит: пойдем, пора!
— Куда? — недоумеваю я.
— Обратно в номер, тебе надо лечь.
— Я нормально себя чувствую.
— Ты так считаешь?
Я улыбаюсь. Ведь я действительно чувствую себя нормально и разве только что не доказал это Сюзанне?
— Да и потом, — говорит жена, — мы с тобой совсем забыли про К., а это не по правилам.
— Ты еще не отказалась от залога? — интересуюсь я. Сюзанна не отвечает, лишь мотает головой, будто говоря, что она никогда и ни от чего не отказывается.
12
И она действительно не отказывается, ибо в последний вечер нашего пребывания в пансионате вновь приглашает К. составить компанию, и стоит ли объяснять, кому? На этот раз мы облюбовываем не ресторан — стоит ли дважды входить в одну и ту же воду (правда, хитросплетения сюжета все время подталкивают меня к опровержению Гераклита), и не успевший поднадоесть берег с будкой лодочника, пирсом и прочими озерными радостями, и не нашу с Сюзанной комнату — но только не надо считать, что она больше не будет использована как декорация финального акта, ее черед наступит в последней сцене, но еще не время, напеваю я, бреясь перед маленьким переносным зеркальцем, так как ванная с настенным зеркалом оккупирована Сюзанной, которая тоже наводит предгостевой марафет, ибо: да, мы званы на прощальный ужин, К. пригласила нас с ответным визитом, кошмар минувших дней остался позади, хотя это, как водится, абсолютно ничего не значит, ведь история наша так же далека от конца, как и от начала, но стоит ли возвращаться к первым страницам моего рассказа, начинающегося, если не изменяет память, с того самого дня двадцатого июля, когда приблизительно в одиннадцать часов утра раздался телефонный звонок и…
Опустим все, что идет после многоточия. В данный момент (в сию минуту, в настоящее мгновение, сейчас, то есть в сей — конкретно этот проходящий, проистекающий — час) меня гораздо больше интересует то, что еще лишь должно произойти, а именно уже упомянутый ответный визит к милой и все еще не определившей свое истинное место среди двух других героев столь неторопливо развивающегося действа К., так что надо поторопить Сюзанну, а то есть у нее такая привычка — всегда и везде опаздывать, впрочем, женские сборы на рауты, суаре и банкеты, а также на прочие званые мероприятия, как и в прочие же присутственные места, — вещь, не подвластная мужской логике, а значит, можно поставить точку, ибо я уже стучу в дверь, за которой и обитает наша (повторю) милая конфидентка.
К. встречает нас и приглашает пройти, комнатка чуть поменьше той, что досталась нам с Сюзанной, маленькая такая комнатенка на одного постояльца, с кроватью, небольшим столиком, креслом и стулом, стол подвинут к кровати, на нем разложены красивые кружевные белые салфетки, которые — в свою очередь — уставлены круглыми пластмассовыми тарелочками с разнообразной холодной снедью, да высится посреди них этаким залетным мастодонтом бутылка замороженного (холодильник в дальнем левом углу) шампанского, полусладкого, местного разлива, вот только пить его придется из пластмассовых же кружечек, ибо откуда здесь взяться томным фужерам на тонких ножках, радостно звенящим, когда сдвигаешь их в эйфории застольного экстаза, бликующих и переливающихся всеми цветами спектра, как живой пример к игре в «каждый охотник желает знать, где сидит фазан».
Вот только кто из нас охотник, а кто фазан? Но пока вопрос этот остается без ответа, что же касается милой троицы, то она занимает отведенные каждому места: Сюзанна садится в кресло, мы же с К. — на кровать, столик (вновь полюбившаяся разноголосица скобок, справа налево и слева направо) оказывается между нами (случайно выпавший из предыдущей строчки оборот «таким образом»), дамы просят открыть шампанское, что я и делаю с превеликим удовольствием, ибо пора — наконец–то! — тронуться с мертвой точки (и на этот раз всего–навсего избитая идиома).
— За что будем пить? — спрашивает К., глядя, как я разливаю пенящийся (иначе не обзовешь) напиток по трем аккуратным пластмассовым кружечкам, составляющим, судя по всему, единый комплект с пластмассовыми же тарелочками, вопрос, надо сказать, воистину глобальный, ибо от ответа на него во многом зависит то, как дальше будет развиваться сюжет. То есть налево пойдешь — сами понимаете, направо — будет еще хуже, ну а если прямо…
— За исполнение желаний! — поднимает свою кружечку (ей досталась посудина легкомысленно–желтого цвета) Сюзанна, отправляя этим всю нашу компанию как раз прямо, то есть в тартарары, к черту на кулички, то бишь на дорогу, мощенную грубым кирпичом и ведущую, что совершенно естественно, в ад.
Мы с К. послушно присоединяемся к тосту, а потом К., дождавшись, пока я разолью по кружкам еще одну порцию достойного хрусталя (так и хочется к хрусталю добавить определение «баккара») напитка, тихо просит кого- нибудь из нас (она так и говорит: «прошу кого–нибудь из вас») толково объяснить ей, что, все же, происходило в последние дни, ибо она совершенно ничего не понимает и ей бы не хотелось уезжать с тяжелым чувством на сердце, тем паче (уже мой оборот, не ее) она к нам, то есть ко мне и к Сюзанне, привязалась, более того, ей бы хотелось и впредь поддерживать отношения, и тут вдруг она смотрит на меня странным, немного отсутствующим взглядом, хотя слово «немного» можно вычеркнуть.
— Что тебя интересует конкретно? — улыбаясь, спрашивает Сюзанна, вновь поднимая свою легкомысленную кружку, на этот раз уже безо всякого тоста.
К. мнется, она боится спросить конкретно, ибо как спросишь о том, что есть полный, абсолютный бред, и действительно: не бред ли, если законная жена предлагает тебе стать любовницей ее законного (замечательный оборот, не так ли?) мужа, но при том ведет все таким образом, что это смахивает на розыгрыш, хотя кто кого разыгрывает — одному Богу известно, впрочем, скорее всего, не Богу, а тому, имя чье столь часто произносится среди их милой компании (судя по всему, К. не исключает себя из нашего треугольника, то есть мы для нее уже как бы стали единым целым, точно так же, как в свое время единым целым был наш треугольник с Пашей, хотя стоит ли об этом вспоминать?), да и вообще, говорит К., я что–то перестала понимать общий смысл происходящего, такое ощущение, будто то ли автор, то ли вы сами, любезные друзья, позабыли о моем существовании, хотя и вытащили на свет, уж лучше бы, Сюзанна, я действительно переспала с твоим мужем, даже с тобой в его присутствии, с вами обоими сразу — тогда я хоть немного поняла бы суть моего появления на этих страницах. Но вот так… Да и все эти постоянные разговоры о том, что кто–то уже продал душу, а кто–то только собирается, ну не синдром ли Кандинского — Клерамбо все это? — спрашивает К., выказывая недюжинные познания в области психиатрии и одновременно прокладывая еще одну возможную тропинку в развитии лабиринта сюжета, но оставим ее на будущее, сказав лишь…
— А чего тут непонятного? — удивляется Сюзанна. Она допила очередную порцию шампанского и приятно раскраснелась, глаза ее увлажнились, и одновременно в них возник — так и хочется написать «инфернальный» — блеск. — Если ты чего–то не понимаешь, дорогая, то это еще не значит, что ничего не происходит. Есть определенная цепь событий, пусть она и кажется кому–то (тебе, милая К., только тебе) странной, но в ней заключена своя логика, не так ли? — внезапно обращается она ко мне.
— Не знаю, — говорю я, — по крайней мере, я не вижу тут никакой логики, а главное, мне самому не всегда ясно, кто же вовлекает нас во все эти развлечения…
— Хотите еще шампанского? — растерянно спрашивает К.
Мы киваем, и К. отправляется к холодильнику, дав нам с Сюзанной незапланированную возможность обменяться краткими репликами по ходу действия.
— Чего ты добиваешься? — тихо спрашиваю я у Сюзанны.
— Справедливости, — так же тихо отвечает она и радостно приветствует еще одну бутылку охлажденного шампанского.
— Так значит, — продолжает моя жена прерванный К. разговор, — вам бы хотелось узнать не только смысл происходящего, но и то, кто стоит за всем этим? Сие несложно, вопрос в ином — а нужно ли? Скажу лишь одно: даже в том, что ты, моя милая К., именуешь бредом, есть совершенно жесткая причинно–следственная связь, что же касается дьявола… — Да, — продолжает она, помолчав минуту, — что же касается дьявола, то ты можешь спросить о нем моего мужа, дорогой (вот и моя очередь, кассир уже готов выписать билет, пришла пора залезть в карман и достать толстую пачку замусоленных купюр), довелось ли тебе с ним встретиться?
Что я могу ответить? Что обещанная встреча не состоялась? Что я долго ползал по непонятным штольням, дырам, тоннелям, плутал в лабиринте, в самом центре которого должен был находиться обсидиановый трон? Что я слышал смех, сопровождавший меня, хотя, может, это был всего–навсего смех Сюзанны? Что я должен говорить? Что я сошел с ума и место мое — среди моих собственных героев, ведь если они являются твоими созданиями, так это не значит, что они не воздействуют на тебя точно так же, как и ты на них, иллюзия есть реальность, а реальность есть иллюзия, это уже не гипотеза и. не теорема, это аксиома, а дьявол… Видел ли я его?
Я смотрю на Сюзанну, смотрю долго и пристально и понимаю, насколько все же мне дорога эта женщина, пусть даже жизнь моя с ее появлением стала еще безумнее, чем всегда. Мы разные, мы абсолютно разные, я — человек плоти, человек крайностей, любитель рискованных затей и всяческих экспериментов. А она… И кто, кроме меня, виноват в том, что ее душа давно продана, дана в залог, ведь ради моего спасения сделала она это, Сюзанна, милая, хочется воскликнуть мне, прости за все, прости за иезуитскую пытку, которой я подвергаю тебя все эти долгие, мучительные годы, прости за то, что я пытался избить тебя в этом дурацком сарае, хотя, надо сказать, ты прекрасно отомстила мне, унизив и надругавшись так, как это только можно сделать с мужчиной — взяв его слабого и беспомощного, покрытого собственной блевотой, а тот, кто стоит за тобой — я все же хочу этой встречи, я готов к ней, но вот когда, хочется спросить мне Сюзанну, но она не отвечает, я вдруг замечаю, что лицо ее начинает белеть, грудь учащенно вздымается, руки дрожат, зрачки неестественно расширяются, она начинает хрипеть и хвататься руками за горло, вот ее корежит, она складывается пополам, голова начинает трястись как у эпилептички, хотя ничего подобного за ней никогда не наблюдалось, мне становится страшно, милая К. вообще приходит в ужас и вскакивает с места, стремясь, по всей видимости, броситься за помощью к кому–нибудь, кто поблизости, но ведь поблизости никого, будем считать, что «Приют охотников» пуст, только наша троица, наш треугольник, да еще тот, кто за — за мной, за Сюзанной, да даже милейшая К. не избежала этой силы за своей гибкой, мальчишеской (и это несмотря на неполные тридцать лет) спиной, трое плюс один, где ты, хочется воскликнуть мне, ну покажись, выйди из тьмы, яви свой лик свету!
Молчание, все так же изгибается в безумном болевом приступе Сюзанна, все так же готова броситься за помощью К., но я‑то прекрасно понимаю, что все бесполезно, игра проиграна, герои вышли из подчинения, даже я уже не принадлежу сам себе, это долгое мотание там, в красном, желеобразном тумане, сменившемся туманом цвета лунного камня, здорово изменило меня, пусть так и остался не найденным трон из черного обсидиана и острое лезвие кинжала все еще не коснулось моего левого запястья, хотя кто знает, иллюзия есть реальность и наоборот, Сюзанна продолжает хрипеть, не хватало еще, чтобы ее начало рвать, и тогда все поменялось бы местами — вчера стало сегодня, а сегодня превратилось во вчера, что с тобой, хочется спросить жену, но нет голоса, горло перехватил неведомый ужас, наверное, такой же, какой написан сейчас на лице у К., которая хочет тронуться с места, но не может и только и способна, что смотреть, как Сюзанне становится все хуже и хуже, конвульсии делаются сильнее, вот она уже бьется головой об стол, и тут я нахожу в себе силы прекратить не мной навязанное течение сюжета, встаю с места и крепко сжимаю Сюзанну в объятиях.
Она успокаивается, конвульсии замедляются, а потом исчезают, как исчезают хрипение и дрожь. Она обмякает в моих руках, глаза ее закрываются, она теряет сознание. К. находит в себе силы помочь мне довести Сюзанну до дверей, а потом, когда я уже веду жену по коридору, внезапно спрашивает:
— Ты вернешься?
— Не знаю, — честно отвечаю я, почувствовав вдруг оглушительную усталость и только одно желание — чтобы все это поскорее кончилось, наступило утро, мы сели в катер, который доставил бы нас (донес, довез, домчал) до противоположного берега, где бы уже поджидал автобус, чертово озеро, проклятый пансионат, ударение на первом, а не на втором слоге, а потом домой, как можно скорее домой, но пока еще ночь только начинается, я довожу Сюзанну до номера, открываю дверь, помогаю дойти до постели, раздеваю сам, как маленькую, заснувшую на ходу девочку, закутываю одеялом и сажусь рядом, держа ее руку в своей.
— Ты на меня не сердишься? — вдруг спрашивает Сюзанна (глаза у нее опять закрыты, так что я не вижу той бесконечной, пугающей пустоты, что столь потрясла меня в момент ее припадка, но голос, но ставшее теплым дыхание дают понять, что жена приходит в себя).
— За что?
— Мне там так одиноко, — продолжает, все так же не открывая глаз, Сюзанна, — разве ты не можешь составить компанию, ведь мы уже столько лет вместе…
И тут я начинаю кое–что понимать, но понимание пока еще не оформилось во что–то конкретное, так, ощущение, не больше. Я глажу Сюзанну по руке и жду, чтобы она заснула, но она никак не может уснуть и все продолжает и продолжает куда–то звать с собой, в какую–то неведомую землю с невнятным названием, называя меня отчего–то при этом Александром, Сашей, Александром Сергеевичем, Алехандро, и фамилию называет — Лепшин, странная такая, смешная фамилия, Александр Сергеевич Лепшин, кто такой и куда она зовет меня в этот ночной час, такая родная сейчас (час — сейчас, естественно, что непреднамеренная игра окончаний) и несчастная, что чувствую себя виноватым, но опять же — отчего, Александр Сергеевич, милый вы мой Алехандро, спрашиваю сам себя и чувствую, что жена заснула, а значит, надо встать и пойти к К., ибо еще не утро и разговор не то что закончен, он еще и не начат, сюжет развивается так, как и должен: поступательно, неумолимо преодолевая все препятствия, заставляя меня оставить спящую жену в номере, быстро и тихо добраться до комнатушки К. и отрывистым, резким стуком поднять ее с постели.
— Это ты? — спрашивает она.
— Да, — приглушенно отвечаю я, и К. открывает дверь, впускает меня за порог и долго и пристально смотрит мне в глаза, будто пытаясь понять, что последует за ночным визитом и случится ли то, ради чего она возникла на этих страницах. — Нет, — отвечаю я, — как бы мне этого не хотелось, но наш с тобой поезд прошел мимо, я просто хочу поговорить…
— О чем? — спрашивает К.
Я прохожу в комнату, горит настольная лампа, столик прибран, вот только початая бутылка с шампанским сиротливо стоит на окне у кровати, да рядышком приютились две пластмассовые кружечки, синяя и красная, где–то потеряв свою третью подружку — легкомысленно–желтую посудинку, из которой пила шампанское моя жена.
— Наверное, о том, что я прежде всего должен попросить у тебя прощения. Ведь во многом именно благодаря мне ты появилась на свет, да и твоя собственная драма — разве это не порождение моего больного воображения? А то, что Сюзанна решила уложить нас с тобой в одну постель — знаешь, это дело не дьявольского желания, просто Сюзанна женщина настолько неординарная, что предпочитает исключительно нетривиальные решения, хотя тут–то она ошиблась, и мне даже кажется, что я знаю, чем все должно кончиться…
— Чем?
— Осталось немного, так что давай попьем чаю и подумаем, что бы могло быть, если бы мы встретились с тобой по–другому, к примеру, если бы ты действительно была героиней моего романа «Градус желания», а я тем самым незадачливым любовником, что встал у тебя на пути…
К. опять ничего не понимает, она смотрит с недоумением, халатик, в который она успела переодеться, невзначай распахивается, и я прекрасно вижу ее грудь, которая, впрочем, не будит во мне желания, как не разбудил бы его сейчас даже целый гарем из самых соблазнительных гурий, что водятся лишь в небесном раю ассасинов, этих рабов Горного старца, хотя не о нем речь, просто ассоциации по поводу, запахни халат, прошу я К., это ни к чему, поезд ушел, я вновь повторяю ей эту фразу.
— Но тогда зачем? — спрашивает она.
— Тебе нужен честный ответ? Не знаю. Порою случаются такие странные вещи, что ты сам не понимаешь, что происходит, как бы должно случиться одно, но происходит совершенно другое, конечно, я бы мог сейчас сдернуть с тебя халат, повалить на кровать и в полной мере насладиться всей прелестью твоего узкого и влажного лона (тут К. краснеет), я бы входил в него долго и медленно, и долго и медленно мы бы извивались с тобой на скомканной и влажной от нашего пота, застиранной и плохо отглаженной местной простыне, в которую все глубже и глубже впечатывались бы наши тела, в ожидании того момента, когда ты приняла бы меня всего в свое внезапно успокоившееся межножье, чего, собственно, и хотела бы Сюзанна, но этого не будет, как не будет ничего, ибо тот, кто задумал все это, внезапно решил сменить правила игры, пересдать колоду и начать все сначала, хотя порою мне кажется, что это просто невозможно, все зашло уже так далеко, да и потом: не нам, смертным, знать то, чего хотят те, кто управляет нами, впрочем, порою мне кажется, что я‑то в курсе их желаний, и сейчас скажу тебе, что ты должна сделать.
— Что? — спрашивает К.
— Если бы ты читала мой роман «Градус желания»… — говорю я, но тут в дверь стучат, и К. идет открывать, на пороге виднеется темный силуэт Сюзанны, сжимающей в руке что–то большое, длинное и тускло поблескивающее, что–то такое, что должно, по всей видимости, бабахнуть. Сюзанна, отстранив К., входит (врывается, вбегает, пусть каждый подберет глагол, милый его сердцу) в комнату и говорит:
— Ну что, Александр Сергеевич! — С этими словами она нажимает на курок, естественно, вспышка, естественно, оглушительно громыхает, я чувствую внезапную боль и невозможность дышать и падаю (точнее же говоря, пуля заставляет мое тело влепиться в стену), успев — что тоже совершенно естественно — подумать о нарушении всех правил игры, ведь — если следовать роману «Градус желания» — то отнюдь не Сюзанна, а милая и нежная К. должна была произвести этот роковой выстрел, ради чего, собственно говоря, я и вернулся в ее номер, выстрел, за которым… Но тут мое сознание (что тоже совершенно естественно) меркнет, и наступает тьма.
Часть вторая Бегство в Элджернон (Вивиан)
1
На одной из предыдущих страниц промелькнуло имя главного героя, таким образом, инкогнито раскрыто, а значит, можно перейти к тому странному утру, когда Александр Сергеевич, Саша, Александр, Сашка… Но тут появляются уже знакомые интонации, а это означает, что абзац надо начинать снова, причем — с уточнения.
Дело в том, что Сюзанна ошиблась, и фамилия Александра Сергеевича была не Лепшин, а Лепских, хотя опять же — какого Александра Сергеевича Сюзанна имела в виду? Впрочем, вопрос можно сформулировать иначе, и тогда все встает на свои места: кто такая Сюзанна и какое право имеет она говорить о нашем добром знакомом, Алехандро (исключительно для разнообразия, но это ведь не хуже, чем по имени/отчеству, не так ли, Александр Сергеевич, спрашиваю я, так, милостивый государь, истинно так, соглашается Алехандро) Лепских, который о ее существовании, как говорится, знать не знает и ведать не ведает, что не мешает, однако, самому господину Лепских прекрасно существовать под небом, хотя насколько прекрасно — это особый вопрос. Так вот, инкогнито раскрыто, необходимое уточнение вроде бы как внесено, можно переходить к делу, то бишь к повествованию, то есть вновь плести кружева сюжета и — опять же — начать надо с того замечательного утра двадцатого июля одна тысяча девятьсот девяносто какого–то года, когда ровно в одиннадцать часов утра раздался телефонный звонок и милейший человек, добряк и бонвиван (странное уточнение), стройный, хотя и давно уже облысевший, сорокалетний (почти, надо заметить, чуть–чуть не хватает) мужчина с уже известными нам именем–отчеством–фамилией, то есть Александр Сергеевич Лепских взял трубку и пришел в большое недоумение, ибо заговорили с ним на замечательном английском языке, впрочем — судя по раскатистому «р», скороговорке и иным деталям, говорящий был американцем, но опять же — для Александра Сергеевича, милейшего и добрейшего Алехандро, это не имело никакого значения, ведь единственным языком, на котором А. С. Лепских изъяснялся более чем грамотно, был русский, английский же со времен окончания высшего учебного заведения (большого, но провинциального университета, в котором Алехандро изучал классическую филологию, перемежая эти штудии пропуском лекций по соцреализму и прочей абракадабре, впрочем, давно это было, грустно улыбается Алехандро, скобка закрывается) он подзабыл настолько, что мог сказать лишь несколько фраз, приводить которые мы не будем, ибо не в них дело, а в том, что поначалу Александр не мог врубиться (въехать, включиться) в то, что вещали ему с той стороны телефонного провода, то бишь из–за океана, из города то ли Круффельд, то ли Скроуффилд (обязательно с двойным «ф»), алло, кричал Алехандро, алло, ему снова начинали что–то втолковывать, ай донт андэстэнд, взмолился наконец Александр Сергеевич и добавил: если можно, по–русски! На том конце телефонного провода, за океаном, в городе то ли Круффельд, то ли Скроуффилд (и еще раз обязательно с двойным «ф»!) опомнились, и возникла заминка, но продолжалась она не больше минуты, затем в трубке раздался ломаный (как и положено в таких случаях) голос с невообразимым (что тоже как бы положено) акцентом, который и повторил улетучившуюся в никуда английскую речь заново, но уже на приемлемом для А. С.Лепских уровне понимания, что и попытаемся воспроизвести.
— Это господин Лепских?
— Да, да, это господин Лепских…
— Вам звонят из города Скриффельд, штат (тут опять делаем прочерк, ибо вновь слышна английская невнятица), что в Соединенных Штатах Америки, то есть вам звонят из Соединенных Штатов Америки, вы нас хорошо слышите?
— Хорошо, — отвечает Александр Сергеевич, безмерно удивляясь тому, что он и в самом деле хорошо слышит.
— Вам звонят из университета имени (тут вновь следует пропуск), с кафедры славистики, мы хотим вас поздравить, господин Лепских…
— С чем же это? — интересуется Алехандро.
— После долгих размышлений именно вам решено присудить премию Крюгера за лучшее исследование в области триллера, саспенса и хорор–сториз…
— А, — говорит обрадованный Александр Сергеевич, — но что, собственно, вы имеете в виду?
— Это г-н Лепских? — слышится на том конце провода.
— Да, да, это Александр Сергеевич Лепских…
— Вы занимаетесь исследованиями средневековой литературы с одновременными экстраполяциями в маргинальные эстетические и хронотопические пласты?
— Да, да, — удовлетворенно хмыкая от подобной осведомленности, заявляет Александр, удивляясь лишь той бодрости, с которой анонимный представитель кафедры славистики произнес всю эту неудобоваримую галиматью.
— И вы написали работу под названием «Эстетические интерпретации образа дьявола и их воздействие на харизму читателя»?
— Я, — гордо отвечает Александр Сергеевич, приосанившись и расправив плечи.
— Повторяем. В таком случае именно вам, глубокоуважаемый (на этом слове университетский аноним спотыкается, отчего получается некое «глбквжм») господин Лепских, вручается почетная премия нашего университета, учрежденная благотворительным фондом Крюгера и составляющая в твердой валюте… — Тут вновь пауза, но уже не из–за того, что смолк аноним, а лишь потому, что сердце Александра Сергеевича забилось так, что заглушило на какое–то время заокеанский ломаный русский.
— Простите, сколько? — переспросил он, успокоившись.
— Десять, — донеслось до него, — десять тысяч долларов, получить которые вы можете в нашем посольстве в Москве, для чего вам надо приехать туда в ближайшие же десять дней. Все ясно?
— Все, — коротко промычал (пробурчал, пробубнил) Александр Сергеевич, на чем можно считать разговор оконченным, ибо после вышеприведенной фразы началось короткое прощание и обмен любезностями, а также иные, мало что значащие вещи, за которыми — как правило — ничего не следует (имелось в виду приглашение г-на Лепских в университет Скриффельда, на что было получено согласие, хотя и той, и другой стороне было ясно, что это не более чем привычная формула «гуд бай — ариведерчи», и никакой Лепских в никакой Скриффельд никогда не приедет по той простой причине, что этого не может быть, ибо… Но оставим вопрос о существовании набившего мозоль на языке городка в небольшом штате без ответа, ведь это не больше чем очередная завязка). Наконец Александр Сергеевич повесил трубку и в изнеможении уселся в кресло. Изнемочь же было отчего. Будучи человеком серьезным и критически настроенным как по отношению к окружающему миру, так и к самому себе, Александр Сергеевич спокойно относился к тандему «признание — успех», можно сказать, что это его вообще не волновало, да и потом — какой успех, какое признание в том, что малюсенький университет малюсенького городка в малюсеньком штате присудил ему безвестную премию, притом за труд, который — и Александр Сергеевич понимал это очень хорошо — известен еще меньше, чем сама премия («Крюгер, — подумал он, крутя в пальцах первую утреннюю сигарету, ибо из–за разговора так и не успел покурить, а первую свою сигарету Александр Сергеевич Лепских выкуривал каждый день ровно в одиннадцать часов утра, — кто это, интересно, такой?» Тут надо сказать, что вообще–то упомянутый Крюгер был владельцем фирмы по изготовлению то ли пупсов для детей, то ли приборов для наведения ракет в атмосфере, разницы никакой, учитывая, что покинул он сей мир уже лет пятнадцать назад, завещав наследникам создать благотворительный фонд собственного имени, который был предназначен поддерживать изыскания в области гуманитарных наук, хотя единственным чтивом, что держал в руках сам Крюгер, были банковские счета — если и каламбур, то невольный — но сколько можно об этом?), дело в ином, и вы правы, ибо прекрасно понимаете в чем. Да, в тех самых десяти тысячах долларов, которые по сегодняшнему курсу составляют — тут Алехандро встал с кресла и медленно прошествовал к письменному столу в надежде отыскать газету с курсом валют, хотя газет не выписывал, но кто знает, вдруг принес домой пакет, завернутый в газету, а там и отыщется нужный ему столбец, вот английский фунт, вот итальянская лира, вот… да, в самом низу списка, хотя никакой газеты на столе у Александра Сергеевича не оказалось, но будем считать, что наоборот, и продолжим повествование. Те десять тысяч долларов, что внезапно свалились на голову нашему герою, не были абстрактной суммой, и суть не в том, что с недавнего времени финансовые дела Александра Сергеевича были плохи, а это повлекло изменения даже в личной жизни (но об этом пока не будем, всему свое время), десять же тысяч уже упомянутых долларов, да еще если перевести их по сегодняшнему курсу… Тут есть о чем задуматься, но повторим — не это главное, к главному мы только подступаем, и начинаться следующее предложение будет вот так: главное же в том, что с недавних пор Александром Сергеевичем завладела истинно русская тоска и пришло к нему осознание необходимости изменения всей своей непутевой, почти сорокалетней жизни, вот только как это сделать, Алехандро не знал, то есть должно было случиться что–то такое, что помогло бы ему выбраться из замкнутого круга своего бытия, разорвать этот круг, вырваться на свободу, вновь ощутить радость от жизни, но никак — вы понимаете, никак! — не получалось это у Александра Сергеевича, и совсем он уже было решил поставить на себе крест, как вдруг раздался упомянутый звонок (в одиннадцать часов утра, как раз тогда, когда он уже приготовился выкурить первую сигарету, да и дату надо запомнить — двадцатое июля, хорошее, между прочим, число!), а значит — не все еще потерянно, и боги, вполне возможно, не окончательно отвернулись от него, не так ли, спросил сам у себя Александр Сергеевич, то бишь Алехандро Лепских, затушив окурок в пепельнице и подходя к маленькому зеркалу, сиротливо (зеркало жена, съезжая, оставила, забрав прежде окружавшую его шеренгу всяческих бутылечков- флакончиков–тюбиков–тубочек–баночек–скляночек–пузырьков, тебе–то они зачем, Сашка, проговорила она, складывая принадлежности для макияжа в объемистый целлофановый пакет, который — в свою очередь — был уложен в пакет полиэтиленовый, что нашел себе окончательное место сверху кожаной сумки, как раз на сирийском сарафане, который А. С. подарил жене в ее прошлый день рождения, между прочим, совпадавший с очередной годовщиной их свадьбы, вот только сарафан оказался немного (чуть, надо сказать, а еще лучше вот так: чуть–чуть) мал, так что надевала его жена лишь пару раз, но все равно решила забрать — вдруг в новой жизни похудеет; под сарафаном же лежало еще много чего, но прервемся но полуслове…) стоящему на небольшой прикроватной тумбочке — сама кровать отбыла вместе с женой, и спал Лепских на диване, но вернемся к зеркалу, ибо Александр, затушив окурок и подойдя к уже упомянутому предмету, посмотрел в него, хотя не надо считать, что он нашел там что–то новенькое. Нет, все как обычно, то есть обычное лицо Александра Сергеевича Лепских смотрело на него из зеркала, немного вытянутый вверх (еще можно написать «удлиненный») загорелый череп, покрытый таким же, как и в молодости, черным пушком (только тогда это был не пушок), морщины на лбу, глубоко посаженные глаза, большие (так нравившиеся когда–то женщинам) карие глаза, то мрачно, то весело (в последнее время все больше первое) поблескивающие из–под густых (что, пожалуй, странно для его возраста) и длинных ресниц, длинный же, с небольшой горбинкой нос, резко очерченные губы, про зубы лучше не говорить, с ними все ясно, а вот подбородок был у Алехандро гладко выбритым и скромным, то есть не нес он на себе отпечатка мужественности, но и безвольным назвать его тоже было нельзя, так себе подбородок, в очередной раз тщательно выбритый с утра и протертый одеколоном отечественного производства, то есть — повторим — ничего новенького Александр Сергеевич не нашел и решил уже было выкурить еще одну сигарету, как вдруг обнаружил, что курить больше нечего, а значит, надо выходить на улицу и идти к ближайшему ларьку, а это целый квартал топать, но раз надо — значит, надо, и Александр Сергеевич покинул свою однокомнатную, служившую ему одновременно и спальней, и кабинетом, и гостиной квартиру, что дает нам возможность сопровождать его в походе за сигаретами к ближайшему ларьку, а значит, и продолжить повествование. Вернемся к премии Крюгера. Как уже было сказало, главным в этом приятном известии, что довелось А. С. Лепских услышать ровно в одиннадцать часов утра, было даже не известие о десяти тысячах долларов, а то, что с этими десятью тысячами долларов он мог вновь обрести то состояние уравновешенности в системе координат «Александр Сергеевич тире Окружающий мир», которое (состояние), казалось, ушло безвозвратно, и не только разрыв с женой был этому причиной. Надо сказать, что Лепских вообще очень смутно воспринимал сегодняшнюю жизнь, более того, она ему вообще мало нравилась. Неопределенно? Вызывает целый ряд вопросов, начиная хотя бы с такого — а что это, собственно, за жизнь? Не будем превращать художественное произведение, то есть явный вымысел, фикшн, в социолого–политический трактат, это скучно и неблагодарно, а просто заметим, что ни при одном режиме, ни при одной формации (есть ведь такое понятие) А. С. Лепских не мог найти себе места, только если при прежней власти у Александра Сергеевича еще были какие–то иллюзии, то при новой их не осталось, но относился он к этому философски, в дискуссии ни с кем не вступал, газет не читал, лишь каждый вечер смотрел по ящику новости, да и то лишь затем, чтобы чем–то занять себя до начала программы кабельного телевидения. И была при всем этом у Александра Сергеевича мечта — взять да и уехать отсюда к чертовой матери, провалиться в тартарары, сгинуть, исчезнуть, оставить опостылевший край, в котором он родился и провел добрую половину жизни, хотя понятие «уезда» совсем не означало для Алехандро эмиграцию, этого еще не хватало, возмущался он, когда кто–нибудь из очередно отбывающих друзей–приятелей–коллег спрашивал его со смущенной улыбкой:
— А ты–то когда?
— Этого еще не хватало! — возмущался Александр Сергеевич. — Чего мне там делать?
Делать ему там действительно было нечего, и если и хотел Александр Лепских взять да уехать, то совсем не в развитые капиталистические страны, хотя страны развивающиеся, то есть страны третьего мира, привлекали его еще меньше — он сам жил в одной из таких стран, и радости в этом было мало. Нет, Александр Лепских предпочел бы уехать совсем, то есть сгинуть в какое–нибудь иное измерение, в параллельную реальность, где нет всех этих Австралий/Америк, пусть даже последняя — учитывая получение премии Крюгера — казалась ему сегодня не совсем уж плохой (Северная, конечно, не Южная), он решил даже разориться и купить в честь утреннего звонка пачку американских сигарет. Не самых дорогих, конечно, не «Кэмэл» или «Честерфильд», а что попроще, к примеру, «Пэл Мэл», но оставим табачные тонкости и возвратимся к теме параллельных реальностей. Естественно, что Александр Сергеевич не помышлял о подобном бегстве всерьез, хотя от одного знакомого физика неоднократно слышал, что такие эксперименты давно уже проводятся в том самом институте полностью закрытого типа (так называемом ИПЗТ), где этот физик имел честь работать, как имел честь быть не только знакомым, но и родственником Александру Сергеевичу, ибо приходился кузеном ушедшей жене А. С.Лепских, для окончания предложения можно добавить, что откликался упомянутый кузен на имя Феликс и был моложе Александра Сергеевича на добрый десяток лет. Но тут надо прерваться, ибо Алехандро дошел до табачного киоска и с тоской уставился на витрину, дешевые американские сигареты, да и средней стоимости (тот же самый «Пэл Мэл», к примеру) сегодня в продаже отсутствовали, были только — естественно — «Кэмэл», «Честерфильд» да еще «Мальборо», так что придется ограничиться покупкой отечественных, марку называть не будем, все они на один лад, так что пусть Александр Сергеевич побыстрее делает столь нужную ему покупку, тут же, не отходя от киоска, распечатывает пачку, достает сигарету и закуривает, что дает возможность продолжить прерванную мысль и вернуться к десяти тысячам долларов, которые — как это внезапно представилось Александру — помогут ему реализовать скрытое желание, то есть сотворить из иллюзии нечто материальное, то бишь действительно свалить, сгинуть, смыться в тартарары, а иначе зачем был нужен автору этот звонок, никакой Лепских не был бы ему тогда нужен, как и никакая премия Крюгера, да и «Эстетические интерпретации образа дьявола…» не понадобились бы ни герою, ни мне, а стало быть, и тебе, читатель, но раз все это есть, то примем за аксиому, что лишь только Александр Сергеевич Лепских отошел от киоска (так все же отошел или нет?), распечатал купленную пачку, достал сигарету и закурил, как до него дошло, что с помощью внезапно свалившегося на него заокеанского дара он сможет воплотить свою мечту, но для этого ему нужен еще и Феликс. Что ж, события принимают забавный оборот, ибо это дает мне возможность продолжить рассказ о прошлом Александра Сергеевича, ведь до наступления будущего должно пройти две, а может, и три главы.
2
Собственно жизнь Александра Сергеевича начинает интересовать нас с того самого момента, когда от него решает уйти жена, но тут–то как раз и появляется необходимость уточнений, ведь во многом именно ее уход и предшествовал тому решению, что посетило светлую (определение не масти, а сути) голову нашего приятеля Алехандро в то самое утро…
Да, да, в то самое утро, когда ему позвонили то ли из Строуффилда, то ли из Страффилда, и он узнал то, что мы все и так хорошо уже знаем.
То есть надо хотя бы вкратце изложить сагу о любви и страданиях Александра Сергеевича Лепских, ибо вне этой системы координат многое в нем (его характере, привычках и прочем) будет непонятно, а значит, затруднит наше совместное с А. С. проникновение в (не будем конкретизировать, чье) будущее.
Что же, история любви — так история любви, все книги, собственно говоря, держатся именно на этом, ибо ни деньги, ни власть, ни слава, ни (упаси Господь!) политика не интересуют людей так, как это коротюсенькое слово всего лишь из нескольких букв (понятно, что в разных языках их количество варьируется) и все, что с ним связано — от комедийных поворотов очередного легкомысленного сюжетца до кровавых всполохов на заднике, появляющемся в последнем акте и изображающем руины павшего замка и далекую черную точку виселицы, в которую и упирается покрытая лежащими на обочине, уже дурно припахивающими трупами, дорога.
Но если говорить конкретно об Александре Сергеевиче, то его любовная сага начиналась именно как смешной легкомысленный сюжетец, что же касается кровавых всполохов… только стоит ли забегать вперед?
Впервые свою будущую жену, эту таинственную, фантастическую (не мои определения, Александра Сергеевича) женщину, г-н Лепских увидел как–то раз, одним поздним сентябрьским вечером, когда уныло возвращался к себе домой от приятеля, с которым несколько часов кряду играл в занимательнейшую игру, известную народам Востока под названием «го». Игра эта — если верить самому Александру — будила в нем мысль, развивала интеллект и вообще доставляла множественное наслаждение, что не давали нашему герою ни шахматы (в которые он играл довольно плохо), ни карты (в которые он просто не играл, ибо давно, еще в юности, дал себе зарок не делать этого, продув как–то раз в покер сто рублей за один вечер, а по тем временам (самое начало, между прочим, студенчества нашего героя) это были немалые деньги), шашки же и домино просто не входили для него в понимание игр как чего–то такого, на что следовало иногда тратить время (раз в неделю, как правило, вечером в пятницу, то есть уже начало уик–энда, одна неделя — у приятеля, одна — у него, вот уже несколько лет подряд, да, а сколько исполнилось Александру Сергеевичу? Ну, предположим, что двадцать девять, это дает нам десять лет форы до начала (или же окончания, опять же — кому как удобнее воспринимать игры иллюзий на грани с реальностью) собственно той части нашего повествования, где и появляется нынешний Александр Сергеевич, что же касается описываемой недели, то очередь быть хозяином выпала приятелю, такому же молодому холостяку–филологу, как и наш герой, знакомы они были еще с университета, только вот после окончания Лепских — непонятно почему, если вспомнить его успехи в учебе, — оставили на кафедре зарубежной литературы ассистентом, а приятель пошел работать в школу, где за несколько лет стал завучем и начал курить трубку, ходил — как правило — в твидовом пиджаке с замшевыми налокотниками и всегда носил при себе большой, невесть чем набитый портфель коричневой кожи, доставшийся ему совершенно случайно, что же касается портфеля, пиджака и трубки, то они больше подходят образу Александра Сергеевича, но что поделать, если курит он сигареты, носить предпочитает свитера и джинсовые куртки, а портфеля у него вообще никогда не было, так, свою кандидатскую диссертацию (в ней он впервые обратился к эстетическим интерпретациям образа дьявола) он чуть было не потерял, когда вез выстраданный черновик к кафедральной машинистке (брала она фантастическую по тем временам цену — пятьдесят копеек за страницу, но славилась качеством работы, а также странными и оригинальными советами и предсказаниями, которые делала по ходу исполнения заказа. Лепских она предсказала, что защитится он с двумя черными шарами, и даже пояснила, от кого ждать подлянки, в чем и оказалась права) в мятом полиэтиленовом пакете с надписью «для непищевых продуктов» и с изображением знаменитой троицы русских богатырей, причем в глазу одного из них (между прочим, Ильи Муромца) была большая дыра, случайно проделанная то ли ключами от квартиры, то ли зонтом, то ли каким–то еще дурацким предметом, подвластным Александру Сергеевичу, но это тоже не имеет никакого значения, так что покончим, наконец, с полиэтиленовым пакетом и вновь перейдем к тому вечеру в пятницу, когда…)
Так вот, именно тем давним уже сентябрьским вечером, уныло возвращаясь (сегодня ему не везло и он проиграл пять партий подряд) домой, Алехандро Лепских и встретил свою будущую жену, причем никакого романтизма во встрече не было. Просто будучи от природы человеком медлительным и задумчивым, а тут еще и огорченным сегодняшним проигрышем, Александр Сергеевич не заметил, как почти нос к носу столкнулся с милой и молодой барышней, куда–то уверенно спешащей на высоких, звонко стучащих по сентябрьскому асфальту каблучках.
— Осторожней! — гневно сказала барышня, Алехандро поднял голову, продрал, что называется, шары, и увидел брюнетку с потрясающими голубыми глазами (надо только отметить, что было темно, и поудивляться тому, как он смог разглядеть в этот поздний час — почти десять вечера, между прочим, — такой дневной штрих, как цвет глаз), одетую в легкий плащ темно–зеленого цвета, тут не стоит ожидать последующего описания неземных прелестей незнакомки, ибо еще не время, ведь первая, мимолетная встреча на этом и заканчивается, барышня исчезает в сентябрьской вечерней тьме, а милый наш холостяк все так же задумчиво и уныло (на этот раз можно было бы написать «печально») продолжает свой путь, еще не ведая, что судьба на завтра же уготовила ему продолжение сегодняшнего неудачливого рандеву, но на то она, между прочим, и судьба.
А назавтра Александр Сергеевич был приглашен в гости тем самым приятелем, с которым сегодня играл в го, ибо завтра, то есть в субботу (если исходить из заданной системы временных координат), у замшево–твидово–кожано–трубочного приятеля был день рождения (Александр Сергеевич уже и подарок приготовил: коробку импортного табака «Данхилл», подарил шеф, вернувшись из Лондона, но ведь А. С. курил сигареты, и табак давно уже — почти год — лежал невостребованным!), на который явиться надо было ровно к шести часам, ибо, по словам приятеля, «будут дамы, и опаздывать грешно, Александр!».
Что же, Александр решил не опаздывать и ровно в шесть часов стоял возле двери, нажимая на пухленькую кнопку мелодично чирикнувшего звонка. «Проходи, проходи! — вальяжно проговорил благоухающий одеколоном приятель, добавивший по случаю торжества к твидово–замшевому пиджаку темно–серого цвета еще и темный, однотонный галстук (рубашка была в меленькую и — естественно — темную полосочку, а брюки коричневыми и строгого покроя, носки и туфли, выпадают из нашего поля зрения). — Ты последний, все уже собрались». И Александр Сергеевич входит в комнату.
В комнате находятся (вместе с именинником) пять человек, так что Александр Сергеевич будет шестым, это дает возможность разбить всех присутствующих по парам, коих набирается ровно три, причем одна из них лишь для того, чтобы каким–то образом разрядить повествовательное пространство, пусть это будут X и Y, просто пара, мужчина и женщина, сидящие за столом и ожидающие, когда же можно будет выпить и закусить.
Вторая пара — а вот тут мы сделаем, точнее же, я сделаю странный ход и прерву разбивку на «первый — второй, рас–с–считай–сь!», вторая пара — это непосредственно именинник и его давний приятель, любитель игры в го Александр Сергеевич Лепских, что же касается третьей…
Это две подружки, блондинка и брюнетка, причем у блондинки глаза карие, а у брюнетки — голубые, именно эту брюнетку чуть не сбил вчерашним вечером печально возвращавшийся после проигрыша домой А. С.Лепских, уставившийся сейчас на нее (на брюнетку) так, будто не какое–то несуществующее мгновение смотрел в эти голубые глаза после раздраженного возгласа «осторожней!», а целый час, ибо ведь сразу, что называется, признал, и если сейчас что и заинтересовало его, так это не то, каким образом оказалась здесь она (это еще выяснится), а куда она шла вчера вечером, то есть — если расшифровать мысль — кому она была предназначена в пару, ему или имениннику, ибо был Александр Сергеевич мужчиной пылким, увлекался мгновенно, а блондинкам всегда (были на то печальные причины) предпочитал брюнеток (никакого продолжения в скобках не последует), поэтому и сделал, что называется, мгновенную стойку: лишь только вошел в комнату, лишь только обозрел всех присутствующих — так и сделал.
Тут опять требуется небольшое отступление. Несмотря на то, что был А. С. одиноким двадцатидевятилетним холостяком, жизнь вел тихую, кабинетную, круг дружеского общения его был узким, да и в библиотеке доводилось проводить много времени, любовь к женскому полу в его жизни стояла не на последнем месте, только вот любовь эта не была, что называется, очень уж взаимной. Нет, Александр Сергеевич не был девственником, скользнула через его сердце пара романов, оставив давно зарубцевавшиеся шрамы, стала прошлым, но отчего–то придала самому облику Алехандро такое романтическое страдание, что женщины жалели его, женщины с ним дружили, но дальше дело не шло, хотя влюблялся Александр пылко и пылко же домогался предмета своей страсти, но предмет лишь смеялся да предлагал милейшему господину Лепских «оставаться друзьями», предпочитая более интимную форму отношений с любым другим знакомым индивидумом (через одно «у» лучше, чем через два), хотя бы с тем самым приятелем, на день рождения которого ровно в шесть часов (как и было назначено) и явился сегодня грустный Алехандро (последняя его попытка связи более завлекательной, чем «оставаться друзьями», потерпела крах буквально накануне, то есть в минувший четверг, и — соответственно — тоже вечером, когда он решил напроситься в гости с последующей, может быть, ночевкой к своей очередной знакомой, симпатичной преподавательнице английского, первый год работающей на кафедре иностранных языков, но она лишь поблагодарила его за приятное времяпрепровождение (два мучительных часа в душном кинозале за просмотром слишком умной фильмы) да, сославшись то ли на старенькую маму, то ли на пожилую тетю (почему–то никто и никогда не ссылается на такого же старенького или пожилого папу), выскользнула за скобки, мельком предложив уставшему от подобных фраз Александру «оставаться друзьями», — скобки закрылись, четверг подошел к концу), где — как уже было сказано — и встретил внезапно вчерашнюю незнакомку, на которую и уставился сейчас так, будто судьба давала ему еще один, на этот раз действительно самый последний шанс.
— Проходи, проходи! — сказал приятель, вводя Александра в комнату, поочередно представляя его собравшимся гостям. — Вот месье X, а вот мадам Y, вот… — тут приятель повернулся к блондинке, но А. С. так и не понял, как он это сделал, то ли интимно, то ли просто с радушным гостеприимством вежливого хозяина, — отчего–то прозвучало странное имя Клара, сразу же потащившее за собой какого–то Карла с кораллами, да еще пароход «Клара Цеткин», на котором А. С. несколько лет назад плыл из Москвы в Ростов (весь путь пытаясь совратить — еще можно: увлечь, соблазнить и т. д. — холеную даму средних лет, т. н. бальзаковского возраста, путешествующую в отсутствие детей и мужа, но соблазнил ее, в конце–концов, богатый грузин, откликавшийся на имя «князь», Александр Сергеевич тогда только–только приступил к написанию диссертации), — а вот, — тут приятель повернулся к брюнетке и назвал то имя, которое по замыслу должно было прозвучать лишь в конце этой главы, но у кого–то (то ли у автора, то ли у одного из героев) не хватило терпения, — Катерина, знакомься, это Сашка!
Сашка безмолвно пожал протянутую ему женскую руку (холеную? пухлую? сильную? изящную? — можно продолжать долго), а потом вдруг взял да поцеловал, сказав при этом:
— Очень приятно, моя фамилия Лепских!
Брюнетка прыснула, засмеялась и коралловая Клара, что же касается X и Y, то они хором закричали: «К столу, к столу!» — и Александр Сергеевич был усажен хозяином между Кларой и Катериной, между двумя К., так и не поняв при этом, кто же из них является подругой хозяина.
— Ну что? — спросил хозяин. — Пожалуй, начнем? Кто хочет выпить за мое здоровье?
За здоровье хозяина хотели выпить все, пили, как это водится, водку, вот только особым образом настоянную именинником то ли на апельсиновых, то ли на лимонных корочках. Александр Сергеевич, хотя выпивать обычно не любил, старался на сей раз не отставать от прочих участников застолья, принимал рюмку за рюмкой, даже встал один раз и произнес очень уж проникновенный тост за хозяина дома, между рюмками А. С. плотно закусывал (а закусить, несмотря на холостяцкий быт хозяина, было чем, особенно удалась селедка под шубой, приготовленная, без всякого сомнения, женскими руками, но вот чьими, блондинки, то есть Клары (в таком случае приятеля можно назвать Карлом), или Катерины, вопрос этот не давал Александру Сергеевичу ни минуты покоя, свербил где–то в затылочной части мозга, подталкивал наливать себе еще рюмку, а затем так же быстро опрокидывать ее в рот, куда ты спешишь, даже поинтересовался приятель, а потом добавил:
— Что, хандра заела?
Александр Сергеевич не ответил, лишь посмотрел на него помутневшими глазами да грустно крякнул, отчего–то решив, что лишь брюнетка может быть пассией именинника, а значит, опять ему, то есть г-ну Лепских, ничего не обломится, хотя ведь лишь сам он знает, как хочется ему любви и ласки, нежности и прочих приятностей, что дает мужчинам интимное женское общество, но лишь брюнетка с голубыми глазами могла дать ему это, и не только сейчас, в наступающую минуту, а отныне и вовеки веков, ведь к концу второй поллитры, настоянной то ли на лимонных, то ли на апельсиновых корочках, Александр Сергеевич не на шутку влюбился (втюрился, втрескался, врезался), побив этим даже собственный рекорд скорости (два года назад он за полтора часа прошел путь от симпатии к обожанию новой кафедральной лаборантки, останемся друзьями, сказала она ему пару дней спустя), ну почему так всегда, думает печальный Александр Сергеевич, когда нога его (правая, ибо Катерина сидела справа) касалась плотной и горячей (хотя, может, это ему так лишь казалось) ноги брюнетки (теперь добавим: голубоглазой), отчего она прыскала легким, необычайно воздушным смешком, и смешок этот погружал Александра Сергеевича в чувство до боли знакомое: печалью называется оно, печалью да еще состраданием к собственной судьбе!
— Сколько можно пить? — наконец изрекла Клара. — Может, потанцуем?
— Потанцуем, потанцуем, — подхватил призыв хозяин дома и пригласил Клару на первый же тур непонятно чего под непонятно какую музыку. Александру Сергеевичу уже было все равно, Александр Сергеевич чувствовал себя таким несчастным и никому не нужным, что даже не заметил, что это Клара, а не Катерина пошла танцевать с хозяином, а значит, у него, у А. С. Лепских, был шанс, но его надо использовать, надо встать, подойти к обладательнице голубых глаз, шаркнуть ножкой, кивнуть головой, как бы выказывая этим настоятельную просьбу не отказать в танце, но Алехандро способен лишь на то (коварная это штука, водка, настоянная на корочках!), чтобы выйти на балкон и закурить, немо уцепившись за узенькие перила, хотя никаких перил он сейчас не чувствует, а лишь осознает одно желание: рухнуть туда, вниз, да и покончить таким образом поскорее со своей непутевой жизнью!
— Чего вы грустите, Саша? — слышит он вдруг позади себя голос Катерины и, моментально трезвея, начинает понимать, что эту субботу запомнит надолго, может быть, навсегда. Хотя суббота, надо сказать, еще не закончилась.
3
Да, суббота еще далеко не закончилась, но празднество по случаю именин приятеля подходит к концу, что будем делать дальше, хочется спросить мне милейшего Александра Сергеевича, добрейшего и приятнейшего в общении г-на Лепских, но я только смотрю, как он оборачивается и с тоской (ну вот, Александр Сергеевич, сейчас тоска–то отчего?) глядит на возникшую в дверном проеме Катерину, ведь — положа руку на сердце — явление это не только неожиданное, но, честно говоря, и не запрограммированное, ибо отнюдь не Катерина должна была появиться на балконе, а коралловая Клара, вот только кто–то (и отнюдь не я) сжалился над Алехандро, перемешал вновь все приготовленные к раздаче карты, сдал одну, сдал вторую, тройка, семерка, вместо ожидаемого туза выпадает голубоглазая подруга, которой, впрочем, еще предстоит стать таковой, а получится это или нет — сие зависит уже исключительно от А. С. Лепских. Нам же остается одно, выступить в роли соглядатаев, этаких любопытных рож, приникших к множеству замочных скважин, ведь — если признаться в одном из самых потаенных желаний каждого из нас — подобное соглядатайство за чужими судьбами порою доставляет большее наслаждение, чем проживание своей, одной–единственной, неповторимой судьбы, а потому побыстрее разбирайте замочные скважины, дамы и господа, третья глава начинается с очередного подъема занавеса, сцена на балконе, герой должен встать на колени и взмолиться о том, чтобы дама его сердца… Впрочем, хватит превращать все в дешевую мелодраму или — паче того — в разухабистый водевиль, героев надо любить, а я ведь действительно люблю их, и — на сей момент — самым, пожалуй, приятным в общении является для меня именно Александр Сергеевич, здравствуйте, говорю ему я в очередной раз, здравствуйте, симпатяга вы мой, позвольте поприсутствовать?
Он позволяет, он смущенно улыбается, чуть подмигивает мне правым глазом, а потом вновь забывает о моем существовании, и я ухожу на второй, а потом и на третий план, становлюсь незаметной точкой, ибо не дай господь помешать Алехандро в намечающемся сдвиге судьбы, ведь мне–то известно, чем он закончится, а ему нет, так что пусть все идет так, как и должно, и пусть добрейший наш Александр ожидает от сцены на балконе лишь только хорошего, отныне и вовеки веков!
— Так чего вы грустите, Саша? — спрашивает его внезапно появившаяся в дверях Катерина, и Александр Сергеевич вдруг чувствует, как в уголках его глаз навертываются непрошенные и такие неуместные сейчас слезы.
— Простите, — говорит он, — я слишком много выпил сегодня, вот и стало нехорошо… А грущу… Да не грущу я вовсе, просто душно стало, вот и решил выйти на балкон…
Катерина улыбается, а потом вновь обращается к Алехандро:
— Вы знаете, мне уже пора идти, вы не могли бы меня проводить?
— Конечно, конечно, — с радостью отвечает тот, наконец–то понимая, что вот и на его улицу (вполне возможно, не будем столь определенны) пришло (должно прийти, приходит, где–то поблизости, если быть точнее) если не счастье, то по крайней мере внятное его обещание, а значит, надо проводить голубоглазую прелестницу, и они вместе входят в комнату, Катерина обращается к хозяину дома, все еще танцующему с блондинкой кораллового имени под непонятно какую музыку медленный и (предположим) чувственный танец, мне пора идти, говорит Катерина, а Саша меня проводит, хорошо? Хозяин не отвечает, хозяин увлечен партнершей, да и потом — кто он такой, чтобы давать согласие на начало того увлекательного приключения, что замыслила в своей хорошенькой головке черноволосая Кэт? Случайно возник на этих страницах и так же случайно исчезнет, оставив после себя лишь несколько камешков для игры в го (два черных и один белый), да серый твидовый пиджак с замшевыми налокотниками, сиротливо висящий сейчас в пустом и гулком шифоньере, проще же говоря, платяном шкафу, так что покинем хозяина–именинника, покинем Клару и анонимную пару X+Y и выйдем с Катериной и Александром Сергеевичем из душной комнаты на улицу.
Как уже было сказано, дело происходило в сентябре, первая декада, нахлынувшая на город мутными дождями, подошла к концу, унеся с собою грязь и то чувство неприкаянности, которое обычно приходит в эти первые, дождливые, осенние дни, наступило бабье лето, с ворохом золотых и багряных листьев, с ярко–красными гроздьями рябины, со стылым вечерним воздухом, каким–то необыкновенно прозрачным (а может, что и призрачным) и ясным этими мимолетными, мгновенно проскальзывающими между пальцами вечерами, после чего остается лишь щемящая тоска в сердце, как предвестник того, что со дня на день вновь наступит ненастье, и дождь, который уныло забарабанит по крышам на несколько недель, закончится, но вместо него пойдет снег, и это уже до весны, до будущего лета, что сверкнет и исчезнет, вновь сменившись вот этими сентябрьскими днями, в один из которых, поздним, надо сказать, вечером, Катерина и Александр Сергеевич вышли из подъезда того дома, где случайный игрок в го и не менее случайный обладатель серого твидового пиджака с уже успевшими набить оскомину замшевыми налокотниками (заплатами) праздновал свой день рождения. Перед ними открывалось, что совершенно естественно, множество дорог, вот только выбрали они кратчайшую, ведущую к дому голубоглазой брюнетки, а жила она, оказывается, всего лишь на соседней улице, пройдешь квартал, свернешь в переулочек, выйдешь на параллельную стрит (улица, переулочек, стрит), минуешь еще два дома, один из которых двухэтажный, старой постройки, в нем сейчас мутно светится одно–единственное окошко, да можно различить вывеску над подъездом «Ателье» (и ни слова уточнения, то ли ателье по ремонту телерадиоаппаратуры, то ли ателье мод, то ли еще чего), затем — блочная пятиэтажка, так называемая хрущоба, грязно–серого, немытого цвета, с проходными комнатами и совмещенными санузлами, а вот следующий дом и будет тот, который нам нужен, привлекательный такой дом, благопристойно сосуществующий в соседстве с уже упомянутыми постройками, элегантный дом нежно–кремового цвета, из кирпича, с высоким цокольным этажом, в котором нет сейчас ни одного огонька, если не считать мигающие лампочки сигнализации над входом в сберкассу и — соответственно — над входом же в магазин «Овощи — фрукты», в котором сегодня днем, перед тем, как отправиться на день рождения, Катерина выстояла здоровущую очередь за бананами, вот только сей экзотический плод ухмыльнулся ей не очень приятной — усмешкой? улыбкой? ухмылкой? но это уже вовсе масло масляное! — ибо (как это и положено) товар закончился перед носом, но не в бананах дело, а в том, что Александр Сергеевич уже довел Катерину до дверей и стоит такой же грустный, как и на балконе в квартире приятеля, ибо не знает, что делать дальше. Катерина приходит ему на помощь, ей отчего–то безумно жалко сегодня этого милого недотепу, и она говорит:
— Может, хотите чаю? — А потом добавляет: — У меня никого нет, мать в отпуске, в Крыму…
Алехандро кивает, и Катерина проскальзывает вперед него в подъезд, указывая путь, по которому надо следовать, что он и делает. Опустим таящий такие большие возможности для описания подъем в лифте на шестой этаж, промолчим о том, как они вышли из полутемной кабины на залитую ярким светом площадку, на которой были расположены всего лишь три входные двери, к одной из которых — левой, то есть самой близкой к лифту, и направилась Кэт, достав еще в лифте из сумочки большую связку ключей, которой и начала греметь, открывая запор за запором, будто там, за дверью, была не обыкновенная двухкомнатная, пусть и улучшенной планировки квартира, а пещера Али — Бабы, тайные хоромы графа Монте — Кристо, вход в сокровищницу то ли розенкрейцеров, то ли каких прочих масонов, сундуки золота, ларцы, набитые бриллиантами, изумрудами и чистейшим индийским жемчугом, джутовые мешки, наполненные монетами разных стран и разных веков, но только хватит играть в Дюма и Стивенсона, Катерина открывает последний замок и распахивает дверь, как бы приглашая — молчаливо, лишь жестом, — г-на Лепских последовать внутрь.
Ну и как поступить в дальнейшем? Продолжить описание пещеры Али–бабы? Рассказать, как выглядит Катерина, ибо что еще нам известно о ней, кроме того, что она стройная брюнетка с голубыми глазами? Передать чувства, испытанные господином Лепских, когда за ним закрылась дверь и он оказался с молодой женщиной наедине? Начнем по порядку и посмотрим, что получится.
Катерина зажгла свет в прихожей и потом уже закрыла входную дверь. Александр Сергеевич огляделся, и тут я начинаю понимать, что все это описание не имеет никакого смысла, ибо можно, конечно, сказать, что прихожая умилила его аккуратной прибранностью и непривычной для наших российских домов изысканностью, но ведь не в этом, как вы понимаете, главная цель прихода сюда Александра Сергеевича, да и Катерина навряд ли потащила бы его к себе домой лишь затем, чтобы потрясти уровнем достатка и изысканностью вкуса, красивая, конечно, прихожая, да и большая комната, в которую Александр Сергеевич входит, отчего–то замешкавшись у порога, тоже оставляет более чем приятное впечатление (мебельный гарнитур карельской березы, мягкий уголок — диван и два кресла, светлый орех с вишневой бархатной обивкой, над полированным столом в центре комнаты маячит хрустальная люстра ромбической формы, а на полу лежит большой толстый ковер сиреневого цвета с длинным и густым ворсом, можно еще добавить о цвете и фактуре обоев, но это будет излишним), подождите меня здесь, Саша, говорит Катерина, исчезая в двери второй комнаты, Александр Сергеевич поудобнее устраивается в одном из бархатнообитых кресел, чувствуя, что хмель полностью выветрился из его головы и думая о том, можно ли здесь курить, а если можно, то что, ведь последнюю сигарету из собственной пачки он изничтожил на балконе, а захватить еще пачку не догадался, так всегда, вновь впадая в уныние, подумал А. С. Лепских, хочется курить — а нечего, без курева же мне и полчаса не высидеть, а это значит…
— Вот и я, — говорит впорхнувшая в комнату Кэт, — извините, что по–домашнему.
Александр Сергеевич смотрит на барышню и чувствует, что ноги у него наливаются тяжестью и врастают в пол, да, да, кровь приливает к вискам, сердце учащенно бьется, ноги наливаются тяжестью и врастают в пол, теперь фраза выстроена так, как это необходимо, а потому скажем, что если еще у приятеля Катерина произвела на Алехандро столь замечательное впечатление, что он был готов даже броситься с балкона, не окажи она ему знаков внимания (чего на самом деле все равно бы не сделал), то сейчас он убит, сражен наповал, стрела пронзила сердце, ангелы поют в небесах сладкими и многообещающими голосами, да посудите сами, сколь прелестная картинка предстала перед глазами вольготно (и вальяжно) усевшегося в кресле Александра.
Катерина сняла нарядное платье и туфли на каблуках, была она сейчас в домашнем халатике, белом с красными полосочками из необыкновенно нежного и приятного на вид материала, волосы она распустила, маленький вздернутый носик не портил ее лица, а удивительно сочетался с большим, пухлым ртом, но создавать вот так, прямо по ходу, портрет Кэт — дело не из простых, так что оставим это неблагодарное занятие, ведь нарисованы уже глаза, есть нос, имеется большой, пухлый рот, господи, да как может выглядеть двадцатилетняя женщина, она всегда прекрасна, не так ли? — обращаюсь я к Алехандро.
Тот не в силах говорить, он смотрят на Катерину, он буквально ест ее глазами, та смеется и спрашивает:
— Где будем чай пить, здесь или на кухне?
— А курить можно? — в свою очередь спрашивает Александр Сергеевич.
— Конечно, — отвечает Кэт и, будто прочитав мысли измаянного табачной жаждой синьора Лепских, продолжает: — У меня и сигареты хорошие есть, сейчас достану!
Через минуту (может, две, хотя разницы никакой) Алехандро уже достает из длинной темно–синей пачки с золотым тиснением длинную же, прелестно пахнущую сигарету с большим золотым ободком возле фильтра, добавим, что в тот субботний вечер он впервые в жизни курил «Ротмэнс», хотя это — естественно — тоже ничего не значит, ну курил себе и курил, мало ли что курит (если курит) в этой жизни каждый из нас, но вновь оставим табачную тему и вернемся к Александру и Катерине.
— Саша, а может, выпить хотите? — спрашивает Кэт, но Александр мотает головой, ему стыдно, что он позволил себе сегодня почти наклюкаться, и лишь такой вот фантастический оборот событий помешал ему упиться вдрызг, вдрабадан, слететь с колес, сойти с круга.
— Только чай, — говорит он, а потом добавляет: — Может, пойдем на кухню?
Катерина смотрит на него хитрыми глазами, но ничего не отвечает, лишь выходит из двери первая и идет по коридору в направлении кухни. Алехандро, как завороженный, ловит глазами ее плавно покачивающиеся под халатом бедра, ему хочется коснуться их рукой, провести по матово–белой коже кончиками пальцев, но от одной этой мысли его вновь бросает в жар, он чувствует, что краснеет, хотя не в его привычках делать это, пусть и свыкся с обломами, но краснеть–то зачем? Но вот они уже на кухне, можно, конечно, описать и то, какое царство уюта, чистоты и прочих приятностей открылось восторженным глазам Александра Сергеевича, хотя лишим себя удовольствия воссоздавать мир вещественный, заметив лишь, что на небольшом, покрытом цветной скатертью из льна столике уже стояли — одна напротив другой — две китайские (предположительно) чашки тончайшего фарфора, с золотым ободочком по краешку, на одной сквозь туман проглядывала игрушечная пагода с чешуйчато–резной крышей, а на другой взлетал над облаками такой же чешуйчатый дракон, выпускающий из пасти клубы пламени, пагода была веселого изумрудного цвета, а дракон ярко–синим, с замечательно–оранжевыми блюдцами глаз, что же касается настоящих блюдец, то на одном (что под пагодой) был нарисован горный склон, увитый иероглифами, а на другом (что под драконом) — заросли бамбука, иероглифами же цветущего.
— Чай тоже китайский? — спросил опешивший Александр Сергеевич.
— Можно и китайский, — улыбнулась Катерина, — только я заварила смесь индийского с цейлонским. Вы такой любите?
А. С. промолчал, пил он обычно самый нормальный грузинский чай пермского или рязанского развеса и к такой роскоши не привык, впрочем, как и к чашкам тончайшего фарфора, как и к замечательным сигаретам «Ротмэнс» (отличающимся не только золотым ободком у фильтра, но и прекрасным табаком, крепким и со специфической перчинкой), а тут еще Катерина выставила на стол тарелку (описывать ее внешний вид не будем) с бутербродами, часть из которых была с зернистой икрой (именно зернистой, а не паюсной или ястычной), часть — с прозрачными ломтиками провесного осетрового балыка, имелись еще бутерброды с тонкими кружочками красновато–коричневой салями (между прочим, натурального венгерского производства) и нежно–розовыми пластиками ветчины, хотя когда она умудрилась их понаделать — тайна сия велика есть!
— Садитесь, — нежно проговорила Катерина, — будьте как дома.
Александра Сергеевича особенно приглашать было не надо, что же касается дежурной фразы про «будьте как дома», то тут надо сделать маленькую оговорку, ибо как дома–то он себя чувствовал, вот только был бедным родственником, попавшим сюда по странному стечению обстоятельств. Ему даже хотелось куда–то деть свои ноги, ибо казались они ему такими большими и лишними на этой уютной и сияющей белизной кухне, да и то, что он в джинсах, хотя вместо свитера надел сегодня пуловер с рубашкой, — в общем, напал на Алехандро страх, он пил замечательный чай, ел не менее замечательные бутерброды, курил (между чаем и бутербродами) такие же замечательные сигареты, вот только не мог вымолвить ни слова и казался себе законченным идиотом, место которому не здесь, рядом с этой прелестной девочкой в халате, а в палате, пусть даже номер ее будет шестьсот шестьдесят шесть.
— Уже не грустите? — спросила Катерина, пронаблюдав, как последний бутерброд (с ветчиной, остальные уже закончились) исчез в глотке Александра Сергеевича, а потом, вдруг посмотрев на настенные часы, добавила: — Время позднее…
— Да, да, — испуганно подхватил Александр Сергеевич, ноги которого стали уж совсем невыносимы и хотелось одного: попросить ножовку и отпилить их прямо здесь, на кухне. — Я сейчас пойду, большое вам спасибо…
— Да я не за этим, — улыбнулась Катерина, — я как раз хотела сказать, что идти вам уже поздно, почти час ночи, я могу вам постелить в большой комнате, если, конечно, хотите.
Конечно, он этого хотел, конечно, он даже не мог представить, что ему придется сейчас вставать и идти на улицу, и не потому, что Алехандро чего–то боялся (идти, в принципе, недалеко), но ведь судьба дала ему шанс, если он уйдет, то больше никогда не увидит Катерину, Александр Сергеевич отчетливо понимал это, да и ноги, ноги — ну что поделать с этими чертовыми ножищами, ставшими такими огромными; и так мешающими ему на этой милой и уютной кухне…
— Что же, — говорит Катерина, — давайте ложиться, я сейчас вам постелю, вы же пока можете принять душ, хотите?
Александр Сергеевич хотел и этого, он хотел чего угодно, лишь бы не покидать квартиры и ее хозяйки, хозяйка, впрочем, должна быть на первом месте, то есть вот так: не покидать хозяйки и ее квартиры, и он пошел в душ, а затем вернулся в большую комнату, где на вишнево–бархатном диванчике уже белела постеленная постель, в которую он и скользнул, не дав мне возможности отметить однокорневую игру, внезапно подмигнувшую вывеской английской почты, простыня приятно холодила тело своей накрахмаленностью, подушка прильнула к затылку, навевая сладкие грезы про эфемерные сады Горного Старца, одеяло нежно покоило грудь, но уснуть Алехандро не мог, он лежал в темноте и слушал, как шумит душ (Катерина принимает его долго и тщательно), как стихает шум воды, раздается щелчок выключателя и отчего–то легкий звон босых ступней доносится до слуха мающегося от невозможности уснуть Александра, будто не по доскам идет Катерина, а по хрустальным подвескам, кем–то рассыпанным по полу, да и как можно уснуть, когда мало что обстановка незнакомая, и много водки выпито, да еще чаю крепкого, но… И тут Александр Сергеевич наконец–то засыпает, хотя сон некрепок и тяжел, снится ему, что небритый маленький гномик, похожий на фольклорного ваньку–встаньку, постоянно маячит перед глазами, а за гномиком, в глубине большой и темной комнаты, что–то такое, что ему надо взять в руки, прямо сейчас и немедленно, гномик маленький, но Алехандро никак не может проскочить мимо него, и от этого ему становится жутко и почему–то тяжело дышать, да ведь это ему на грудь положили дубовую плаху, и никуда не деться, сейчас гномик вскочит на нее и начнет плясать, и грудь разорвется, бедный Александр Сергеевич, думает о себе Алехандро в третьем лице, но открывает глаза и понимает, что все это сон, не больше. Он встает и решает дойти до туалета, а сделав то, что хотел, прослушав затем быстрый менуэт льющейся из бачка воды, дождавшись коды и финального аккорда, медленно пошел к своему (на эту ночь) вишневому дивану, на котором с удивлением обнаружил поджидавшую его хозяйку, уже без халата, как равно и вообще без ничего. И, крепко обнимая ее и уже вступая во владение этим молодым и замечательным телом, успел Александр Сергеевич подумать, отчего бы это привалило ему сегодня такое счастье, вот только надо заметить, что ответа на этот вопрос он не узнает никогда.
4
Хотя ответ был, и отнюдь не случайно Катерина позвала к себе вечером в гости этого недотепу. И если свести ответ к одному–единственному слову, то словом этим будет существительное «месть», а мстить Катерине было кому, и не только душ принимала она, запершись в ванной, но еще и ревела, что называется, в три ручья, ведь отнюдь не г-на Лепских хотела бы видеть сегодня в своем доме, а значит, пора всерьез поговорить о Катерине, ибо обещанные три главы подходят к концу и прошлое вот–вот должно уступить место будущему, а значит…
Сколько можно быть просто функцией, оставив после себя в программке лишь строчку: «Катерина — голубоглазая брюнетка». Между прочим, роль упомянутой брюнетки в судьбе Александра Сергеевича так велика, что порою кажется, будто судьба его начинается именно с упомянутого предвоскресного вечера, точнее же говоря, ночи, ибо стоило лишь взглянуть на часы в тот самый момент, когда Алехандро обнаружил поджидающую его на диване хозяйку, как с удивлением можно обнаружить, что маленькая стрелка стоит на цифре «два», а большая уже заползает в район половины третьего, то есть именно в районе половины третьего ночи Алехандро вступил во владение этим молодым и замечательным телом, заняв место, принадлежащее ему отнюдь не по праву, ибо, как уже было сказано в самом начале вот этой, четвертой главы, лишь жажда мести двигала двадцатилетней прелестницей в своей ночной эскападе, а почему именно такой способ выбрала она… Ну, для этого надо получше узнать Катерину, что мы сейчас и попробуем сделать.
Была она девочкой, что называется, из хорошей семьи. Отец ее, умница из приволжских немцев, хлебнул лиха вместе с соплеменниками, но вместо того, чтобы осесть где–нибудь на казахстанской или какой прочей азиатской земле, выучился на физика и оказался столь толковым, что пошел по научной части и работал в большом закрытом институте одного маленького городка (отсюда, скорее всего, и началась «физическая» линия в их семье, вспомним тут так еще и не появившегося Феликса), сделал какое–то грандиозное открытие в области средств массового уничтожения, получил почетное звание и практически пожизненную ренту, а потом вдруг внезапно заболел и еще довольно молодым — ему не было и пятидесяти — умер, оставив жену вдовой, а двух дочерей, младшей из которых и была Катерина, безотцовщиной.
Продолжать жить и дальше в маленьком и — что совершенно естественно — закрытом городке не было никакого смысла, так что следы Катерины теряются на несколько лет, но потом мы можем отыскать их снова, но только уже в том самом городе, где все это время преспокойно существовал Александр Сергеевич Лепских, уже, между прочим, студент. Кате к этому моменту исполнилось двенадцать лет, еще восемь оставалась до их встречи, чем занимался в это время Александр — нам известно, Катерина же, переехав в большой и чужой город, состояла при маменьке, даме самостоятельной и резкой, с серьезной практической жилкой, что и позволило им не профукать оставшиеся от отца сбережения (награда за открытие действительна была велика), а даже приумножить, вложив деньги не только в ту самую квартиру, где нашел Александр Л. свое счастье, но и в приличную дачу за городом, и в машину, и в золото с бриллиантами (что естественно, если вспомнить аналогии с пещерой Али — Бабы и потайным убежищем графа Монте — Кристо), а кроме всего прочего еще и в ценнейшую коллекцию экзотических раковин, смысл которой был лишь в том, что мало кто догадывался о ее истинной стоимости (точнее же говоря, людей таких было трое, один жил в Череповце, один — в Цюрихе да еще один в Акапулько), но хватит перечислять то, что нам не принадлежит, скажем лишь, что работала маменька главным бухгалтером одного небольшого предприятия, сестра же (старшая, в чем и заключается ее единственная роль) давно вышла замуж за военного и вот уже несколько лет, как жила по дальним гарнизонам, появляясь лишь раз в год, на недельку, по дороге к отпускному морю, но это не больше чем пропуск в сюжете, ибо и маменька, и сестра ничего в нем не значат, важна лишь Катерина, которая с успехом (еще говорят: успешно) закончила школу и поступила в университет, на математический факультет (видимо, гены), собственно, к моменту нашей встречи она учится на третьем курсе (не надо забывать — ей всего двадцать лет), что же касается не внешней линии жизни, а внутренней…
На самом–то деле благополучная девочка из довольно благополучной, хотя и пережившей такую трагедии, как смерть кормильца, семьи была отнюдь не такой, и дело не только в той сердечной ране, той пустоте внутри, что появилась в ее жизни после ухода из нее Альфреда Штампля (таковы были настоящие имя и фамилия Катиного отца, так что по паспорту она была Альфредовна, вот только фамилия у нее была маменькина, самая, между прочим, русская фамилия — да, правильно, Иванова, то есть Екатерина Альфредовна Иванова, Катя, Катерина, Кэт, голубоглазая брюнетка с нежнейше- плоским животом и необычайно красивой грудью, как только что убедился в этом Алехандро Лепских, никогда еще не видавший таких обольстительно–прекрасных сосков — две твердые коричневые горошины, которые так приятно брать в рот и чуть покусывать своими пожелтевшими от курева зубами). Катерина была просто нашпигована, нафарширована, набита под завязку, до самого горла, разнообразными комплексами, главным из которых был тот, что она никому, ну абсолютно никому неинтересна, и — соответственно — не нужна. Требовалось ее тело (Катерина хорошо представляла его эстетическую и физиологическую ценность), порою интересовало ее общество — а чем плохо общество красивой молодой женщины? Но вот душа! Да что говорить, только контраст, существовавший между формой и содержанием, то есть между внешним обликом и внутренней сутью, был такой, что порою людям, имевшим, что называется, на Катерину виды, хотелось убежать куда подальше, лишь только знакомство их переходило в более тесную стадию: нет, Кэт никогда не ныла, никогда и никого не затрудняла своими проблемами, она просто издевалась, ерничала, ехидничала, чем делала любой роман еще с самого начала обреченным на трагический финал, ведь кто может выдержать этот мощный натиск молодого закомплексованного существа, только вот сразу отбросим рифмующуюся парочку фрустрация/сублимация, как не будем привлекать на помощь и набивший оскомину тандем Фрейд/Юнг (оставив в покое также Адлера, Фромма и Берна), ибо подсознание — подсознанием, архетипы — архетипами, родовая травма всегда была и будет родовой травмой, точно так же, как и Эдипов комплекс не может стать ничем иным (как, кстати, звали мать Эдипа? Вопрос для любителей кроссвордов. Ответ: Иокаста), ведь все это не более чем бессмысленная абракадабра, за которой теряется, тает, исчезает в густом утреннем (или вечернем) тумане прелестная Катя Иванова — со всеми своими комплексами и беспричинной (я подчеркиваю!) тоской в глазах.
И еще. Екатерине Альфредовне постоянно приходилось бороться с собственной плотью, что тоже добавляло немалую толику комплексов к ее существованию, ведь тело все время жаждало любви, причем — физической. Она не была нимфоманкой, да и свободным, как это говорят, поведением не отличалась, но внутри постоянно горел неугасимый огонь желания, хотя желание без любви для нее было не просто непонятно, но и немыслимо, тут–то и получался замкнутый круг, она влюблялась, неистово, будто стремясь этой очередной любовью убежать от самой себя и той непосильной ноши, что взвалена на ее плечи (может, хоть на этот–то раз, но комплексы будут побеждены и торжественный гром фанфар возвестит окончание битвы?), предмет любви — а как правило, это всегда были юноши, молодые люди и мужчины одного и того же типа (между прочим, резко отличающегося от внешнего облика Александра Сергеевича), высокие, стройные, спортивные, с ярко выраженным «мачизмо», как это называют латиноамериканцы, — вначале с восторгом принимал этот свалившийся ему в руки небесный дар, но вскоре, после дюжины–другой плюх (оплеух, щелчков, щелбанов, резких шлепков по лицу, но все это фигурально, мучительная боль истязаний была в другом, ведь я не нужна тебе, говорила Кэт, да так убедительно, что и возразить нечего) вежливо исчезал в набегающей темноте анонимных улиц, и Катерина снова оставалась одна, пока — да, тот самый неугасимый огонь вновь не заставлял ее искать любви, и не надо умалчивать о том, что занимало это основную часть ее жизни с неполных семнадцати лет, то есть вот уже больше трех лет прошло с того момента, когда Катерина рассталась со своей девственностью (тоже мне ценность, решила она еще в самом начале десятого класса, оставалось лишь найти претендента на роль верховного жреца, долго искать не пришлось, так как учился он в параллельном классе и был соответственно высок и соответственно строен, да еще и умен, вот только все равно из этого ничего хорошего не вышло, ибо — как понимаете — она изначально вела себя так, что… Но не будем винить Катерину в том, что и так доставляло ей предостаточно отвратительно–черных минут), список действующих лиц, точнее же говоря, список героев ее романов все увеличивался, пока наконец не подошел к той жирной точке, за которой и пришло желание отомстить, ибо последняя любовь Катерины была — и действительно! — намного серьезнее всех предыдущих, а тот облом, который произошел накануне субботы, — совсем уж невозможным.
Сделаем маленькую ретроспективку. Обычно Катерина никогда не позволяла знакомиться с собой на улице, но как–то раз, еще в самом начале минувшего мая, когда дни были необыкновенно теплыми и длинными, только–только успели расцвести яблони и запах этих цветущих синонимов весны до одурения кружил голову, она не воспротивилась такому желанию, что выказал высокий и исключительно «мачизмовый» мужчина, встретившийся ей у дверей университета, как только прозвенел звонок с последней пары и она выбралась на (вот и возвращаемся к началу предложения) улицу.
У него горели глаза, у него хищно раздувались ноздри, казалось, что в нем скрыта та энергия, которая может преодолеть все, что так мешает Катерине жить, и она позволила ему заговорить с собой, и даже согласилась встретиться в один из ближайших дней на следующей неделе.
Они встретились, он был на машине, он вежливо открыл ей дверь, и они поехали вначале кататься, а потом к нему домой, и она стала его любовницей, и влюбилась в него, летом съездила с ним на юг (Черное море, белый пароход, пальмы в Гаграх, в городе Сочи темные ночи и пр., и т. п., и т. д.), был он начальником не очень серьезной руки, немного циником, немного (что очень удивительно) романтиком, роль его в нашем повествовании незначительна, а потому не будем раскрывать инкогнито, скажем лишь, что в тот вечер, когда Катерина, возвращаясь домой, чуть не была сбита с ног задумчивым и столь болезненно переживавшим свой проигрыш в го Александром Сергеевичем, она узнала, что все это время — да, с того самого дня в начале мая, когда высокий и плотный мужчина на кремовой «Волге» впервые появился в ее жизни (старая модель, с оленем, гордо гарцующем на капоте), — она была не единственной его подругой, а занимала место между секретаршей (с которой часто приветливо болтала по телефону, у нее еще был очень приятный, чуть мяукающий тембр голоса) и дамой- метрдотелем из того самого ресторана, куда обладатель «Волги» частенько возил Катерину обедать, но почему–то никогда — ужинать. Впрочем, дама тоже осталась в дураках, ибо именно секретарше удалось подвести гарцующего оленя к решению оставить холостяцкую жизнь и соответствующие привычки, о чем мяукающая мамзель и сообщила — не без злорадства, заметим, — Катерине, когда та в очередной раз набрала хорошо знакомый номер и попросила соединить со своим другом.
— А стоит ли, — сказала секретарша, — у нас свадьба через неделю, так что пора тебе, девочка, позабыть о… — она назвала имя–отчество, Катерина положила трубку, выпустим упоминание о начавшемся потоке слез, лишь добавим, что мужчину этого Катерина любила всерьез, а значит, месть была вполне обоснованной.
Правда, вначале она решила покончить с собой, наесться таблеток и спокойно и навсегда уснуть, но потом подумала о том, что это не лучший способ расстаться с долиной скорби, именуемой жизнью, да и мать, и сестра, и тень отца, Альфреда Штампля, — все это, а главным образом, лишь двадцать лет, которые были у нее в пассиве, помешали ей прибегнуть к услугам снотворного средства, производимого по швейцарской лицензии в одной из братских (в ту пору) стран.
И Катерина выбрала иной путь, хотя опять же — не было никакого точного просчета в ее действиях, и ничего–то еще она не собиралась предпринять, явившись со своей подругой (той самой коралловой Кларой) на субботний день рождения к твидово–замшевому приятелю Александра Сергеевича, да и тогда, когда Катя вышла на балкон и спросила, о чем это так грустит Алехандро, она и в мыслях не держала лечь с ним в постель, ведь ничего общего (повторим) не было у Александра Сергеевича с теми мужчинами, к которым тянуло Катерину — уже тогда, в свои двадцать девять, был он заметно лысеющим, роста среднего, что же касается «мачизмо», то этот термин — в отличие от многих других героев Катиной жизни — он знал, но был от него так же далек, как от любого мексиканского или аргентинского кабальеро, с большими пушистыми усами, ярко сверкающими белками глаз, мощно перекатывающимися на руках мускулами и желанием постоянно палить из двух револьверов то ли по кактусам, то ли по койотам, то ли по какой еще дребедени, хотя надо отметить, что — несмотря на множество обломов — был Александр Сергеевич мужчиной страстным и занятия любовью не просто любил, а отводил им немалое место в своей жизни, но Катерина ведь не знала этого в тот самый момент, когда вышла на балкон и поинтересовалась, отчего это месье Лепских столь грустен в сей прелестный час, и совсем ей не хотелось, чтобы он тащился ее провожать, правда, вот тут уже какая–то мстительная искорка промелькнула в ее голове, затлел бикфордов шнур, пошло время, которое ничем было нельзя остановить, тем паче, что уж на последнего–то ее друга Александр Сергеевич был похож как Пат на Паташона, как Белый клоун на Рыжего, то есть походил лишь потому, что был мужчиной, но что–то я уже совсем запутался в причастных и деепричастных, а потому перейдем к следующему (замечательная, надо сказать, привычка!) абзацу.
И начнем его с того, что повторим: даже в тот момент, когда Катерина предложила Алехандро проводить ее до дому, она не знала, что собирается предпринять. Да, искорка пробежала, да, начал потихонечку тлеть бикфордов шнур, но ведь это мало что значит, бывает, что все–таки можно остановить время, взять да затушить, вот только затушить не удалось, ибо такой мямлей сидел перед ней на кухне Александр Сергеевич, таким уж никому не нужным и Богом обиженным, с этим своим извечным страданием по отсутствию любви, что напомнил Катерине ее саму, тогда–то и воспылала она жаждой мести: за себя, за те три года, что неустанно пыталась отыскать под этим небом что- нибудь стоящее, но ничего не обнаруживалось, лишь прокол за проколом, облом за обломом, аут за аутом, тут–то и предложила она Алехандро остаться у нее, но у этого тюхти даже не нашлось сил самому пристать к ней, вот и пришлось, дождавшись момента, когда сей тихий, рафинированный тип проследует в клозет, залезть в постеленную для него постель (вновь возникает вывеска английской почты) и, дожидаясь, тихо скулить о собственной жизни.
Впрочем, после того, как Катерина испытала натиск двадцатидевятилетнего тела г-на Лепских, она изменила о нем свое мнение, но обойдемся без описания любовных забав, скажем лишь, что и весь воскресный день, то есть последующий за минувшей субботней ночью, провел Александр Сергеевич в гостях у ненаглядной его сердцу голубоглазой брюнетки и лишь к вечеру, умаявшись, между прочим, до сильнейшего физического изнеможения, поплелся домой, ибо с утра Кате надо было на лекции, он же должен был отправиться в библиотеку, хотя в библиотеку не пошел, а — проспав чуть ли не до часу — поел что–то, недостойное описания, и помчался встречать Катерину с лекций, внезапно заделавшись пажом, обожателем, спутником, наперсником, то есть человеком, который вдруг становится столь необходимым, что не знаешь, куда без него и шагу ступить, и кончается это, между прочим, обычно тем, что на торжественное предложение руки и сердца — а так всегда бывает в историях с парами и наперсниками — следует молчаливое, хотя не очень–то радостное, согласие, которым и ответила Катерина через три месяца, под Новый год (помнится, уже перевалило за середину декабря), когда Алехандро вдруг завалился к ней в неурочное время (в среду, с утра, даже матушка еще была дома) с букетом нелепо смотрящихся белых гвоздик, и был он в то утро не привычно–джинсовый, а торжественно–костюмный, в смешном ярком галстуке, только что из парикмахерской, сладко благоухающий одеколоном, с тревогой и ожиданием в глазах.
Маменька, не очень–то серьезно относящаяся к очередному Катерининому поклоннику (чего взять с нищего гуманитария), быстренько соорудила приличествующий облику визитера фуршет, а когда услышала, с чем он пришел, так же быстренько вышла из комнаты, чтобы не дожидаться тех громов и молний, которые — по ее мнению — начнет сейчас метать младшая дочь, а когда вернулась, то с удивлением увидела, что она ошиблась, ибо сидели наши голубчики рядышком и правая рука Катерины нежно покоилась в левой руке Александра Сергеевича, то есть правая ее ладонь была в его левой, то есть… В общем, свадьбу — не пышно, но изысканно и скромно — сыграли ближе к весне, и начались тут те десять лет жизни, которые (как раз на момент нашего знакомства) мог А. С. Лепских назвать самыми счастливыми, хотя было и то, что омрачало его спокойное академическое существование с красивой и умной женой под боком: через два года семейной жизни Кэт забеременела (то есть позволила себе забеременеть), но случился выкидыш, и консилиум врачей, созванных вдовой Ивановой — Штампль, постановил — больше подобных зкспериментов не производить, ибо следующая беременность может закончится более печальным исходом. Не могу сказать, кто из супругов переживал больше, но как следствие и возникла та трещинка (так, по–моему, принято писать в подобных случаях), что все дальше и дальше начала разводить супругов по разные стороны семейного бытия, ибо если Александр Сергеевич действительно любил свою жену с той же пылкостью, как и в тот знаменательный декабрьский день, когда явился к ней в костюме и при галстуке и предложил руку и сердце, сопроводив этот торжественный акт вручением несуразного букета белых гвоздик, то Катерина, и тогда–то испытывавшая к нему лишь чувство благодарности (говорю это не в укор), стала все больше времени уделять своей жизни вне дома, ибо благодарность — не любовь, пусть даже муж оказался хорошим человеком и очаровательным любовником, но гнетущая эта реалистическая нотка исчезает сразу же, как возникает, ведь что толку упрекать Катерину в супружеской неверности, несколько лет она сдерживала себя, но потом вдруг что–то взорвалось, вновь вспыхнуло ярким пламенем в ее душе, хотя еще два года она продолжала быть женой Александра Сергеевича, но — как раз за два месяца до того замечательного дня, двадцатого июля уже упомянутого года, когда ровно в одиннадцать утра зазвонил телефон и англо- американский голос потребовал к проводу г-на Лепских — Катерина вновь перебралась жить к маменьке, где мебель к этому времени успели заменить, отчего супружескую кровать она взяла с собой, оставив Алехандро (своеобразная рокировка) лишь диван, естественно, что тот самый, на котором ему впервые довелось отпробовать ее лона; кресла канули невесть куда, а вот диван стоит тут, в одинокой и захламленной комнате, куда как раз в настоящий момент и входит обладатель премии Крюгера, а с ней и десяти тысячи долларов, филолог–медиевист, автор многих трудов в области массовой культуры, исследователь эстетических интерпретаций образа дьявола и их воздействия на харизму читателя, милейший наш Александр Сергеевич Лепских, испытывающий, надо сказать, одно–единственное желание: поскорее дозвониться до дальнего родственника столь преступно покинувшей его жены, до этого т. н. физика Феликса, а там…
Да свалить отсюда, что называется, к этой самой матери!
5
Немудрено, что уже вечером Феликс сидит на кухне у Александра Сергеевича, пьет с ним (что бы вы думали?) водку и выслушивает тот бред, что излагает ему (торопливо, порою глотая слова и оставляя от них одни окончания) Алехандро.
Но сперва о Феликсе. То, что он был в родстве с Катериной Альфредовной Ивановой, можно вывести хотя бы из полного фио засекреченного естествоиспытателя тире теоретика/практика — звали его Феликсом Ивановичем Штамплем, внешностью же он отличался столь любопытной, что не описать ее — грех. Роста выше среднего, худой, как палка (бамбук, тростник, телеграфный столб, вот только немного подпиленный сверху), блондинистый до заунывности и с таким же до заунывности вытянутым лицом, с бегающими льдисто–серыми глазами, будто лишенными ресниц (на самом деле ресницы были, вот только не сразу бросались — опять же, в глаза), с печально нависающим над верхней губой носом, пришлепнутым на самом кончике, который всегда пылал неестественно красным цветом (и не от того, что Феликс много пил, хотя последнее было ему не чуждо), с юношеской прыщавостью на лбу и щеках, да еще дурно припахивающим (попахивающим, если хотите) ртом — в общем, картинка, далеко не радующая глаз, что, впрочем, никак не отражалось на личной судьбе Феликса Ивановича, ибо в своем деле был он личностью незаурядной (поговаривали, что способен отхватить и Нобелевку), семейная жизнь его складывалась тоже неплохо — был он уже несколько лет как женат, жену звали (предположим) Зиной, от нее даже имелась обожаемая дочь, хотя все это — как понимаете — не имеет к нашей истории никакого отношения, поэтому оставляем и жену, и дочь за пределами абзаца, впустив в него лишь самого Феликса, сидящего сейчас напротив Алехандро, попивающего хозяйскую водочку да время от времени внимательно покачивающего головой, будто говоря при этом: слушаю, милейший мой Александр Сергеевич, очень внимательно слушаю!
А слушать было что, ибо ни разу еще Алехандро никому не плакался о своей судьбе, тем паче — не делился радостью от получения премии Крюгера. Излагал он все это сбивчиво, перескакивая с одного на другое, так что Феликсу пришлось даже приложить некие мыслительные усилия, чтобы свести концы с концами и выстроить подобие логически рассказанной истории, на одном полюсе которой был уход жены, Катерины (Екатерины) Ивановой — Штампль, а на другом — звонок из заокеанской глубинки.
Дождавшись наконец паузы, во время которой Александр Сергеевич остановился перевести дух и разлить еще по рюмашечке, Феликс решил уточнить две заинтересовавшие его вещи. Это были: а) основная причина ухода от г-на Лепских дальней родственницы г-на Штампля и б) облагается ли премия Крюгера налогом, а если да, то каким?
Что касается первого, то ничего конкретного Александр Сергеевич поведать не мог, ибо воспринималось им это лишь на уровне эмоций, хотя в ответном спиче и промелькнуло несколько фактов, главными из которых были опять же: а) невозможность (по словам Катерины) и дальше жить вместе, ибо (по ее же словам) «произошел кризис любви» и б) затянувшийся финансовый кризис (последние пять, а может, что и все шесть месяцев) г-на Лепских, что тоже не придавало их семейной жизни особой стабильности, ибо (уже по его словам) «дорогой бриллиант — и это, между прочим, без тени иронии — дорогой оправы требует, не так ли, Феликс?». Феликс вновь утвердительно кивает и просит не отвлекаться, а ответить на следующий вопрос, на что Александр Сергеевич с готовностью отвечает, что премии налогом не облагаются, а потому его доллары государству не достанутся.
— Это хорошо, — задумчиво произносит Феликс, погружаясь в какие–то непонятные раздумья, а потом вновь обращается к Алехандро: — Ну а от меня–то ты чего хочешь?
Александр встает с табуретки, Алехандро начинает мерить кухоньку шагами, Александр Сергеевич носится по ней из угла в угол, натыкаясь то на газовую плиту (двухконфорочную, четырех здесь не поместилась бы), то на угол стола, за которым они с Феликсом и предаются выпиванию/закусыванию, то на (опять же) угол мойки, между прочим, финской (воспоминания о теще), превращая таким образом свой маршрут в неправильной формы треугольник, проще же говоря, разносторонний, стороны «а» коего (от стола до плиты) чуть побольше, «в» же и «с» совсем крохотные, уймись, говорит ему Феликс, внятно можешь сказать?
И Александр Сергеевич Лепских, внятно и тщательно произнося слова, объясняет своему родственнику, что — исходя из всего сказанного — единственным возможным для себя выходом в сложившейся ситуации он считает бегство, уход, уезд, но не в эмиграцию, а в тартарары, в никуда, в запределье, в какие–то параллельно существующие измерения и реальности, которые, говорят, есть, но сам он в этом ничего не понимает, потому–то и позвал сегодня к себе Феликса, ибо Феликс — все говорят! — в этом дока, не так ли? И он смотрит на гостя, смотрит внимательно и печально, а тот начинает смеяться, долго и странно, будто поквакивая, нос его неустанно ходит над губой, как поплавок по волне, то касаясь самым кончиком упомянутой губы, то вновь отдаляясь (верх волны и ее низ), а потом, отдышавшись, отфыркавшись (так и хочется добавить — отплевавшись), говорит:
— А что, в этом что–то есть, по крайней мере, мне давно хотелось поставить такой эксперимент!
Александр Сергеевич внимательно смотрит на собеседника, и вдруг чудится ему, будто облик того начинает меняться: прилизанная льдистая блондинистость приобретает пламенеющие черты инфернального существа с жесткими и безжалостными глазами, рот становится злым, более того, стоит подождать еще немного, и увидишь, как в уголках рта покажутся два больших, цвета слоновьей кости клыка, с самых кончиков которых начнет капать кровь, пахнёт в комнате серой и прочими подобающими запахами, недаром ведь Александр Сергеевич так много лет занимается эстетическими интерпретациями образа дьявола в мировой литературе, и определить еще одно воплощение героя своих научных штудий для него не составляет труда, да и сама ситуация (точнее — то, что предшествовало), да и обстановочка — куда подевались финская мойка, двухконфорочная газовая плита плюс уютный кухонный столик с разложенной/расставленной на нем снедью/выпивкой — грозно пылают дрова в камине, тяжелые бархатные шторы плотно затягивают высокие стрельчатые окна, резная спинка кресла отчего–то достаточно больно впивается в спину, капает воск со свечи в массивном золотом подсвечнике, стоящем посреди круглого стола, покрытого золотом же расшитым бархатом темного, почти черного цвета, а если упомянуть еще ветер, воющий за стенами, да остановившиеся ровно в полночь часы… Но что тут говорить! — И Александр Сергеевич моргает, наваждение исчезает, мойка, плита и столик вновь на своих местах, как на месте же и собеседник, все такой же блондинисто–льдистый, вот только клыки… И Александр Сергеевич моргает еще раз, что, в глаз попало, интересуется Феликс, да, робко отвечает Алехандро, а потом спрашивает:
— Что за эксперимент?
И тут приходит очередь Феликса встать с места и начать строить в замкнутом пространстве (дверь в коридор прикрыта) кухни разносторонний треугольник, усадив Алехандро на табурет и превратив его (нет, не в ужа или жабу) во внимательного слушателя. Опустим мало что говорящие гуманитарному уху А. С. Лепских физико–математические подробности, оставим лишь суть, из коей можно узнать, что уже несколько лет институт, в котором имеет честь (он так и сказал!) работать г-н Штампль, ведет сложнейшие исследования, смысл которых как раз и состоит в попытке научиться преодолевать тот временно–пространственный барьер, который и мешает в переходе из одного измерения в другое…
— Так они на самом деле существуют? — всерьез удивляется г-н Лепских.
Феликс отмахивается от его вопроса, как от чего–то очень несерьезного (мухи, комара, надоедливой осы), и продолжает разъяснять, что да, существует и — более того — есть множество способов проникновения из одного мира в другой, сам он, по крайней мере, знает целых три (над этим и работает его лаборатория), но пока все это не больше чем теория, подкрепленная, впрочем, показаниями приборов, точными расчетами и т. д. (это таинственное «и т. д.» Феликс не стал расшифровывать). Конечно, Александр Сергеевич может спросить, почему они пока не переходят к практике, то есть не переводят свои исследования в стадию эксперимента? Объясняю (тут Феликс Иванович приосанился, клыки сверкнули в лучах электрического света, и Алехандро зябко поежился). Все дело в том, что: а) подобные опыты бессмысленно ставить на приматах, а лишь поставив опыт на приматах, они могут получить разрешение на опыт с участием человека, и б) есть формула попадания туда, но нет формулы попадания обратно, хотя над ней сам Феликс сейчас и бьется, но сколько это займет времени — одному Господу ведомо. И вот тут–то он, Феликс, должен сказать, что бредовая идея Александра Сергеевича о бегстве в тартарары, в запределье, очень ему импонирует (слово это он произнес необычайно сладко), ибо дает возможность обойти инструкции и поставить давно желаемый эксперимент, проверив на практике — останется ли А. С. Лепских после нажатия кнопки с нами, то есть здесь, в этом измерении, или исчезнет, и он, Феликс, предлагает сейчас Александру Сергеевичу заключить конфиденциальное соглашение, по которому тот обязуется уплатить г-ну Штамплю пять (повторим: пять) тысяч долларов, за что упомянутый г-н Штампль согласен взять на себя: а) риск по подготовке и проведению всей операции, б) обеспечение ее необходимыми материальными ресурсами (собственно, лишь аренда аппаратуры — если представить, что Александр Сергеевич арендовал бы ее на законных основаниях — и составила бы эти самые пять тысяч, причем, за неполный час) и в) гарантию удачного исхода эксперимента, то есть заброски А. С. Лепских в тартарары, в иное измерение, в неведомый мир, называйте этокак хотите, смысл все равно будет тем же…
— А если не получится? — поинтересовался Александр Сергеевич.
— Получится, — уверенно заявил Феликс, а потом, подумав, добавил: — Я тебе могу даже пари предложить.
— Какое? — удивился Алехандро.
— Смотри. Если все поручится нормально и ты исчезнешь, то вторые пять тысяч долларов тоже достанутся мне. А если что–то мешает и ты остаешься, то я мирю тебя с Катериной. Хочешь?
— А просто так помирить не можешь?
— Просто так — нет, просто так у меня нет стимула, а тут придется, тем паче, что первые пять тысяч я тебе все равно возвращать не буду, ну что, по рукам?
Александр Сергеевич замялся, он чувствовал, что этот, непонятно каким образом материализовавшийся в облике Феликса Штампля, властелин подлунного мира соблазняет его, ведь — если верить Феликсу — в любом случае А. С. не останется в накладе, а значит, стоит рискнуть, хотя вдруг…
И Александр Сергеевич, потупившись, спросил:
— А вдруг я исчезну вообще?
— То есть как это — вообще? — удивился Феликс Иванович.
— Ну, умру, распадусь на части, стану отдельно взятыми атомами…
— Чушь, — сказал г-н Штампль, — этого просто не может быть, ибо в своей формуле я уверен. Так что, по рукам?
— Надо подумать, — коротко ответил Александр Сергеевич.
— Думай, — сказал Штампль хихикнув и засобирался вдруг уходить. — Как надумаешь — позвони, ладно?
— Ладно, — проговорил Александр Сергеевич, провожая своего таинственного гостя до двери, ведущей на лестничную площадку, — позвоню, может, что даже завтра!
Быстрый уход Штампля объясняется лишь тем, что внезапно в повествовании наметилась незапланированная пауза. Но действительно: согласись Александр Сергеевич на предложение своего гостя прямо сейчас, то они могли бы уже этим вечером отправиться в институт и приступить к эксперименту. А ведь десять тысяч долларов еще не получены, значит, Феликс пока не заинтересован в том, чтобы проделывать все это сегодня вечером, так что пусть Алехандро подождет, подумает, получит денежки и (соответственно) почетный диплом премии Крюгера, последнее и предпоследнее займет у него не один день, ведь надо лететь в Москву, в посольство, присутствовать на званом ужине в свою честь, раскланиваться направо–налево, держа в одной руке фужер с шампанским, а в другой — малюсенькую тарелочку с разнообразнейшей снедью (не будем перечислять все, что умудрится вместить в нее Александр Сергеевич, собравшийся повязать, между прочим, для этого визита даже галстук, свой единственный, тот, в котором много лет назад отправился просить руку Катерины/Екатерины Альфредовны, а еще добавим, что сама процедура вручения премии ему чрезвычайно понравится — давно он уже не чувствовал себя столь важной и необходимой персоной, как в тот вечер, он даже впервые в жизни даст интервью, в котором — на радость залетной корреспонденточке — будет долго и пространно разъяснять, что образ дьявола изменяется со временем, и не стоит сейчас шарить вокруг глазами, пытаясь отыскать нечто с копытами и хвостом, это бесполезно, вот он сам недавно встретил одного, так лишь по двум клыкам цвета слоновьей кости смог определить, что это именно дьявол, — дальше Александр Сергеевич подкрепит свою речь фразой на плохой латыни — так что надо быть внимательней, каноны меняются («Что такое «каноны»? — спросит наивная корреспонденточка, А. С. с удовольствием ответит), происходят мутации (про мутации корреспонденточка спрашивать не будет), тут распорядитель вечера прервет беседу, сказав, что герою дня пора получать почетные регалии, и пригласит Алехандро на подиум, где некий господин в смокинге и со шкиперской бородкой уже будет поджидать его с папочкой тисненой кожи в руках, да еще с длинненьким таким конвертом голубоватого цвета — в папочке диплом, а в конверте чек, вскоре и то и другое будет вручено г-ну Лепских, вспышки блицев, аплодисменты, еще фужер шампанского, Александр Сергеевич? Александр Сергеевич выпьет еще фужер шампанского и покинет посольство, унося в «дипломате» почетный диплом Крюгеровской премии, а во внутреннем кармане пиджака — чек на десять тысяч долларов, который на следующий же день обменяет на наличные, аккуратными пачками уложив их во все тот же «дипломат», дорога приведет в аэропорт, а значит, совсем скоро он вновь позвонит Феликсу, таким образом, наша незапланированная пауза подходит к концу, вот Александр Сергеевич дома, вот он подходит к телефону, снимает трубку, набирает номер…)
— Алло, — говорит на том конце провода Феликс.
— Алло, — будто передразнивает его Александр Сергеевич.
— Кто это?
— Феликс, — медленно и печально произносит приглушенным голосом Алехандро, — Феликс, я согласен!
— На что? — будто не понимая, переспрашивает физик.
— На все, даже на пари!
— Отлично, — говорит Штампль, — когда начнем?
— А когда лучше? — интересуется Лепских.
— В выходные, — информирует его Феликс Иванович, — когда в институте никого не будет.
— Хорошо, — соглашается Алехандро, — в выходные — так в выходные.
До выходных, между прочим, еще почти неделя, так что новоиспеченный лауреат премии Крюгера может привести в порядок свои дела и даже оставить кое–какие распоряжения. Так, он составляет (что совершенно естественно) завещание, в котором отписывает все имущество (смешно сказать!) своей жене, Катерине Альфредовне Ивановой, а также доверяет ей быть душеприказчицей всех его — как опубликованных, так и неопубликованных — работ, впрочем, это тоже смешно, ибо кому нужны его научные штудии, но пусть потешит самолюбие, пусть доведет до конца игру земных амбиций, ибо уже пятница, конверт с завещанием (заверенным, как положено, у нотариуса) запечатан и уложен в дорожную сумку, где лежат зубная щетка, полотенце, мыло, блок сигарет, последний номер толстого журнала с очередной статьей самого Александра Сергеевича (вот зачем только он берет его с собой?), пара чистых носков, сменная рубашка, сменные плавки, в общем, обычный командировочный набор, включая термос с чаем и пакет с бутербродами, хотя то, что собирается предпринять сейчас Александр Сергеевич (именно сейчас, ибо уже закрылась толстенная дверь проходной того института, в котором работает дальний родственник по линии жены, Феликс протянул пропуск, который у Алехандро сразу же изъяли, затем они пошли по длинному и полутемному коридору, вот один поворот, вот еще один, тут снова пост, на котором Алехандро получает еще один пропуск, который ему прикалывают к рубашке, красивый такой, цветной пропуск с ярко–голубой полосой наискосок, вот они садятся в лифт, Феликс нажимает кнопку без номера — да они все без номера, соображения секретности, что ли, лифт плавно трогается и так же плавно останавливается, дверь открывается, прямо перед входом — громила в штатском, руки заложены за спину, челюсть мощно подается вперед, это со мной, кивает на Алехандро Феликс, громила кивает в ответ, снова длинный и тускло освещенный коридор (электричество экономят, отчего–то поясняет Феликс), еще один поворот, еще один пост, затем еще коридорчик, только совсем уж малюсенький, с большой стальной дверью в конце. Феликс нажимает невидимую кнопку, дверь плавно отходит, физик и филолог–медиевист входят в большое, ярко залитое светом (тут его, видимо, не экономят) помещение, дверь так же плавно закрывается, ну что, обращается Феликс к Александру Сергеевичу, все принес?) называется по–другому.
Опустим то, как они оба подписывают подготовленные Феликсом бумаги — двухсторонний договор и расписку о заключении пари, опустим и то, как Алехандро Лепских передал сначала Феликсу Штамплю запечатанный конверт с завещанием, а потом и две пачки денег, в каждой ровно по пять тысяч долларов. Опустим даже тот долгий разговор, что состоялся между ними за чашечкой предотъездного (а как назвать иначе?) кофе, во время которого Феликс Иванович инструктировал добровольца о том, как будет происходить эксперимент.
— Ну? — спросил, наконец, Феликс Иванович. — Приступим?
А. С. решительно кивнул головой и направился к большому креслу, стоящему в центре комнаты. Как и положено, кресло было опутано разными проводами с подключенными датчиками, перед креслом располагался небольшой пульт с двумя рядами кнопок и лампочек (верхний ряд — лампочки, нижний — кнопки).
— Садись! — приказным тоном сказал Феликс.
А. С. сел и — как в самолете — застегнул на себе два толстых, грубой кожи ремня.
— При счете «три» включаю! — И Феликс начал считать: — Раз… Два… Три!
Что–то вспыхнуло, что–то грохнуло, что–то подняло кресло с Александром Сергеевичем и закружило, закрутило, бросая из стороны в сторону, ни зги не видно, темная чернота, черная темнота, чермнота, проще говоря, и вновь кружит, вновь бросает из стороны в сторону, вновь что–то вспыхивает и грохочет, зачем, проносится в мозгу Алехандро, а потом: «Ну и идиот же я!» И тут он чувствует, что больше ничто и никуда не движется, кресло стоит спокойно на чем–то твердом, а значит, можно открыть глаза и оглядеться, что он и делает.
Вокруг — унылое поле, совсем рядом — дорога, идущая неизвестно откуда в неизвестно куда. Низкое, пасмурное небо, серо–желтая трава под ногами — наверное, поздняя осень. Александр Сергеевич отстегивает ремни, берет сумку и встает с кресла. К горлу подкатывает тоска, ибо внезапно он понимает бессмысленность своей авантюры, ведь мир, в котором оказался А. С., — действительно абсолютно иной, и нет в нем ни единой знакомой души, и кому он здесь нужен, пусть и является лауреатом премии Крюгера? Алехандро хочется плакать, но он сдерживает слезы, распечатывает пачку сигарет (опустим марку и страну изготовления), закидывает сумку за спину, с сожалением смотрит на кресло и направляется к дороге, думая о том, вперед ли идти ему или назад, хотя лучше, конечно, вперед, это всегда лучше, чтобы вперед, тем паче, вот и указатель имеется, надо лишь подойти да постараться прочитать, что тут — арабская вязь, латиница, кириллица? На удивление знакомые буквы, слова читаются просто и легко: «Добро пожаловать в Элджернон!» — написано на указателе. «Что это, город или страна?» — думает Александр Сергеевич, внезапно оборачивается, и чудится ему, будто из–за ближайшего поворота дороги подмигивает, осклабясь, Феликс Иванович Штампль, при этом хорошо различимы два клыка цвета слоновьей кости, что торчат в самых уголках рта.
6
Ну и кто скажет, что мне делать с этим Александром Сергеевичем, заброшенным в тартарары, тьмутаракань, запределье, иное измерение тире параллельную реальность, ведь автор сего повествования никогда не занимался игрой в научную (и ненаучную тоже) фантастику и понятия не имеет, что должен делать герой с того самого момента, когда перед ним настежь распахиваются двери нового мира? Да и не фантастика то, что произошло с Алехандро Лепских, дорога под его ногами самая настоящая, нормальная такая асфальтовая дорога, по всей видимости, давно заброшенная, покрытая многочисленными паутинками трещинок, по обочинам все то же поле, что же касается указателя, то таинственный Элджернон по–прежнему продолжает занимать мозги филолога–медиевиста, ибо ответ на вопрос, город это или страна, все еще не получен, и все так же тошно и маетно на душе: авантюры хороши, когда в них пускаешься, сидя в кресле, с какой–нибудь книгой, или у экрана телевизора, сидишь и думаешь, что вот и мне бы хорошо учудить что–нибудь этакое, что бы враз изменило, перекрутило, воссоздало заново всю давно уже опостылевшую жизнь, сломало ее привычные рамки, бросило на палитру ожидающего дня новый, непривычно–яркого цвета мазок, повесило над ним волшебную радугу, зазвонило тончайшими хрустальными колокольчиками, но когда это случается (редко, чрезвычайно редко, не из ста даже один шанс, из миллиона), то охватывают тоска и печаль, постепенно переходящие в ужас — нет дороги обратно, а та, что есть, ведет в неведомый Элджернон, добираться до которого (если еще доберешься!) тоже предстоит невесть сколько!
Но добираться пришлось, на удивление, не так уж и долго. Часа через два пути по все той же заброшенной асфальтовой дороге (ландшафт за это время не изменился, все то же унылое поле как по правую, так и по левую сторону, низкое, пасмурное небо, временами проносились снежинки, тающие, еще не успев достичь асфальта, Александр Сергеевич даже достал из сумки свитер и напялил на себя — ведь отбыл–то он еще летом, пусть в середине августа, но летом, солнечным, терпким, звенящим как уже упомянутые хрустальные колокольчики, а тут поздняя осень, у него же лишь свитер да тонюсенькая курточка–ветровка, интересно, в чем здесь ходят, как и вообще интересно, что это за неведомая земля такая, куда занесло его волею — да нет, не судьбы даже, судьбою не назовешь то, что произошло с ним, дурацкая мысль, безумная идея, а вот как все здорово получилось, бах, и кресло начинает крутиться, вертеться, бах, что–то грохнуло, взорвалось, то ли взрывпакет, то ли праздничная петарда, и он уже здесь, и нет ни Феликса Ивановича, ни преступно покинувшей его жены, Катерины Альфредовны, да и вспоминается сейчас о них, как о чем–то несущественном, пусть даже г-н Штампль и показал на мгновение свои торчащие клыки из–за ближайшего поворота дороги еще там, в самом начале пути. Показал, но с этим и скрылся, растаял окончательно, хотя неизвестно, надолго ли, а дорога идет, и все интереснее становится Александру Сергеевичу шагать по ней по направлению к таинственному Элджернону, тоска, печаль, отчаяние — все это внезапно вдруг скукожилось до размеров куколки какой–нибудь зачуханной, домотканно–пестрой крапивницы, а когда — еще полчаса спустя — коричневая оболочка упомянутой куколки лопается, то не банальная лепидоптера начинает кружить вокруг уверенно продолжающего свой путь Алехандро, а виденное им лишь на картинках в старых атласах чудо (на мелованном картоне, печать с литографского камня, каждая такая картинка переложена тончайшим крылышком папиросной бумаги) — размером с воробья, а то и голубя, сине–зелено–фиолетовая, с длинными шпорами, со свистом рассекающими в полете воздух, то ли орнитоптера, то ли морфо, то ли еще какая экзотическая тварь сопровождает Александра Сергеевича последние километры пути и исчезает из поля зрения лишь тогда, когда за очередным поворотом дороги он видит веселенькую, ярко–желтую (отчего–то ярко–желтый цвет всегда хочется назвать веселеньким) будочку, а рядом с ней — молчаливо стоящий мотоцикл химерического вида, с двумя рогами руля, у мотоцикла же, так же молчаливо привалившись к нему, торчит здоровенный бугай в странной форме — белая каска с золотой полосой наискосок, черное кожаное трико с золотыми же лампасами, да еще эполеты плюс аксельбанты — такая же химера, как и сам мотоцикл, как и эта будочка, как дорога, да и вообще все то, что происходит с Александром Лепских в эти последние часы, в эти первые его часы, страж порядка, блюститель закона, ловец местных контрабандистов, рейнджер–пограничник, кто ты, хочется спросить Алехандро у все так же молчаливо стоящего незнакомца, лениво посматривающего на приближающегося незваного гостя пронзительным взглядом из–под белой каски с золотой полосой, проведенной наискосок, но мы так далеко ушли от начала абзаца, что пора закрыть скобки и постараться свести концы с концами, то есть окончить то, уже давнее, предскобочное предложение), повторим, часа через два пути все по той же заброшенной асфальтовой дороге Александр Сергеевич Лепских увидел первого живого человека с тех самых пор, когда Феликс Иванович Штампль нажал кнопку, чем и положил начало эксперименту.
— Эй, — осведомился бугай в каске, дождавшись, пока Алехандро подойдет поближе, — ты кто?
Александр остановился и внимательно посмотрел на любопытствующего стража порядка, блюстителя закона, ставим многоточие и продолжаем повествование.
— А ты кто? — внезапно для себя самого ответил он вопросом на вопрос, даже не удивляясь тому, что отлично понимает язык незнакомца и так же отлично говорит на этом языке.
— Поговори еще! — лениво огрызнулся верзила и продолжил: — Откуда и куда идешь?
— В Элджернон, — столь же развязно проговорил А. С. и ничуточки не изумился, когда здоровяк махнул рукой и буркнул:
— Ну иди, только не хами впредь…
— Далеко еще? — вдруг набравшись смелости, поинтересовался Алехандро.
— В первый раз, что ли? — все так же лениво спросил рейнджер–пограничник. А потом добавил: — А ты вообще–то из Дзароса?
— Из Дзароса, из Дзароса, — быстренько пробормотал Александр Сергеевич, догадываясь, что Дзарос — по всей видимости, это страна, и тогда Элджернон — город, скорее всего, что столица, и надо заметить, что в своих умозаключениях он был прав.
— Из провинции? — вновь подал голос ловец местных контрабандистов, а потом добавил: — Закурить не найдется?
— Свои–то кончились? — столь же любезно задал вопрос Александр Сергеевич и в ответ услышал, что да, свои кончились, торчит тут пнем уже невесть сколько, а до смены еще торчать тоже невесть сколько, делать нечего, вот стоишь и куришь, первого человека с утра встретил, да и тот из провинции, откуда, с гор, с побережья?
— С побережья, — ответил, доставая сигареты, Алехандро, всегда предпочитавший море любым хребтам, отрогам и прочим возвышенностям.
— А, — протянул, закуривая, обладатель чудесной белой каски, — тогда, наверное, из Тапробаны… А может, из Скриффельда (при этих словах что–то тукнуло Александра Сергеевича в сердце, но он так и не разобрался что). Так из Тапробаны или из Скриффельда?
— Нет, — мотнул головой Алехандро, дабы не попадать впросак, и отчего–то добавил: — Между… То есть на полпути… В таком маленьком–маленьком местечке…
— Угм, — буркнул внезапно потерявший интерес к теме нахождения отчего дома Александра Сергеевича мотоциклист, а потом поинтересовался: — Давно идешь?
— Давно, — утвердительно кивнул Алехандро.
— Хочешь — подожди, скоро сменят, тогда подброшу до города, подождешь?
— Подожду, — с нескрываемой радостью проговорил Александр Сергеевич, сбросил сумку и растянулся на земле прямо у мотоцикла.
— В карты играешь? — внезапно поинтересовался благодетель.
— Нет… Раньше играл…
— А в скруж?
— Как это?
— Ну, темнота деревенская!.. — и обладатель каски, аксельбантов и эполетов быстренько скрылся в будочке, а выйдя обратно, держал в руках доску, удивительно напоминающую ту, за которой провел Алехандро немало часов, сражаясь со своим серо–замшевым приятелем в увлекательную восточную игру с теплым и нежным названием «го».
— Объясняю! — сказал здоровяк, но объяснять ему практически ничего не пришлось, ибо разницы между скружем и го не было никакой, а в последнюю Александр играл временами просто здорово, то есть когда был в форме, когда ум его не был отягощен посторонними заботами, да и фортуна была на его стороне, как на его стороне она была и сейчас, ибо сыграли они со стражем дороги (подобрев к рейнджеру–пограничнику, Александр повысил его, присвоив более чем романтическое звание) пять партий, и все Лепских выиграл, причем быстро, не напрягаясь, что называется, между делом, то есть между легкой и приятной беседой, которую они начали вести сразу же, лишь первый камешек черного цвета упал из руки Алехандро на сделанную из незнакомой породы дерева доску («Это из дерева шао», — ответил на вопрос, отчего–то не удивившись, Фарт, так звали нового знакомца Александра Сергеевича). Впрочем, говорил в основном Фарт, Александр лишь вставлял междометия да иногда подбрасывал пару- другую вопросиков — боялся попасть впросак, показать, что не из Дзароса он, а совсем из другой земли, и какая из них сейчас неведомая — один Бог разберет. Только вот ничего интересного Фарт ему не поведал, жаловался, главным образом, на службу, проклинал своего начальника, капитана Третьяна, да говорил о том, что времена настали тяжелые, цены постоянно растут, денег не хватает, вот и приходится горбатить, был бы помоложе — пошел бы в вольные торговцы, сейчас это разрешено, совсем не то что при прежнем режиме, года три назад, хорошо, конечно, что вновь вернулись их Светлыя Величества, вот только страну настолько довели за то время, пока они скрывались в эмиграции, что простому люду сейчас не легче, а тяжелее, ну да что он все об этом да об этом, ведь у них (у Александра Сергеевича то есть) в провинции не лучше, а хуже, так что давай–ка, еще партию сыграем, ты не против?
Александр Сергеевич был не против, что же касается той информации, которую поведал ему Фарт, то она пока мало что сказала г-ну Лепских, ибо в понятиях «Светлыя Величества», «эмиграция», «вольные торговцы» Алехандро улавливал лишь абстрактные знаки и ничего конкретного. Ну да ладно, решил он, начиная пятую (и последнюю) партию, главное — добраться до Элджернона, а там со всем разберусь, и он бросил на доску камешек, только на этот раз белого цвета.
— Жрать хочешь? — спросил его вновь проигравший Фарт, решив, по всей видимости, что хватит позориться перед каким–то провинциалом, и если скруж не удается ему сегодня, то челюстями можно двигать (с одинаковым, в принципе, успехом) всегда.
— А есть что? — таким же тоном поинтересовался Александр.
— Паек, — грустно промычал Фарт и предложил Алехандро банку консервов, сухое печенье типа крекеров и фляжку с чуть сладковатым пойлом, оказавшимся местным пивом. Они перекусили (в ход пошли и командировочные бутерброды), снова покурили, сидя у фартовского мотоцикла и глядя на дорогу. Близились сумерки, сколько добираться до этого самого Элджернона, пусть и на мотоцикле, Александр не знал, отчего и взгрустнул, ибо Фарт отправится в казарму (а может, что и к себе домой), Лепских же еще предстоит устроиться на ночлег, а денег у него нет, ну ни цента, ни копейки, ни какого–нибудь завалявшегося пфеннига, какая, интересно, тут валюта, подумал он, империалы, пиастры, крузейро? Но тут, на его счастье, послышался отдаленный звук мотора. Фарт приободрился, вскочил на ноги, подтянул широкий кожаный ремень, поправил аксельбант (в единственном все же числе), поувереннее нахлобучил каску и велел Алехандро отойти от мотоцикла и подождать за будкой, ибо, как он выразился, «Не знаешь, что за зараза приползет, можно и наряд схлопотать, ведь не в отпуске, на часах!».
Алехандро устроился за будкой, но ему все было видно: и как подлетел точно такой же мотоцикл химерического вида, соскочил с него такай же, как и Фарт, здоровенный бугай, они радостно позубоскалили о чем–то минут пять, а потом Фарт махнул Алехандро рукой: мол, не бойся, иди сюда!
И вот Александр Сергеевич устроился на заднем сиденье мощного полицейского (пусть будет так) мотоцикла, Фарт дает газ, взревывает мотор, бешено крутятся колеса, асфальт уносится в наступающие сумерки, ветер бьет в лицо, на горизонте появляются огни, Фарт низко пригибается над рулем, Алехандро тесно прижимается к спине своего благодетеля, мир не без добрых людей, и это не мысль, что проскакивает в его голове, это правда, самая настоящая, ничем не прикрытая, повторим — мир не без добрых людей, вот и Александру Лепских повезло сразу же, лишь оказался он (по своей, между прочим, воле) на неведомой земле, в странном краю, и с минуты на минуту глазам его во всем великолепии предстанет столица государства Дзарос, чудный и волшебный город Элджернон, ибо именно таким он и должен оказаться, стоило иначе огород городить, не стоило, отвечает мне Александр Сергеевич, а мотоцикл уже въезжает в первую улицу, еще окраинную, но залитую ярким электрическим светом, только не будем ее описывать, скажем лишь, что момент самой встречи с Элджерноном ничем не поразил воображение Александра Лепских, разве что покрепче ухватился он за спину бравого рейнджера, ибо тот не сбросил газ, а добавил еще, мотоцикл внезапно встал на заднее колесо, потом рванулся вперед, вот и Элджернон, обернувшись, прокричал на ухо Фарт, Алехандро закивал головой, замечая, что с каждым метром огней становится все больше, да и горят они ярче.
Внезапно они остановились у тротуара на широком бульваре, полупустом сейчас, лишь изредка проезжали лакированные кабриолеты, большие, приземистые лимузины, юркие четырехколесные шмели, сумерки сменились темнотой, Алехандро покачивало от быстрой езды, хотелось курить, страх давно прошел, но все еще было не по себе: куда сейчас ему податься, думал он, доставая очередную пару сигарет — для себя и для рейнджера, который посмотрел на него пытливым, опытным взглядом, а потом спросил:
— Слушай, а деньги–то у тебя есть?
— Нет, — радостно ответил Александр Сергеевич, зажигая спичку и делая ладони корабликом, чтобы ее не задул внезапно поднявшийся ветер.
— Да, — протянул Фарт, — навязался ты на мою голову, что с тобой делать? Алехандро пожал плечами. — Совсем у вас там в провинции, видимо, тоска, что в столицу без денег поперся, а?
Алехандро кивнул головой.
— Ладно, — сказал вдруг решительно страж дороги, — поехали к родичу, там что- нибудь придумаем! — И он приглашающе постучал по седлу мотоцикла.
Вновь взревел мотор, вновь понеслись по обочинам залитые огнями дома, ехали они недолго, вот уже Фарт вновь глушит мотор и останавливает мотоцикл у входа в небольшую (точнее говоря — просто маленькую) гостиницу, место расположения которой Александр Сергеевич даже не может соотнести ни с центром, ни с окраинами, ибо что можно сказать по поводу таких тонких материй, когда в городе ты впервые и еще только–только осматриваешься по сторонам.
— Обожди, — сказал рейнджер и исчез в дверях.
Алехандро потянулся и решил оглядеться. Гостиница стояла посреди маленькой безлюдной улочки, зажатая с двух сторон высокими серыми зданиями с погашенными сейчас окнами, видимо, деловая часть города, официальным слогом определил их назначение Александр, и продолжил свой осмотр, из которого выяснилось, что гостиница называется «Золотой берег», в ней четыре этажа, по восемь окон в каждом, горят лишь два на первом, четыре на втором, три на третьем (не надо искать в этом смысла, случайное совпадение цифр) и одно на четвертом, впрочем, вот на четвертом зажглись еще два, тут Александр Сергеевич услышал стук каблучков, обернулся и увидел невысокую, одетую в длинный, приталенный плащ женщину, та посмотрела на Алехандро (как ему показалось, хотя ведь ночь, что можно увидеть!) взглядом без тени полагающегося в таких случаях испуга и пошла дальше, все так же уверенно стуча каблучками, даже лица не разглядел по–хорошему, отчего–то вздохнул Александр Сергеевич и услышал, как его окликает от дверей Фарт: мол, давай быстрее, мне еще дальше ехать надо, так что поторапливайся, бедолага, взбегай по ступенькам, раз–два–три, три ступеньки, большие, открывающиеся вовнутрь двери с зеркальными стеклами и резными, отделанными красным металлом ручками — не из бедных гостиница, подумал Алехандро, входя в шикарный (случайно выскочившее слово) вестибюль.
Тут его поджидал уже и дядюшка (именно дядюшкой оказался фартовый родственничек), в бархатной пижамной куртке лиловатого оттенка, в светлых брюках, босые ноги обуты в шлепанцы, седой такой дяденька преклонного возраста, с холено–выбритым лицом, уши топорщатся, не очень приятное, надо сказать, лицо, но что поделать, и вновь становится Александру Сергеевичу тоскливо, чужой город, чужая страна, чужой мир, чужие люди, входите, входите, приветливо говорит ему господин лилового оттенка, поможем чем можем, Фартик мне все о вас рассказал!
— Будь как дома! — кричит Алехандро, уже закрывая за собой двери, бравый игрок в скруж. — Завтра тебя навещу! — А Александр Сергеевич, меланхолически размышляя о том, что же такого мог рассказать своему дядюшке партнер по партии, поднимается вслед за светлыми брюками по лестнице, наверное, думает он, на четвертый этаж, в каморку для прислуги, но ошибается тут А. С. Лепских, ибо селят его на третьем этаже (но по–прежнему не надо искать никакого смысла в этом подчеркивании цифры «три»), и комната достается ему приличная — большая, с душем и туалетом, кровать со свежим бельем, даже телевизор (а чему удивляться?) у них тут имеется, проходите, говорит дядюшка, будьте как дома, все образуется, я тоже когда–то из провинции приехал, ничего страшного, мне помогли, я помогаю, да и Фартик просил, так что располагайтесь, отдыхайте с дороги, утро вечера мудренее, утром мы и подумаем, что вам делать, не так ли?
И Александр Сергеевич кивает, головой: мол, истинно так, а потом, закрыв за хозяином дверь, подходит к окну, отодвигает тяжелую штору блекло–пурпурной расцветки и смотрит на безлюдную ночную улицу, на которой оказался внезапно для течения всей своей жизни в неполных сорок лет, и улица эта, называвшаяся, как он узнает утром, именем пресветлого герцога Эудженио V (при диктатуре на каждом доме этого квартала значилось «улица Народной Мести», причем второе и третье слово обязательно с заглавных букв), находилась в самом центре города Элджернона, столицы государства Дзарос, и вот на этой–то улице, в гостинице «Золотой берег», и должен был провести свою первую ночь на этой земле филолог–медиевист Алехандро Лепских, что же, говорит он, отходя от окна и направляясь к уже расправленной постели, утро вечера, как правильно заметил хозяин, мудренее, а потому… Но оборвем очередную гениальную мысль Александра Сергеевича на полуслове и дадим ему крепко выспаться в эту первую элджернонскую ночь.
7
То же ощущение, что и в начале прошлой главы: а что дальше? Сюжет дает множество возможностей, все пути открыты, остается выбрать лишь один и уверенно шагать по — ну, проторенной эту дорожку никто и никогда не назовет, торить ее придется вместе с милейшим Александром Сергеевичем, который еще сладко спит и видит во сне некую фантастическую фею, хрупкую, с распущенными темно–каштановыми волосами, стройными ножками и тонкими белыми запястьями, невзначай выскальзывающими из–под длинных рукавов блестящего черного платьица, довольно короткого, так что и коленки хорошо различимы сейчас спящему Александру Сергеевичу, в меру полные и симпатичные коленки, фея улыбается, фея произносит что–то низким, чуть хрипловатым голосом, Алехандро ответно улыбается во сне, замечательно проходит первая ночь в городе Элджерноне, столица государства Дзарос, материк Тлоримпана, что на планете Ауф, хотя ни к фантастике, ни к фэнтэзи наше повествование не имеет никакого отношения, но ведь есть география и топография, как есть история и социология, так что пока Александр Сергеевич просыпается, встает, бредет в ванную (продолжать можно долго) сделаем небольшой экскурс в упомянутые дисциплины, ведь надо знать, куда попал и что тебя может ожидать.
Но прежде всего: почему именно Дзарос, точнее же говоря, почему именно в эти края закинула хитрюга–судьба нашего героя, ведь выбор параллельной реальности, запределья обусловлен не столько реальными факторами бытия (прелестная формулировочка), сколько некими внутренними составляющими того или иного индивидуума, так что в данном контексте ответ на вопрос будет предельно прост (случайно возникшая перекличка разделенных горбатым мостиком из четырех слов окончаний): Александр Сергеевич Лепских попал туда, куда давно стремился попасть, а давно он стремился попасть в любую точку на любой географической карте, которая была бы похожа на реально (что еще предстоит выяснить) существующий Дзарос, расположенный на материке Тлоримпана, находящемся на планете Ауф, пропускаем многоточие и начинаем с красной строки.
Не будем углубляться в лингвистические изыскания. Создание любого мира может рассматриваться на самых различных уровнях, нас же прежде всего должен волновать уровень подобия, для чего надо привести возникающий прямо в нашем присутствии мир в соответствие с общепринятой системой координат, то есть прежде, чем начать его пластическое (зримое) воплощение, надо поиграть с прелестной парочкой «пространство — время», введя в нее при этом вектор судьбы, а что значит судьба любого мира (как и любого человека), если в ней нет вчера, позавчера, пишем «и так далее», ставим запятую и вновь продолжаем с красной строки.
Алехандро Лепских оказался в уютном номере гостиницы «Золотой берег» в довольно интересный (не будем употреблять истертое слово «судьбоносный») для государства Дзарос момент, всего лишь три года назад по местному календарю к власти в стране вновь пришла правящая здесь уже несколько столетий династия светлейших герцогов Альворадо, скинутая с престола (точнее, скинут был тот самый Эудженио, именем которого и была названа та самая улица, на которой стояла… Да, правильно, гостиница «Золотой берег», так что продолжим изложение фактов и событий) в результате хорошо подготовленного переворота, инспирированного из соседней с Дзаросом страны, которая с Дзаросом именно тогда пребывала в состоянии многолетней, но необъявленной войны, на вопрос же, когда это было, можно ответить просто: за пятьдесят лет до того дня, когда Алехандро Лепских отстегнул привязные ремни от кресла, стоящего неподалеку от дороги на уныло–сером поле, но пора наконец–то приводить все в систему.
Итак, Дзарос. Небольшое государство на побережье Тапробанского моря. Крупных населенных пунктов три, включая столицу (Элджернон), морской порт Зерскаву и город Умбриэль, что почти у самой границы, в горах (да, с одной стороны — море, с другой — горы, отсюда и резкая смена климата, почти субтропического на побережье), где, кстати, по соседству с Зерскавой находится известнейший курорт Тапробана (почти двести пятьдесят солнечных дней в году, любимое место отдыха правящей династии, между прочим) и резко–континентальный в полосе Элджернон — Умбриэль, причем последний — это уже Север со всеми полагающимися прелестями, хотя и в Элджерноне, надо сказать, климат не лучше, по крайней мере, нынешний год выдался холодным и дождливым, что Александру Сергеевичу еще предстоит обнаружить. Конституционная монархия, переживающая сложный восстановительный период после многих лет военно–политической диктатуры. Развитая промышленность, но сейчас страна находится в экономическом кризисе (опустим цифровые выкладки и всяческие подробности, которые изучает Алехандро, вооружившись толстым томом под странным названием «Дзарос в цифрах, фактах и комментариях, к восстановлению на престоле Светлейших герцогов Альворадо». Том он откопал в выдвижном ящичке прикроватной тумбочки, на которой стоял малюсенький ночник под колпаком нежно–розового цвета). Дальше можно поведать читателю о том, что дзаросцы трудолюбивы, но отличаются взрывным темпераментом, склонностью к интуитивному познанию действительности и любовью к прекрасному, что нашло свое отражение в многочисленных памятниках культуры, дошедших до дней нынешних из минувших эпох, хотя диктатура и здесь умудрилась напортачить, ибо цвет, элита, наиболее способная часть населения была в свое время наполовину уничтожена, наполовину же покинула страну, отбыв в эмиграцию, но возрождение Дзароса несомненно, особенно сейчас, когда у власти находится герцогиня Стефания (ее муж, герцог Рикардо, умер несколько лет назад, оставив вдову с двумя детьми на руках — дочерью Вивиан и сыном Себастьяном, между прочим, известным дзаросским писателем, только что в магазинах появился его последний роман «У бездомных нет дома», книга сразу возглавила список бестселлеров, в управлении же страной ни сын, ни дочь не принимают участия, так что официальным наследником герцогини Стефании считается ее брат, герцог Эудженио VI, находящийся в данное время в длительной конхиологической экспедиции, ибо является одним из крупнейших в мире специалистов по раковинам и моллюскам, но не будем запоминать его имя столь тщательно, как имена Себастьяна и Вивиан, ибо именно они… но пока вновь обойдемся лишь многоточием), женщина мудрая и решительная, сразу же начавшая с того, что дала всем дзаросцам право нерегламентированной жизни, то есть каждый из них мог заниматься тем, чем хотел, зарабатывать деньги так, как хотел, соблюдая при этом, естественно, два условия — не нарушать законы и платить в казну налоги, впрочем, пока вынужденно грабительские, но тут Александр Сергеевич вновь пропускает несколько абзацев, набранных мелким кеглем, ибо дзаросская (как и любая другая) экономика ему не столь интересна, как непосредственная жизнь, а ведь она там, за окном, сколько можно читать, да еще без завтрака, надо прерваться, перекусить, а потом уже окунуться в поток людей, бушующий сейчас на улицах Элджернона…
Но тут, как и положено по всем правилам игры, раздается стук в дверь.
— Войдите, — вальяжно разрешает Александр Сергеевич и видит приветливо улыбающееся лицо хозяина, говорящего ему, что уже приехал Фарт и они ждут своего гостя к завтраку, да и поговорить надо, ибо есть у Фарта кое–какие идеи, которые он хотел бы обсудить с г-ном Алехандро, если тот, конечно, не против, но как Александр может быть против, когда ему даже за завтрак заплатить нечем, если хозяину вздумается потребовать с него эту самую плату, так что вальяжность исчезает, и А. С. Лепских быстренько спускается вслед за хозяином в гостиничный ресторан, где за угловым столиком уже поджидает гроза–рейнджер, вот только одетый сегодня в штатский костюм, на нем темно–синие штаны плотного хлопка, так похожие на джинсы, и такая же рубашка с незатейливой вышивкой на левом кармане, лишь золотой значок с молнией, приколотый на левом же отвороте воротника, говорит о принадлежности Фарта к рядам бравых блюстителей закона и порядка.
Стол, между прочим, накрыт, стоят на нем разнообразнейшие мисочки–тарелочки, аппетитно, кстати говоря, дымящиеся, да и Фарт аппетитно дымит тонкой длинной сигарой черного цвета (как позже узнает Алехандро, рядом с Тапробаной, на клочке земли в несколько квадратных километров, произрастает замечательный табак, из которого на местной фабрике свертывают вручную безумно дорогие по цене, но и великолепные по своим качествам сигары, которые поставляются даже ко двору их герцогских высочеств, ибо сама Стефания Альворадо не против выкурить в день парочку сигар — одну утром, после завтрака, другую, естественно, после ужина, сидя в каминной зале дворца с кем–нибудь из советников и обсуждая насущные проблемы управления государством за стаканом доброго хереса или мадеры, ибо лишь подобные напитки употребляет герцогиня Стефания, да еще импортные шампанское и коньяк, которые присылают ей из той самой страны, которая и инспирировала пятьдесят лет назад… но сколько можно, так и хочется сказать мне, пытаясь выбраться из очередного нагромождения причастных и деепричастных, столь же прихотливо свивающихся в странный узор, как странен и прихотлив был предутренний сон Александра Сергеевича, ибо фантастическая фея, вдруг встряхнув гривой каштановых, пышных волос, еще раз улыбнулась ему, что–то вновь произнеся своим низким, чуть хрипловатым голосом, а ведь такой голос бывает у курильщиков (и курильщиц) тапробанских сигар, но ничего этого Алехандро пока не знает, да и сигару — длинную, узкую, черную, свернутую вручную — курит впервые в жизни, ожидая услышать, что за идеи возникли за ночь в фартовой голове, ибо понимает, что от идей этих может зависеть и его, г-на Лепских, судьба).
— Ну как, вкусно? — спрашивает хозяин, когда Александр Сергеевич, плотно откушав, отодвигает от себя уже ненужный прибор и бросает на стол смятую полотняную салфетку.
— Замечательно! — искренне говорит Алехандро, посматривая то на хозяина (может, все же придумать ему имя? Хорошо, пусть он будет дядюшкой Го, лишь один слог и больше ничего, дядюшка Го, любитель играть в го, иначе в скруж…), то на стража дороги тире ловца местных контрабандистов и прочие цветастые выраженьица из предыдущий главы.
— Алехандро, — вдруг торжественно прерывает его Фарт, — послушай. Я тут подумал ночью и понял, что ты отнюдь не из провинции, не так ли? — (Стоит ли писать, что сердце г-на Лепских внезапно дрогнуло, потом бешено застучало и внезапно замерло в ощущении чего–то ужасного, когда можно просто сказать, что испуганный этой фразой Александр попытался было исчезнуть, но ничего не вышло.) — Только ничего не говори, — продолжал Фарт, — а послушай. По тебе сразу видно, что ты человек образованный (Алехандро саркастически кивнул головой), а в провинции таких почти нет, да и не в этом дело. Интуиция мне говорит, что ты не оттуда… По правилам, я тебя должен, конечно, сдать в отдел безопасности, вдруг ты шпион (тут Лепских опять погрузился в отчаяние), но не всегда можно играть по правилам, ибо на шпиона ты не похож, да и в скруж играешь здорово, да и дядюшке Го понравился, а он человек старый, и интуиция у него получше, чем у меня. Так что мы даже спрашивать тебя не будем, как ты к нам попал и откуда, раз попал — значит, надо было, а вот помочь мы тебе хотим, только для этого надо знать, что ты умеешь делать?.. — И Фарт взял очередную черную сигару родом из Тапробаны.
Александр Сергеевич втянул в себя воздух, набрался мужества и внезапно сделал то, что отнюдь не собирался делать, против моей воли, против всего задуманного плана игры, разрушая сюжет, пуская его под откос, взрывая, переиначивая, разменивая на солнечные зайчики, столь странные в этот холодный и пасмурный день поздней элджернонской осени, когда невозможно открыть окно, ибо стылый воздух сразу же начинает морозить пальцы и машинка заикается, путает буквы и целые слова, и столь же путаный шум проезжающих машин заставляет меня вновь вернуться к Александру Сергеевичу, между прочим, давно уже рассказывающему Фарту и дядюшке Го историю своего появления на дороге в Элджернон, они слушают, что называется, разинув рты (двумя удивленными пингвинами застыв за столом, как сказал бы Пьер Делаланд), на лицах нескрываемое удивление, когда же Алехандро, раскрутив бечеву обратно, добрался до премии Крюгера и пояснил, за что она ему была присуждена, то дядюшка Го вдруг вскричал «великолепно!» и захлопал в ладоши, да так сильно, что одинокий постоялец за соседним слева столиком, уже приступивший к чтению газеты («Элджернонская хроника. Специальный выпуск») и чашке кофе, неодобрительно посмотрел в их сторону, но вновь переключился на тщательное изучение беловато–серых полос, а дядюшка Го, попросив извинения, предложил Александру Сергеевичу продолжать рассказ, который (по дословному выражению хозяина гостиницы) «столь же прекрасен, как чтение «Амфатриды», причем значение последнего понятия он так и не объяснил.
— А что в этом великолепного? — поинтересовался вдруг Фарт, но дядюшка Го отмахнулся, и Александр Сергеевич продолжил, хотя мало что мог еще добавить, ибо и Феликс Иванович Штампль успел к этому моменту посетить ресторан гостиницы «Золотой берег», продемонстрировав всем присутствующим парочку мрачновато- окровавленных клыков, и Катерина Альфредовна, прошелестев платьем, отбыла восвояси, да даже и приятель, тот, что серо–замшевый, сыграл с Алехандро партию в го прямо за столиком, чем вызвал неподдельный интерес со стороны Фарта, уже разобравшегося, что го это есть скруж, а скруж, соответственно, го и поинтересовавшегося наконец (доска сложена, да и фишки/кубики убраны с глаз долой), что умеет Александр Сергеевич делать еще, кроме преподавания литературы средних веков и — соответственно — изучения эстетических интерпретаций образа дьявола в литературе того мира, в котором Фарт, равно, как и дядюшка Го, так же, между прочим, отметивший мастерство серо–замшевого, как даже сама светлейшая герцогиня Стефания (тут Фарт вдруг закрыл глаза, как бы произнося про себя молитву) никогда не бывали, да и не будут, ну что, продолжал он допытывать г-на Лепских, и г-н Лепских вынужден был коротко ответить:
— Ничего!
И тут за столом повисла пауза (маленькая радуга, накрывшая собой мисочки и тарелочки, уже опустевшие и потерявшие всю свою привлекательность), а потом дядюшка Го сказал:
— Фартик, а у меня тоже есть идея!
— Какая же? — спросил расстроенный Фарт.
И дядюшка Го поведал, что намедни (то есть третьего дня, то есть буквально накануне явления Александра Сергеевича в их хмурую элджернонскую осень) он прочитал в «Элджернонской хронике», что вновь открываемый Тапробанский университет, закрытый в свое время узурпаторами, объявляет конкурсный набор преподавателей на несколько отделений, включая и отделение словесности, где отбор, между прочим, будет вести сам Себастьян Альворадо, знаменитый наш писатель (да, если Александр еще не читал его бестселлер «У бездомных нет дома», то он просто должен его прочитать, это прекрасная, более того, это воистину великая книга, не так ли, Фарт? Фарт книги не читал, но на всякий случай согласился) и сын правящей герцогини Стефании (тут уже дядюшка Го на мгновение закрыл глаза, как бы произнося про себя молитву), и почему бы их новому другу не рискнуть и не подать прошение о зачислении в штат отделения словесности Тапробанского университета, ведь жить на что–то надо, а вернуться назад, как понял дядюшка Го, г-ну Алехандро будет более, чем затруднительно, ну так как идея?
— Хороша! — сказал Фарт, восторженно переводя взгляд с дядюшки Го на Александра и с Александра на дядюшку Го.
— Хороша–то хороша, — грустно вымолвил Алехандро, — только из нее ничего не выйдет…
— Почему? — в один голос воскликнули Фарт и дядюшка Го.
— Так ведь я ни бельмеса, что называется, в вашей словесности, ведь я и про Дзарос лишь только утром хоть что–то узнал, мне самому учиться надо, а не учить… — И Алехандро все так же грустно покачал головой, будто говоря: нет уж, куда мне в Тапробанский университет, мне бы чего попроще, тарелки мыть на кухне у дядюшки Го, что ли?
— Это не страшно, — сказал ему дядюшка Го, — словесность — она везде словесность, так отчего бы не рискнуть, а, Фартик? — И он вновь обернулся к племяннику, как бы ища у того поддержки, которую, соответственно, и нашел, ибо Фарт тоже подтвердил, что надо рисковать, кто не рискует — тот не выигрывает, а не выиграв, не попьешь шампанского, шампанское же в Тапробане знаменитое, не хуже сигар, кстати, Алехандро, хочешь еще штучку? Бери, не стесняйся, меня этим делом в казарме снабжают после каждого дежурства, видишь, и в нашей службе есть что–то приятное, ну так что, соглашается Алехандро с планом дядюшки Го?
И было бы очень странно, если бы Алехандро не согласился, ведь тогда сюжет в очередной раз встал бы на дыбы, пошел по новому руслу (тоже мне, Желтая река!), а сколько можно испытывать терпение автора и выносливость читателя, так что Александр Сергеевич, еще немного покобенившись, соглашается, и они тут же, прямо за ресторанным столиком (мисочки–тарелочки давно убраны, на их месте славненько дымятся три аккуратненькие чашечки с кофе, да имеется еще и блюдце с воздушными миндальными пирожными, прекрасный кондитер, кстати говоря, работает в «Золотом береге», а миндальные пирожные — его конек!), вырабатывают план действий, который гласит, что за уик–энд (еще начало субботы, так что до воскресного вечера времени хватит) А. С. Лепских усиленно постигает все, что возможно из области дзаросской словесности, а в понедельник утром, с готовым прошением (составить его поможет дядюшка Го), он (в сопровождении или Фарта, или дядюшки Го) отправится во дворец, где и подаст его в департамент знаний и учебных заведений, за необходимыми книгами Фарт съездит в библиотеку, а Алехандро, если захочет, может его сопровождать, кабриолет дядюшки Го на ходу, много времени это не займет, да заодно и к Соне заедут, знаешь ведь Соню, Фартик? Она девочка умная, может, что и подскажет, а красавица! — и тут дядюшка Го замолк, и можно было бы закончить главу, совместив с началом, то есть сказать, что внезапно (и случайно) возникшая Соня была точь–в–точь похожа на предутреннее видение Александра, но Соня (еще одна племянница дядюшки Го, только с другой стороны, вот и ломайте голову, как это), хотя и была красавицей, ничем не походила на фею из сна г-на Лепских, а походила на нее… но незачем пока будить сладко спящих демонов, ибо младшая герцогиня Альворадо, пышноволосая и хрупкая Вивиан, еще только открывает свои заспанные, дымчатые (это тоже со сна) глаза, хотя надо отметить, что ее кабриолет уже стоит на дворе, и вскоре он выедет в открытые ворота дворца, минует проспект имени покойного отца Вивиан, герцога Рикардо, свернет на улицу Свободы, доберется до площади Клерамбо (не все ли равно, кто это такой?), а на самом выезде с площади, при пересечении с улицей Микелон (то же объяснение, что и в предыдущих скобках), шофер Вивиан зазевается и невзначай наедет на замшело–древнюю колымагу, за рулем которой сидит наш знакомец Фарт, а с ним рядом, довольно попыхивая тапробанской сигарой, изучает в открытое (несмотря на мелко моросящий дождь) окошко местные достопримечательности некий филолог–медиевист, еще не знающий, чем грозит ему рассерженный вопль Фарта, внезапно перешедший в заискивающе–заикающийся говорок отчаянно пересыхающего ручья. Александр Сергеевич выглядывает наружу и застывает, ошарашенный, ибо, находясь в гневе, Вивиан Альворадо еще прелестнее, чем это показалось Алехандро утром, когда он так боялся проснуться, ибо бывают видения, потерять которые столь же страшно, как собственную жизнь!
8
Только не надо считать, что внезапное явление Вивиан — чей–то запланированный произвол, давно ожидаемая ухмылка судьбы, попытка вновь подчинить роман авторской воле, для чего и стягиваются воедино тонюсенькие ниточки самых разнообразных цветов, от сиреневого (модного в прошлом сезоне) до цвета морской волны (читайте журналы этого года, в них все разъяснено подробнейшим образом, особенно рекомендую вам прелюбопытнейшее чтиво, именуемое «Дзаросские леди», кстати, последний номер весь посвящен принцессе — повысим ее в звании, да и звучит «принцесса Вивиан» так же смачно, как «герцогиня Стефания», но чтобы и в дальнейшем не плутать в лабиринте скобочных уточнений, вернемся немного назад, к цвету морской волны, к журналу «Дзаросские леди», восьмой, то есть августовский, номер за этот год, берем глянцевую отраву в руку и открываем на первой же странице, из которой узнаем, что…)
Да, из которой узнаем, что стиль нынешнего сезона элджернонские модельеры назвали стилем Вивиан, ибо прелестная принцесса по собственному разумению ввела в обиход такие детали дамского туалета, как коротенькая плиссированная юбочка (желательно черного цвета), длинные, эластичные, блестящие штанишки (тоже желательно черного цвета), легкие, объемные, кружевные блузки, что же касается уже упомянутой морской волны, то она присутствует как в косметике, так и в самых разнообразных отклонениях от плиссированно–блестяще–кружевных причиндалов, но сколько можно задерживать внимание на первой странице, давно пора перейти ко второй, точнее же говоря, ко второй тире третьей, ибо тут напечатаны целых шесть фотографий милейшей особы из правящей династии, с четвертой же страницы журнала начинается рассказ о ней, впрочем, тоже перемежаемый иллюстрациями, так что пойдем по порядку, с первого снимка и до последней точки, ведь надо воочию представить себе, в какую историю может попасть Александр Сергеевич Лепских, молча сидящий на заднем сиденье попавшего в аварию кабриолета и с тоской поглядывающий в открытое окно, за которым Фарт что–то тихо втолковывает разъяренной принцессе, не узнать которую он просто не мог — ведь фотографии Вивиан можно увидеть не только в августовском номере «Дзаросских леди», который мы держим сейчас в руках и открываем на второй странице.
Фотография первая. Вивиан в вечернем платье цвета морской волны. Лицо повернуто в профиль, так что ее небольшой, с небольшой же горбинкой носик торжествует над всем остальным пространством кадра, можно, конечно, что–нибудь добавить про хищный абрис, томную припухлость ярко накрашенного рта, но это не входит в наши интересы, так что переходим к фотографии номер два.
Вивиан на теннисном корте, на ней коротенькая белая юбочка и такая же белая маечка, под которой угадываются плотные мячики (не скажешь ведь — арбузы или кролики) грудей, волосы перехвачены лентой (естественно, что цвета морской волны), фотограф запечатлел молодую (возраста ее пока мы не знаем, надо потерпеть до стр.4) особу в момент подачи, правая рука резко взметнулась вверх, мяч уже отскочил от ракетки и летит туда, где невидимая сетка и еще более невидимый партнер (партнерша), ожидающий (ожидающая) подачи. Фото три. Вивиан на яхте, в сплошном купальнике цвета морской (вычеркнем слово «естественно») волны, яхта покачивается на волнах, Вивиан сидит в шезлонге, вытянув прямо в объектив свои красивые, загорелые (так и тянет добавить: «божественные») ноги, богатые не похожи на нас с вами, мысль старая, но не стареющая.
Фото четыре. Вивиан с дочерью (вот это открытие!). Чудесная девочка лет шести, очень похожая на мать. Маленькая Вивиан. Вивиан‑2. Как зовут малышку? Лучше подобрать какое–нибудь имя на «а», ариведерчи, говорит маленькая Анжелика (Алиса), крепко сжимая материнскую ладонь своей маленькой ладошкой, и отправляет нас к фотографии номер пять, где Вивиан снята на улице Элджернона, в том самом месте, где переулок Вогезов плавно переходит в бульвар Синдереллы, то есть как раз в том самом месте, где расположен большой бронзовый фонтан — чудный голенький мальчик, покрытый малахитовой патиной, держит в руках красиво–чешуйчатую туну, из открытого рта которой и бьет струйка воды, стекая по рукам мальчика на живот, пробираясь сквозь бронзовые завитки волос на лобке, орошая крепкие, стройные, подростково–точеные ноги и — соответственно — соединяясь затем с зеркальной гладью воды, застывшей в округлой мраморной чаше, на парапете которой фотограф и заснял Вивиан: она в шортах (за окном кабриолета все еще моросит мелкий дождь и Александр Сергеевич ежится: сыро, мерзко, промозгло) и в свободной рубашке с коротеньким рукавом, цвет описывать не будем, это тот самый, что моден в нынешнем сезоне, отметим лишь аккуратненькую сумочку крокодиловой кожи, которую Вивиан сжимает под мышкой левой руки, правая же поправляет волосы на лбу, снимок сделан почти на закате, и красное солнце, падая за фонтан, дарит прекрасной Альворадо небывалую по красоте корону, изготовленную самым умелым и изысканным мастером на свете — прихотливой фантазией художника, но мы уже переводим взгляд на фото номер шесть: портрет Вивиан крупным планом, анфас, что же, попробуем возродить к жизни это лицо, для чего надо бы найти разницу между определениями «красивое» и «прелестное», но мы поставим вместо «и» запятую, и получится следующее — со снимка смотрит красивое, восхитительно–прелестное лицо молодой женщины, отчего–то лишенное тех неправильностей, что придают столь многим женщинам шарм, и единственное, что внезапно задерживает взгляд, так это — да, вы абсолютно правы, это глаза Вивиан, карие глаза с большими пушистыми ресницами, со странно мерцающим кружочком райка, придающим этим бестрепетно–прекрасным глазам счастливой и ухоженной женщины что–то… Но тут мы сделаем пропуск, ибо домыслить можно все, что угодно, но фотография — всего лишь фотография, пусть даже с нее смотрит прекрасная и — добавим эпитет «нездешняя» — принцесса Вивиан.
Раз, два, три, четыре, пять, Вивиан пошла гулять, вот и фото номер шесть, Альворадо снова здесь, считалка заканчивается, Александр Сергеевич решает рискнуть и вылезает из кабриолета, Фарт покорно выслушивает нотации принцессы Вивиан, шофер Вивиан пытается разобраться со своим черно–лаковым монстром, который больше не собирается заводиться, Вивиан смотрит на часики и нервничает, а потом вдруг говорит Фарту:
— Милейший, а почему бы вам в таком случае не побыть моим личным шофером? — Фарт глядит на Александра Сергеевича, Алехандро глядит на Фарта, Вивиан начинает смеяться и произносит, обращаясь непосредственно к нашему герою: — Боже, какой вы замечательно–лысый, так и хочется погладить по голове, можно? — Растерянный Александр подставляет свою мокрую от дождя лысину, и рука принцессы ласково и нежно гладит его по самой макушке, а потом вдруг треплет за ухо. — Ну что, — продолжает Вивиан, — вы согласны стать на сегодня моей свитой? — С этими словами она открывает переднюю дверцу и садится рядом с местом шофера, так что Фарту ничего не остается, как сесть за руль, что же касается Александра Сергеевича…
Да, он вновь удобно устраивается на заднем сиденье и продолжает рассматривать журнал «Дзаросские леди», точнее же говоря, приступает к чтению уже обещанного жизнеописания принцессы Вивиан, начало на стр.4, кабриолет плавно трогает с места и направляется в сторону Обезьяньего моста, шурша (предположим) шинами (обожаю эту игру «шу» и «ши») по обильно смоченной дождем мостовой, Элджернон на удивление пуст, а ведь так хотелось Алехандро поглазеть по сторонам, поперебирать глазами разноцветную толпу, сортируя на темные и яркие тона, вот сиреневый, вот морской волны, вот черный, вот ярко–желтый, вот красным шрифтом набранный заголовок, «Наша Вивиан», а вот и первая строчка, гласящая, что принцесса Вивиан родилась в эмиграции, на островах Керкс и Тайкос, и было это двадцать девять (то есть почти тридцать) лет тому назад, но принцесса не скрывает своего возраста, который, кстати говоря, не скрывает и ее мать, правящая герцогиня Стефания (а ей сейчас сорок девять лет), отец же Вивиан, герцог Рикардо, умер молодым, но начнем по порядку, перейдем от первой строчки ко второй, сейчас поворачивай сюда, говорит Вивиан Фарту, кабриолет грохочет по стальным ребрам Обезьяньего моста (почему–то захотелось, чтобы фраза звучала именно так) и выезжает на уже упомянутый бульвар Синдереллы, вторая же строчка гласит, что, несмотря на затруднительное материальное положение, родители дали дочери (равно как и брату, Себастьяну Альворадо) замечательное образование, что же касается — но тут минуем несколько строчек подряд и переходим к самому началу второго абзаца жизнеописания Вивиан, из которого можно узнать, что принцесса росла тихой и мечтательной девушкой и всегда смотрела на мир широко открытыми глазами. Отец, герцог Рикардо, даже частенько поругивал ее за эту мечтательность, желая когда–нибудь увидеть именно ее на троне вновь освобожденного от власти диктатуры Дзароса, но этому противилась мать, герцогиня Стефания, и Вивиан росла, что называется, между двух огней, отчего имела гораздо больше свободы, чем ее нетитулованные подруги, тут блудливое перо автора статьи внезапно сбивается на описание первого романа молодой Вивиан Альворадо (ей тогда только–только исполнилось четырнадцать лет, он же был бравым гусаром, личным адъютантом отца, естественно, что любовь, вспыхнувшая в сердце Вивиан, была платонической, но кончилось все это печально — как–то раз Рикардо Альворадо случайно наткнулся на любовную записку, в которой Вивиан назначала предмету своей страсти свидание с тем, чтобы — цитируем дословно — «миленький, давно пришла пора поговорить начистоту!», свидание не состоялось, ибо адъютанта мгновенно отправили налаживать конспиративные связи в Элджернон, где он и сгинул в одной из подземных тюрем кровавого режима, а Вивиан с острова Керкс (где была резиденция Светлейших в изгнании) отбыла на остров Тайкос, в закрытый пансионат для девочек, тут делаем паузу), а вот и бульвар Синдереллы остается позади, куда дальше, ваше высочество, спрашивает ошарашенный случившимся Фарт, сверни направо, говорит ему Вивиан, и остановись вон у того большого дома, видишь? Вижу, отвечает Фарт, а мы продолжаем свое чтение и узнаем, что годы пребывания в пансионате не ожесточили доброго сердца юной Альворадо, правда, если верить слухам, она и здесь перенесла душевную травму, пережив роман, но на этот раз уже с женщиной, с прелестной воспитательницей ее группы, что была родом с небольшого островка Селбон (в двух днях пути от острова Тайкос), звали милую даму Аурелией, и погибла она при невыясненных обстоятельствах — во время ночного купания в шторм, когда с ней была лишь одна Вивиан. После этого случая отец с матерью забрали дочь из пансионата, ей уже семнадцать, и она отправляется учиться на материк, в известнейший на весь местный мир университет, где постигает азы астрономии и теоретической физики (до сих пор никто не может сказать, почему именно эту область знаний выбрала для себя принцесса Альворадо), поехали дальше, говорит вновь впорхнувшая в кабриолет Вивиан, Фарт трогает с места, а Александр Сергеевич долго и с умилением рассматривает черно–белые снимки Вивиан, один времен романа с Аурелией (на нем Вивиан снята на пляже, она бежит за пенистой волной, пытаясь то ли перепрыгнуть ее, то ли оседлать), второй же, времен обучения в университете, доносит до нас облик Вивиан — прилежной слушательницы лекций и исполнительной участницы семинарских занятий, она стоит у доски, на которой небрежно начертаны с десяток невнятных формул, и слушает, чуть наклонив голову, отсутствующего на снимке преподавателя, допустим, что как раз того самого, роман с которым автор статьи помещает под номером три, и Александр Сергеевич с удивлением узнает, что на девятнадцатом году жизни принцесса Вивиан была помолвлена и чуть не вышла замуж за одного из наиболее блестящих профессоров того самого университета, куда… впрочем, подробности романа интересуют Александра Сергеевича (впрочем, как и автора жизнеописания) гораздо больше, чем раскрытие многоточия после слова «куда», так что последуем за ним и скажем, что помолвка была расторгнута по инициативе самой Вивиан, ибо — по ее же словам, процитированным по памяти одной неназванной подругой, — «жених оказался хмырем, к тому же импотентом, ну что мне с ним было делать?» Делать с ним Вивиан действительно было нечего, но шрам на сердце оказался — по всей видимости — столь велик, что через год, не дождавшись даже окончания очередного курса, она все же выскочила замуж, предметом ее страсти на этот раз оказался бравый гвардейский офицер, штабс–капитан, молодой блондинистый херувим, статный, высокий, с очаровательными голубыми глазами, прекрасный гонщик, между прочим, да еще и умница, так что и Рикардо, и Стефания не долго противились предстоящему браку, что же касается самой свадьбы — тут вдруг по хитроумному замыслу дежурного редактора номера фраза обрывается, Александр Сергеевич перелистывает страницу и видит заполнившую весь разворот фотографию свадьбы Вивиан Альворадо со штабс–капитаном Генри Маккоем. Молодые находятся в центре страницы, точнее же говоря — Вивиан на левой половине разворота, капитан Генри — на правой, они держатся за руки, через которые и проходит журнальный сгиб, да так неудачно, что нижняя скрепка больно впивается в беззащитное запястье Вивиан, отчего на ее лице объектив фотографа поймал болезненную гримасу, что было, надо сказать, символично, ибо через три года Вивиан покинула мужа и подала на развод, обвинив его как в супружеской неверности, так и в нанесении физических увечий, собственно, именно развода любимой дочери не пережил герцог Рикардо, вскоре скончавшийся от сильного сердечного приступа, случилось это шесть лет назад, сейчас Вивиан двадцать девять (почти тридцать), тогда — соответственно — было двадцать три, замуж она вышла в двадцать, родив между делом от капитана Маккоя уже упомянутую дочь Анжелу (Алису), чтобы закончить всю эту игру цифр, отметим, что ей было двадцать шесть, когда семья (увы, уже без герцога Рикардо, лицо которого так хорошо различимо на свадебной фотографии — вон тот рослый мужчина в белом мундире, с хорошо подстриженными усами и бородой, с широкой герцогской лентой через плечо, массивно выдающийся вперед подбородок, умные, жесткие глаза, замечательным человеком был мой отец, как признается в этом однажды Александру Сергеевичу Вивиан, когда они (предположим) будут сидеть у тихой полосы прибоя на золотом пляже Тапробаны, но не будем обгонять время, добавим лишь, что и мать, герцогиня Стефания, стоит на снимке рядом со своим, ныне покойным мужем, на ней белое, пышное платье, в волосах — бриллиантовая диадема, в правой руке она сжимает веер: жара, надо сказать, в тот день стояла несусветная!) вернулась в Дзарос, в свой фамильный дворец в самом центре Элджернона, прочь от которого уносит сейчас всю честную компанию старенький кабриолетик дядюшки Го, вычерчивающий по элджернонским улицам, площадям, бульварам, проспектам и переулочкам таинственное хитросплетение, смысл которого известен лишь самой Вивиан, чьи шелковые пышные кудри порой (если Фарт резко тормозит у очередного светофора) невзначай касаются лица Александра Сергеевича, отчего Алехандро мгновенно краснеет, как бы дублируя красный свет автоматического регулировщика, только вот — в отличие все от того же автоматического регулировщика — лицо его еще долго продолжает оставаться красным, хотя уже вспыхивает зеленый, и Фарт снова трогает машину, ругаясь про себя на чем свет стоит, ибо отнюдь не так хотелось провести ему сегодняшний день — в качестве личного шофера молодой герцогини тире принцессы Вивиан Альворадо, в очередной раз потребовавшей остановить кабриолет у какого–то непонятного здания, куда — по только ей известной надобности — требуется заскочить.
— Не долго, — лукаво усмехается Вивиан, посматривая на тоскующего Фартика и притихшего Алехандро, минут пять, не больше, а потом отвезете меня во дворец, ладно? — Фарт кивает головой и лезет в карман за очередной (невесть уже какой по счету, да надо сказать, что Вивиан не против, когда курят в ее присутствии) тапробанской сигарой, Александр же Сергеевич…
Александр же Сергеевич вновь приступает к изучению мелованно–глянцевых страниц «Дзаросских леди», осталось не так много текста, из которого он узнает, что сразу же после возвращения на родину принцесса тире герцогиня Вивиан стала отдавать большую часть своего времени возрождению Дзароса, под ее патронажем находятся несколько благотворительных фондов, принимает она участие и в программе реорганизации образования страны, чем занимается в тесном контакте со своим братом, тридцатидвухлетним писателем Себастьяном Альворадо (не упустите возможности прочитать его последний роман «У бездомных нет дома», советует журнал, помещая тут же, прямо на этой странице, и совместную фотографию Вивиан/Себастьян, на которой Вивиан снята в длинном бальном платье цвета морской волны — ничего не поделаешь, гвоздь нынешнего сезона, Себастьян же одет в белый смокинг, что касается всего прочего, то он очень похож на сестру, вот только намного смуглей, густые черные волосы, высокий лоб, покрытый сеткой элегантных морщин, с такой же красивой горбинкой нос, под которым хорошо смотрится аккуратно подстриженная ниточка усов, придающая вдруг изысканному облику Себастьяна нечто фатовское, правда, мужественный, заимствованный непосредственно у герцога Рикардо подбородок зачеркивает вышеприведенное определение, оставляя в памяти лишь хорошо различимую синеву тщательно выбритого лица; глаза его закрыты дымчатыми очками, и он смеется в унисон с Вивиан, открывая всему свету такие же прекрасные, как и у сестры, зубы, собственно говоря, это последняя фотография августовского номера «Дзаросских леди» за этот год, что же касается остатков — то есть одной заблудившейся колонки — текста, то она гласит: — -), если же говорить о местожительстве прекрасной Вивиан, то вместе с дочерью Анжелой (Алисой) она занимает угловые покои семейной резиденции герцогов Альворадо, адрес которой, без сомнения, известен не только любому жителю Элджернона, но и каждому дзаросцу вообще, тут надо отметить, что смена часовых у дворца (двенадцать раз в сутки, каждые два часа) — одна из главных туристских приманок столицы, ибо есть ли более торжественная картина, чем два высоченных гвардейца, чеканящих шаг под громкий барабанный бой навстречу такой же статной паре, безмолвно застывшей с двумя обнаженными кавалерийскими палашами в руках, только ради этого зрелища стоит посетить Элджернон, кстати, в магазинчике рядом с дворцовыми воротами вы можете приобрести на память такого же игрушечного гвардейца, цена которого варьируется (в зависимости от сезона) от двух до пяти дзаросских реалов, таким образом мы узнаем название местной денежной единицы, что же касается цены журнала, то он стоит полтора реала, ровно столько же, сколько одна тапробанская сигара, которую, наконец–то, решает закурить и Александр Сергеевич Лепских, досмотрев и отложив журнал в сторону, но так, чтобы герцогиня тире принцесса Вивиан продолжала улыбаться ему с обложки в то время, как Вивиан во плоти подходит к кабриолету, садится (опять) рядом с Фартом и устало просит отвезти ее во дворец, на что Фарт с готовностью заводит мотор, и вновь о крышу кабриолета барабанит нудный элджернонский дождь, Александр Сергеевич, разморенный многочасовой ездой по городу, дремлет на заднем сидении, а когда открывает глаза, то кабриолет стоит у самых ворот дворца, гвардейцы салютуют выходящей из машины Вивиан кавалерийскими палашами, а та, прежде, чем исчезнуть за сероватой завесой дождя, склоняется к окошку, за которым поблескивает лысина Алехандро и говорит:
— Фартик рассказал о ваших проблемах, в понедельник с утра приезжайте во дворец, вас проведут прямо ко мне, хорошо?
— Хорошо, — тихо шепчет Александр Сергеевич, Вивиан исчезает, как и было обещано, за сероватой завесой дождя, Фарт вновь заводит мотор и, отчаянно ругаясь, выруливает кабриолет на середину пустого в этот предвечерний час проспекта имени герцога Рикардо.
— А сейчас куда? — спрашивает внезапно отчаянно захотевший есть Александр Сергеевич.
— Хочешь — не хочешь, а надо ехать к Соне! — сердито отвечает Фарт.
9
Но Соня — это не начало очередного треугольника, хотя не исключено, что сюжет вывернется именно так, впрочем, дело тут не в сюжете, как и не в том, что мечта Александра Сергеевича, наконец–то, исполнилась, и вот они с Фартом сидят за уютно накрытым столиком такой же уютной небольшой квартирки, и троюродная (прелестное, надо сказать, родство) сестра грозы контрабандистов хлопочет на кухне, стремясь повкуснее и побыстрее (что поделаешь: время позднее — небольшое приключение с принцессой Вивиан поломало все планы, вот и дядюшка Го уже звонил, волнуется, пусть и зря) накормить своих визитеров, так что не будем долго тянуть резину (можете посмотреть в словаре идиом), а вкратце нарисуем Соню — хорошо сложенная, крепко сбитая, симпатичная молодая женщина лет двадцати пяти — двадцати семи, русые волосы, чуть удлиненное лицо с печальными, серыми глазами, небольшая родинка рядом с правым веком, тонкий, длинный нос, впрочем, отнюдь не портящий Сонино лицо. «Моя племянница — настоящая милашка», — любит приговаривать дядюшка Го, выпив парочку стопок лимонной водки из предгорий (там она выходит лучше всего, рецепт держится в тайне, то есть монополия, но тут она не мешает, а наоборот), кожа у Сони белая, зубы неровные, что же касается рта, то Фарту, например, он кажется великоватым, но ведь у каждого свой вкус, тем паче, что губки у Сони в меру припухлые, да и помадой она пользуется умело, а еще гордится (и надо сказать, не зря) своей грудью, высокой и пышной, гораздо, между прочим, симпатичней, чем у принцессы Вивиан, вот и сейчас Соня, поджидая троюродного кузена с таинственным Александром Сергеевичем, специально надела лишь легкую батистовую кофту, изрядно, кстати говоря, просвечивающую, лифчика нет, и это смущает Александра Сергеевича, он старается поменьше смотреть на хозяйку дома (кроме кофты на ней коротенькие брючки типа бриджей, так что Сонины ноги видны от коленок — полненькие коленки и в меру полненькие ноги, слово «ножки» тут не пойдет, ибо слишком игриво, а Соня — женщина пусть и молодая, но серьезная, что — как и ее миловидность — любит подчеркивать дядюшка Го, вы уже понимаете, что племянница она у него любимая, да и как иначе, ведь своих–то детей у владельца «Золотого берега» нет, так что Фарт ему вместо сына, а Соня — дочери, умненькой и миловидной дочери, работает Соня референтом в какой–то посреднической фирме, личная жизнь не складывается, периодически появляются какие–то мужчины, но так же периодически исчезают, а ведь дядюшке Го (откроем тайну, даже «Золотой берег» он завещал не Фарту, а Соне, хотя она об этом пока ничего не знает) так хочется, чтобы Соня вышла замуж и родила ему внука, а еще лучше — внука и внучку, ну пусть будут внучатые племянник с племянницей, какая разница, думает об этом дядюшка Го в межсезонье, когда постояльцев в гостинице мало, а за окном завывает промозглый элджернонский ветер начала октября, еще несколько дней, и со стороны Умбриэля, то есть с севера, нагонит снег, он выпадет, но вскоре растает, зимы в Элджерноне противные, сырые, туристов мало, но пока еще далеко до снега, хотя уже прохладно, и с каждым днем все меньше и меньше новых постояльцев, хорошо хоть, что лето выдалось удачным, думает дядюшка Го, наливая очередную стопку лимонной), но это у него не получается, так как Соня умудряется постоянно оказываться напротив Александра Сергеевича, а когда приготовительные хлопоты к застолью окончены, то она и садится так, чтобы он все время стремился отвести глаза, что–то очень уж смущается сегодня милейший Алехандро, впрочем, это можно понять — так стремился удрать, исчезнуть, избежать постоянных соблазнов своего мира (ну как тут не вспомнить собственную жену, Катерину Альфредовну Иванову — Штампль?), а оказался в мире, где соблазнов не меньше, в один день две феи предстали перед глазами, и пусть лишь одна из них принцесса (герцогиня, хотя особой разницы нет), но и вторая до чертиков мила и все подкладывает и подкладывает Александру Сергеевичу на тарелку вкуснейшее мясное рагу с морковью и цветной капустой, с помидорчиками, зеленым перцем и еще какими–то овощами, определить, что называется, идентифицировать кои он просто не в силах, ибо нет таких в его мире, а здесь, в мире (на земле, планете) Ауф — сколько угодно, еще хотите? — спрашивает Соня.
— Премного благодарен, — отпыхивается насытившийся Алехандро, — очень все было вкусно!
— Соня у нас умница, — подобострастно, будто заискивая, говорит Фарт, — она не только готовит прекрасно, она все у нас делает прекрасно, вот увидишь!
От этой многозначительной реплики и Соня, и Александр Сергеевич краснеют, в разговоре возникает пауза, а потом Фарт, сообразив наконец, что сморозил что–то не то, тоже краснеет и говорит:
— Да ты, Алехандро, не думай…
Тут Соня не выдерживает и просит Фарта замолчать, что тот с удовольствием и делает, приступая к раскуриванию (да, правильно!) очередной тапробанской сигары, Соня же интересуется у Алехандро, посетили ли они библиотеку, а если да, то нашли ли в ней нужные книги?
— Что вы, — печально произносит А. С. Лепских, — какая библиотека! — Он машет рукой, Соня интересуется, что же помешало им воплотить в жизнь разработанный дядюшкой Го план, и Александру ничего не остается, как рассказать подробно все перипетии сегодняшнего дня, начиная с того самого момента, когда их кабриолет (на пересечении улицы Микелон с площадью Клерамбо) столкнулся с кабриолетом молодой Вивиан Альворадо, и принцесса, пользуясь своим положением, заставила их… Но опустим всю повествовательную часть рассказа г-на Лепских, ибо нам–то хорошо известно, что заставила (употребим лишь более благородное слово: «попросила») их сделать принцесса Вивиан, когда же Алехандро закончил свой рассказ, то внезапно заметил, что Фарт тихонечко сопит прямо за столом, так и не докурив очередной «тапробаны», умаялся, нежно проговорила Соня, глядя на троюродного кузена, а потом обратилась к Александру Сергеевичу с предложением остаться — вместе с Фартом, естественно, — ночевать у нее, ибо «куда на ночь глядя, опять в кого–нибудь врежетесь!»
— Даже не знаю, насколько это удобно, — проговорил стеснительный (вот так сегодня весь день!) Алехандро, но тут подал сонный голос Фарт (все, оказывается, слышал, хотя и дремал) и сказал, что Соня умница и сейчас он сам позвонит дядюшке Го, тот, естественно, согласится (да и согласился, конечно), и вот Фарт уже спит, накрывшись с головой одеялом, а Соня и Александр Сергеевич сидят на кухне, и милая хозяйка обрушивает на голову (такой сильно бьющий в темечко водопадик) кучу сплетен о принцессе Вивиан, ибо ее отчего–то гораздо сильнее задел сегодняшний дневной инцидент, чем самих его участников, так что Александр Лепских как бы продолжает чтение жизнеописания В. Альворадо, вот только написано оно не столь лестно, как то, что напечатано в восьмом номере «Дзаросских леди». Хамка и психопатка, говорит Соня, взбалмошная, невыдержанная бабенка! И продолжает свою характеристику прелестной молодой герцогини, упомянув для начала, что она не пропускает мимо себя ни одного молодого и симпатичного гвардейца, но не это главное, ведь — если верить молве! — то и дочь ее, эта самая Анжелика (Алиса), рождена не от законного когда–то мужа, штабс–капитана Генри Маккоя, а (тут она делает большие глаза, смотрит по сторонам и лишь затем, причем на ухо, шепчет Алехандро) от своего брата, этого смазливого писаки Себастьяна, с которым до сих пор поддерживает связь, ну, вы понимаете, какую?
— Конечно, понимаю, — говорит изумленный Алехандро, ведь ничто в облике самой Вивиан Альворадо не подсказало ему того, что поведала сейчас гостеприимная Соня на маленькой кухоньке уютной квартиры в одном из наиболее тихих районов Элджернона, довольно далеко, между прочим, находящегося от дворца герцогов Альворадо, где спят уже (а отчего бы и нет?) в своих покоях герцогиня Стефания, ее дочь, принцесса Вивиан, и внучка, маленькая Анжелика (Алиса), что же касаются Себастьяна, то гостеприимная Соня все тем же шепотом рассказывает Александру, будто сам Себастьян не родной брат Вивиан, а всего лишь сводный, ибо отцом его действительно был герцог Рикардо, а матерью — одна загадочная дама, имени которой до сих пор никто не знает, и тут Александр Сергеевич чувствует, что крыша у него начинает потихонечку съезжать, то бишь попросту он столь же потихонечку трогается умом, ибо попал, что называется, как кур в ощип (кстати, отчего в детстве Алехандро таинственный считал, что кур попадает не в неведомый ему тогда ощип, а в простые обеденные щи), одно безумие (свое, родное, почти сорок лет пестуемое безумие ненаглядного отечества) сменилось несуразным, разбитным, будто вычитанным из дешевых романов начала века идиотизмом, в котором правят бал (опять же не больше, чем идиома) титулованные особы, связанные между собой, оказывается, кровосмесительной связью, мне бы их проблемы, думает про себя Алехандро Лепских, с умилением поглядывая на Соню и благодаря Бога за то, что таинственному вершителю судеб не приходит в голову закрутить сцену на кухне так, чтобы они с Соней пали (еще можно сказать «впали») в объятия друг друга, этого бы мне еще не хватало, продолжает размышлять Александр Сергеевич, с удовольствием соглашаясь выпить очередную чашечку чая, очень крепкого и очень терпкого на вкус, хотя Соня по–своему прелестна, это тоже надо отметить, думает Алехандро, поднося к губам вместительную фарфоровую чашку, да и хозяйственна, это надо же, так быстро соорудить столь замечательный ужин, да и чай она заваривает отменно, а в этом, надо сказать, г-н Лепских знает толк, недаром еще при своей жизни с Катериной Альфредовной заварка чая всегда была на его совести, но что толку вспоминать о Катерине Альфредовне, навряд ли еще когда они встретятся, чужой мир, думает Алехандро, чужие люди, хотя на самом–то деле ему очень уютно и спокойно в этом чужом мире среди чужих людей, как турист, думает он, попал в неведомые края, в которых тебе ничего не ясно и непонятно, и вот, день за днем, открываешь этот мир, удивительным образом то ли похожий на твой собственный, то ли непохожий, но в этом разве дело — в похожести и в непохожести? Хотя та еще получилась формулировочка, некорректная, как и само, честно говоря, его прибытие сюда — был Дзарос без г-на Лепских, и вот теперь есть Дзарос с г-ном Лепских, хотя какой из них, Дзаросов, более правилен, тот, который «без», или тот, который… тут Александр Сергеевич понимает, что совсем уж запутался в собственных попытках разобраться, что к чему, да и молчит уже так долго, что Соня, наверное, удивляется, ведь она–то продолжает свой рассказ, но о чем конкретно ведет повествование — вновь о Вивиан Альворадо? О Себастьяне? Или уже перешла на собственную семью и лепечет что–то о дядюшке Го, Фартике и прочих, навряд ли существующих на самом деле родственниках, как навряд ли существует сама Соня, да и собственное бытие на этой земле Александр Сергеевич способен подвергнуть сомнению, скорее уж это мираж, дурное отражение в кривоватом зеркале, что висит на одной из стен оставшейся в детстве (там же, где и таинственный кур в обеденных щах) комнаты смеха, четыре стены, четыре вида зеркал, в одном ты длинный и худой, в другом маленький и толстый, в одном ты улыбаешься, в другом — рыдаешь, в одном ты славный и симпатичный бутуз, в другом ты жуток и уродлив, но все эти четыре стены, все эти (восемь, десять, двенадцать, кто больше?) зеркала смеются над тобой, ибо заставляют подумать об одной малюсенькой вещи — а вдруг ты и вправду именно таков, каким видишь сейчас свое отражение, но ведь это означает и то, что мир, расположенный за стенами убогого заведеньица, в которое тебя занесло во время воскресной прогулки по парку, столь же отличен на самом деле от своего воплощения — зримого, осязаемого, воспринимаемого всем твоим естеством (от макушки до пят, от мозжечка до причинного места, от и до), как… Но тут Соня не выдерживает и обращается к Александру Сергеевичу с предложением отправиться на покой, то есть на боковую, то есть бай–бай, то есть сколько можно ходить вокруг да около, надо поскорее развести героев по разным койкам и сделать так, чтобы Алехандро продолжал свои размышления о времени и о себе, об Элджерноне и Дзаросе, только не надо считать, думает он, с восторгом укутываясь в теплое и необыкновенно легкое одеяло (день и на самом деле выдался тяжелым, одна кутерьма с Вивиан Альворадо чего стоит!), что я пытался подыскать себе более легкий и комфортный мир, ничего подобного, я просто хотел отыскать свой мир, но почему Дзарос?
Он закрывает глаза и пытается уснуть, но сон, как и положено, не приходит, как не зови, не подманивай, не призывай, нет сна, хотя на часах уже час ночи («ч» с восторгом взирает на «ч») по элджернонскому времени, уже воскресенье, завтра понедельник, то есть завтра утром он должен ехать во дворец, где его будет (надо надеяться) ждать принцесса Вивиан, странные штуки порою выкидывает судьба — дожил до сорока (почти) лет, но живых принцесс, равно как и графов, и герцогов, и их императорских и прочих величеств, видел лишь на картинках, а тут сразу же попадаешь в такую круговерть светской жизни, что глядишь — и снова захочется бежать, хотя отсюда–то куда, да и как, неужели и здесь придется отыскивать какого–нибудь дзаросского Феликса Ивановича Штампля, но сколько можно, думает, впадая в полную душевную сумятицу Александр Сергеевич, ведь бегу–то лишь по собственной слабости, надеясь на неведомое чудо, которое в один прекрасный день возьмет, да изменит мою жизнь, но вот случилось такое чудо — и что? Хотя прошло–то… Один день… Второй… А кто знает, что будет завтра, нет, надо спать, поскорее попытаться уснуть, впорхнуть в объятия Морфея, спать и видеть сны, а я ведь и Элджернона–то еще толком не видел, так, лишь серый, моросящий дождичек да дома с кариатидами по фризам и фронтонам, а ведь говорят, что красивый город, да и уютно мне здесь, продолжает свои ночные размышления Алехандро Лепских, дай Бог, еще с работой подфартит, так вообще все будет прекрасно, женюсь на Соньке, родим дядюшке Го внуков–правнуков, будем доживать дни в холе и неге, посиживая перед входом в гостиницу «Золотой берег», а то и вообще продадим гостиницу да купим домишко в Тапробане, хотя почему они называют ее именно Та…, по мне, так гораздо приятнее это слово звучало бы чуть иначе, скажем, Тра…, то есть Трапобана, тут и раскатистый гром там–тамов, и раковины рапана, и бананы из Трапобаны, неведомая (пока еще), фантастическая Тапробана, будем употреблять это слово в звучании и написании аборигенов, волшебный край, земля вечного солнца и ласкового, синего моря, но не надо опережать события, думает Александр Сергеевич, ворочаясь с боку на бок под необыкновенно легким и столь же необыкновенно теплым одеялом, сна как не было, так и нет, вот уже два часа ночи, часы бьют громко и отчетливо, висят в кухне, а слышно и в комнате, рядом ворочается громко сопящий во сне Фарт, весь день за рулем кабриолета, вот влипли в историю, не было бы счастья, да встретили принцессу Вивиан, врезались в ее штучное авто на углу улицы Микелон и бульвара Клерамбо, красивые здесь названия, думает Алехандро, надо завтра с утра обязательно пойти гулять пешком, говорят, что дождя не будет, Соня об этом сказала очень убежденно, что же, не будет — так не будет, значит, надо с самого утра пойти в город и слиться с праздношатающейся (как это и положено по воскресеньям) толпой, стать зевакой–гулякой, зелякой, гувакой, бродить по улицам, бестолково крутя головой и шаря глазами по витринам маленьких и больших магазинчиков и магазинов, рассматривая элджернонцев и элджернонок, а когда надоест, то найти какое–нибудь уютное, открытое (это не просто желательно, это обязательно, но лишь в случае хорошей погоды) кафе, заказать шустрому официанту плотный и вкусный (это тоже обязательно, только уже в случае любой погоды) обед, запив его парой бокалов знаменитого тапробанского вина (Фарт особенно советовал белое, с прибрежных виноградников) да закурить тапробанскую же сигару, нежаркое осеннее солнышко будет плести незамысловатые узоры на скатерке столика, небрежно скомканная салфетка успокоится в остатках жаркого (мясо с картофелем и овощами, ничего изысканного, обойдемся простой, сытной пищей), напротив молодая парочка будет выяснять отношения, периодически начиная о чем–то нежно ворковать и целоваться, а потом вновь — да нет, не надо, чтобы они ссорились, с нежностью же думает Александр Сергеевич, продолжая резкими мазками набрасывать вымышленное кафе на вымышленной элджернонской (который, естественно, тоже вымышлен) улице, вот пожилой джентльмен, одетый, несмотря на солнышко, в плотный и теплый костюм, при галстуке, рядом лежат котелок и тросточка, будто из иной эпохи, парочка в джинсах, а джентльмен — в котелке и с тросточкой, только гетр не хватает, думает Алехандро, и сразу же видит гетры, угрюмо–серые, столь забавно обтягивающие тощие икры джентльмена, что бы придумать еще, кого бы вообразить, ведь сон так и не приходит и сколько можно лежать рядом с довольно посапывающим Фартом, этой грозой бандитов, этим замечательным рейнджером, да и вообще — душой–человеком, слушая, как часы отбивают уже три ровных, гулких удара, доносящихся с кухни. Александр Сергеевич не выдерживает, встает с кровати, идет на кухню и долго курит у окна, радуясь, что дождь действительно кончился, а это значит, что вымышленное кафе может стать реальностью, только вот сон… А что сон, можно, в конце концов, и не поспать ночку, на новом месте всегда спится плохо, вчера был умаянным с дороги, вот и спал, а сегодня… Тут Алехандро машет рукой и задевает за что–то в темноте (а зачем ему было зажигать свет?), «что–то» падает он наклоняется, поднимает и чувствует, что держит в руках книгу. Любопытство пересиливает, он зажигает (да, правильно!) свет и видит, что держит в руках толстый том в суперобложке, с которой смотрит на него бледнолицая красавица с вьющимися каштановыми волосами, бегущая куда–то на фоне плохо прорисованного особняка с колоннами, стоящего на фоне еще более бездарно нарисованного леса, сплошь состоящего из серо–бурых, с зеленью, проплешин, наискосок которых идет надпись: «Себастьян Альворадо. У бездомных нет дома». «Чудненько, — думает по всем правилам грамматики Александр Сергеевич, — вот и нашлось занятие!» Он поудобнее устраивается в кресле, случайно заблудившемся на кухне, наливает очередную чашку уже остывшего чая и открывает первую (хотя на самом деле это пятая) страницу своего будущего (надо надеяться) работодателя, гласящую…
10
Но ведь невозможно взять да и пересказать пятисотстраничный роман, получается, что тогда его просто придется писать заново, а потому надо выбрать такую форму изложения, которая, позволив нам с Алехандро быть краткими, передала бы как смысл повествования, так и всю прелесть избранной С. Альворадо формы, конечно, лучше всего подходит конспект, но это тоже невозможно — попробуйте законспектировать все те же пятьсот страниц убористого книжного текста, нет, мы поступим иным образом: пусть это будет вольное изложение с периодическим цитированием той или иной строки, но вначале небольшая преамбула, итак:
Роман «У бездомных нет дома», вышедший в элджернонском издательстве «Эолис» в январе нынешнего года первоначальным тиражом десять тысяч экземпляров, разошелся к началу сентября в количестве полутора миллионов, причем допечатки тиража продолжаются и по сей день, что позволяет творению Себастьяна Альворадо третий месяц уверенно лидировать в списке национальных бестселлеров, опережая минимум на двести пятьдесят тысяч такой шедевр, как «Желанная и счастливая» Амаранты Ли, не говоря уже о «Похищенном боге» Кристобаля Марлоу, стоящем на третьем месте, но распроданном лишь в количестве полумиллиона книг (не удивляйтесь — дзаросцы любят читать). Чтобы закончить преамбулу, следует отметить, что роман представляет сложное по структуре, трехчастное произведение, у каждой из которых свое название. Это «Роксана», «Новые горизонты» и «Диагноз: несоединение соединимого», начнем по порядку.
Начнем по порядку, думает Александр Сергеевич, углубляясь в чтение, ибо ему действительно любопытно, чего же такого понаписал уважаемый герцог Себастьян, отчего весь Дзарос, что называется, на ушах стоит, слог легкий, впрочем, иногда становящийся излишне затемненным и метафоричным, но это не портит впечатления от чтения и к двадцатой странице Алехандро уже всерьез увлекся историей взаимоотношений некоей Роксаны и ее мужа, известного писателя, имя которого автор отчего–то решил скрыть, тем паче, что вся первая часть представляет рассказ от первого лица, начиная с момента знакомства упомянутой Роксаны с героем и… Но Александр Сергеевич пока лишь на тридцать восьмой странице, на которой и герой, и героиня предпринимают увлекательную поездку на побережье, они в купе скорого поезда, за окнами вечер, поезд едет по предгорьям, прекрасно описано, как расплывчатые вечерние тени причудливо переплетаются на полированном столике и так же причудливо сплетены сейчас руки главных действующих лиц, но никакой физиологии, просто сидят двое, их руки переплетены, «Роксана печально смотрит на меня, а потом, наконец–то, решившись, отводит глаза в сторону и говорит: — Знаешь, я давно хотела тебе сказать…» Но что хотела сказать Роксана, Алехандро узнает лишь через пять страниц, которые заняты исключительно внутренним монологом героя, посвященным (прихоть автора? причудливые выверты книжного пространства?) увлекательной науке конхиологии, ибо герой, оказывается, страстный собиратель раковин и поездку на море предпринимает с целью очередного пополнения своей знаменитой коллекции, «они прекрасны, они воистину прекрасны, они никогда не предадут и не покинут тебя, эти изумительно красивые, напоминающие маленьких и застывших в безмолвии ангелочков, создания…», поезд входит в тоннель, свет за окнами сменяется тьмой, тут Роксана и произносит давно уже ожидаемое Александром Сергеевичем признание, да, она не любит больше главного героя, что поделать, так складывается жизнь, кого же ты любишь, спрашивает уязвленный деперсонифицированный тип, бросивший размышлять о раковинах — рапанах, каури, конусах и т. д. (смотри любое пособие по конхиологии), Роксана собирается ответить, но поезд выезжает из тоннеля и снова предвечерний свет заливает купе, золотистый, предвечерний свет, вагоны замедляют ход, в купе повисает молчание, последняя станция перед въездом в прибрежную долину, ты не хочешь выйти на перрон, спрашивает то ли автор, то ли его «альтер эго» Роксану, конечно, отвечает та, поезд останавливается, слышен звонкий удар станционного колокола, «вечер, тихий и прозрачный, сменился чернотой наступающей ночи, с ярко усыпавшими небо точками звезд и еще маленьким рожком только что народившегося месяца, стало прохладно, Роксана зябко ежилась, но я не решился обнять ее за плечи, ибо до сих пор во мне жили те слова, что я услышал каких–то десять минут назад, пусть фраза и не была закончена, но это ничего не значит, моя жизнь оборвана, пока я просто не понимаю этого, пойдем обратно, просит меня вконец замерзшая Роксана…», вот они вновь сидят все в том же купе все за, тем же столиком, идет уже (предположим) пятидесятая страница текста, Роксана признается, что давно испытывает противоестественную тягу к собственному сводному брату и ничего — вы понимаете, ничего! — не может с этим поделать, к пятьдесят пятой странице герои ложатся спать, но деперсонифицированное «я» никак не может уснуть и все ворочается, испытывая не только положенные в этой ситуации тоску и отчаяние, но и самое натуральное вожделение, дальше описываются муки неудовлетворенной плоти, борьба героя с собой и желанием, в которой герой проигрывает, а желание торжествует и герой встает со своей полки и приближается к Роксане, «она спала безмятежно, как младенец, ее грудь легко вздымалась во сне, по лицу блуждала таинственная и непонятная улыбка, я склонился над ней и долго и пристально смотрел на эти прекраснейшие губы, которые дарили мне столь много наслаждений и что — всему приходит конец?», опустим последующую сцену, написанную Себастьяном Альворадо страстно и пылко, на пределе допустимой откровенности, заметив лишь, что Роксана так и не просыпается, и вся любовная сцена проходит как бы на грани сна/яви, но вот герой, удовлетворив желание, покидает купе и идет курить в коридор, за окнами проносятся странные и темные тени, скоро будет светать, а сна как не было, так и нет, вновь идет размышление о красоте и изысканности раковин, вновь поезд останавливается, а рассказ достигает уже сотой страницы, сна нет и у Александра Сергеевича, проще говоря, ему не спится, он подогревает чай, закуривает новую «тапробану» и с упоением приступает к сто первой странице, на которой обжигающе светит приморское солнце и одуревающе пахнет какими–то душными и пряными цветами, герой сидит с Роксаной за столиком в гостиничном ресторане, и они продолжают прерванный ночью диалог, смысл которого — расставить все точки над «i», ибо «да, я не могу больше жить с тобой, — говорит мне Роксана, — я люблю его страстно и нежно, и хочу принадлежать лишь ему!», после чего герой принимает решение и великодушно предлагает Роксане разъехаться на время: «Нам надо хорошенечко все обдумать, дорогая, поживем врозь, а там будет видно, ты согласна?», она, естественно, соглашается, но первая часть на этом не заканчивается, до начала второй остается (Алехандро смотрит в содержание — для красоты звучания фразы лучше бы написать «оглавление», но что поделать, если в книге было именно «содержание»?) добрых семьдесят страниц, усталость дает себя знать; но уже появляется спортивный интерес — чем дело кончится, а потому Александр Сергеевич начинает листать книгу, что называется, по диагонали, больше интересуясь сюжетом, чем изысканными описаниями роскошной природы, ласкового моря и т. п., к сто восьмидесятой странице он вновь находит следы главного героя, потерянные на сто сороковой (следующие сорок по прихоти Себастьяна Альворадо были посвящены генеалогии действующих лиц, впрочем, т. н. сводный брат все еще не появился), альтер эго, деперсонифицированный тип, некто и. мя. рек входит в двери знаменитого детективного агентства, ибо благородный порыв, посетивший его в ресторане, давно прошел и ему вновь хочется обрести собственную жену, отбывшую неизвестно куда, в агентстве соглашаются помочь, «это не составит особого труда, — сказал мне откормленный детина в замшевой куртке, небрежно перекатывающий во рту здоровущую, толстую сигару, причем — что было особенно интересно, он ее не курил, а именно жевал, постоянно перекатывая из правого уголка рта в левый и наоборот», герой оставляет задаток, а сам отправляется на пляж, где — что совершенно естественно — знакомится с очаровательной женщиной, носящей имя Ирен, она белокура, стройна, у нее прекрасная, высокая грудь, она лениво сидит в шезлонге и потягивает из высокого бокала тонкого стекла напиток дымчатого цвета, герой просит позволения присоединиться, согласие дано и он усаживается в соседний шезлонг и между ними возникает беседа, проистекающая медленно и неторопливо (акцент на оба слова), занимающая еще с десяток страниц, заканчивающихся тем, что Ирен отдается герою прямо тут, на пустом уже к этому часу пляже, идет двести пятая страница повествования и наступает конец первой части.
Переходим ко второй, гораздо, между прочим, более увлекательной, что находит Александр Сергеевич, перелистав первые десять страниц, из которых он узнает, что Ирен — международная авантюристка, кроме того, она магистр оккультных наук, большой знаток чернокнижья и прочих подобных вещей, да и встреча ее с главным героем, внезапно обретшим с первой страницы второй части имя (странное, надо сказать имя подобрал Себастьян Альворадо для своего героя, он назвал его Крокусом), не была случайной, она «предопределена, как предопределено все на свете… — Ирен улыбнулась Крокусу соблазнительными уголками рта и внезапно облизала губы язычком, быстро и влажно, вначале верхнюю губу, потом нижнюю, Крокус смотрел на нее и чувствовал, как желание вновь появляется в нем. — Ну что? — спросила Ирен. — Ты еще не перестал удивляться нашей встрече?» Крокус просит Ирен принять участие в поисках Роксаны, на что та, в свою очередь, предлагает ему сделку: она поможет отыскать беглянку, но за это Крокус согласится продать душу князю Тьмы, которому служит Ирен, таким образом сюжет вступает в сферу, близкую профессиональным интересам Александра Сергеевича, и несмотря на то, что ночь уже близится к концу, он решает дочитать этот увлекательный роман, тем паче, что пружина сюжета развертывается все сильнее и вот уже Крокус и Ирен направляются с побережья в столицу, где — по данным детективного агентства (пусть оно называется «Под вязами», лучше поздно, чем никогда) — скрывается Роксана со своим любовником тире сводным братом, «столица встретила их дождем («Надо же, прямо как меня», — удивился Александр Сергеевич) и желтыми огнями фонарей, прямо с вокзала Крокус и Ирен отправились в гостиницу». Слог автора становится все более сжатым, повествование — ирреальным, идет сцена черного колдовства в гостиничном номере, где Ирен, как то и положено, абсолютно нагая, вызывает духов, обращаясь к помощи своего покровителя, Крокус же в это время незаметно сидит в кресле и наблюдает, как «внезапно в номере повеяло леденящим душу холодом, а затем раздался громовой голос: — Чего ты от меня хочешь, раба?» Раба поведала невидимому собеседнику, что надо ей немногого, а именно: знать, где скрывается со своим любовником некая Роксана, предмет страсти вот здесь, в этой комнате, находящегося мужчины по имени Крокус, на которого у нее, то есть у Ирен, есть свои виды. Некто соглашается помочь, идет триста тридцать вторая страница повествования, роман близится к концу (осталось, как известно, сто шестьдесят восемь страниц), но чем все закончится — один господь ведает, думает Александр Сергеевич и вновь обращается к тексту «У бездомных нет дома», уже начиная понимать, что в названии заключен метафизический смысл, расшифровывать который не будем, а лучше продолжим столь забавляющий нас с Александром пересказ, ведь сейчас Ирен с Крокусом несутся в такси по ночным улицам (отчего это все время ночь?) столицы (по улицам ночной столицы, так будет художественнее), но только не надо думать, что едут они по вполне определенному адресу, где их ждут Роксана и неоднократно упоминавшийся сводный брат (поименуем и его, С. Альворадо назвал этого удачливого любовника Бенедетто), все дело как раз в том, что такого адреса просто не существует, ибо Бенедетто и Роксана нашли убежище в далеком горном монастыре, но вот как туда попасть?
Ответ находится на триста восемьдесят первой странице, на которой Александр Сергеевич читает: «Это оказалось несложно, надо было только полностью довериться Ирен, что Крокус и сделал. Она велела ему сесть в кресло и закрыть глаза, а потом невнятно пробормотала какое–то заклинание, после чего вдруг наступила полная тишина, Крокус слышал лишь свое, оглушительно бьющееся сердце, но тут раздался голос Ирен, велевший ему вновь открыть глаза». Алехандро перевернул еще одну страницу и с удивлением обнаружил, что вторая часть подошла к концу.
Начинается третья, названная самым невразумительным образом, ибо что такое «Несоединение соединимого» Александр Сергеевич не мог понять, но оказалось, что особого понимания тут и не требовалось. Самое же забавное в том, что начинается она вновь с монолога о напрочь забытых на всю вторую часть романа раковинах, произносимого, естественно, Крокусом, место действия, при этом, совершенно не ясно, никакого монастыря нет и в помине, Крокус и Ирен лежат рядом в постели, ни о какой Роксане и ни о каком Бенедетто нет и речи, но к четыреста двадцатой странице Себастьян Альворадо вдруг удивительным образом сводит воедино все хаотичные, запутанные, частью оборванные нити повествования и Алехандро Лепских с восторгом понимает, что вся рассказываемая история — лишь бред и галлюцинации обитателя одной из психиатрических клиник предместий столицы, и что обитатель этот, известный писатель Крокус, рехнулся на почве любви к своей сводной сестре по отцу, и что как Роксана, так и Бенедетто — всего лишь тени настоящих героев, уже упомянутых Крокуса и Ирен, которая и есть его сводная сестра, что же касается князя Тьмы, которому Крокус должен продать душу, то это главный врач клиники, в которую родные упекли несчастного героя, стараясь излечить его от «пагубной и позорной страсти» (Алехандро зверски устал и цитировать ему хочется все меньше, проще же говоря, вообще не хочется, так что ограничимся одним пересказом), но тут в сюжет решительным образом вмешивается Ирен, которая, после долгого разговора с главным врачом (пятнадцать страниц текста, окончание на четыреста пятьдесят третьей странице) в самом деле решает отдаться Крокусу, ибо лишь это может излечить его, что и происходит, Ирен и Крокус сливаются в пылких объятиях, брат и сестра вступают во владение как чреслами, так и душами друг друга, но это еще не означает, что роман подходит к концу, ибо — по выходу из клиники — Ирен предлагает Крокусу отправиться на побережье, собирать раковины для коллекции, вновь появляется поезд, идущий по предгорьям в солнечный предвечерний час, поезд въезжает в тоннель, все прекрасно, роман движется к финалу, отличный выходит хеппи энд, думает Александр Сергеевич, жалея лишь об одном — слишком мало места отведено образу дьявола, он поступил бы иначе, но ведь он и не Себастьян Альворадо! Так вот, поезд прибывает на побережье ровно по расписанию, Крокус и Ирен едут в гостиницу, она, устав с дороги, ложится отдохнуть, а Крокус идет на пляж, где вдруг встречает сидящую в шезлонге женщину удивительной красоты, от одного взгляда на которую у него, что называется, дух перехватывает, он теряет голову, подходит к ней, называет свое имя и в ответ слышит: — Роксана. Остается одна страница, Александр Сергеевич переворачивает ее и читает:
«И он взял в руки прекрасную и изысканную раковину нежно–розового цвета, пробежался пальцами по всем ее завиткам и шероховатостям, приложил к правому уху и услышал далекий и несмолкаемый гул вечно шумящего моря и вновь подумал, что если что и есть в этом мире такого, что никогда не предаст тебя и не покинет в трудную минуту, то это лишь раковины, эти изумительные создания Божьи, а все остальное — Ирен, Бенедетто, Роксана, Роксана, Бенедетто, Ирен, впрочем, этот карточный домик из имен можно складывать днями и неделями, все равно не добившись ожидаемого результата, ибо нельзя соединить несоединимое, как нельзя и наоборот, и ты всегда останешься лишь одиноким путником, заброшенным в этот пустой и холодный мир в поисках очередной прекрасной раковины, путником, лишенным очага и крова, ибо у бездомных, как уже было сказано очень давно, нет дома, а это значит…»
Александр Сергеевич закрывает книгу и видит, что за окном уже светает. Что бы он мог сказать об этом произведении дзаросской литературы? Он пытается подыскать нужные слова, но не находит и смотрит на закрытый том, не понимая лишь одного: что за женщина на обложке и куда она бежит? Ну, нарисовали бы раковину, нарисовали бы едущий по предгорьям поезд или что–то, что имело бы отношение к сюжету, но причем здесь бледнолицая женщина в бальном платье, какой–то дурацкий лес и дом с обветшалыми (если верить художнику) колоннами? А интересно, думает Александр Сергеевич, сплетня о Себастьяне и Вивиан возникла до выхода романа или после? Если после, то тогда все ясно и нет никакого сомнения, что любознательный народ просто подменил одно другим, то есть совместил иллюзию и реальность, наложил одно на другое и получилось то, что поведала ему еще вечером сладко спящая сейчас Соня. Конечно, продолжал размышлять одуревший от ночного сидения на кухне Алехандро, что дыма без огня не бывает, докопаться бы до истоков этой истории, хотя зачем? Какая разница, спит Вивиан с Себастьяном или не спит? впрочем, думает Алехандро, отправляясь, наконец–то, в постель, под бок к давно уже храпящему (незаметно, надо сказать, сопение перешло в громкий храп) Фартику, я бы очень хотел еще разок увидеть принцессу Вивиан, ведь я никогда не встречал таких красивых женщин! Он смотрит на себя в тусклое ночное зеркало (надо умыться перед сном, а значит, не миновать ванной) и видит серое от бессонной ночи лицо, круги под глазами, лысина тускло поблескивает в свете неяркой электрической лампочки, Господи, думает Александр Сергеевич, ну и рожа, ему вспоминается обаятельное и загорелое лицо Себастьяна Альворадо (см. фотографию на задней странице суперобложки романа «У бездомных нет дома», издательство «Эолис», Элджернон), прекрасные черные волосы, высокий лоб, белоснежные зубы (на фотографии Себастьян очень хорошо и по–доброму улыбается), единственное, что Александр Сергеевич отретушировал бы в его портрете, так это тоненькую черную ниточку усов, ибо терпеть не может фатовато–усатых мужчин (ведь их очень любила, да и любит до сих пор Катерина Альфредовна Иванова — Штампль), как не любит и прочие проявления комплекса «мачизмо», и понимает, что если Вивиан действительно любит (не дай Бог!) своего брата (все равно, родной он ей или сводный), то Александр Сергеевич ему не конкурент и не соперник, ибо — да, откроем тайну: к утру, к тому моменту, когда все пятьсот страниц романа «У бездомных нет дома» были отчасти прочитаны, а в основном пролистаны по диагонали, Алехандро Лепских, что называется, окончательно втюрился в принцессу Вивиан, да так, что думать больше не мог ни о ком — ни о Соне, ни о Фартике и дядюшке Го, ни о Себастьяне (хотя это, предположил, и неправда) Альворадо, и даже собственная жена, Катерина, столь преступно покинувшая его, чем и вызвала весь последующий ход событий, осталась там, в прежнем мире, недосягаемом сейчас отсюда, из города Элджернон, государство Дзарос, а почему случилось так, что Александр Сергеевич втюрился (втрескался, врезался, попросту говоря, влюбился) — да кто его знает, но случилось то, что случилось, и когда Алехандро, наконец–то, свалился в давно ожидаемую чащобу сна, то ни Роксана, ни Ирен не побеспокоили его покой, да и реальная Соня, пробежав мельком по опушке, канула в неведомом направлении, что же касается принцессы Вивиан, то она вновь сидела на переднем сидении серо–замшелого кабриолета дядюшки Го, вот только за рулем был сам Александр Сергеевич и проезжали они сейчас как раз обезьяний мост, чтобы растворится в одной из ведущих в сторону побережья скоростных магистралей. Но естественно, что это был лишь сон.
11
Который, что совсем не странно, закончился пробуждением. Вот только прежде, чем перейти к дальнейшему бытию Александра Сергеевича Лепских в замечательном городе Элджерноне (пока еще в нем, ибо нескоро окажется он в неоднократно упоминаемой Тапробане, этой жемчужине (как пишут в справочниках и путеводителях) всего тапробанского (по названию моря, если верить «Большому дзаросскому словарю», т. н. «БДС», стр.789, все то же издательство «Эолис») побережья) надо сказать несколько слов о том, почему Алехандро все же втюрится в принцессу Вивиан, и сказать убедительно, дабы у читателя не возникало сомнений, и он (читатель) не видел в этом лишь произвол автора, то есть мой волюнтаризм, ведь тонкие и путанные извивы души Александра Сергеевича не всегда ясны и мне самому, но хватить затягивать отступление, пора переходить к делу, то бишь к тому, что внезапно произошло с нашим непутевым Алехандро, а произошло с ним вот что.
Как уже было сказано, он влюбился (опустим последующие жаргонизмы) в принцессу Вивиан, и странного в этом ничего нет. Ну подумайте сами — пережив такую сердечную травму, как уход любимой жены К. А.Ивановой, совершенно не к месту получив премию Крюгера и употребив ее столь странным образом, оказавшись благодаря цепочке всех этих событий в самом невообразимом для себя месте, столкнувшись с невнятной и чуждой действительностью, Александр Сергеевич, чтобы в самом деле не сойти с ума, просто обязан был влюбиться в любой подходящий объект, который подвернулся бы под руку. И случилось так, что объект этот попал под руку, и оказалась им принцесса Вивиан, при этом не исключено, что если бы Фортуна чуть иначе бросила фишки на стол, то на месте Вивиан могла бы быть Соня, но — опять же: случилось то, что случилось, и именно Вивиан Альворадо выпала судьба стать предметом страстного обожания нашего филолога–медиевиста, ведь (опять же — именно) в ней сосредоточилось все то, что позволяет вспыхнуть внезапному и сильному чувству. Вивиан не просто красива, она прекрасна. Она умна и загадочна, Вивиан отвечает внутренним представлениям Алехандро о том, какой должна быть истинная женщина, да ведь не надо забывать еще и то, что каждый мужчина грезит о своей принцессе, а Вивиан Альворадо — да, герцогиня, принцесса, нездешнее, по–настоящему неземное божество, внезапно возникшая в окружения блестящей (мы это еще увидим) свиты и скандальных (как то и положено) сплетен, воздушная, сказочная Вивиан, ну как туг Александру Сергеевичу было устоять!
И он не устоял, а потому можно представить, с каким нетерпением ожидал Алехандро наступления понедельника, хотя прежде, чем в Элджерноне начнется рабочая неделя, должно пройти воскресение, которое Алехандро, Соня и Фартик (от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, прием не новый, но всегда приятный) посвятили, наконец–то, прогулке по Элджернону, милой такой, долгой прогулке, паче и день выдался прекрасным, дождь, как было обещано, закончился, пригрело нежаркое осеннее солнышко, и как тут не скажешь, что предстал Элджернон перед глазами г-на Лепских во всей красе!
Конечно же, весь город они не объехали, хотя дядюшка Го милостиво разрешил им оставить в своем пользовании кабриолет еще на один день. Ограничились центром, в котором (у вокзала некоего герцога Викторио, см. «Историю Элджернона» в пяти книгах, восьми томах, том седьмой, стр.225) Фарт и припарковался (так и хочется припомнить давно не возникавших на этих страницах Парок, все ткущих и ткущих всемогущие нити в большом и заброшенном парке) чуть позже полудня, точнее, ближе к половине первого по элджернонскому времени, машин на стоянке было немного, так что местечко себе они подыскали быстро, Фарт закрыл дверцы на ключ и предложил начать с того, что где–нибудь перекусить, ибо завтрак их ограничился лишь рогаликами да кофе, а голодные красоты не разумеют, не так ли, Александр Сергеевич? — обратился он к Алехандро. Что тот мог ответить?
Кафе нашлось поблизости (для любителей топографической точности скажем, что если от вокзала герцога Викторио пройти прямо по улице Убиенных братьев (не будем углубляться в подробности возникновения этого названия) и пройти два квартала, то по правой стороне будет (там на углу еще трехэтажный особняк, весь первый этаж которого занят неработающим сегодня ювелирным магазином, окна которого наглухо закрыты жалюзи) свороток в переулок Меча, по которому можно напрямую выйти на проспект герцога Корвина (см. все ту же «Историю Элджернона», книга четвёртая, том пятый, стр.104), где по левой стороне, буквально в пяти минутах ходьбы от перекрестка с переулком Меча и находится кафе «У Олиньки», закрываем скобки), располагалось оно в цокольном этаже большого шестиэтажного здания с резным фронтоном, украшенным скульптурными группами, изображающими некие мифические существа, занимающиеся то ли любовью, то ли войной, большие зеркальные окна кафе украшены разноцветными надписями рекламно–зазывательного толка, но Фарт предложил сесть за один из столиков, выставленных на улицу и компактно расставленных под сенью гигантского дерева, чем–то неуловимо напомнившим Алехандро родной наш южный платан, листья местного платана уже золотились, теплый ветерок ласково шелестел ими, время от времени один из самых пугливых листочков срывался с ветки и медленно и плавно опускался на асфальт, остановим картинку и застопорим время: вот третий столик, если считать от входа в кафе, круглый столик на гнутых ножках, покрытый белоснежной скатеркой, за ним сидят наши хорошие знакомые, Фарт, Соня и Александр Сергеевич, прямо над головой Алехандро в воздухе завис золотистый пятипалый лист, официант, идущий к их столику от входа в кафе, занес ногу, но еще не успел поставить и стоит серо–белым изваянием (серые брюки, белая официантская куртка) держа чуть на отлете поднос, на котором три большие кружки с пивом (пена из одной, наклоненной чуть больше других, медленно стекает на поднос) и три тарелки с жареными сосисками, которыми так славится кафе «У Олиньки», длинные, коричневато–румяные, аппетитно пахнущие сосиски, тут же, на подносе, тарелочка с белым, пышным хлебом (один из кусков — горбушка), бутылочка с соусом, три белых, бумажных салфетки, ничего особенного, надо заметить, но осенний элджернонский воздух, но нежаркое в эту пору солнце, но теплый ветерок — все вызывает звериный аппетит, и Александр Сергеевич сидит с уже плотоядно набитым ртом, держа в руке вилку, что же касается Фарта, то он как раз в момент остановки времени тушил сигару, да так и остался — чуть склонившись над пепельницей, молочно–фарфоровой изящной безделушкой, по самому краю которой красивой вязью выписано название кафе. Соня же откинулась на спинку стула и держит в руках открытую сумочку — полезла за носовым платком, запускаем время, лист продолжает падать и самым краешком касается блестящей на солнце лысины Алехандро, официант продолжает идти к третьему от входа в кафе столику, выравнивая поднос, отчего пена перестает литься из стоящей ближе к краю подноса кружки, Александр Сергеевич закрывает неприлично разинутый рот и кладет вилку на скатерть, Фарт тушит сигару и отодвигает пепельницу почти на середину стола, Соня достает платок и закрывает сумочку, официант подходит к столику и ловко сгружает на него кружки/тарелки с сосисками/хлеб + бутылочку с соусом, опускаем описание трапезы и ставим точку.
(Впрочем, пока наши герои еще не встали из–за стола, надо добавить, что к ним подошла сама Олинька, оказавшаяся столь же аппетитной, как и ее сосиски, штучкой лет тридцати двух — тридцати трех, плотно сбитой блондинкой с крутой грудью и полными, красивыми, высоко открытыми над коленками ногами. Она, заметим, была доброй подругой Фарта, и они перебросились несколькими, ничего, как это водится, не значащими фразами, последней из которых была просьба Олиньки «не сердиться и позвонить, хорошо?» — «Хорошо», ответил прихлебывающий пиво и жующий сосиску рейнджер, с чем мы и отпустим владелицу кафе и позволим нашей троице спокойно закончить второй завтрак.)
— Ну а теперь куда? — спросил Александр Сергеевич, вытирая рот салфеткой.
— Гулять, — невозмутимо сказала Соня, Фарт же молча и довольно закурил новую тапробану, не преминув предложить сигару и Алехандро, и вот они, покинув уютное кафе «У Олиньки», идут неспешным, фланирующим шагом по проспекту герцога Корвина, по левой его стороне, Соня в центре, справа, ближе к обочине, Фарт, слева — Алехандро, с удовольствием вертящий головой по сторонам, ведь смотреть на Элджернон так намного приятнее, чем из окна кабриолета, пусть в нем и сидит на переднем (рядом с водительским) сидением принцесса Вивиан, мимо большого портрета которой, между прочим, и проходит сейчас наша троица, Алехандро смущенно улыбается и читает надпись, что «В этом здании находится благотворительный фонд имени герцога Рикардо, патронирует который светлейшая герцогиня Вивиан Альворадо», ярко сияющая на солнце бронзовая дощечка с красиво вырезанными буковками, правее которой большая, наглухо закрытая дверь, ведущая в помещение фонда, но вот они уже прошли и это здание, как миновали и множество других, ты еще не устала, спрашивает Фарт у Сони, та отрицательно мотает головой, а Алехандро все так же смотрит по сторонам: проспект герцога Корвина остался позади, и они вышли на уже упоминавшийся в одной из предыдущих глав бульвар Синдереллы, где — на месте пересечения бульвара с переулком Вогезов — и находится тот самый фонтан, возле которого в один летний день был сделан фотографом журнала «Дзаросские леди» тот самый кадр, что так пленил Александра Сергеевича и в чем–то (может быть) даже способствовал пробуждению его чувства к принцессе Вивиан, но пока до фонтана еще семь, а то и восемь кварталов, и наша троица, все так же медленно неторопливо, воскресным, планирующим шагом идет по этой знаменитой торговой (надо заметить, что широкой и обсаженной по обочины все теми же, платаноподобными деревьями) тропе, хотя и воскресенье, но здесь магазины, магазинчики и ларьки открыты, Алехандро с удовольствием глазеет в яркие и пестрые витрины, народу тьма, так что не трудно и потеряться, но теперь они поменялись местами и Алехандро — в центре, слева, ближе к домам — Соня, справа — к обочине бульвара — Фарт, этакая миленькая коробочка, из которой время от времени чертиком выскакивает безденежный (что на этой праздничной улице — ведь сколько можно талдычить слово «бульвар»? — воспринимается им самим очень болезненно) Алехандро, у которого — что вполне естественно — разбегаются глаза, ибо пусть он и был всегда человеком духовным, но мир материальный, вещественный, ему отнюдь не чужд, а качество товаров, продаваемых бойкими элджернонскими торговцами и торговками, намного выше, чем в его несчастной отчизне, о которой, надо сказать, он даже не вспомнил ни разу с самого утра, начавшегося, ко всему прочему, для него почти в полдень (не надо забывать, что спать Алехандро улегся лишь в шестом часу).
Шел уже третий час дня, чувствовалась усталость, хотелось где–нибудь присесть и дать ногам отдохнуть, но вот и фонтан виден, тот самый, у которого фотограф «Дзаросских леди» минувшим летом столь блистательно заснял принцессу Вивиан: тот же мальчик и та же туна, та же тоненькая струйка воды, с журчанием сбегающая в больше овальную чашу и застывающая в неподвижной прозрачной глади, усыпанной золотистой листвой, нападавшей за последние дни с растущих по–соседству деревьев, среди которых есть и «платаны» (на этот раз закавычим), и прочие порождения элджернонской флоры, включая редчайший в этих краях, багровостволый кристофер, единственное дзаросское дерево, цветущее осенью, вот и сейчас, среди крупной, тяжелой листвы, хорошо различимы мелкие белые цветы, торчащие наподобие множества небольших растопыренных пальцев (приходившее перед этим в голову сравнение с церковными свечками отбросим, как некорректное, и прежде всего, по цвету). Под сенью Кристофера, на успевшей облупиться от летней жары скамейке, когда–то ярко–зеленого, а ныне невнятно–жухлого оттенка, и решила отдохнуть наша троица, поставив передо мной довольно сложную задачу: что делать с ней дальше?
Конечно, есть несколько вариантов решения, можно, дав троице хорошенечко отдохнуть на невнятно–жухлой лавочке, погнать ее снова на прогулку, заполнив оставшиеся до конца главы страницы новыми зрительными впечатлениями милейшего Александра Сергеевича (из коих наиболее запало ему в душу лицезрение большой передвижной выставки «Династия Альворадо. К возобновлению правления Дзаросом», на которую наши гуляки наткнулись где–то в районе четверти четвертого), можно, усадив за очередной столик очередного кафе (к примеру, вот этого, под броским названием «Три короны», изысканное меню, но цены в пределах доступного, на этот раз герои выбирают морские и рыбные блюда, наиболее удачным из которых можно считать (поверим Александру Сергеевичу) тушеное в белом вине филе из рыбы блонд с гарниром из метрапской капусты и горных грибов с непроизносимым названием «суаря») и дав возможность плотно отобедать, отправить затем в кино, на пятичасовой сеанс, на премьерный просмотр нового боевика «Загнанные и убитые», где три часа пальбы перемежаются роскошными любовными сценами, с фантазией и изысканностью снятыми мэтром местной киноиндустрии, пятидесятивосьмилетним Антонио Фукехидо, можно, в конце концов, сжалиться над уже хорошенько набродившимися по Элджернону Соне, Александру Сергеевичу и Фартику и вновь вернуть их к вокзалу имени герцога Викторио, позволить Фарту открыть ключиком дверцы кабриолета, дама и господа занимают свои места, Фарт заводит кабриолет, тот начинает фырчать и потихоньку трогает с места, вливаясь в вереницу машин, идущую сплошным потоком по предвечернему воскресному Элджернону, довольный Александр Сергеевич, утоливший любопытство, даже не смотрит в окошко серо–замшелого передвижного средства, принадлежащего, как известно, дядюшке Го, но думает Алехандро сейчас не о дядюшке Го, и даже не о своих спутниках по сегодняшней увлекательной (на самом деле!) экскурсии, а — и это не странно — о принцессе Вивиан, тягу к которой, столь стремительно возникшую в последние двадцать четыре часа, не могут убить никакие сплетни, даже наоборот получается — чем больше он слышит неприличных рассказов о поведении венценосной прелестницы, тем больше ему хочется ее видеть, но ведь недолго осталось, вечер да ночь, вот и день прочь, утро придет, что принесет?
Что же, утро понедельника приносит великолепную погоду, солнце, отчаянно бьющее в окно, невзначай попадает в зеркало и солнечными зайчиками щурит глаза прихорашивающемуся перед долгожданным визитом Александру Сергеевичу, жалеющему об одном — что не взял он с собою в Дзарос свой единственный костюм и столь же единственный галстук и придется ему предстать перед загадочными глазами (напомним, карими) Вивиан таким, каков есть — куртка, джемпер, джинсы, кроссовки, но ничего, думает Алехандро, вспоминая бойкую торговлю на бульваре Синдереллы, дай Бог — найду работу и куплю себе блейзер, а может, что и смокинг, но тут его зовет Фарт, отпросившийся на сегодняшнее утро со службы, ведь визит во дворец — дело серьезное и как не сопроводить туда г-на Лепских, мало что разумеющего в придворном этикете, впрочем, и Фарт, надо отметить, разумеет в нем не очень, но две головы всегда лучше, чем одна, и вот уже дежурный начальник дворцового караула, выслушав лепет изрядно волнующегося Фарта, велит поставить кабриолет (все же добрая душа этот дядюшка Го!) на дворцовой стоянке и распахивает перед ними маленькую калитку, ведущую в одну из боковых аллей, объясняя при этом, как проще дойти до дворца, чтобы не заплутать и не попасть — что совсем уж будет нехорошо — куда–нибудь не туда, к примеру, в приемную герцогини Стефании, так что прямо в калитку, затем в аллею, пройдете до конца — свернете направо, потом налево, потом вновь направо, а там и вход в покои пресветлой Вивиан, ясно?
— Ясно! — с казарменной краткостью отвечает бравый рейнджер, а Алехандро чувствует, что у него дрожат не только коленки, но и все поджилки трясутся. — Иди, иди, — подталкивает его в спину столь же красный от смущения гроза контрабандистов.
12
Можно долго описывать то, как Фарт и Алехандро Лепских шли по чудесному дворцовому парку, с которым — к этому утверждению Алехандро пришел быстро, еще, надо сказать, не дойдя до покоев Вивиан — не сравнились бы ни Версаль, ни Сан — Суси, ни венский Шенбрунн, ни парк королевского дворца в Бангкоке, Таиланд, ни прочие замечательные порождения совместного труда архитекторов и садовников, с которыми Александр, заметим, был знаком лишь по передачам отечественного телевидения, но это не имеет никакого отношения к нашему рассказу, а потому просто повторим, что парк дворца герцогов Альворадо был чудесен, аллея, по которой Фарт и А. С. Лепских шли неторопливым, прогулочным, почти таким же фланирующим, как и по бульвару Синдереллы, шагом, прихотливо извивалась между ровно подстриженными невысокими деревцами с листвой густо–зеленого цвета, отбрасывающими прихотливые тени на мелкий речной песок розоватого оттенка, коим и была усыпана упомянутая аллея, по которой как раз в этот самый момент доходят до первого поворота направо страж дороги и филолог–медиевист, идут они молча, ибо смущение не пропадает, а наоборот — чем ближе к цели, тем все больше робости и стеснения, ну да как иначе, чувства Алехандро к принцессе Вивиан нам уже известны, а Фарт всегда понимал разницу между титулованными правителями Дзароса и собой, простым обывателем, обитателем казармы, заурядным племянником заурядного (в плане социального происхождения и общественного статуса) дядюшки Го.
Но вот и поворот направо, аллея, посыпанная мелким речным песком розоватого оттенка, переходит в совсем узенькую дорожку, петляющую между большими, разбросанно стоящими деревьями с серебристой корой и красивыми, резными кронами, отчего–то увешанными маленькими разноцветными фонариками, воздух необычайно чист, парк в этот утренний час тих и пустынен, ни одной живой души не встретилось нашим приятелям, если не считать таковыми несколько кошачьеподобных тварей, отдыхающих за плотной сеткой большой вольеры, внезапно оказавшейся по левую руку от дорожки, но вот и вольера позади, а вот и поворот налево, за которым — и достаточно быстро — возник обещанный дежурным начальником дворцовой стражи последний поворот направо, представляющий из себя такую же узенькую дорожку, проложенную между двумя громадными клумбами с фиолетовыми цветами, напомнившими Алехандро несуразную помесь хризантем с георгинами, хотя были фиолетовые цветы очень красивы, это надо отметить особо, а вот почему? Да наверное, лишь потому, что сразу за клумбами вырастала из переплетений деревьев и кустарника стена праздничного, розового кирпича, в которую и упиралась — прямо в небольшую дверцу с хорошо различимым кругляшком звонка — эта последняя дорожка, но вот осталось пять метров, вот два, вот рука Фарта поднимается и — совершенно верно; раздается где–то в глубине здания приятного тембра звонок, дверь открывается и навстречу выходит рослый гвардеец (Алехандро сразу же вспомнил слова Сони о том, что «Вивиан ни одного смазливого гвардейца не пропустит»), одетый в парадную форму, но пора прекратить изрядно затянувшееся описание и поскорее свести основных действующих лиц непосредственно в покоях Вивиан.
Ах, Алехандро, Алехандро, сколько ожидал ты этого часа, но вот и дождался, что же, переставай робеть, возьми себя в руки, понятно, конечно, что для тебя, рожденного и выросшего совсем в ином мире, лицезрение дзаросской принцессы подобно явлению божественного откровения, но ведь принцесса — просто женщина из плоти и крови, как принято говорить в таких случаях, красивая, прекрасная, можно даже употребить эпитет «роскошная», но женщина, немногим отличающаяся от твоей бывшей жены, милейшей (что тоже надо отметить) Катерины Альфредовны, но Алехандро не помнит сейчас о Катерине Альфредовне, забыл он и Феликса Ивановича Штампля, он все забыл в этот утренний час понедельника (дворцовые часы только что пробили половину одиннадцатого), когда открылась, наконец–то, большая, цвета слоновьей кости дверь, украшенная резной позолотой, распахнулась, как уже сказано, дверь, и упомянутый в конце прошлого абзаца гвардеец, чеканя шаг, ввел Фарта и Александра Сергеевича в большой, естественно, что залитый нежарким осенним солнцем, зал, в самой середине которого, в уютном и симпатичном кресле, стоящим рядышком с таким же уютным и маленьким столиком на четырех раскоряченных ножках, сидела за утренним макияжем Вивиан Альворадо, одетая лишь в полупрозрачное дезабилье хорошо известного читателям цвета, ее длинные, каштановые волосы отливали на солнце очаровательным блеском, на губах играла улыбка, а руки перебирали какие–то баночки/тюбики/ футлярчики/коробочки, в великом множестве и таком же великом беспорядке разбросанные по столику.
— Привет! — сказала герцогиня Вивиан, на мгновение оторвавшись от всех этих баночек–коробочек, а потом вдруг добавила очень смешливым тоном: — Вы все же пришли, — и непонятно, чего больше было в этом добавлении, восклицательного знака или вопросительного.
Гости сели в предложенные гвардейцем кресла, отличающиеся от того, в котором восседала Вивиан Альворадо, но мне что–то прискучило описывать прелести дворцового интерьера, равно как и мебель и прочие заимствованные из нереальной жизни предметы и явления, а потому я вновь перейду к Алехандро, ибо сев, наконец–то, в предложенное кресло (причем, на самый кончик, ссутулившись, не зная куда деть такие длинные и дурацкие сейчас руки с тонкими, покрытыми выгоревшими на солнце еле заметными волосками, пальцами) Алехандро растерял все слова, что вертелись на его языке всю дорогу — от гостиницы «Золотой берег» и до двери, ведущей непосредственно в покои Вивиан, хотя отнюдь не о любви (и это совершенно естественно!) собирался он говорить, а всего лишь о том, что нуждается в помощи, ибо оказался — один, лишенный всех родных и близких, хотя и по своей, надо заметить, воле, впрочем, спасибо Соне, Фартику и дядюшке Го, если бы не они, но пора вновь, минуя многоточие, перескочить через тире, — без всяких средств к существованию, а ведь единственное, что он может делать, так это предаваться занимательным, но мало кому интересным филологическим штудиям, за что и в отечестве, надо сказать, платили не густо, и если бы не премия Крюгера… Но тут, после уже реально промелькнувшего многоточия, Александр Сергеевич все же открывает рот и начинает (внезапно для себя самого, внезапно для Фартика и, может, для Вивиан Альворадо столь же неожидаемо) долго и бойко излагать свою концепцию преподавания литературы в Тапробанском университете, ибо, как кажется Алехандро, дело это надо поставить совсем иначе, ибо — опять же идет многоточие и утомленная многословием разболтавшегося гостя Вивиан предлагает г-ну Фарту и г-ну Александру выпить по чашечке прекрасно заваренного чая, а она пока пойдет, переоденется, затем они вновь продолжат этот, столь интересный разговор.
— Что с тобой? — поинтересовался Фарт, когда за Вивиан закрылась дверь, ведущая из залы во внутренние покои.
— Не знаю, — честно ответил Алехандро, — но меня как прорвало…
— Бей на жалость! — грозно заявил Фарт.
— Хорошо, — покорно согласился Алехандро, сделав глоток действительно очень вкусного чая и подумав, что нечего ему было тащиться во дворец, ибо ничего–то он здесь не выходит, да и кто он такой, в конце концов, чтобы помогала ему сама младшая герцогиня Альворадо, ставшая еще более нездешней и недоступной за те считанные минуты, что они провели вместе, вот тут она сидела за столиком, одетая лишь в легкое утреннее дезабилье. Александру Сергеевичу безумно нравится перекатывать это слово во рту, лаская его небом, кончиком языка, чуть прикусывая зубами, пробуя на вкус, замечательное такое слово, как замечательна и сама принцесса Вивиан, вновь впорхнувшая в залу как раз на этой самой минуте, но уже одетая в строгий деловой костюм, волосы перехвачены лентой, походка стремительна и весь вид ее выражает озабоченность судьбами державы, по крайней мере, именно так думает Александр Сергеевич, но Вивиан садится обратно в кресло, закуривает тонкую сигаретку, изъятую непосредственно на глазах визитеров из ручной работы портсигара непонятного материала и странной работы и просит вдруг Александра Лепских рассказать о своей былой жизни. И надо сказать, что это предложение не привело Александра Сергеевича в восторг.
Да и действительно: что рассказать и как, да и надо ли пускаться в излишние подробности, господи, думает Алехандро, ну зачем я пришел сюда, в эту прекрасную дворцовую залу, мыл бы лучше посуду на кухне у дядюшки Го, как и собирался вначале, так нет, принесла нелегкая, и какая мне Тапробана, кто туда пустит?
— Хорошо, — говорит, наконец, Вивиан, выслушав ненужные подробности о Катерине Альфредовне, Феликсе Ивановиче, премии Крюгера и прочих, уже известных читателю вещах, — хорошо, — вновь говорит Вивиан, а потом начинает смеяться, причем долго и заразительно, а отсмеявшись и вновь закурив тонкую сигаретку, изъятую все из того же портсигара, обращается непонятно к кому: — Ну и бред же все это!
— Бред? — обижается Алехандро Лепских, окончательно убедившись, что сюда, во дворец, в это чудесное утро элджернонского понедельника, принесла его самая натуральная нелегкая. — А почему бред?
Вивиан молча смотрит на г-на Лепских, Вивиан перестает улыбаться, лицо ее становится капризным и Александр Сергеевич понимает, что свалял дурака, ибо кто так говорит с пусть младшими, но представительницами правящей династии, так и в крепость загреметь можно, позвонит сейчас Вивиан в маленький серебряный колокольчик, стоящий тут же, на столе, чуть наискосок, если смотреть в направлении портсигара, войдет уже возникавший рослый и статный гвардеец, отсалютует палашом и возьмет Александра Лепских за шкирку, возьмет да отведет черт знает куда, вот и свобода тебе, думает Александр Сергеевич, вот и попал в тот мир, куда — если верить себе и автору — стремился, а впрочем, зачем?
Но не хватает Александру Сергеевичу времени, чтобы предаться размышлениям о том, почему же он оказался именно в Дзаросе, а не, скажем, в какой–нибудь Зембле или Забрендии, куда ведь тоже попадали люди и даже есть об этом свидетельства. Вивиан Альворадо обращается к нему необыкновенно–мягким, воистину бархатисто- соблазнительным (Боже, что тут произошло с нашим Алехандро!) тоном и просит его не сердиться на ее реакцию, ибо она «смешлива до чертиков, ну как ребенок, понимаете?»
— Понимаю, — говорит Александр Сергеевич и слушает продолжение фразы, откуда вдруг вылавливает нечто такое, что заставляет его внезапно собраться и даже сесть в кресло поглубже, а если обойтись без излишне–сложных синтаксических конструкций, то надо сказать, что Вивиан Альворадо совершенно неожиданно сделала Александру Сергеевичу Лепских предложение стать ее секретарем с окладом тысяча реалов в месяц, что, отметим, очень приличная сумма, учитывая, опять же, дешевизну житья при дворе правящей фамилии, а так же и то, что буквально днями сама Вивиан собирается отбыть на месяц (это минимум) в Тапробану, где жизнь намного дешевле, чем в столице, ну так что, соглашаетесь? — А почему именно я? — спрашивает совершенно ошарашенный Александр Сергеевич, бросая взгляд на давно уже забытого нами Фарта, который все это время молча сидит в отведенном ему кресле и боится попросить разрешения закурить свою любимую сигару, Фарт подтягивает, будто говоря: «Да соглашайся же, дурень!» — но дурень снова повторяет свой вопрос и Вивиан Альворадо, пристально глядя в лицо ошарашенному Алехандро, отвечает четко и ясно, называя те три причины, по которым Алехандро может стать ее секретарем:
1) он чужой в этом мире, а значит, не будет принимать участия ни в каких интригах, что для нее важнее всего;
2) он человек образованный, что, как понимаете, немаловажно;
3) он ей симпатичен как мужчина, а его лысина постоянно вызывает нежное и одновременно легкомысленное желание пройтись по ней бархоткой, что ей самой кажется чрезвычайно забавным.
— Ну так что, — продолжает Вивиан, — согласны?
И Александр Сергеевич, естественно, соглашается. После чего события начинают развиваться с бешеной скоростью, что позволяет мне перейти к повествовательной скороговорке, дабы не утомлять ни себя, ни читателя, достаточно сказать, что сразу же, лишь только Александр Сергеевич Лепских ответил согласием на предложение принцессы Вивиан, она позвонила в серебряный колокольчик, вот только вошел на звон не обещанный гвардеец с палашом, а некто в сером, хорошо сшитом костюме, оказавшийся главным советником принцессы Вивиан. Алехандро был представлен в качестве нового секретаря (так, наверное, мы никогда и не узнаем, что случилось с предыдущим) с окладом в одну тысячу реалов в месяц (пишите прописью, вот здесь, Алехандро заполняет бледно–голубой листочек контракта, увенчанный герцогской короной и факсимильным росчерком самого В. Альворадо), аванс выдается ему тут же, но кроме аванса — от щедрот короны — перепадает еще небольшая сумма в полторы тысячи реалов на обзаведение необходимым гардеробом, ведь не может же он в таком виде приступить к исполнению своих обязанностей, а по условиям контракта он должен приступить к ним с сегодняшнего дня, ибо если что и втемяшилось в голову прелестной Вивиан, то это должно произойти очень быстро, так же стремительно, как летит в цель пущенная из лука стрела, но вот некто в сером, откланявшись, исчезает, а Вивиан уже спрашивает у Фарта, может ли тот перевезти во дворец вещи Александра Сергеевича, и очень удивляется, услышав, что вещей почти нет, лишь скромненькая дорожная сумка, доставить которую не составит особых трудов, а где я буду жить, настырно интересуется внезапно почувствовавший вкус к своему новому положению Александр, еще вчера бывший нищим туристом, а теперь ставший немаловажным лицом во всем государстве, впрочем, бывают и не такие повороты Фортуны, это хорошо известно любому мало- мальски образованному человеку, мог бы и не секретарем стать, а, к примеру, премьер- министром (от примера до премьера, одно слово тянет другое), но не будем замахиваться так высоко, ведь чем выше взлетишь, тем больнее падать, мало что может случиться с ним на протяжении тех страниц, что остались до последнего абзаца, последней точки, нет уж, пусть будет секретарем, хватит, хватит, торопит меня Фарт, мне еще в казарму надо, а ведь и сумочку дорожную вместе с Алехандро требуется обратно во дворец доставить, так все же, где я буду жить, продолжает настырничать вновь назначенный секретарь, да здесь и будете, рядом с моими покоями, секретарь всегда должен быть рядом, ну что, обращается уже непосредственно к г-ну Лепских бравый рейнджер, поехали, поехали, отвечает за г-на Лепских герцогиня Вивиан и встает с кресла, как бы показывая этим, что аудиенция окончена и пора гостям проваливать, что они и делают, вскоре вновь оказавшись в гостинице «Золотой берег», где Фарт, искренне восторгаясь случившимся, обрисовывает дядюшке Го создавшуюся ситуацию, на что тот довольно хмыкает и добавляет, что не было бы счастья, подразумевая субботний афронт с кабриолетом герцогини, тот самый, что случился на углу улицы Микелон и площади Клерамбо, и предлагает выпить за дальнейший успех Александра Сергеевича на службе у герцогини Вивиан Альворадо, что будем пить, интересуется Фарт, естественно, шампанское, отвечает дядюшка Го, они пьют шампанское и дядюшка Го жалеет, что нет с ними Сони, но ничего не поделаешь, понедельник, Соня на работе, да и Фарту уже пора в казарму, да и Алехандро обратно во дворец, вот только допьют шампанское, да еще заедут на бульвар Синдереллы, купить Алехандро кое–какую одежку, еще увидимся, говорит растроганный Александр Сергеевич хозяину гостиницы «Золотой берег», обнимаясь с ним на прощание в дверях, еще увидимся, говорит он Фартику, сгрузившему у запомнившейся с утра калитки нехитрый скарб г-на Лепских, к которому (к сумке то есть) прибавился увесистый пакет с тряпками/шмотками, завернутый в фирменную бумагу большого универсального магазина с запамятованным сейчас названием, конечно, увидимся, ответил ему дядюшка Го, непременно, торопливо проговорил опаздывающий на службу Фартик, дежурный офицер (уже совсем не тот, что утром), осведомленный о прибытии нового секретаря, позвонил куда–то по внутреннему телефону и вскоре появился слуга с тележкой, на которую взгромоздили вещи и покатили по аллее, до первого поворота направо, потом налево, потом, минуя клумбы с бесподобно–фиолетовыми цветами, опять направо, комната Александра через три двери от входа в покои Вивиан, большая, светлая комната, кровать, стол, два кресла, шкаф, музыкальный агрегат, телевизор местного, элджернонского изготовления, немо осклабившаяся каминная пасть, шкаф для одежды, отдельный столик с бумагой и пишущей машинкой (секретарь ведь), окно выходит в парк, шторы раздернуты, на часах три ноль пять пополудни, в три тридцать обед, о чем его уже предупредили, так что можно принять душ и переодеться, Александр Сергеевич принимает душ, Александр Сергеевич надевает свежую рубаху и вновь купленный и уже отглаженный боем костюм, светлый такой костюм серовато–песочного цвета, рубашка же на нем черная, галстук он решил не надевать, ведь обед — о чем его тоже предупредили — в узком кругу, лишь сама герцогиня и ее окружение, а вот и три тридцать, Александр Сергеевич входит в обеденную залу и видит большой стол овальной формы, накрытый белоснежной скатертью, уставленный всяческой посудой, из супницы по тарелкам уже разливают аппетитно пахнущий суп–протаньер, его место — по левую руку от герцогини, по правую же — некто в сером, еще за столом два телохранителя (рослых и молодцеватых) и два пустующих места: дочери Анжелы (Алисы) и ее гувернантки, которые уже отбыли в Тапробану и поджидают их там, садитесь, господин Лепских, официально обращается к Алехандро прелестная хозяйка и стола, и покоев, и Александр Сергеевич, сев по левую сторону от своего божества, приступил к первой трапезе во дворце герцогов Альворадо, иногда посматривая на Вивиан влюбленными глазами да думая о том, что еще готовит ему судьба, понимая, что раз случился такой кундштюк, то возможен еще один и еще, и есть множество возможностей докончить эту историю, но вот какой путь выбрать — впрочем, это зависит отнюдь не от Александра Сергеевича, а потому оставим его в обеденной зале, поедающим вкусный и горячий, так аппетитно пахнущий суп–протаньер, ведь остальные (часы отстают у Алехандро, что ли?) уже приступили ко второму, как я приступаю к следующей части, озаглавить которую (по одной лишь мне известной причине) решено…
Но тут Александр Сергеевич роняет вилку на пол и, сгорая со стыда, ждет, пока ему не принесут вторую, на часах три сорок пять и Вивиан уже перешла к кофе, что же касается советника в сером, то он выбрал себе не кофе, а чай, телохранители предпочли пиво, ну а Александр Сергеевич пребывает в раздумье, на чем я и позволю себе поставить точку в этом замечательном абзаце, добавив лишь, что на второе была телятина под соусом бешамель с картофелем а'ля метрдотель, но сколько можно перечислять дежурные блюда сегодняшнего меню во дворце герцогов Альворадо, ибо сама Вивиан уже встала со своего места и сказала Алехандро, что ждет его в кабинете, а значит, секретарю пора приступать к своим обязанностям (восклицательный знак).
Часть третья Синдром Кандинского — Клерамбо (Себастьян)
1
И только не надо считать, что какое–то время спустя тьма рассеивается.
Ничего подобного, лишь только прогремел выстрел, лишь только тело мое впечаталось в стенку и наступила уже упомянутая тьма, лишь только Александр Сергеевич Лепшин прекратил свое земное существование, как мне позволили открыть глаза, и можно представить испытанное мною удивление, когда вместо окружающей (к примеру) обстановки больничной палаты, я обнаружил, что нахожусь в изысканном интерьере невнятных пока еще дворцовых покоев, и кто знает, каким образом меня сюда занесло.
Но более того — тело, в котором я находился, принадлежало не мне, я занимал лишь небольшой участочек мозга, в котором — одновременно со мной — ворочалось чье–то «я», которое пыталось вступить с моим в странную, хотя и вполне обоснованную борьбу — ведь кому понравится, если в давно уже облюбованный и обжитый тобою дом вламывается незваный гость и располагается на самом почетном месте, только вот чье это тело и чей мозг, хочется знать, но как спросить, как подать голос?
«Кто ты? — услышал я. — Кто ты и чего тебе надо?»
«Лепшин, — ответил я, — моя фамилия Лепшин…»
«Странно, — сказал голос, — все это очень странно и мне кажется, что я схожу с ума…»
«Отчего?» — поинтересовался я.
«Ты — Лепшин?» — решил, видимо, уточнить голос.
«Да, Лепшин…»
«А я Лепских, Александр Сергеевич…»
Тут уже пришла моя очередь впасть в ступор, ибо ведь это именно я Александр Сергеевич, автор романа «Градус желания», который так и не получил премии Хугера, буквально пять (а может, и меньше) минут назад застреленный из револьвера крупного калибра (вот только где она его взяла?) своей женой, женщиной со странным именем Сюзанна, которая так хотела, чтобы я продал душу дьяволу, но чем это кончилось — неизвестно, хотя мне отчего–то кажется, что за эти пять (а может, что и меньше) минут, прошедших после рокового (почему так принято говорить?) выстрела, случилось то, что давно должно было случиться и — опять же, кто знает отчего мне кажется именно так? — на моем левом запястье, если бы я смог сейчас увидеть его, обнаружился бы небольшой беловатый шрам, вот только беда в том, что я никак не могу посмотреть на свое левое запястье, как и вообще я лишен зрения, обоняния, осязания, хотя отчего–то и понимаю, что нахожусь не в больничной палате, а в дворцовых покоях, но будем считать, что это то знание, которое исходит от второго Александра Сергеевича, не так ли, спрашиваю я его и слышу в ответ, что ему кажется, будто он сошел с ума.
«Отчего это?» — интересуюсь я.
«От того, — раздается в ответ, — что это я Лепских, Александр Сергеевич, филолог–медиевист, лауреат премии Крюгера за работу «Эстетические интерпретации образа дьявола и их воздействие на харизму читателя», которого бросила жена, милейшая Катерина Альфредовна Иванова, что и послужило главной причиной тому, что Александр Сергеевич Лепских оказался в государстве Дзарос, материк Лоримпана, планета Ауф, где буквально вчера поступил на службу личным секретарем к принцессе Вивиан Альворадо и чуть ли не завтра должен вместе с ней отправиться на знаменитый курорт Тапробана», — и тут уже пришла моя очередь заявить, что я схожу с ума.
«Что будем делать?» — внезапно интересуется голос лауреата премии Крюгера.
«Не знаю, — честно отвечаю я, — у меня такое ощущение, что пуля, вплющив мое тело в стенку, не доделала свое дело, то есть какая–то частица меня продолжила жизнь и вот…»
«Бред, — ответил Лепских, — наверное, все гораздо проще».
«Как это?» — поинтересовался я.
«Не знаю, — честно ответил филолог–медиевист, — но проще, видимо, все дело в системе глобальных совпадений вектора судьбы, ведь тогда, по идее, должно произойти полное слияние, основой для чего и послужил выстрел…»
«Смешно, — отвечаю я, — таким образом Лепшин становится Лепских, а Лепских — Лепшиным?»
«Ничего подобного, — возмущается Лепских, — ты не можешь стать мной, ибо мое тело — вот оно, а ты своего лишен, в тебя ведь стреляли, не в меня, да и ты продал душу дьяволу, а не я…»
«Продал ли?» — вновь задумываюсь я.
«Наш разговор становится бессмысленным, — возмущается личный секретарь принцессы Вивиан, — кто–то из нас должен уступить место другому и сдается мне, что это будешь ты!»
Но я не согласен, мне отнюдь не хочется покидать это чужое тело, ведь кто знает, что будет тогда, когда последняя частичка моей души оторвется от своей материальной привязки — этой чуждой и странной для меня оболочки, куда занесет тогда мою душу, да и будет ли она, пусть и проданная, но все еще реально существующая, ведь я могу пока продолжать никому больше неслышную беседу с этим странным типом, хотя кто мог сказать мне, что сюжет обернется именно таким образом?
«Никто!» — констатирует Лепских и еще раз предлагает мне убираться из его тела.
Я не отвечаю, я просто начинаю бороться с ним во тьме, окружающей меня, тьме, которую не разрушило даже позволение открыть глаза, ибо глаза эти были не моими, и это не я видел сейчас хорошо различимые в отступающих утренних сумерках контуры вещей, находящихся в комнате личного секретаря принцессы Вивиан. Но если не я, то кто же?
«Хочешь сделку?» — вдруг слышу я голос утомленного борьбой соперника.
«Какую?»
«Оставайся во мне, только не показывайся очень часто, сиди себе и помалкивай, а я дам тебе свои глаза, рот, уши, руки, да даже член… Бог с тобой, но если кто–то из нас должен погибнуть, то им вполне могу оказаться я, мне же этого не хочется!»
«Дай подумать!» — отвечаю я.
«Думай!» — соглашается Александр Сергеевич‑2, и я начинаю думать, хотя определение это абсолютно бессмысленно, ибо что я еще могу делать, когда у меня нет ни рук, ни ног, ни сердца, ни печени, ни… впрочем, перечислять так можно очень долго, как очень долго можно вести эту бессмысленную борьбу, в которой выйти победителем я все равно не смогу: ведь даже если мне удастся разрушить, вытеснить из тела душу Лепских, то тело это — чужое, и я никогда не смогу чувствовать себя в нем так же вольготно и удобно, как в своем собственном, том самом, что лежит сейчас окровавленное на полу в номере гостиницы «Приют охотников» и вокруг него (будем надеяться) хлопочут две милых дамы — моя жена Сюзанна и славная, обаятельная К., плотью которой я так и не успел насладиться до рокового (пусть будет так) выстрела.
«Согласен!» — отвечаю и чувствую, что вокруг начинает брезжить свет.
«Отлично! — говорит А. С.Лепских, — Только давай, договоримся о правилах игры».
«Как это?»
«Очень просто. Главное — не мешай мне. Будь как бы постоянным спутником, наблюдателем, но не больше. Не вмешивайся в мои дела и поступки, хорошо?»
«Как получится…» — здраво замечаю я.
Александр Сергеевич Лепских не отвечает, он открывает глаза и чувствует необычайно сильную ломоту в затылке, интересно, есть ли тут таблетки от головной боли, надо бы поинтересоваться, а то получается, что всего второй день службы, а он, как говорится, настолько разобран, что хоть из постели но вылезай, а ведь принцесса Вивиан ждет его в своем кабинете ровно в полдень, сейчас — он смотрит на часы и видит, что уже без пяти минут одиннадцать, а значит, времени почти нет, ведь надо встать, привести себя в порядок, позавтракать,
Боже, да еще этот сон, голова от него просто раскалывается, Александр Сергеевич встает с кровати и нехотя тащится в ванную, чувствуя, что кроме головы ноет и все тело, а особенно болит левое запястье, что там такое, думает он и с нежностью смотрит на свою руку и не будем комментировать то, что он видит.
Всего–навсего шрам на левом запястье.
Шрам, которого вчера еще не было.
Шрам, которого вообще не должно быть.
Алехандро становится страшно. Алехандро садится на краешек большой белоснежной ванны и начинает в подробностях вспоминать сон, но от воспоминаний ему не становится легче. Ему вообще никак не становится от этих воспоминаний, ибо сон есть сон, а шрам — вот он, вчера еще не было, а сегодня есть, и стоит ли ломать голову, которая и так раскалывается, господи, да есть тут таблетки от головной боли, пытается сообразить Алехандро и замечает (было бы странно, если бы этого не случилось) небольшой уютненький шкафчик на выложенной кафелем стенке, как раз рядышком с зеркалом а полочкой, уже уставленной его бритвенными принадлежностями и прочими предметами личной гигиены, включая наполовину выдавленный тюбик зубной пасты и зубную же щетку, купленную ему перед прошлогодним отпуском Катериной Альфредовной, замечательную такую зубную щетку с длинной и теплой пластмассовой ручкой двух цветов — сверху синего, а снизу красного, но оставим щетку в покое и откроем шкафчик, в котором — как и предполагалось — Алехандро находит хорошо подобранную аптечку, включая, естественно, великолепное средство от головной боли, одну таблетку которого он немедленно отправляет в рот, стараясь делать все правой рукой, ибо от любого взгляда на левую (точнее — на ее запястье) голова вновь начинает раскалываться, но вот таблетка выпита, так что можно заняться туалетом, на чем пока мы и оставим Алехандро в покое.
Но ненадолго, ведь на часах уже без пяти двенадцать, а точность в отношениях с работодателями надо соблюдать, и Александр Сергеевич, съев в одиночестве свой завтрак, подходит к кабинету принцессы Вивиан, чувствуя облегчение от того, что боль отпустила и в то же время испытывая непонятную тяжесть в голове, да еще этот страх, что поселился в нем с самого утра, да этот шрам — но сколько можно говорить о том, что произошло, когда уже пора открыть дверь и предстать пред очи светлейшей герцогини Альворадо–младшей, очередной гвардеец салютует Александру Сергеевичу очередным палашом, дверь распахивается, и Вивиан Альворадо кратким кивком приветствует нового секретаря. И я впервые вижу принцессу Вивиан Альворадо.
И Александр Сергеевич Лепских располагается в своем секретарском кресле, открыв блокнот для записи и приготовив ручку с золотым пером, заправленную чернилами черного цвета.
И я слышу этот голос с низкой хрипотцой, который моментально начинает сводить меня с ума, ибо ведь точно так говорила моя жена Сюзанна, уготовившая мне столь странную судьбу.
И принцесса Вивиан начинает быстро диктовать Александру Сергеевичу письмо в департамент благодеяний, посвященное открытию еще одного благотворительного фонда, который она тоже решила взять под свой патронаж.
И Александр Лепских быстро чиркает золотым пером по голубоватым страничкам блокнота, оставляя на них тень от хрипловатого, низкого голоса принцессы.
И я понимаю, какое это счастье, не только слышать, но и видеть, и какая мне разница, что я нахожусь не в своем теле, а в чужом, хотя кто сказал, что оно чужое? Ведь это моя рука сейчас с уверенностью держит ручку с золотым пером, и это мое правое колено немного подрагивает от волнения, и это ко мне обращается с вопросом герцогиня Вивиан, вопросом, на который Александр Сергеевич отвечает без промедления.
— Да, — говорит Александр Сергеевич, — да, ваша светлость, я все сделаю немедленно!
Герцогиня (принцесса) Вивиан встает с кресла и уходит во внутренние покои, а Александр Сергеевич, отчего–то с мрачным видом, начинает исполнять поручение принцессы, которое состоит в том, что как можно быстрее необходимо подготовить все для отъезда в Тапробану, ибо Вивиан решила ехать сегодня, после обеда. Чем обусловлена эта спешка — нам с Алехандро знать не надо. Не положено. Так хочет их светлость. Ехать сегодня после обеда, все должно быть готово, все вещи собраны и погружены в машину.
Я тоже поеду в Тапробану. Отныне я буду везде сопровождать Александра Сергеевича и принцессу (герцогиню) Вивиан. Я тоже Александр Сергеевич и я буду сопровождать другого Александра Сергеевича, может именно этого и хотел мой повелитель. Тот самый, который заставил Сюзанну разрядить в меня револьвер крупного калибра. Тот самый, который оставил хорошо заметный шрам на моем левом запястье. Тот самый, которого я никогда не видел, но о существовании которого всегда знал. Что есть Бог и что есть Дьявол, спросил как–то раз сам себя князь Фридрих Штаудоферийский. И не ответил, ибо ответа на этот вопрос не существует. Сейчас я хорошо знаю это, ведь мне были представлены все доказательства, только не надо спрашивать, в чем они — каждый понимает в меру своего разумения, мое же дело — помочь Александру Сергеевичу‑2 быстрее собрать вещи и вызвать машину к подъезду. Большой, бронированный кабриолет с форсированным двигателем и съемной крышей, крышу необходимо снять, таково непременное условие, ибо принцесса хочет любоваться пейзажами по всей протяженности дороги Элджернон — Тапробана, что же, крышу снимают, да и вещи уже погружены во вместительный багажник, вещи Вивиан, вещи Алехандро, единственный, кто путешествует налегке, это я, но и ведь меня, в каком–то смысле, не существует, хотя это опять же — вопрос, но задавать его не стоит, ибо всегда печально узнать, что на какой–то вопрос нет ответа, как нет ответа на вопрос, что есть Бог и что есть Дьявол, а принцесса Вивиан уже садится рядом с Алехандро на заднее сидение большого бронированного кабриолета с открытым верхом, обольстительная, прекрасная, загадочная и неземная Вивиан, я чувствую ее свежее и возбужденное предстоящей дорогой дыхание, Александр Сергеевич, мой незадачливый собрат, опять смущается, но чему, хочется спросить мне его, конечно, он влюблен в Вивиан, хотя прекрасно знает, что она не больше, чем миф, а как можно любить миф, вновь хочется задать вопрос, но я молчу, я обещал молчать, а свои слова я привык сдерживать. Вивиан начинает беспричинно смеяться, поднимает руки, снимает повязку, придерживающую густую кипу темно–каштановых волос, волосы падают на плечи, Вивиан потягивается всем телом, и я чувствую, как болезненно напрягается плоть Алехандро, но ведь это чудо, думаю я, понимая, что постепенно его плоть становится моей и — кто знает, но ведь все возможно! — вдруг, да окажется так, что я еще буду благодарить Сюзанну за этот неуместный выстрел, ведь совсем не она должна была держать в руке черную грохочущую игрушку, но оставим в покое Сюзанну, как забудем и К., новый расклад, новые правила игры, Вивиан волнуется и требует, чтобы Алехандро пошел и позвал шофера, мы вылезаем из кабриолета, мне начинает нравиться эта новая роль, ведь зрение, слух, осязание и прочие подобные штуки потихоньку вернулись ко мне, я в восторге от того, что подошвы Александра Сергеевича‑2, новые, кожаные подошвы его, лишь вчера купленных на бульваре Синдереллы, мокасинов уверенно и властно попирают (как тут не отметить инфернальную мощь этого слова?) розоватый речной песок той самой дорожки, по которой мы с ним отправились на поиски шофера, хорошо вновь ощущать под ногами землю, хорошо чувствовать, что ты — пусть и в чужом теле, но жив, и даже молчание не тяготит меня, Вивиан, перегнувшись на переднее сидение, нажимает клаксон, и звонкий гудок нарушает уединенный покой дворцового парка, куда же подевался шофер, недоумевает А. С. Лепских и внезапно натыкается на упомянутого субъекта, тихо дремлющего в тени большого, багровостволого дерева Кристофер (ударение на предпоследний слог).
— Ну и ну! — только и может сказать Алехандро, а смущенный шофер, протирая глаза, уже семенит по направлению к кабриолету, за рулем которого ему предстоит сидеть почти десять часов кряду, ибо ровно столько времени отнимает дорога Элджернон — Тапробана, если нет дождя и можно вести машину с большой скоростью, хотя заметим, что с маленькой Вивиан ездить не привыкла, ее просто бесит, если машина едет медленно, и шофер это хорошо знает, так что он сразу включает третью скорость и дает газ, кабриолет выносится в широко распахнутые ворота и исчезает по направлению к Обезьяньему мосту, за которым ему предстоит выехать на скоростную магистраль номер девять, соединяющую Элджернон с Тапробаной, Вивиан откидывается на мягкое сидение коричневой кожи, Алехандро вертит головой по сторонам, ощущая все ту же тяжесть в голове, которая — не исключено, что и до конца дней — поселилась в нем с самого утра, хотя таблетка и помогла, спазмы исчезли, просто тяжесть, что же касается меня, то я смотрю на мир широко открытыми глазами Алехандро и чувствую его локтем теплый локоть принцессы, да ловлю себя на мысли, что оборот, который принимают события, оказался воистину даром свыше, хотя опять же — не все ли равно, чьи воля и фантазия сотворили этот кабриолет и эту скоростную магистраль, эти симпатичные, белые, крытые красной черепицей домики по обочинам, как бы укутанные золотисто–багряной дымкой дзаросской осени. Элджернон остался позади, Вивиан открыла глаза, посмотрела на Алехандро и потянулась к сумочке, в которой (на самом дне) покоился ее портсигар, нельзя ли побыстрее, лениво спросила она шофера, тот кивнул, его мощный, бритый затылок побагровел, мотор заурчал на пределе, белые домики по обочинам слились в одну полосу, ветер бил в лицо, встречные машины, завидев кабриолет с герцогским флажком на капоте, притормаживали и уступали дорогу, прошло два часа пути, мне хочется спросить Алехандро, как ему нравится поездка, но я обещал молчать, не тревожить его покой, так что пусть он сидит и все так же ворочает головой по сторонам, мозг его становится мягким, он просвечивает, я вползаю в него окончательно и еще уютней располагаюсь в не принадлежащем мне жилище, ловя какие–то смутные тени и отражения, пытаясь понять, кто из них есть кто и чем, скажем, дядюшка Го отличается от Фартика, а Соня — от ненаглядной жены Катерины Альфредовны, которая занимает, на мой взгляд, неимоверно много места, хотя уже вытесняется образом сидящей рядом Вивиан, и надо сказать, что тут я с Александром‑2 солидарен, ибо — но что толку повторять, что лишь смог я услышать этот низкий, с хрипотцой голос, лишь увидел (пусть даже не своими глазами) это прекрасное лицо с распущенной гривой темно–каштановых волос… Да что говорить, обидно лишь, что все это не имеет никакого смысла, ибо никогда Александру Лепских (по крайней мере, мне так кажется) не добиться благосклонности Вивиан Альворадо, а я даже не могу прийти ему на помощь, хотя это еще окончательно не ясно, как не ясно и то, что ждет нас в Тапробане, до которой остается немного — всего час пути, уже темнеет, стало теплее, потянуло свежим морским воздухом и одуревающим ароматом пышной (несмотря на осень) местной растительности, описывать которую мы не будем, ибо ведь сумерки и лишь неясные тени деревьев и кустарников бесшумно (как летучие мыши) мелькают по обочинам дороги, кабриолет минует большой, ярко освещенный щит, гласящий, что «ВЫ ВЪЕЗЖАЕТЕ В ТАПРОБАНУ!», Вивиан устало улыбается Алехандро, шофер сбрасывает скорость и поворачивает на заасфальтированное шоссе, ведущее к местной резиденции герцогов Альворадо, погруженной сейчас в кромешную тьму, не считая, разве что, двух маленьких оранжево–желтых фонариков, горящих у приоткрытых ворот, да еще более маленького (что совершенно естественно) огонька сигары, тлеющей во рту Себастьяна Альворадо, поджидающего у уже упомянутых (три тоскливо–подмигивающих «у») ворот экипаж своей сестры, которую он не видел больше двух месяцев, с того самого момента, когда…
2
Когда Вивиан Альворадо сказала, что между ними все кончено, чем она сразу же дает нам понять, что слухи и домыслы (вспомним разговор Сони и Александра Сергеевича) отнюдь не всегда бывают лишь слухами и домыслами и что чаще всего за ними — и это совершенно естественно — можно (при определенном старании) разглядеть контур истинной реальности, то есть узреть правду, которая означает лишь то, что когда Вивиан Альворадо сказала, что между ними все кончено, то (сплошные «то» и «что») она сразу же дала нам понять, что (сколько можно?) слухи и домыслы не всегда бывают лишь слухами и домыслами и отнюдь не беспочвенен был тот разговор, что (уже без комментариев) имела Соня с Александром Сергеевичем Лепских субботним вечером на кухне, когда бравый рейнджер Фарт уже отошел ко сну, а филолог–медиевист с удовольствием принял предложение выпить очередную чашечку чая. И сказала это Вивиан своему брату почти (без двух дней) два месяца назад, таким же, как и сегодня, прекрасным солнечным днем (вот только надо сделать уточнение: тот солнечный день был летним, а сейчас сентябрь, и не только в Дзаросе, но и во всем остальном мире), время близилось к полудню, Вивиан, добрый час проплавав в открытом бассейне с подогревом, расположенном неподалеку от ее покоев, сидела в плетеном кресле, накинув на себя легкомысленно–невесомый: халатик, совершенно (как это и положено) не скрывающий ее прелестей, чувствовала она себя прекрасно, если говорить о физической стороне самоощущения личности, что же касается психического…
Но прежде, чем перейти непосредственно к психическому (точнее же говоря, психологическому) самоощущению принцессы Вивиан, надо окончательно нарисовать ее внутренний портрет, и не так, как это сделал безвестный репортер журнала «Дзаросские леди», впрочем, одновременно с этим упомянув, что и Соня была далеко не права в оценке личности младшей герцогини Альворадо.
Вивиан Альворадо никогда не была ни холодной светской львицей, проводящей дни в погоне за всеми мыслимыми и немыслимыми удовольствиями, ни вздорной, взбалмошной бабенкой со скверным характером, ее нельзя было назвать женщиной глубокого и сильного ума, но не была она и дурой, Вивиан была просто женщиной, слабой, иногда беспомощной, временами капризной и несносной, порою трогательной, изредка жестокой, общество ее могло любого сделать счастливым, но бывало, что каждое слово принцессы ранило в кровь и собеседник желал лишь одного — исчезнуть, раствориться, никогда больше не видеть и не слышать эту прелестную женщину, в словах которой был (как казалось собеседнику) один только яд, в общем, женщина как женщина, со своими слабостями, вот только большинство из них обуславливались как рождением, так непосредственно воспитанием и жизнью принцессы еще в эмиграции, но не будем излагать очередную версию жизнеописания Вивиан Альворадо, нас интересуют лишь ее взаимоотношения с Себастьяном, который действительно был ее братом — вот только сводным или родным? Конечно, было бы лучше, если бы Себастьян оказался всего лишь сводным братом и подтвердилась история о том, что их отец, герцог Рикардо, имел роман с некоей таинственной дамой, у которой и родился упомянутый Себастьян, но история эта не выдерживает никакой критики, ибо Себастьян, как и Вивиан, был зачат от одного и того же семени в одном и том же лоне, и лоном этим была утроба ныне вдовствующей герцогини Стефании, в которой Себастьян Альворадо, как и положено любому из нас, провел первые девять месяцев своей преджизни, огласив мир ранним утром истошным криком, что же касается герцога Рикардо, то он присутствовал при родах первенца и даже держал в этот момент руку герцогини в своей — дабы оказать ей моральную поддержку.
А это значит, что Себастьян был родным братом Вивиан и боги совсем не предполагали, что очередное хитросплетение жизненного сюжета повернется таким образом, что Вивиан и Себастьян станут любовниками, как не предполагали этого ни герцог Рикардо (отнюдь не развод Вивиан с капитаном Маккоем стал причиной глубокого и одновременно обширного, с поражением задней стенки, инфаркта светлейшего Альворадо–старшего, а дошедшая до него весть о том, что инцест — это не только фантазия досужих сочинителей), ни герцогиня Стефания, но попытаемся все же понять, как это случилось и — нет, не оправдать брата и сестру, а хотя бы убедиться в том, что на это были свои причины, а они — естественно — были, причем, далеко не патологического свойства.
Ведь с самого детства Вивиан знала, что брат для нее — всего лишь старший брат, на защиту и мудрость которого она всегда может положиться, а Себастьян любил Вивиан как младшую сестру, которая доставляла порой слишком много хлопот своей надоедливостью, любопытством, вмешательством в его взрослые дела (три года разницы — это не мало), но была любима именно как младшая сестра, впрочем, до одного, вполне определенного дня.
И день этот настал ровно за год до смерти герцога Рикардо, когда Вивиан, уже разойдясь с капитаном Маккоем и родив дочку Анжелу (Алису), вернулась к родителям на остров Керкс, куда в это же самое время прилетел с материка и Себастьян, ибо приближалось Рождество, а это тот праздник, который всегда и везде принято встречать вместе, так что рождественские вакации семейство Альворадо должно было провести в уютном и уединенном кругу, включавшем еще несколько человек домашней челяди да с десяток телохранителей, великодушно предоставленных им президентом маленькой островной республики, на территории которой нашли убежище именитые представители Дзаросской династии.
Себастьян был редким гостем в резиденции родителей. Человек богемы, инфантильный и нервный, талантливый, остроумный, любитель необычных ощущений, не последнее место среди которых занимали всяческие эксперименты над самим собой, он слыл инфант террибль среди Альворадо, тем паче, что его политические пристрастия — а был он социалистом, точнее же говоря, социал–демократом, — как–то очень уж далеко отстояли от столь милой моему сердцу идеи конституционной монархии, прекрасным выразителем которой был отец Себастьяна, герцог Рикардо, считавший, что лишь такая форма правления может принести окутанному мраком тоталитаризма Дзаросу свободу и преуспеяние. Последние же два года до описываемого Рождества Себастьян вообще не показывался на глаза родителям, ибо предыдущий его визит на остров закончился безобразной сценой между ним и отцом, обвинившим сына в предательстве семейных идеалов и пригрозившим ему прекращением финансовой поддержки, на что Себастьян сказал отцу… но тут пропускаем фразу, которой не место в устах хорошо воспитанного, знатного и образованного джентльмена, которым в любом случае был Альворадо–сын.
В общем, была ссора, в общем, сын покинул отчий дом и на два года затерялся на материке. За эти два года, надо сказать, состоялся и писательский дебют Себастьяна, его первый роман «Крашеная кукла» вышел небольшим тиражом и собрал хорошую прессу, когда же Рикардо со Стефанией прочитали творение первенца, то отправили Себастьяну телеграмму с одним лишь словом, приводить которое мы тоже не будем, ибо оно так же не к лицу герцогской чете, как непроизнесенная выше фраза их отпрыску, скажем только, что телеграмма эта не способствовала улучшению семейных отношений, и Себастьян вообще пропал из виду своих родных, которые так никогда и не узнают, что вскоре после выхода «Крашеной куклы» из печати Себастьян пережил тяжелейшее нервное расстройство, причиной которому послужило (что совершенно естественно) любовное увлечение одной известной кинозвездой, проводившей свою жизнь между съемочной площадкой, постелями очередного любовника и очередного супруга, а так же психиатрической клиникой, где ее в очередной раз пытались излечить от пристрастия к трамплю, этому сильнейшему тлоримпанскому наркотику, вызывающему овеществленные звуко–, цвето– и так далее галлюцинации, причем употребляющий трампль человек считал, что эти галлюцинации направляются на него кем–то извне, что намного осложняло работу психиатрам и наркологам. Синдром этот получил название синдрома Кандинского — Клерамбо, такова была двойная фамилия врача, впервые изучившего действие трампля на самом себе, между прочим, дедушка этого врача был родом из Дзароса и во времена Эудженио IV оказал герцогской короне немало услуг, так что площадь Клерамбо названа в его честь, но это уводит нас в сторону от истории Себастьяна Альворадо, который, оказавшись очередным любовником/супругом (то есть вначале любовником, а потом и супругом) упомянутой кинодивы, пристрастился к трамплю и потреблял его, что называется, лошадиными дозами, даже перещеголяв в этом собственную жену, найденную им в один, отнюдь не прекрасный день, мертвой в их собственной спальне с пустым флакончиком из–под веселеньких, желто–оранжевых пилюль в правой руке и с раскрытым веером (вот только зачем?) в левой, собственно, это и послужило началом уже упомянутому нервному расстройству, сказать о котором в прошедшем времени было моей ошибкой, ибо на момент прибытия к рождественскому столу Себастьян Альворадо был настолько невменяем, что даже мать узнала его с трудом, не говоря уже об отце и сестре, которые просто не признали в этом тощем доходяге желто–оранжевого, как и пилюли трампля, цвета своего сына и брата, спортивного и веселого Себастьяна Альворадо.
Да, тут надо еще добавить, что к родителям на рождественские вакации его просто силой выпихнули друзья, уже переставшие надеяться на иной способ излечения Себастьяна, но Рождество прошло, а Себастьян все пребывал в том же самом состоянии, в котором и очутился на острове после двухлетнего перерыва, то есть он был полностью невменяем, сидел, не выходя, в своей комнате, жрал горстями трампль да смотрел на портрет сгинувшей во тьме кинодивы, той самой крашеной куклы, о которой он написал свой первый роман и которому суждено было бы стать последним, если бы не принцесса (тире герцогиня) Вивиан.
Ибо именно Вивиан нашла способ излечения Себастьяна от недуга, но для этого ей пришлось поступиться своей честью, произошло же это следующим образом.
Сразу заметив, в каком состояния прибыл на празднование Рождества ее брат, Себастьян Альворадо, естественно, безумно расстроившись (ведь брат есть брат, а Вивиан никогда не была — в отличие от родителей — с Себастьяном в семейной конфронтации), она стала наблюдать за ним и вскоре обнаружила, что причина всего именно в тех пилюлях, что буквально горстями уничтожались ее братом с вечера и до утра, с утра и до позднего вечера, а обнаружив пилюли, не так уж и сложно узнать, как они называются и изучить — нет, не на себе, Вивиан для этого слишком здоровый человек — по доступной литературе механизм их воздействия на человеческий организм. Тут–то в голове Вивиан и созрел план по излечению Себастьяна от нервного расстройства и — одновременно — пагубного пристрастия к трамплю, ведь (как уже было сказано) любой, потребляющий трампль, видит, слышит, чувствует — и прочие подобные определения — некие галлюцинации, причем дает себе отчет в том, что эти видения насылаются на него извне, а значит, при определенных усилиях, Вивиан могла создать такую ситуацию, в которой Себастьян решил бы, что его жена, крашеная кукла, известная кинодива, нашедшая свою смерть с раскрытым веером в левой руке, не умерла, что ее смерть (попытаемся поосторожней в дальнейшем употреблять это слово) была всего лишь направленной галлюцинацией, а на самом деле она здесь, вместе с Себастьяном, приехала встречать Рождество с его родителями и сестрой и оставалось только решить, как проще воплотить этот план в жизнь.
Что тоже оказалось несложно, для начала Вивиан посмотрела несколько фильмов с покойной кинодивой, оказавшейся плотно сбитой блондинкой с упоительно–округлой грудью и полными, стройными ножками (нам бы она напомнила хозяйку кафе «У Олиньки»). Что касается волос, то это делалось просто — Вивиан подстриглась и покрасилась, правда, это вызвало неодобрение отца с матерью, но на них Вивиан махнула рукой, ведь судьба незадачливого брата волновала ее в то Рождество намного больше, чем ворчание родителей. Хуже обстояло дело с фигурой, ибо, будучи примерно одного роста с бывшей женой Себастьяна, Вивиан была не так уж плотно сбита, да и грудь ее была на размер меньше, хотя поролон в лифчике сослужил, надо заметить, свою службу, вот только от привычки носить облегающие платья пришлось отказаться, а перейти на более объемную одежду, так что фигура Вивиан стала похожа на мерцающее во тьме кинозала соблазнительное изображение загадочной женщины с раскрытым веером в левой руке и пустым флакончиком из–под трампля в правой, но это не больше, чем риторическая фигура, остается еще упомянуть, что и походка Вивиан (через день–другой тренировки) стала подобна плавной, соблазнительной походке все той же кинодивы, подготовка закончена, можно начинать эксперимент, для чего Вивиан облачается в платье, точь–в–точь похожее на одно из платьев женщины с веером и невзначай показывается на глаза полу — (а может, что уже и полностью) безумному Себастьяну, наглотавшемуся трампля и мрачно бредущему по плохо освещенному вечернему коридору особняка, в котором герцоги Альворадо отмечают тождество. Себастьян смотрит на Вивиан как на видение из потустороннего мира, на лице его появляется тень осмысленной улыбки, но быстренько исчезает. И тогда Вивиан делает следующий ход: ночью она пробирается в комнату Себастьяна и садится рядом с постелью, на которой пребывает погруженный в беспамятство брат. Ее руки лежат на его лбу, Себастьян открывает глаза, видит знакомое лицо, знакомые глаза и губы, Вивиан ли это или его покойная жена — сейчас не имеет никакого значения, он улыбается еще более осмысленно, чем вечером, в плохо освещенном вечернем коридоре стоящего на отлете особняка и вновь погружается в беспамятство, когда же оно проходит (наступает утро и комнату заливает неяркий свет, проникающий сквозь шторы), то он видит небрежно брошенное на спинку стула платье своей жены, столь хорошо ему знакомое платье. Себастьян встает, Себастьян напяливает пижаму и впихивает ноги в мягкие домашние туфли, Себастьян, еле–еле шаркая подошвами, выбирается в коридор и бредет по нему, заглядывая то в одну комнату, то в другую, в голове что–то проясняется, он почти уверен, что смерть жены — лишь подлянка искривленного сознания, усмешка того исчадия ада, что последние месяцы играет с ним в жесткие, мучительные игры, ему внушили, будто жена мертва, на самом деле она просто уехала на съемки, а та кукла с веером и пустым флакончиком из–под трампля — лишь фантом, очередная иллюзия в мире, который и так состоит из одних иллюзий, так что одной больше, одной — меньше, все это не важно, гласное же — отыскать обладательницу этого небрежно брошенного на спинку стула платья, столь хорошо знакомого и глазам, и пальцам Себастьяна, но хозяйка не отыскивается, несчастный Себастьян Альворадо уже было отправился обратно в свою комнату, проклиная на чем свет стоит того, кто насылает эти тягостные и бессмысленные видения, но тут — посмотрев в окно, — как вот только Вивиан столь умело срежиссировала ситуацию? — он увидел на плохо (как и вчерашний коридор) освещенной аллее, ведущей от особняка к берегу острова, женскую фигуру в плаще, которая (естественно) была фигурой его покойной жены. Только не надо думать, что Себастьян сразу же поспешил на берег, отнюдь нет, сил у него хватило лишь на то, чтобы добраться до комнаты и рухнуть в постель, а рухнув, забыться сном, во время которого Вивиан опять оказалась рядом и опять ее рука гладила голову Себастьяна. Еще два дня продолжились эти развлечения, а на третий, когда Себастьян бросив пить трампль, нагнал псевдодиву в одной из темных аллей парка, она отдалась ему прямо на мелком коралловом песке, ибо не сделай Вивиан этого — Себастьян Альворадо никогда не смог бы вновь стать самим собой и не написал бы ставшего бестселлером романа «У бездомных нет дома», прочитанного несколько дней назад Александром Сергеевичем Лепских как раз в тот момент, когда в небольшом пансионате «Приют охотников» на берегу далекого сейчас горного озера развертывались последние акты драмы между Сюзанной, К. и Александром Сергеевичем Л., то есть Лепшиным, второй роман которого по совсем уж неимоверному стечению обстоятельств носил то же, что и последний роман Себастьяна Альворадо, название, хотя пока об этом не знают ни тот, ни другой, как не знают они и друг друга, ибо принцесса Вивиан знакомит своего брата, любовной связи с которым (больше четырех лет длился, между прочим, их роман) два месяца назад был положен конец, со своим новым секретарем, но вернемся к Себастьяну, который, давно уже излечившись от пагубного пристрастия к трамплю, не позволил себе в этот раз тяжелейшего нервного расстройства, а сразу же уехал в Тапробану, где и проводил время, занимаясь подводной охотой да просиживая вечера в баре в ожидании того самого дня, когда кабриолет с багровозатылочным шофером притормозит поздней ночью у приоткрытых ворот тапробанской резиденции герцогов Альворадо, и Вивиан представит Себастьяну своего нового секретаря, но это совсем не значит, что наша история подходит к концу, будем считать, что это лишь начало и продолжим рассказ о том, что случилось после того, как Вивиан Альворадо отдалась своему брату Себастьяну, а случилась, надо сказать, любовь, о чем, впрочем, сами брат и сестра Альворадо пока еще даже не догадываются.
3
Да и как им об этом догадаться, если Вивиан для Себастьяна была всего лишь покойной женой, этой кинодивой, крашеной куклой из одноименного романа, внезапно возродившейся при мало понятных обстоятельствах, ведь, несмотря на трампль, Себастьян довольно отчетливо помнил тот тоскливый день, точнее же говоря, то, еще более тоскливое утро, когда, войдя в спальню жены, он обнаружил ее распростертой на большом фундадорском ковре с пустым пузырьком из–под трампля в правой руке и с раскрытым детским веером в левой. Эта картинка неотрывно маячила перед глазами младшего Альворадо в тот час, когда заунывный (как и положено) голос священника вел заупокойную службу, а хозяин погребальной конторы шептал на ухо обезумевшему от горя Себастьяну, что церемония затягивается, и это может сорвать ему весь дневной график, так что пора прощаться с телом покойной и переходить к кремации, ибо именно кремировать завещала себя кинодива, кремировать, а пепел развеять по ветру, что Себастьян и сделал собственноручно, уехав для этого далеко за город и найдя место поглуше — уютную такую лесную полянку в горах, напоминающих, между прочим, подобные же, только совсем в другом месте (еще там было озеро и здание пансионата на берегу), что, вполне возможно, и послужило началом всей последующей череды событий и даже определенным образом воздействовало на явление в сей мир непосредственно герцогского семейства Альворадо со всеми его чадами и домочадцами, вот только отчего это именно так — кто знает, есть лишь факт, состоящий в присутствии между нами Вивиан и Себастьяна, а стоит ли его интерпретировать, объяснять, подвергать рассмотрению то с той, то с другой стороны в то время, когда заливающийся слезами несчастный вдовец, уже, впрочем, загрузившийся с утра немалой дозой трампля, собственными руками достает из красивой серебряной урны несколько сероватых горсточек мелкого пепла и разбрасывает по поляне — конечно же, не стоит, хочется сказать мне и добавить, что это будет попросту бесчеловечно, на что Себастьян отвечает утвердительным кивком и просит оставить его одного в сей скорбный час, что мы с удовольствием и делаем, возвращаясь к упомянутому Себастьяну некоторое время спустя, настигнув его в одинокой аллее острова Керкс, где он только что вступил во владение телом собственной сестры, принцессы (герцогини) Вивиан Альворадо, вот только сам он пока даже не подозревает об этом.
И тут возникает вполне законный вопрос; неужели Себастьян столь легко поддался на жестокий (хотя и с благими, заметим, целями) розыгрыш и на полном серьезе поверил, что его покойная жена, пепел которой он (вымарываем слово «собственноручно») развеял на далекой и глухой поляне, вновь жива, и это ее тело сейчас страстно прижимается к нему прямо на мельчайшем коралловом песке, посреди одинокой аллеи, укрытой густыми зарослями от посторонних глаз? Позже, когда брат и сестра уже вполне отдавали себе отчет в преступном характере овладевшей ими страсти, Вивиан как–то спросила об этом брата, и тот, растерявшись от неожиданности, был вынужден ответить истинную правду: мол, конечно, он понимал, что дело не совсем чисто, но трампль — штука зловещая и жестокая, да и синдром Кандинского — Клерамбо не им придуман, так что отчасти он догадывался, что это Вивиан, но отчасти нет, впрочем, добавил Себастьян после минутного размышления, он должен признаться, что еще с детства испытывал к сестре не одни лишь братские чувства, но стоит ли сейчас говорить об этом, ведь она знает, что он любит ее со всей пылкостью и страстностью души и может это доказать, но Вивиан внезапно отвечает «нет» и убирает руки Себастьяна со своих шелковых и нежных ног.
Да, она убрала руки Себастьяна со своих шелковых и нежных ног, ибо — в отличие от брата — с самого начала хорошо представляла, что заняла в его жизни не ей принадлежащее место. Более того, даже вопрос, несколько мгновений назад прозвучавший из ее уст, был задан не случайно. То есть с самого начала их безумного романа (не нам судить о том, насколько логически оправдано его возникновение, как не нам, к примеру, давать оценку, скажем, взаимоотношениям Александра Сергеевича Л. с Сюзанной и К., или А. С. Лепских с его женой, Катериной Альфредовной Ивановой, любовное безумие есть всего лишь любовное безумие, которое вылечивается намного проще, чем синдром Кандинского — Клерамбо, вызываемый употреблением больших доз трампля, что в полной мере испытал на себе досточтимый Себастьян Альворадо) Вивиан давала себе отчет в том, что придет день, когда она задаст этот вопрос и кто знает, что за этим последует. Только не надо думать, будто Вивиан такая уж страдалица и мазохистка, отнюдь нет, да и не одно лишь стремление излечить брата от тяжелейшего заболевания двигало ей в тот самый момент, когда она подстригла волосы и выкрасилась перекисью, дабы как можно больше походить на покойную кинодиву. Семейные гены есть семейные гены, и стремление к острым ощущениям всегда было присуще принцессе Альворадо, вот только проявлялось оно чуть иначе, чем, допустим, это было присуще пылкому и романтичному Себастьяну.
И прежде всего эта любовь к острым ощущениям для Вивиан Альворадо осуществлялась непосредственно (и это не каламбур!) в любви. Не так уж далека от истины была племянница дядюшки Го, когда обвинила принцессу в распутстве, хотя отметим, что распутство распутству рознь и не одно лишь стремление к физиологическим наслаждениям двигало Вивиан даже тогда, когда она занималась любовью со своей наставницей на острове Тайкос или же соблазняла молодого и талантливого преподавателя математики, или выходила замуж за блестящего офицера, штабс–капитана Генри Маккоя, или давала приют на ночь в своей постели очередному красавцу- гвардейцу, ведь кроме физической стороны любви есть еще эмоциональная, которая и была для Вивиан тем самым, ради чего она пускалась в свои многочисленные эскапады, ибо именно нехватка эмоций, стремление вновь и вновь постараться достичь золотой середины, то есть насытить себя не только физически, но и чувственно, и привели Вивиан Альворадо в конце концов к тому, что она остановила свой выбор на собственном брате, ведь — согласитесь — есть ли что более схожее на свете, чем восприятие мира (а значит, и друг друга) людьми, кровно связанными, хотя это не значит, что задумывая свой способ излечения Себастьяна от трампля и связанных с ним несчастий (включая воспоминания о покойной кинодиве) принцесса Альворадо пыталась выиграть в этой партии и что–то для себя, весь парадокс заключается как раз в том, что ни капли эгоизма не было в ее поступке, а лишь искреннее стремление помочь брату, но в тот самый момент, когда плоть Вивиан ощутила проникновение восставшего (что немудрено, хотя бы учитывая долгое воздержание) приапа Себастьяна, все благие помыслы исчезли, и она захотела лишь одного — чтобы этот мужчина принадлежал только ей, чтобы эти душа и тело, связанные с ней кровными узами, окончательно перешли в ее владение, ведь тот эмоциональный подъем, ту бурю, что испытала Вивиан в момент слияния с плотью Себастьяна, она лишь предощущала всю свою жизнь, но предощущать и ощутить — разные понятия, и, пережив второе, навряд ли захочешь возвращаться к первому, так что ничего странного нет в том, что Вивиан полюбила своего брата Себастьяна так, как могут любить лишь страстные и пылкие женщины — и душой, и телом, и главным для нее сейчас было убедить Себастьяна в обратном тому, что она пыталась внушить его одурманенному мозгу всю первую неделю — кинодива мертва, ее тело давно стало прахом, собственноручно развеянном Себастьяном на далекой и глухой поляне, а та женщина, что каждую ночь приходит к нему в спальню — его сестра Вивиан, которую он знает всю свою жизнь, но по–настоящему узнал лишь несколько дней назад, и кто из нас мог бы бросить за это в Вивиан камень?
Так почему же тогда за два месяца до этой ночной встречи, до того самого момента, когда бронированный кабриолет принцессы, ведомый багровозатылочным шофером устало подрулил к приоткрытым воротам тапробанской резиденции светлейших герцогов Альворадо, и Вивиан, легко выпорхнув из машины, сухо кивнула Себастьяну, ожидающему встречи с ней уже какой по счету день (каждый день в сумерки выходит Себастьян к воротам и долго сидит, смоля сигару за сигарой у приоткрытых в сторону дороги ворот) и столь же сухо представила ему своего нового секретаря, милейшего недотепу–филолога, этого несчастного медиевиста Алехандро Лепских, она заявила Себастьяну, что между ними все кончено, и если о чем она и жалеет, так это о том времени, когда ее душа и тело безраздельно принадлежали Себастьяну Альворадо, в любой час, хоть дня, хоть ночи, но отныне этому положен конец и никогда — вы понимаете, никогда! — она больше не допустит его в свои покои, с этими словами (а разговор происходил в той самой зале, где Алехандро и Фартик застали Вивиан в прелестном дезабилье, занятую утренним макияжем) принцесса Альворадо указала брату на дверь, и он, изумленный этими безжалостными нотками в обычно столь ласковом и нежном голосе возлюбленной сестры, повернулся и понуро покинул ее покои, в тот же день оставив Элджернон и запершись за стенами тапробанской резиденции правящей династии, и это несмотря на то, что шумный успех последней книги требовал его постоянного присутствия на людях, ибо не было отбоя от интервьюеров и интервьюерш, да и поклонники (а в основном, поклонницы) часами ожидали возможности встретиться со своим кумиром.
Но мы так и не ответили на вопрос, отчего Вивиан решила прекратить столь бурно проистекавший роман, что же, попытаемся сделать это хотя бы в уже начатом абзаце, вновь упомянув, что главным в любовных отношениях для Вивиан Альворадо всегда была эмоциональная сторона, ведь просто физиологическое удовлетворение она могла получить от любого красавца–гвардейца, да и (пусть и не прибегая к помощи веера) сама в совершенстве владела добрым десятком способов доведения себя до экстаза, но что привело ее к мысли о необходимости порвать порочную, кровосмесительную связь, что заставило указать Себастьяну на дверь? Ответ прост: это был сам Себастьян, точнее же говоря, его роман «У бездомных нет дома», прочитав которую, принцесса Вивиан не могла не понять, что эта книга — о ней, и что она — Ирен, в то время, как покойная кинодива — Роксана, а Себастьян — это, соответственно, Крокус, из чего следует, что (вспомним содержание последнего романа Себастьяна Альворадо) Себастьян никогда не любил свою сестру и что как была она всего лишь заместительницей покойной поклонницы трампля, так ей и осталась, даже несмотря на то, что к моменту собственно разрыва связь Вивиан и Себастьяна насчитывала уже несколько лет, и сама Вивиан все больше и больше привязывалась к брату и даже подумывала о том, не родить ли ей от него ребенка, что сделало бы ситуацию уж совсем двусмысленной, но ей было плевать, ей на все было плевать, страсть поглотила Вивиан полностью и лишь не вовремя попавший в руки роман всему положил конец.
Ибо Вивиан была оскорблена, ибо она никак не могла предположить, что ей отведена участь всего лишь эрзаца, то есть заменителя, то есть подобия давно уже растворившегося в бездне времени праха, собственноручно (повторим) рассыпанного Себастьяном на неоднократно упоминавшейся поляне, бедная Вивиан, хочется сказать мне, надо же пережить такой облом и тут стоит задаться вопросом — насколько она была права в своих выводах о том, что она — Ирен, покойная кинодива — Роксана, а Себастьян — соответственно — Крокус?
Да настолько же, насколько правы все, кто считает, будто за каждым художественным образом непременно спрятан некий прототип, а уж главный герой — обязательно сам автор, лукаво выглядывающий то тут, то там с очередной страницы и показывающий читателю язык, то есть подозрения Вивиан были абсолютно беспочвенны, ведь Себастьян Альворадо действительно любил свою сестру, а если и вывел в романе образ покойной кинодивы, так лишь затем, чтобы окончательно свести счеты с собственным прошлым, безжалостно и сразу подвести черту под давно законченным периодом жизни, который — что тоже совершенно естественно — до сих пор отзывался в нем не очень–то приятными воспоминаниями о бесполезно прожигаемой жизни в компании с трамплем и белокурой красоткой, любившей удовлетворять себя с помощью дешевого детского веера базарной расцветки, чего бы никогда, надо заметить, не позволила, себе Вивиан, ценившая в любви изысканность и хороший вкус, но получилось то, что получилось, и обида, нанесенная принцессе Альворадо ее братом, была, что называется, несмываемой.
Ах, Себастьян, Себастьян, хочется сказать мне, глядя в сутулящуюся спину сына герцога Рикардо, идущего по тропе чуть впереди своей оскорбленной сестры, эх, Себастьян, Себастьян, ну зачем ты так отчаиваешься, смотри на вещи проще, ведь есть прекрасный выход из положения — сядь за новый роман, в котором уже напрямую изобрази все хитросплетение своих отношений с прекрасной Вивиан, изобрази точно и безжалостно, не пожалев, прежде всего, себя самого, и начни с того момента, когда рано утром ты входишь в спальню (дело происходит в большом и шумном городе на материке) и натыкаешься на мертвое тело своей жены, у которой в правой руке — сами понимаете, что, ну а в левой многократно упомянутый веер, и вот после этого ты достаешь из заначки еще один пузырек, но только полный, высыпаешь в ладонь целую горсть веселеньких, желто–оранжевых пилюль и отправляешь всю пригоршню в рот, с чего и начинается действие, кульминацией которого будет свидание с Вивиан в той самой аллее, где ты впервые познал ее тело, но Себастьян отрицательно мотает головой, ему совсем не хочется рассказывать правду, как порою не хочется ее рассказывать никому из нас, ведь если даже спросить сейчас Александра Сергеевича Л., то есть Лепшина, согласен ли будет он ознакомить читателя с безобразной сценой, разыгравшейся, к примеру, в отдаленно стоящем сарае (впрочем, совсем неподалеку от «Приюта охотников»), когда он привязал свою жену Сюзанну к столбу и хотел уже приступить к бичеванию, дабы выбить из нее правду о прошедшей ночи, той самой ночи, когда он воочию увидел, что Сюзанна уже давно продала душу дьяволу и предложенное ею пари лишь стремление и дальше не отпускать Александра Сергеевича Л. от себя, то — уверен! — он ответит отказом, хотя что значит его отказ, когда правда о той ночи так же хорошо известна, как и правда о том, любил ли Себастьян Альворадо свою сестру: нет, не любил, с уверенностью заявляю я, все с той же печалью глядя в сутулящуюся спину сына герцога Рикардо, ибо — наконец–то признаем это! — Вивиан была права, когда, прочитав роман «У бездомных нет дома» сделала вывод, что она — Ирен, белокурая дива (отбросим надоевшую приставку «кино») — Роксана, а сам Себастьян — незадачливый бумагомаратель Крокус, любящий собирать раковины на пустынном морском берегу, но точь–в–точь как отсутствующий на этих страницах дядюшка Себастьяна, и Вивиан Эудженио Альворадо VI, пребывающий сейчас в конхиологической экспедиции, хотя отметим, что еще один из наших героев имеет такую же страсть, и героем этим является милейший и так любимый мною Алехандро, столь бездарно втюрившийся в принцессу Вивиан и торопливо догоняющий сейчас ее по погруженной во тьму тропинке, догоняющий принцессу и радующийся тому, что — пусть и на какое–то время — замолк этот зловещий голос внутри его черепной коробки, внезапно возникший сегодня утром и поставивший под угрозу все существование Александра Сергеевича Лепских в мире Дзарос — Тлоримпана — Ауф (именно по названию цветов, а не наоборот), что же касается взаимоотношений Себастьяна и Вивиан, то остается добавить немного: Вивиан никогда бы не поехала, в Тапробану, если бы продолжала любить Себастьяна.
Себастьян, ожидая ее на побережье вот уже два месяца, даже не подозревал о том, что она приедет не одна, а с новым секретарем, что же касается его чувства к сестре, то здесь, как мне кажется, уже внесена полная ясность, и теория белокурой дивы занимает свое место под тапробанским солнцем.
Для окончательного же завершения этой главы надо отметить, что последствия синдрома Кандинского — Клерамбо лечатся не только подменой одного образа другим, но и простым отдыхом на тапробанском побережье, а потому позволим героям перевести дух и одному из них (стоит ли упоминать, кому) предаться любимому развлечению, ведь стоило лишь восходящему солнцу осветить розовыми лучами аквамариновую поверхность тихого в этот рассветный час моря, как Алехандро Лепских, позабыв о существовании в своем теле незваного гостя, покинул местную резиденцию светлейших герцогов Альворадо и отправился на пляж, и надо ли говорить, как долго я ждал этого момента!
4
И действительно, один лишь Господь знает, как долго я ждал этого момента, ведь есть ли что более прекрасное, чем остаться наедине с любимым героем и помочь ему в том, что составляет для него одну из важнейших в жизни услад, пусть даже вся сознательная жизнь Александра Сергеевича Лепских прошла в достаточном удалении от хоть какого- нибудь морского побережья, и раковины большей частью он видел лишь на картинках да в витринах выставок и магазинов, впрочем, последние торгуют сим экзотическим товаром так редко, что говорить о магазинах во множественном числе — бессмысленно, разве что пару раз в жизни натыкался Алехандро на эти замечательные порождения фантазии Творца, стоящие в окружении (предположим) антикварного кофейного сервиза восточного изготовления и (продолжим свои предположения) не менее антикварной люстры, только изготовления уже западного. Но дело, как вы понимаете, не в раковинах как таковых, хотя если говорить о мягкотелых и их связи с Алехандро Лепских, надо отметить, что интересовал его, без всякого сомнения, класс брюхоногих, что же касается отрядов, то внимание Александра Сергеевича занимали отряды заднежаберников и переднежаберников, впрочем, надо отметить еще и склонность А. С. Лепских к классу пластинчатожаберных, в коем его внимание было поровну разделено между как одномускульными, так и двумускульными, но вновь подчеркнем, что дело не в раковинах, а в том, что пора каким–то образом выпутываться из того положения, в котором оказались мы с Алехандро, и скорее по моей, чем по его вине, да это и понятно: ведь он–то отнюдь не претендовал на то, чтобы дать укрывище в своем собственном мозге Александру Сергеевичу Л., то есть Лепшину, тем паче, уж совсем ни при чем Алехандро, когда речь заходит о продаже души дьяволу этим самым Лепшиным, пусть даже Алехандро Лепских в каком–то роде является специалистом по инфернальному и не один час своей жизни провел в той или иной библиотеке, в том или ином хранилище инкунабул, да даже депозитарии иногда посещал Алехандро в поисках той или иной эстетической интерпретации, но надо заметить, что найти ее было намного проще, чем, к примеру, редкую раковину конуса, а ведь этим и занимается сейчас Александр Сергеевич Лепских, вот только не надо путать с Лепшиным, продавшим душу дьяволу, хотя вопрос «зачем он это сделал» больше интересует его протагониста, уже успевшего заметить первый раритет и старательно отколупывающего витую, сплошь покрытую изощренных узором раковину от большого камня, расположенного всего в паре метров от берега (время отлива и к камню можно подобраться не замочив ног).
И надо отметить, что вопрос этот носит вполне академический характер, пусть и волнует Алехандро давно, с тех самых пор, как он отыскал, наконец–то, подлинный текст «Амфатриды» Фридриха Штаудоферийского, той самой «Амфатриды», суть которой и есть собственно взаимоотношения человека с дьяволом, более того, вторая и третья части этого, пожалуй, наиболее загадочного произведения средневековой мистической мысли полностью посвящены доказательству того тезиса, что (но тут упомянем первую часть, в которой князь Фридрих ставит парадоксальный вопрос «что есть Бог и что есть Дьявол?» и столь же парадоксально на него отвечает, то есть просто вставляет между двумя частями уравнения знак равенства, аргументируя это тем, что природа божественного, на его взгляд, столь же пагубна для человеческого существа, как и природа темного, дьявольского, пагубность же эту Фридрих видит исключительно в искушении, Господь, по его мнению, не менее хитроумен в претензиях на человеческую душу, чем дьявол и искушает его добродетелью столь же настырно, как дьявол — греховностью, но тут, говорит Фридрих, возникает вполне законный вопрос: а не есть ли добродетель грех, и не является ли греховность добродетелью? После чего князь Штаудоферийский, еще немного поупражнявшись в софистике, заявляет, что отныне для него понятие Бога сводится к понятию дьявола, точнее же будет просто заменить эти два слова одним, вот только — даже зная, как его произнести — сам Фридрих этого никогда не сделает, первая часть «Амфатриды» на этом заканчивается) раз и Бог, и дьявол — одно лицо, то значит ни о какой продаже души говорить нельзя, ибо в таком случае она продана изначально, с самого момента человеческого рождения отдана на заклание, а собственно балансировка на границе света и тьмы и есть ни что иное, как божественное (читай: дьявольское) развлечение, ибо вечность гораздо более скучна, чем это кажется, и надо же себя чем–то занять!
Стоит ли говорить, что этот кощунственный трактат сразу же после написания и появления в списках первый с уверенностью можно датировать серединой пятнадцатого века) был отнесен к числу наиболее мерзких порождений лукавого, имя Фридриха прокляли одновременно со всех амвонов, а сам он с трудом (несмотря на все могущество) избежал костра и остаток дней провел в отдаленном горном монастыре, где и почил в бозе студеным январским днем, когда за окошком его кельи к завыванию январского ветра примешивался вой голодной волчьей стаи — зима выдалась студеная и жрать в окрестностях монастыря было нечего, так что волки решили пойти на штурм единственного в этих местах человеческого жилья, но что из этого вышло — история умалчивает, вполне возможно, что это всего лишь поздняя интерпретация церковных историков, пожелавших предать кончине этого слуги дьявола такой бесславный облик — чего, действительно, хорошего, когда твое, еще не успевшее остыть тело, не предается земле, а разрывается на части свирепыми и мерзкими, потерявшими от голода страх перед человеком тварями, впрочем, сама судьба (равно, как и жизнь) Фридриха Штаудоферийского волновали А. С. Лепских намного меньше, чем его рассуждения, с которыми он не то, что был согласен, но — скажем так — находил общие точки соприкосновения, главной из которых была идея изначального единения человеческой души с природой как светлых, то есть божественных, так и темных, то есть дьявольских сил, более того, отрицая вслед за Фридрихом идею борьбы между этими двумя сторонами бытия души, Александр Сергеевич Лепских довольно много размышлял о возможности гармоничного единения как света, так и тьмы в пределах одной отдельно взятой души и находил, что такое единение вполне возможно.
Повторим: то, что в это раннее тапробанское утро Алехандро Лепских, бродя по полосе отлива и отдирая от камней прекрасные и изысканные раковины конусов, размышляет об Александре Сергеевиче Л., то есть Лепшине, не есть лишь моя прихоть, а вопрос «зачем он это сделал?», то есть зачем Александр Сергеевич Лепшин продал душу дьяволу, можно теперь сформулировать таким образом: какой во всем этом был смысл, если (вновь упомянем «Амфатриду» Фридриха Штаудоферийского) она продала изначально и нет никакого смысла делать это во второй раз?
Так есть или нет?
Не знаю, отвечает сам себе Алехандро, оборачивается и видит, что довольно далеко уже отошел от резиденции светлейших герцогов Альворадо, да и солнце, надо сказать, уже взошло, отлив закончился, начинается прилив, так что и сбор конусов придется отложить до следующего (соответственно) отлива, Алехандро складывает добычу в припасенный пластиковый мешочек и поворачивает обратно, медленно шагая по самой кромке, то есть вот вода, а вот суша, только воды с каждым шагом все больше, а суши — меньше, но это его не пугает и не страшит, чужое «я», вчера утром вселившееся в него (прошли ровно сутки с момента просыпания Александра Сергеевича Лепских в отведенной ему комнате принцессы тире герцогини Вивиан) не дает о себе знать, да и непонятно — проявится ли еще хоть раз (естественно, что проявится), что тоже поднимает Алехандро настроение, равно как и то, что день обещает быть жаркими он даже собирается искупнуться, ибо сколько можно размышлять о таких вещах, как продажа души дьяволу и «Амфатрида» давно уже почившего в бозе да и какая, в принципе, разница — есть ли на самом деле дьявол или нет, все трын–трава, думает Алехандро, с восторгом глядя на золотистые барашки, на эти прелестные завитушки, столь непривычно окрашенные жарким тапробанским солнцем, все трын–трава и если что и хочется, так дойти до пляжа, сбросить с себя шмотки–манатки и залезть в воду, ведь вскоре наступит день и придет черед секретарским обязанностям, в которых нет места ни передне– и заднежаберникам, ни одно– и двумускульным, лишь нудная, рутинная работа, хотя тут он не прав, ибо что нудного и рутинного, когда рядом будет принцесса Вивиан, великолепная Вивиан, прекраснейшая Вивиан, таинственная и загадочная Вивиан, Алехандро уже подошел к пляжу, пустому в этот ранний утренний час, он огляделся по сторонам, посмотрел на зашторенные окна резиденции, хорошо различимые отсюда, ему показалось, что в одном из окон второго этажа кто–то приоткрыл, но потом вновь задернул штору, Александр Сергеевич положит пластиковый мешочек с конусами на песок, разделся, одежду сложил кучкой рядом, потом, подумав, спрятал мешок под одежду, чтобы еще необработанные раковины не протухли на солнце, затем, помахав несколько минут руками–ногами, чтобы сбить внезапно охвативший озноб, с разбегу бросился в воду, нырнул под ближайшую же волну и поплыл, и надо сказать, что плавать в тапробанском море оказалось сплошным наслаждением, и плавал так Александр Сергеевич Лепских очень долго, минут тридцать, а может, что и сорок, когда же он вновь очутился на берегу, то увидел принцессу Вивиан, сидящую в двух шагах от кучки его одежды, была Вивиан лишь в одних узеньких плавочках, крепкая грудь с аппетитными смуглыми сосками смотрела прямо на Алехандро, как прямо на него смотрели и большие глаза принцессы, этого мне еще не хватало, подумал Александр Сергеевич, прыгая сначала на левой ноге (чтобы вытрясти воду из правого уха), а потом на правой (ухо было, соответственно, левым).
— Доброе утро, — лениво сказала принцесса, а потом добавила: — Садитесь рядом, господин Алехандро!
И тут вдруг в нем проснулось это самое второе «я», то есть раздался голос Александра Сергеевича Л., А. С. Лепшин настоятельно рекомендовал А. С. Лепских долго не раздумывать и сесть рядом с принцессой, а там — будь что будет.
— А тебе–то какое дело? — поинтересовался Лепских.
— Скажешь тоже… — ответил Лепшин.
— Чего–чего? — поинтересовался Лепских.
— Иди, иди, — грозно пророкотал Лепшин.
— И не подумаю, — огрызнулся Лепских.
— Слушай, — сказал Лепшин, — ты со мной не спорь, тебя ведь на самом деле нет, ты всего лишь моя оболочка, ибо если бы не эта дура Сюзанна с ее револьвером, то ничего бы не произошло…
— А ничего и так не произошло, — ответил Лепских, — тебя нет, а есть я, и никакой Сюзанны я не знаю, и какое мне дело, что ты продал душу дьяволу, хотя я с уверенностью могу сказать, что это невозможно…
— Почему бы это? — поинтересовался Лепшин.
Александр Сергеевич хотел было пуститься в долгое истолкование теории князя Фридриха Штаудоферийского и в свои добавления к ней, но тут Вивиан Альворадо не вытерпела и еще раз, только уже более властно, позвала секретаря, и Алехандро ничего не оставалось, как плюхнуться на песок рядом с прекрасной Вивиан и сесть, поджав коленки почти к собственному носу, ибо если что и хотелось сейчас скрыть Александру Сергеевичу — так это признаки своей мужественности, лихо выпирающую сквозь плавки, а отчего это именно так, то меня спрашивать не стоит.
— Что с вами, — спросила, Вивиан, — вы замерзли?
— Ваше высочество, — вдруг сказал отчаявшимся голосом Алехандро, — я не могу понять, в чем смысл?
— Чего? — недоумевая, спросила герцогиня тире принцесса.
— Всего происходящего, но вот объясните мне… — И тут Александр Лепских, глотая слова и размахивая руками пустился в долгий рассказ, в котором вновь фигурировала и Екатерина (Катерина) Альфредовна Иванова, и Феликс Иванович Штампль, и премия Крюгера мелькнула на солнце, моментально перекинув мостик к премии Хугера, вслед за которой возникла на фоне тапробанского моря и неясная фигура Александра Сергеевича Л., то есть Лепшина, автора романов «Император и его мандарин» и «Градус желания», равно как и романа «У бездомных нет дома», написанного, оказывается, совсем не Себастьяном Альворадо, а этим самым Александром Сергеевичем Л., то есть Лепшиным, и тогда уж становится совсем неясно, кто такие Сюзанна и милая К., как до сих пор неясно, кто такая на самом деле Вивиан Альворадо (Вивиан смеется и жмурится на солнце, а потом вдруг подмигивает Алехандро поочередно — вначале левым, а потом правым глазом, хотя может, это просто солнечный лучик кольнул светлейшую принцессу Вивиан), а самое главное — что же делать с дьяволом, пустить ли его в повествование или так и оставить за пределами, да и вообще, чем все это кончится, вот что бы хотелось знать, говорит Алехандро Лепских, заканчивая свой монолог и обращаясь непосредственно к Вивиан.
— А вы уверены, — спрашивает она, — что все это должно чем–то закончиться?
Алехандро качает головой, он не знает, ему нечего ответить, но ведь если тебя впутывают в историю, то она должна чем–то закончиться, не правда ли?
— Нет, неправда, — уверенно отвечает Вивиан, — есть истории, которые в принципе ничем не заканчиваются.
— Но тогда зачем они?
— А зачем все это? — спрашивает Вивиан и обводит горизонт рукой, и я понимаю, что приходит мой черед вмешаться в повествование, ибо наворочено столько, что ворочать что–то дальше — нет в этом никакого смысла и пора подвести итог.
С чего же начать? Хотя бы с того, что я аккуратно поднимаю с песка целлулоидную фигурку Алехандро и делю на две половинки, целлулоид превращается в нечто мягкое, из чего можно спокойно сотворить двух Александров и обоих отпустить восвояси, одного — влево, другого — вправо, то есть одного вернуть к Сюзанне и к милой К., а второго вновь отправить в однокомнатную квартиру, ведь уже раздался звонок в дверь и Катерина Альфредовна, прослышав, что ее непутевый муж получил премию Крюгера, стоит на лестничной площадке с маленьким чемоданчиком, в котором есть все необходимое для первых недель их совместной жизни, так что Алехандро ничего не остается, как последовать моей воле, поцеловав напоследок прелестную Вивиан и подумав о том, что могло бы быть, останься он здесь, но…
Но он здесь не остается, он возвращается к Екатерине Альфредовне точно так же, как Александр Сергеевич Л. (что уже было отмечено) к Сюзанне и милой К., которые внезапно становятся одним и тем же лицом, и даже я с трудом могу понять, то ли это Сюзанна, то ли К., впрочем, какая разница, если все это не больше, чем приключения письма и похождения писателя, что же касается пари и дьявола, то надо ли смотреть на свое левое запястье, когда и так все ясно?
— Не надо, — отвечает Вивиан, и я понимаю, что подошла ее очередь.
— Зачем я тебе понадобилась? — спрашивает Вивиан Альворадо, и тогда мне ничего не остается, как честно сказать, что я просто хотел сыграть в любовь с принцессой (тире герцогиней) но вот не получилось…
— Отчего? — перебивает меня Вивиан.
— Да оттого, — говорю я, — что ты мне действительно стала нравиться, и я решил не укладывать тебя в постель ни с одним из своих героев, выбери сама и делай то, что тебе угодно, я больше не буду ни во что вмешиваться…
— Ни во что? — вновь перебивает меня Вивиан.
— Да, ни во что, хотя у меня был готов целый план, по которому ты должна была влюбиться в Алехандро, что вызвало бы, без сомнения, жуткую ревность Себастьяна. Тут, соответственно, вновь возникал револьвер, только уже не в женской, а в мужской руке, но стреляли не в тебя, а в Алехандро, должно было это происходить ранним утром, когда он отправлялся в очередной поход за раковинами (собственно, для этого и нужны были все эти передне– и заднежаберники, не говоря уже об одно– и двумускульных), Себастьян, одетый в смешной полосатый пиджак (черная полоса — узкая, белая — широкая), крался за ним и, отойдя на приличное расстояние от резиденции, нажимал на курок, револьвер бабахал несколько раз кряду, Алехандро падал, все погружалось во тьму, но когда она рассеивалась, то Алехандро должен был обнаружить, что пальба Себастьяна не причинила ему особого вреда, а лишь выбила из его тела по моей же воле занесенную в него душу Александра Сергеевича Лепшина, ведь — все по той же моей воле — именно Себастьян претендовал на роль дьявола, и освобождая Алехандро, он освобождал этим своего слугу, но на этом события не заканчивались, я мог бы еще очень долго плести интригу, и кто знает, чем бы вообще все это кончилось.
— И что тебе помешало? — спрашивает Вивиан.
— Себастьян. Мне его стало жалко.
— Почему?
— Да потому, что он больше всех других похож на меня, по крайней мере, так мне кажется именно сейчас. А раз он похож на меня, то я не стал причинять ему много зла, тем паче, что есть и другой ответ на вопрос князя Фридриха.
— Какой? — спрашивает Вивиан.
— Бог есть Бог и Дьявол есть Дьявол, и нет никакого смысла пытаться соединить их воедино.
— Что ты и пытался сделать?
— Не знаю, — честно отвечаю я, а потом спрашиваю Вивиан, что же мне с ней делать.
— Возьми с собой, — говорит она, — я буду тебе верной и преданной подругой, и мы проживем вместе долгие годы, у нас будут дети, потом — внуки…
— Ну нет, — смеюсь я, — тебе нет места в следующем романе, как нет в нем места никому из вас, а потому возвращайся к Себастьяну, ведь он любит тебя…
— Но ты сам утверждал обратное!
— Да мало ли что я утверждал! — рассерженно отвечаю я, и Вивиан, обидевшись, уходит по направлению к резиденции, где ее уже ждет Себастьян Альворадо, который больше совсем не кажется мне похожим на меня самого, ибо мало ли писателей на свете, да в одном Элджерноне их не одна сотня и что — все должны быть на меня похожи?
— Прощай, Себастьян! — кричу я ему. Он смотрит на меня, машет рукой, потом они с Вивиан садятся в кабриолет и уезжают, я же остаюсь один и долго смотрю на теплое тапробанское море да на кучку раковин, лежащих у самой кромки берега и забытых здесь моим непутевым другом Алехандро, уже вернувшимся в этот час к своим научным штудиям по интерпретации образа дьявола, и мысль эта вдруг заставляет меня взглянуть на собственное левое запястье, что же, хорошо различимый белый шрам еще раз дает мне понять, кто есть кто на самом деле, и тогда я собираю со своего письменного стола разбросанную в беспорядке карточную колоду, мельком задерживая взгляд на главных героях: вот Александр Л., а вот его жена Сюзанна, вот милая К., а вот и Катерина Альфредовна Иванова — Штампль, куда–то задевались бубновый Феликс Иванович и червовый Паша Белозеров, но на месте (естественно) Алехандро, не говоря уже о Вивиан с Себастьяном, Соне, Фартике, дядюшке Го, даже шофер кабриолета — и тот на месте, так что можно сложить колоду и засунуть в нижний левый ящик стола, закрыв его сразу же на ключ — не дай Бог, если разбегутся, мороки не оберешься, хотя надо все–таки посмотреть, куда запропастились Феликс Иванович с Пашей, но это потом, потом, все уже будет потом, я вновь смотрю на левое запястье, шрам старый, с детства, и естественно, что он давно уже не болит, хотя это ничего не значит, как ничего не значит вообще все, впрочем, это совсем не то, чем мне хотелось бы закончить, вернемся к первоначальному плану, по которому в этот самый момент я должен обнаружить еще одну карту и посмотреть на нее в полном недоумении, ибо кого–то мне она мучительно напоминает, но вот кого?
И тогда, я встаю из–за стола, иду в ванную и смотрю в зеркало, поперек которого чьей–то рукой (будем считать, что это сделала Вивиан) ярко–красной помадой начертано всего одно слово:
Конец!






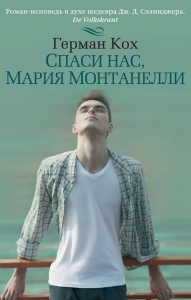





Комментарии к книге «Случайные имена», Андрей Александрович Матвеев
Всего 0 комментариев