Страх полета
«Если бы у летчика был хвост,
все бы видели, как он его поджимает».
Поговорка старых пилотов.* * *
Авиакомпания рушилась. Созданная в период безвременья на обломках бывшего Аэрофлота, вовремя прихваченная ловким бизнесменом, она под шумок перестройки сначала быстро набирала силу, прытко лавируя между параграфами отстающих от жизни законов, удачно увиливала от вялых проверок бессильных контролирующих органов и, благодаря этому, щедро давала хозяину горячую, свежую копейку.
Когда свежая копейка превратилась в миллионы, а сеть параграфов стала слишком частой, чтобы сквозь нее можно было безболезненно проскальзывать, авиапредприятие почему-то стало жить в долг, а хозяин предусмотрительно обустроил себе уютный уголок за рубежом, перевел деньги, вывез семью и, сменив гражданство, умыл руки.
Теперь брошенная на произвол судьбы, увязшая в долгах компания погибала. Поставщики топлива и другие кредиторы предъявили претензии, начались процессы, пошли задержки рейсов, пассажиры неделями сидели в вокзалах, конкуренты оживились, — и, в конце концов, получилось так, что от некогда сильной, активной, казалось бы, надежной компании остался один призрак.
Генеральный ее директор, вдруг ставший мальчиком для битья, метался по службам, пытаясь продлить жизнь авиапредприятия, а значит, подольше получать свое жалованье. Но не только в жалованье было дело. Он попал в сети невыплат зарплаты сотрудникам и теперь, опасаясь ответственности, оговоренной законом, не мог просто так уйти, поэтому каждую неделю летал в Москву, пытаясь выбить, выпросить, вымолить деньги на зарплату.
Да только кто ж ему даст. Хозяин испарился. Москва потирала руки в предвкушении жирного куска. Готовилась процедура банкротства.
Менеджеры, почуяв близкий конец, побежали с тонущего корабля. Летный директор посоветовал пилотам искать другое место работы. Штурманам и бортмеханикам перспектив устроиться на летную работу почти не было, потому что в большинстве авиакомпаний уже практически прекратилась эксплуатация старых советских самолетов с большим экипажем, а вот пилоты, классной подготовкой которых авиапредприятие в свое время славилось, были востребованы везде.
Молодежь начала подавать заявления об уходе. Конкуренты с радостью приютили хорошо подготовленных пилотов; подсуетившись, разобрали и рейсы. Авиакомпания осталась без рынка.
Старым летчикам податься было некуда, они ожидали сокращения и, пока еще чувствовалась жизнь в судорогах компании, изредка подлетывали на таких же, как сами, старых, дорабатывающих свой ресурс лайнерах. Часть из этих машин уже вот-вот должна быть описана за долги, часть — заложена под кредиты; правда, зарплату не платили уже три месяца, и летчики работали просто потому, что была возможность еще раз, может, крайний, подняться в небо. Тлевшая в душе надежда, что все еще образуется, угасала.
* * *
Климов ехал на вылет, плохо выспавшись. С того времени, как умерла жена, он вообще неважно спал. Какая-то черная полоса жизни подошла и никак не кончалась. Барахлило здоровье, он с трудом прошел годовую медкомиссию в Москве; на ЦВЛЭК ему ясно дали понять, что в следующий раз уже и деньги не помогут: изношенное сердце не позволит летать.
Действительно, ему было уже под шестьдесят, и выглядел он так, что за спиной говаривали: «конечно, старик еще держится, но… сдал, явно сдал».
Конечно, он сдал. Рухнул тыл летчика. Дети давно ушли на свои хлеба, разъехались, холодный дом был пуст, туда не хотелось возвращаться после вылета; он охотно летал в долгие командировки и привык к гостиничному невеликому уюту и минимуму потребностей. Рубашки и носки наловчился стирать в раковине, брюки гладить через газету на подстеленном одеяле; всю жизнь проходив в приросшей к коже форменной одежде, он не нуждался в гражданской.
Дни бесконечной чередой улетали под крыло, между полетами была пустота, и Климов привык к постоянному, почти ежедневному ритуалу: гостиница, медпункт, штурманская комната, пилотская кабина, до блеска вытертый его жилистыми руками, облупленный штурвал.
Молодежь поглядывала на старика с почтением, переходящим в священный трепет, когда он за штурвалом показывал руками, как по-настоящему надо творить полет.
Он привык к всеобщему уважению, знал себе цену, и если иногда в общем разговоре вставлял свое веское слово, тема увядала: больше говорить было не о чем.
Климову на разборах нередко поручали выступить перед аудиторией по вопросам, требующим практического решения в полете. Он умел перевести сложное теоретическое обоснование с языка формул и графиков на язык простейших понятий. Летчики любили Климова за то, что он каким-то непостижимым образом, буквально на пальцах, раскрывал суть проблемы, а в полете руками показывал множество вариантов ее решения.
Климов был практик.
Он состарился в полетах и устал от них, но понимал, что, пока жив, надо держать планку так высоко, как только можно.
Как-то он заметил уголком глаза в зеркале кудряшки седых волос у себя на шее, устыдился, сбегал в парикмахерскую и с тех пор строго, придирчиво следил за своей внешностью: чисто брил лицо, седые редкие волосы стриг коротко, засаленный галстук сменил на новый; стрелочки на брюках были безукоризненны, неуклюжие стариковские ботинки сверкали, чистые обшлага выглядывали из рукавов отутюженного пиджака. Он по привычке носил фуражку с «дубами» на козырьке и пиджак с капитанскими шевронами на рукавах, хотя все уже давно перешли на более удобные черные форменные свитера с погончиками, а о фуражках вообще забыли.
Капитан Климов не хотел опускаться.
Злые языки судачили, что, мол, старик после смерти жены пытается найти себе женщину и поэтому так старомодно и тщательно следит за собой. Это была неправда: прожив век с законной женой, иной раз ругаясь с нею по мелочам, иногда даже греша в долгих отлучках, если это можно назвать грехом, он все-таки был семьянин и привык к тому, что после рейса его встречал теплый дом. Безвременная смерть жены была для него ударом: он только над гробом понял, что всегда любил ее спокойной, тихой любовью, так же, как, наверное, любил свой старый самолет, своих многочисленных, разлетевшихся по свету учеников. После тяжких похорон на сердце осталась рана, в душе — холод, в голове — пустота и тяжесть. Он ушел в себя и на людях все больше молчал.
Сейчас, когда жизненных сил осталось не так много, он понимал, что никакая женщина уже не согреет горюющего по безвременной утрате старика. Не согреют ни взрослые дети, ни подросшие и не нуждающиеся уже в нем внуки. Надо держаться и терпеть. Остались одни полеты.
Возвращаться домой после работы не хотелось. Климов подолгу засиживался в эскадрилье, копался в документах, вникал во все нюансы планирования, расстановки и подготовки летного состава, часто летал с проверками летчиков и всегда был готов подменить заболевшего капитана или второго пилота. Старый инструктор летал много, гораздо больше любого командира корабля. И кто бы в любое время ни заходил в эскадрилью, первое, что он видел, была сосредоточенная фигура старого капитана, корпевшего над бумагами.
Климов стал, что называется, жрецом авиации, ее символом.
С детьми у Климова были сложные отношения. Сын после армии не захотел заняться каким-либо серьезным делом, все попивал с дружками, потом уехал в другой город, кое-как выучился на гаишника, сшибал деньгу на дорогах — и остановился на этом. Был вполне доволен жизнью, быстро купил иномарку, женился на рыночной торговке; дом был полная чаша, телевизор гремел круглые сутки, внук кое-как учился на тройки и гонял в хоккей.
Сына Климов презирал. Винил себя: с этими вечными полетами следить за детьми было возможно только урывками; он откупался подарками ко дню рождения, возложив воспитательные функции на жену. И сын, хоть, правда, и не сбился с дорожки, но вырос без мужицкого хребта: так, вокруг да около, все больше на халяву. Любил мелкую, сержантскую власть, надувал щеки и покачивался с пяток на носки, выморщивая у шоферов взятку. Отец не любил к нему наведываться, приезжал редко, в основном, проведать внука, — но по всему видно было, что повлиять на воспитание пацана невозможно. Он перестал ездить к сыну.
Дочь окончила пединститут, неудачно вышла замуж, развелась, как водится, родила, оставила внучку бабке, а сама, набравшись ума, мотнула в Москву, сумела окрутить столичного парня и теперь жила с московской пропиской, в коммуналке; новый муж потерял работу и попивал. Удалось устроиться воспитательницей в детский садик. Бывая в Москве, Климов заезжал к ним, тихонько совал дочке пачку пятисоток, стараясь лишний раз не общаться с нахальным и высокомерным зятем. Дочку он жалел.
Внучка росла типичной москвичкой; вообще, от деда им всем нужны были только деньги.
Насчет детей он смирился с судьбой. Сыты, крыша над головой есть — и ладно. Пусть крутятся. А в предстоящей борьбе с пенсионной старостью оставалось надеяться только на себя.
Климов все ломал голову, чем он займется на пенсии. Кроме как крутить штурвал, он ничего не умел делать руками. Высшего образования, а главное, умения использовать это образование на земле, у него не было: он кончал среднее летное училище. Климов был пилот старой формации, наживший свой опыт в советской аэрофлотской школе летного мастерства. На остатках этого опыта он и долетывал свою двадцать вторую тысячу часов в воздухе. И во время долгих полетов невеселые думы вязко ворочались в голове.
Обычный путь летчика-пенсионера — место «начальника ворот» на какой-нибудь проходной, «сутки через трое». Десять суток работы в месяц, заработок… ну, считай, вторая пенсия, хотя вряд ли…
Дотянув до семидесяти, а частенько и не дотянув, старый летчик умирал. Деградировал, прежде всего, опустевший, обленившийся мозг: без творческой работы, без напряжения, в бесконечных тупых обсуждениях политики, футбола и печальных летных судеб, в похоронах ушедших товарищей, в «летании» за бутылкой в гараже, — мозг увядал, а за ним рассыпалось все тело. Быстрая, пикирующая дряхлость — и смерть, обычно от рака. Счастливчикам не давал дожить до рака инфаркт.
Климову не хотелось такой судьбы. Но и другого пути он не видел. Поэтому всеми силами он уже тридцать седьмой год старался покрепче держаться за штурвал. Инструкторский допуск он заработал давно и, благодаря этому штампу в пилотском свидетельстве, еще был востребован. Климов считался одним из лучших пилотов-инструкторов компании, хорошим методистом, носителем драгоценного опыта полетов, и в полетах опирался, в основном, не на меняющиеся из года в год бестолковые и противоречивые министерские бумажки, а на здравый смысл и многолетнюю практику. Он осмысливал каждый свой полет.
* * *
Ночью мело. Ветер шумел за окном, гнул деревья, в замочной скважине свистело, пришлось встать и наглухо закрыть форточку. К старости он стал чувствителен к перемене погоды, плохо спал при скачках атмосферного давления. Вот и нынче сквозь дрему донимали тревоги: не замерзнет ли на стоянке машина, не переметет ли дорогу, не закрылся ли Норильск. Потом снова навалились невеселые думы о предстоящем развале компании. Рухнет вся жизнь. Он боялся этого. Уснул только под утро, и звонок будильника, казалось, раздался через секунду.
Старенький ухоженный «Москвич», однако, запустился, дороги в городе к утру были подсыпаны песком, а на шоссе вообще был чистый асфальт. Ветер сдул весь снег, вылизал растасканный шипованными шинами снежный накат, сделал свое дело и ушел на восток. Перед рассветом вызвездило, крепкий мороз затрещал. Теперь наверно прижмет на неделю, а то и на две, будет давить под сорок.
Слабая печка плохо грела, стекла покрывались изморозью, но сидеть за рулем в предусмотрительно надетой старой аэрофлотской шубе было тепло, только ноги слегка мерзли. Асфальт споро набегал под колеса, и через четверть часа мутная котловина покрытого смогом города осталась позади.
Над деревнями вдоль дороги поднимались дымы, стелились тонким голубым слоем морозной инверсии. Розовая дымка окутывала восходящее, закостеневшее от мороза солнце, просматривавшееся в заднем окне через мечущиеся клубы пара из выхлопной трубы. На прямом участке дороги перед Климовым возникла впереди над горизонтом полная бледная луна. Два светила — одно строго впереди, другое сзади, — озаряли его путь.
Летный комплекс встретил старого инструктора гулкой пустотой. Большая часть кабинетов была заперта. По коридорам слонялись в безделье старики-пенсионеры, бывшие летчики, из милости работодателя исполняющие в летной службе разные наземные обязанности: помощников командиров эскадрилий, инженеров по расшифровкам, по сертификации, по планированию, по охране труда, по летно-методической работе… Теперь им нечего было делать. Сбросившись, потихоньку пили в крайней комнате, курили, заглядывали каждому новому человеку в глаза с немым вопросом: не принес ли чего новенького. Кряхтели, молчали, дакали, вздыхали, цыкали краем рта — и расходились по углам, чтобы снова встретиться в курилке через полчаса. Старик, начальник штаба, сидя в кабинете, составлял никому не нужный план работы летного комплекса на следующий месяц: лишь бы какое заделье, лишь бы не остаться наедине с думами. Какие-то шустрые мальчики выносили мебель, грузили на улице в машину. Имущество растаскивалось.
Летного комплекса, собственно, уже не было: осталось полторы эскадрильи. Молодой летный директор, втихомолку активно учивший в последние месяцы английский язык, уволился и уехал в Москву, вторым пилотом на «Боинг», на его должность быстренько назначили командира одной из эскадрилий. Штатное расписание, уменьшающееся с каждым днем, как шагреневая кожа, тасовалось, должности менялись; старикам прямо предложили написать по собственному желанию. Бывшие пилоты такого желания не имели и остались ждать мифического сокращения, с положенной по закону компенсацией, хотя уже всем ясно было, что и зарплаты-то за осенние месяцы, скорее всего, не дождаться, и судиться-то за невыплаченную компенсацию будет просто не с кем. Все цеплялись за работу, как за спасательный круг, хотя и с кругом этим течение несло всех к водопаду.
Входная дверь открылась, в облаке морозного пара шумно ввалилась группа молодых пилотов с обходными листками; громко обсуждали проблемы трудоустройства в другую компанию. Быстро подписали, развернулись и убежали. Пришел старый штурман, тоже сунул директору на подпись обходной. Новоиспеченный летный директор, отводя взгляд, молча расписался, пожал на прощанье руку и присоединился к группе курильщиков. Запаха алкоголя он старался не замечать.
Климов не спеша поздоровался за руку со всеми. Постоял узнать, нет ли чего новенького, убедился, что нет, зашел в пустую эскадрилью, глянул в план. Кроме него, никто не летает. Летать некуда, остался один Норильск, и то, летают туда только потому, что билеты проданы заранее, надо людей довезти. Через неделю у компании обещали вообще отозвать лицензию. Так что, возможно, этот полет…
Климову не хотелось думать об этом. Он никогда не мог представить свой последний… нет — крайний рейс; ему казалось, что летать он будет всегда, — кто же, как не он.
Он присел на стул, потом еще раз глянул, кто с ним летит. Ну, свой экипаж, старики. А кто там второй? А, этот, как его… молодой, недавно из училища.
Боже ж ты мой, кого приходится учить. Вчерашнего курсанта переучили на Ту-154. Конечно, кто же, как не Климов, и научит. Ага: Климову только таких и подсовывают. Но когда ж его до ума доведешь. Это же, как минимум, год надо с человеком полетать — чтоб вжился в атмосферу, понял дух, понял систему, чтобы научился вести бумаги, связь, обрел уверенность, что он здесь свой, что он такой же, как и все, летчик, — и все это должно опираться на главное: практический налет, своими, нетвердыми еще руками, под опекой и руководством опытного инструктора. А когда налетает, ну, хоть часов пятьсот, тогда, может, чуть-чуть начнет чувствовать лайнер. Сразу после училища, не имея опыта полетов на небольшом самолете… Нет, полный развал. А, не дай бог, что-нибудь со стариком случится в полете? С пассажирами за спиной?
Мальчишку поставили-то к инструктору только на программу ввода в строй: всего на пятьдесят часов, а дальше — считается, что второй пилот готов, отдадут в любой экипаж…
Привычные усталость и досада потихоньку тлели в душе.
Тьфу ты, черт, экипажей-то осталось всего три. Или четыре? Все рушится. Нет, не налетает парень, выбросят его, будет ошиваться под забором авиации, потом, на полном безрыбье, может, кто снова рискнет и возьмет. Надо спросить, как у него с английским. С английским и на «Эрбас» возьмут… тьфу, прости господи. Что это за летчики будут? Тут хоть штурвал, а там… писюлька какая-то… компьютер…
Он снова плюнул, вскочил, опять сел, бросил сжатые кулаки на стол, невидящими глазами глядя в окно поверх плана полетов и думая только об одном: рушится авиация. Рушится! И его долгая летная жизнь рушится, и, возможно, уже сегодня будет не крайний полет, а последний. Он раньше все гадал, куда. Оказывается, в Норильск, вот куда.
Солнце взошло, яркие лучи его упали на дубленое лицо старика, осветили седину коротко стриженых волос, жесткие морщины вокруг рта, плотно сжатые тонкие губы. Пожилой капитан привычно, не мигая, смотрел вдаль, на светило, его серые глаза, в лучиках пилотских морщинок по углам, выдержали режущий свет, но, видимо от старости, блеснули слезой. Он крякнул, вытер глаза платком, оглянулся, не видит ли кто, надел шапку и, шмыгая носом, вышел на мороз.
* * *
В штурманской тоже было безлюдно. Бывшая в прежние времена вместилищем и средоточием пилотской энергии, вмещающая в своем невеликом пространстве и дух ритуала подготовки к полету, и гул постоянных приветствий, и веселье анекдотов, и легкую дрему в ожидании автобуса, и запах преодоленного пространства, и скрип кожаных курток, — нынче, в тишине, она особенно поражала ощущением разрухи. Сонный дежурный штурман молча пожал Климову руку и ушел додремывать в свою каморку.
Точно как осиротевшая пчела, вернувшаяся в разоренный, покинутый, холодный улей: нет и не будет уже веселого и напряженного гула жизни; остается тихо забиться в угол и угаснуть.
Климов огляделся. Облупленный штурманский стол, краса и гордость любой штурманской, расшатался. Стулья подгибались. Древний ламповый приемник, включенный круглые сутки, вещал о каких-то финансовых новостях. Кнопочные телефоны кто-то уже успел втихаря заменить на допотопные эбонитовые аппараты с истертыми дисками. Схемы выхода из зоны аэродрома, пришпиленные на ободранных стенах, выцвели. Микрофон на столе дежурного штурмана болтался на проволочке и обрывках скотча.
Никому ни до чего не было дела. Жизнь уходила, вялые полеты были бесцельны. Все разворовывалось по мелочам. Изредка забежавший залетный экипаж быстро производил в этой разрухе необходимые расчеты, наговаривал в микрофон обязательные фразы и исчезал в пространстве, долго еще потом испытывая ощущение прикосновения к тлену и чувство гадливой жалости.
Нет, этот, когда-то уютный общественный уголок, как и все вокруг в аэропорту, был явно не жилец.
Старый капитан вздохнул, запахнул летную меховую куртку из чертовой кожи, поднял воротник, уселся в уголке на протертое кресло, сдвинул шапку на лоб и, ощущая такой знакомый, привычный за долгие летные годы запах овчинного меха, попытался погрузиться в дрему. Надо было добрать за недоспанную ночь.
Но сон не шел. Вид разрухи вокруг вызывал все те же, лезущие и лезущие в голову невеселые думы.
Правильно. Улей опустел: матка улетела. За бугор. Как они, эти хозяева жизни, умудряются: из остатков, можно сказать, из отбросов бывшей советской авиации, быстренько собрать авиакомпанию, начать с пары потрепанных Ан-24, постепенно докупить всякого реактивного старья, — а через несколько лет удрать за границу с миллионами в кармане. Заработанными, кстати, на его, Климова, пилотском горбу. Да еще и с украденной за три месяца его зарплатой.
Конечно, шустрые эти ребята. Очень шустрые. И смелые. Там, где другой еще только растерянно озирается, они моментально ориентируются в ситуации, намечают пути и бросаются в бой, не заботясь о следующем шаге, который сам собой получится, вытекая из предыдущего; надо только приложить энергию и мысль, ну, само собой, деньги. Сунуть, кому надо, Найти лазейку и проскользнуть. Не спать ночами, думать, думать, трещать извилинами. Жить этим делом — своим делом, рискуя своей шкурой — для собственного благосостояния! — напрочь позабыв, что такое совесть. И успеть вовремя остановиться, увильнуть, уйти от ответственности, когда нагребешь.
Так на берегу вздувшейся реки, с посиневшим зимним панцирем, покрытым трещинами, с разверзающимися полыньями, с шевельнувшимся уже и вновь на секунды остановившимся льдом, — стоят мужики, чешут головы: эх… часа два назад еще успели бы перейти, а теперь… за двадцать верст — единственный мост…
И пока в задумчивых, заторможенных, нерасторопных головах рождается обреченное осознание того, что — все, поздно, что пути нет, что надо таки разворачиваться и брести к тому далекому мосту, — вдруг один, самый отчаянный, решается — и прыгает на стронувшийся уже лед. Остальные таращат глаза, не веря, что разумный человек способен на такое безумство, — но глядь, смельчак уже на середине реки, прыгая через трещины, а где уже и с льдины на льдину, оскальзываясь и с трудом сохраняя равновесие, однако не теряя энергии бега, приближается к тому берегу; впереди осталась последняя полынья, он на остатках сил прыгает, край обламывается, по пояс в воду, шаг, другой, — и вот он, берег! Все, вылез, отряхнулся, сел, стащил сапоги, вылил воду, выкрутил портянки, отдышался — и, не оглядываясь, побежал вперед: на ходу обсохнет и согреется! Он — успел! У него впереди еще не одна такая река, надо торопиться. А до тех, сзади, ему уже нет дела.
И вот тогда из толпы, сначала неуклюже и запоздало, осторожненько, начинают выходить и щупать лед другие, трусившие до этого, а теперь вдохновленные наглядным примером. Потом срываются с места все… Да только льдины уже пошли, поплыли, и люди срываются, барахтаются в ледяной воде, потеряв надежду, возвращаются мокрые… а кого уже и накрыло…
«Вот она, перестройка», — подумал Климов. — «И за что, в принципе, винить хозяина? Ты ему попеняешь, а он скажет: „А где ж ты был? О чем думал? Почему не вертелся? Рисковать не хотел?“ — и будет прав».
«Таковы нынешние лидеры», — подумал еще раз Климов, — «да и только ли нынешние — они во все времена были такими…»
Но тут мысли его прервались: в штурманскую вошел Витюха Ушаков, в течение десятка лет бессменный, родной штурман из его экипажа, а нынче, среди молодежи, — уже заработавший авторитет и отчество: Виктор Данилыч. Вместе летали долго, оборачивалось так, что, наверное, и последний рейс придется выполнить вдвоем.
Поздоровались. Поговорили о незначащих домашних делах, о погоде в Норильске. Привычное дело, все как всегда.
Но в глубине души у каждого ворочался тяжелый ком предчувствия близкого конца прежней привычной жизни. Говорить об этом перед полетом не было смысла.
* * *
Месяц назад, перед эскадрильным разбором, комэска подозвал Климова и, кивая в сторону стоявшего особняком высокого парня, сказал:
— Петрович, вот пришел молодой второй пилот, Кузнецов, только что переучился; между прочим, сын того самого… — он назвал имя известного летного начальника. — Династия, значит. Просил посадить сынка к тебе в экипаж: лучше Климова, мол… ну, понимаешь…
Комэска знал, что Климов не очень любил возиться с «сынками», мучившимися комплексом собственной непопулярности под косыми взглядами своих менее породистых товарищей. Как-то так получалось, что «сынки» потом быстро обходили всех в карьере: и в классе повышались быстрее, и в строй командирами вводились, и переучивались на новую технику в числе первых, — и потом, набравшись опыта, став уже зрелыми мастерами, относились к отставшим на карьерном вираже коллегам с покровительственным сочувствием. Правда, работали над собой такие ребята, в основном, очень усердно: положение и самолюбие обязывали. Но шепоток за их спиной всегда был: «блатной…»
Блатной второй пилот, долговязый, румяный, с тонкой шеей и равнодушными глазами, спокойно поглядывал на старого инструктора, который должен будет научить его летать на этой старой железяке. Парню не понравился брошенный на него мимолетный взгляд старого капитана, взгляд — как на пустое место: «видали мы вас всяких»; он отвернулся.
Отец много рассказывал ему про Климова, с которым они вместе летали еще вторыми пилотами «на поршнях», особо отметил сложный характер инструктора. Что ж, придется стерпеть деда: это только очередной этап, еще одна трудность на пути. Лишь бы руля давал.
После разбора Климов вышел в коридор, увидев среди толпы курящих своего будущего стажера, пальцем поманил к себе:
— Ну-ка, пойдем, побеседуем. Звать-то тебя как?
— Дмитрий.
— Ага, Дмитрий Алексеевич, значит. Летали мы вместе с твоим папашей, но… ты пока об этом забудь. Отчество получишь, когда в командиры введешься, вместе с «дубами» на фуражку, — так у нас принято. Пока ты у нас будешь просто Дима. А меня зовут Николай Петрович Климов. Ну, пошли в методический класс, Дима, расскажешь о себе.
Эти беседы Климов проводил с каждым новым членом экипажа. Ему хватало нескольких минут, чтобы раскусить суть молодого летчика. Инструктор есть инструктор: психологический тип, темперамент, уровень общего развития ученика, его интересы и устремления, — обычно все это лежало как на ладони, и каждый попадавший к Климову стажер искренне надеялся, что старый, сдержанный, доброжелательный капитан, вокруг которого давно сформировался известный ореол, — уж таки сделает из него пилота; ребята, счастливые, что попали к Климову, раскрывали перед ним всю душу.
Этот Дима был вроде как не такой. Какой-то… фригидный, что ли. Климов оценивающе всматривался в стажера, пытаясь понять причины, побудившие парня в столь непростое время избрать профессию пилота. Романтика полетов? Вряд ли. Влияние отца? Возможно. Тот всегда чуял, откуда пирогами пахнет. Может, возможность круто зарабатывать? Или от армии откосить? Надо полагать, при нынешнем дефиците летного состава выбить отсрочку у военкома не так сложно, тем более, со связями папаши…
Во всяком случае, парень хоть не пошел по офисно-компьютерному пути; это уже хорошо. Климов, прожив всю сознательную жизнь с авиагарнитурой на ушах и штурвалом в руках, относился к «офисному планктону» с презрительным сочувствием, как к не совсем здоровым людям, которым чуть не хватило стремления стиснуть зубы и дотянуть до настоящей мужской профессии. Он умом, конечно, понимал, что наступила эра информационных технологий, но понятие об этих технологиях все никак не могло сформироваться в его пилотской голове. Он представлял эту работу фрагментарно: галстук до колен, пробор в волосах, чашечка кофе, тыканье пальцами в клавиши, телефонные переговоры, связи, верчение в этих гадюшниках…
То ли дело — железный штурвал! Вот ведь этот парнишка выбрал-таки его! А со штурвалом скорее вяжется не чашечка кофе с сигаркой на компьютерном столике, а пляска приборов на трясущейся доске и мокрая спина: или ты — или тебя!
Климов даже представить себе не мог, какой мокрой в нынешние времена может быть спина при работе с компьютером и телефоном и какие решения принимаются за чашечкой кофе. Он это просто отметал. Для него не существовало другой уважаемой профессии, кроме летной.
Дима скупо отвечал на вопросы капитана. Да, кончал Ульяновское. Выпускался на Ан-24, налетал… триста часов, вот, взяли сюда, с переучиванием на «Туполь». Да, в учебном центре пятнадцать часов на лайнере как бы налетал. Английский? Ну… как бы учил. На «Боинг?» Ну… посмотрим. Не век же на туполевских маяться.
Это «маяться» — царапнуло. И это постоянное современное молодежное «как бы»:
— Вот… как бы к вам меня определили…
Сдерживая себя, Климов, твердо сказал:
— Никаких «как бы», понял? Определили — значит, будем работать. У меня ко вторым пилотам высокие требования. Будешь стараться — научу, как положено.
Подумал и с расстановкой добавил:
— А машину свою, туполевскую, или не туполевскую, — надо лю-бить! Это ласточка и кормилица твоя! Маются — в кабинете, а в небе — живут!
Климову показалось, что при этих словах в углу рта второго пилота мелькнула тень ухмылки. Вероятно, только показалось.
* * *
Дмитрий Кузнецов был не так прост — это Климов точно подметил. Единственный сын в семье пилота, он рос практически без отца, вечно пропадавшего в командировках. Мать работала учительницей английского языка, и с учебой в школе у сына проблем не было. Деньги в доме водились; он рано привык к комфорту просторной квартиры, к доброкачественной пище, к модной одежде, к карманным расходам, потихоньку ездил на отцовском автомобиле, в классе считался крутым и уверенным в себе парнем: имел новейший компьютер и навороченный мобильник, был молчалив, водил знакомства, в основном, с ребятами, умевшими зарабатывать деньги, и сам планировал в ближайшее время тоже научиться зарабатывать, — да не как все, а на порядок выше!
Может, поэтому, близких друзей у него не было.
Когда отец выбился по командной линии и горизонты его мышления расширились, он стал направлять мысли сына к якобы самостоятельному решению: найти свое место в авиации, а значит, — по стопам отца, стать пилотом. Тем более что наступало время кардинальной перестройки авиации, ее качественного скачка, а в нынешних российских условиях это означало, что новая авиация сможет эффективно работать только после полного развала старой. Пришло время жесткой экономики, которая диктовала бизнесменам новую концепцию развития будущих авиакомпаний, с другими, пришедшими из-за границы правилами игры, с другой структурой, — и места старой советской авиатехнике и старым, советской школы пилотам в этой новой структуре не оставалось. Они должны были уйти — как уходит все отжившее, вымостив своими костями дорогу новому. Назревал дефицит летного состава. Все шло к тому, что скоро придут из-за бугра иноземные пилоты и займут самые хлебные места. Надо было успевать.
Поэтому отец и подталкивал сына к летному училищу. У самого Димки, правда, особого стремления летать не было. По рассказам отца и его коллег он знал изнутри суровую кухню совковой летной работы, и романтически-жертвенного желания класть свою жизнь на алтарь у него что-то не возникало. Парень рос прагматиком.
Зато его заинтересовало в авиации другое. Появившиеся в нашем небе вместительные и экономичные «Боинги» и «Эрбасы», отличавшиеся от устаревших «Тушек», как «Мерседес» от «Запорожца», привлекали тем, что, как и все импортное, были на порядок надежнее, удобнее и современнее всего отечественного. Ну, ведь нельзя же сравнивать совковые утюги, телевизоры, стиральные машины, не говоря уже об автомобилях, — с их зарубежными аналогами. Сам принцип управления с помощью кнопок прельщал больше, чем нажимание педалей и движение всякими там рычагами.
Нельзя сравнивать и условия работы у нас и за рубежом. И условия жизни. Он пасся в интернете с самого детства и кое-чего таки оттуда почерпнул.
Димка давно и целеустремленно норовил свалить за бугор и там летать в приличной авиакомпании, за приличные бабки. Для этого он еще в школе взялся за английский, к великой радости и охоте матери. Отец вовремя сумел раскрыть ему возможности переходного периода в нынешней российской авиации: его будущее место — в одной из крупнейших авиакомпаний, пилотом компьютерного самолета. Заработки там сейчас вдесятеро выше, чем у остальных, — это очень приличные деньги, плюс жизнь в Москве, полеты за рубеж, связи, а главное — информация, информация! Век информации! Кто владеет информацией, тот… Варианты, варианты!
Короче, давай быстренько в училище, а там — поможем, подтолкнем, втиснем… связи есть. Давай, учись, набивай руку.
А уж потом, набравшись опыта работы на западных самолетах, можно подыскивать место для жизни в цивилизованной стране.
И еще: безопасность. Новые самолеты надежны, удобны, безотказны — надо только хорошо, назубок их освоить. Лайнер сам взлетит и сядет — ты только контролируй. Чего ж не работать. Правда, для этого надо хорошо, наизусть, выучить эти, не нашенские, неудобоваримые для русского ума, хитрословосплетенные правила. Зная компьютер, надо мыслить категориями информатики. А так как все это пришло из англоязычных стран — надо научиться и думать по ихнему, стать как бы одним из них, из иностранцев. А потом выбрать местечко — и уже не «как бы»…
А бедная Россия пусть остается в болоте. Таков ход истории. Утонет «Титаник» или нет — надо заранее сколачивать плот, при удобном случае спустить его на воду и плыть к спасительному берегу. Сколько той жизни осталось — что, так и гнить? Ну, уж, хрен.
Гибкость нужна, умение найти щель и проскользнуть в нее вперед других. Ну, такой век. Как за рулем в час пик: не извернешься — затрут.
Димка последовательно и упорно строил свой плот. К окончанию школы он прилично владел английским, уже на каком-то там, приемлемом для работы на «Боингах» уровне, — но все равно продолжал заниматься и совершенствовал практику языка. Другие ребята ходили на дискотеки; он зубрил язык: он понимал, что на инглише надо не только читать, писать и разговаривать — надо научиться на нем думать! Он собрал приличную библиотечку и изучал авиационные законы и правила. Ребята встречались с девчатами, пили вино, хвалились легкими победами; Димка не пил, он готовился в училище: всерьез занялся физической подготовкой, правда, никак не мог отвыкнуть от курения.
Он знал и свой недостаток: ему, воспитанному в комфорте, без «сопротивления материала», не хватало силы воли искать свой путь в жизни; приходилось идти по проторенным веками путям к невеликой, но надежной цели, которая, при хорошем раскладе, откроет ему новые пути и горизонты.
Все это — комфорт, удовольствия, женщины и вино, шикарный автомобиль, семья, дети, — все было впереди, и под все это он строил спасательный плот, чтобы отчалить и устремиться в другой мир с запасом накопленных ценностей. Он их нарабатывал упорным трудом. Он, как молодой, неуверенный в себе боксер, собирал все силы для того, чтобы победить жизнь одним нокаутирующим ударом.
Заняв не без материнской помощи первое место на какой-то англоязычной олимпиаде, он получил путевку в Англию и там, за месяц вожделенной зарубежной жизни, проверив на практике знание языка, окончательно утвердился в правильности выбранного пути.
К выпуску из училища Димка хорошо знал, что почем. Он знал, что из любого положения найдется выход, а в любое недоступное место есть лазейка, — все дело в людях, в связях, в умении налаживать контакты и использовать их в нужное время. Ну, и трещать извилинами, морщить мозг в нужном направлении.
Чего он точно не умел и не хотел — это идти навстречу неизвестности с открытой грудью; он, как в беге на длинную дистанцию, прятался за спины, сберегая силы, приглядывался и выжидал последнего решающего момента, когда можно будет убедиться в безопасности, прыгнуть вперед и первому ухватить кусок.
После выпуска отец устроил Димку в мелкое авиапредприятие, на Ан-24. В безвременье удалось подсуетиться, по блату приписать налет и сразу же быстренько перевести парня в приличную компанию, на лайнер. Пусть пока — на это старье, на Ту-154; ничего, главное, набить руку и долго на нем не задерживаться. Связи есть.
Димке Кузнецову, в его целеустремленном пути к штурвалу компьютерного самолета, не хватало только одного: практического налета, опыта полетов и ситуаций. При всех своих стараниях, как пилот он был почти абсолютный нуль. Все его наработки были, пока виртуальны, умозрительны, — а предстояло ему, вот сейчас, выполнять настоящие, реальные, живые, говорят, даже опасные полеты, с пассажирами за спиной. Надо же этому как-то научиться. Отец говорил, этот дед — самый опытный. Нужный человек.
* * *
Климов устал от этих молодых. Одно дело — возиться с опытным летчиком, беззаветно желающим освоить тяжелый лайнер, с человеком, которому дважды повторять и разжевывать не надо. И совсем другое — научить управлять в воздухе сложнейшим тяжелым самолетом неопытного мальчишку, по сути, перворазника. Это же работа не рейсового инструктора, а школьного работника.
Климову в свое время довелось работать инструктором в учебном центре, он имел допуск на «школу», но давал ее только опытным, подготовленным пилотам, бывшим капитанам Як-40 и Ан-24, и они быстро и с неизменным восторгом осваивали прекрасный туполевский самолет. Он вырастил целую плеяду прекрасных пилотов, которые разлетелись по всей стране и уже сами работали инструкторами, удлиняя и укрепляя цепь летного профессионализма, которая тащит, движет вперед нашу авиацию.
Старый капитан отчетливо представлял себе, как важно своевременно передать опыт смене. В летной работе мастерство как нигде опирается на сутулые спины стариков, которые в свое время так же опирались на опыт своих предшественников. Он все чаще задумывался о том, каким образом опыт полетов на непривычной зарубежной технике распространится в нашей стране, среди летчиков с российским менталитетом.
Оборачивалось так, что нашей летной молодежи придется либо начинать с чистого листа, методом проб и ошибок, с неизбежными жертвами, с кровью, которой будут написаны новые летные законы, — либо сдаться в плен западной практике. Стать в полетах не россиянами по мировоззрению, а чем-то смешанным, с большей опорой на Запад. Ни то, ни се. А летать ведь придется в нашей стране, с нашими, зачастую непонятными создателям западной авиатехники особенностями.
Чем больше Климов задумывался над этими проблемами, тем грустнее ему становилось на душе. Да, можно переучить летчиков. Да, можно переучить техников. Но сразу перестроить всю систему, да еще в России, невозможно. Там, где пунктуальный цивилизованный немец не поленится поднять с пола сгоревшую спичку, дойти до урны и бросить туда эту сгоревшую спичку — да не в ту урну, куда бросают стекло, и не в ту урну, куда бросают пищевые отходы, а именно в ту урну он донесет и бросит эту несчастную спичку, куда бросают только сгоревшие спички и окурки, — вот там беспечный россиянин просто плюнет, бросит и спичку и окурок на пол, а то еще и изящно хлестнет соплей оземь.
А те утонченные самолеты, на которые так стремится нынче молодежь, не рассчитаны на заплеванный пол.
Что — всю Россию вот так взять, да и перестроить, подогнать под западные стандарты?
Не получится. Надо сначала путем научиться пользоваться хоть унитазом… ну, компьютером.
Значит, молодежь будет стараться работать, летать, где угодно, только не в России.
И во всем мире сложится мнение, что Россия — страна, не приспособленная для полетов. Медвежий угол.
Ага. Держава с огромной, самостоятельной, неповторимой авиационной историей.
Страна, где через тысячи километров тайги только самолетом можно долететь.
Климов с горечью думал о том, что загублена огромная сеть местных воздушных линий, на которых неприхотливые Ан-2 пятьдесят лет делали свою не особо видную, но такую нужную народу работу. Кто вернет транспортную сеть стране? Какая техника способна так же, как легендарный «кукурузник», садиться на тысячи едва расчищенных площадок, обеспечивая и почтовые, и пассажирские, и санитарные, и лесопатрульные работы? Кто привлечет молодежь на эту, внешне непривлекательную, но такую романтическую, благородную работу? Бизнесмены? Оно им надо. Тысячи километров набитой комарами тайги… бр-р-р… Пятидесятиградусные морозы…
Такую систему, которая сейчас порушена, могла создать только великая авиационная держава; великую авиацию строил и поднимал великий, мужественный народ, верящий в свои руки и в свое будущее.
А теперь остались одни обломки. Попытки превратить российскую авиацию в бизнес не дают результата.
А молодежи хочется жить. Молодежь не особо оглядывается на опыт стариков, она ищет свои пути. Там, где государство твердой рукой умеет направить энергию молодежи по проверенному и расчищенному стариками руслу, — будет прогресс. Там, где молодежь бросают на свободу, как кутят в водоворот, неизбежны жертвы, откаты, застой, разочарование и деградация. Правда, кто выплывет, тот уж никогда назад не оглянется.
Так думал в долгих полетах старый, отдавший всего себя отечественной авиации пилот Климов.
Он не находил выхода из тупика.
Нет и не будет уже в этой стране громадного, организованного, всеохватывающего авиационного механизма. Старое уходит, невостребованный опыт утекает без следа, он никому не нужен. На смену централизованному руководству авиацией пришли не летчики, а посторонние бизнесмены, прагматики, не разбирающиеся в летных законах, менеджеры, пытающиеся подчинить безопасность полета голой экономике; сколачиваются какие-то единые команды, корпоративы эти… или как их… И целью этих единых команд является только копейка.
Страшно далеки они от проблем летного состава, и взгляд их устремлен на запад.
Климов никак не мог сам для себя сформулировать то главное, что он видел и ценил в коллективном опыте, отвергаемом нынче молодежью, ищущей свои пути. Это главное, не выразимое словами, он чувствовал позвоночником. Не в джойстиках и компьютерах дело. Полет человека в небе гораздо сложнее всех этих подручных средств. И на чем бы ты ни летел — на современнейшем аэробусе или на дельтаплане, — решение в воздухе основывается на использовании этого коллективного, неизвестно как накапливающегося и где оседающего опыта. И мальчишки, ухватившиеся за штурвал «боинга» и возомнившие себя навороченными крутыми пилотами, как никто нуждаются в нем. Только многие ли из них осознают это?
Грустные эти мысли не отпускали, грызли душу. Что важнее всего для старика, практически прошедшего, заканчивающего свой активный период жизни?
Теперь опыт стариков отвергнут, нить профессионализма прервана, все начинается почти с нуля. Авиакомпании создаются временщиками, они грызутся друг с другом за деньги, это называется конкуренция. Пока еще они едут на горбу у стариков-летчиков старой школы, но уже предусмотрительно натаскивают молодых на зарубежную технику. А дальше? Переход от летчика — созидателя полета к летчику-оператору, безболезненным не получится.
Климов, видимо, не понимал, что таков путь прогресса. Выживает сильнейший — и все. Биология.
Эти прямолинейные, закостенелые советские старики…
Но эти старики пока еще за штурвалом. Им хочется видеть итог своего многолетнего труда, который зримее и весомее всего выражается в смене. Где смена — умные, толковые, целеустремленные, думающие, рвущиеся в небо пилоты? Где командиры небольших воздушных судов, имеющие уже свой собственный опыт и желающие обогатить его опытом поколений на более сложной технике? И где она, эта техника?
Пришли бы они на смену — старики отдали бы им последнее, — лишь бы жила и двигалась дальше и выше наша авиация.
А тут — вон какая смена приходит: пацаны, только из училища…
Что ж, времена такие — выбирать не приходится. Смена все равно должна быть, а значит, через трудности и терпение, надо ребятишек учить, каких дают. Может же, хоть что-то отложится у них в мозгах и запомнится. Ну, хоть показать, как можно по-настоящему летать, хоть и на той же древней «Тушке», чтоб загорелось внутри…
Уж это-то старый инструктор Климов понимал хорошо.
Он знал, за что берется.
Такое вот время.
* * *
На метео новая смена разбиралась с норильской погодой. Только что пришедший свежий прогноз давал там усиление бокового ветра; фактическая погода пока позволяла лететь, но предельно малый коэффициент сцепления и тенденция к потеплению сразу насторожили Климова. В Норильск он летал всю свою жизнь и знал его особенности как никто.
Он долго разглядывал фронты на карте, читал предыдущий прогноз, поднял погоду за несколько сроков, особо пригляделся к неблагоприятной динамике изменения ветра и температуры за последние два срока, только усилившей его сомнения. Молодая девушка-синоптик, наслышанная о грамотности старого капитана, чуть растерянно удивлялась: добавить что-либо существенное, а главное, соединить все аргументы и факты в стройную систему принятия решения она еще так не могла. Слишком многое, помимо сухих цифр прогноза, принимал во внимание опытный пилот-инструктор, слишком большой опыт различных ситуаций переваривался в его седой голове.
Наконец Климов откинулся на стуле, устало прикрыл глаза, несколько секунд подумал и принял решение:
— Нечего лезть. Думаю, через срок-два закроется низким коэффициентом сцепления. И — до вечера, очисткой полосы.
Он вернулся в штурманскую. Там уже бойко болтал с группой вошедших летчиков его новый второй пилот. Поздоровавшись, Климов дал ему команду брать направление и идти в профилакторий. Димка убежал в АДП.
Климов нажал тангенту селектора и дал диспетчеру задержку на шесть часов. Пару минут спустя через замерзшее окно донесся от вокзала голос диктора, возвещавшего норильским пассажирам об очередной задержке по метеоусловиям.
Штурман молча сложил в портфель бумаги, оделся, и они с капитаном не спеша зашагали по скрипучему снегу к зданию летного профилактория. Было самое время позавтракать.
Профилакторий, как и все вокруг, потихоньку хирел. Часть номеров уже сдавали за плату как гостиницу пассажирам; в коридоре шмыгали посторонние личности, приколачивали в дальнем углу вывеску: то ли парикмахерской, то ли киоска. Надо было как-то выживать.
После завтрака экипаж собрался в комнате. Димка выбрал было себе койку в углу, но ему указали на другую, возле окна, с раскаленной батареей под боком. В старом экипаже спальные места давным-давно были распределены, и никто не нарушал установленного порядка. Самое неудобное место предназначалось для переменного состава. Второй пилот молча прикрыл радиатор запасным ватным одеялом, лег на прогнувшуюся ископаемую койку с панцирной сеткой и быстро задремал. Он, видать, тоже неважно спал нынче ночью. Дело молодое…
Через двадцать минут дверь скрипнула, и в номер грузно шагнул старый бортинженер, распространяя запах холода, чуть разбавленного керосином.
— Привет всем! Жду, жду… никого нет. Утром звонил на метео — обещали вроде погоду… а тут вас что-то нету. Ну, связался по УКВ: задержка, как обычно. Дождался, пока почту загрузят, опечатал, сдал. Девчонки в столовой, а я что-то есть не хочу, лучше подремать.
— Заправки сколько?
— Да не густо. Зажимать стали: залили точно по расчету, двадцать тонн. Заначки теперь никто не оставит.
— Аккумуляторы как?
— Дохленькие. Дал команду снять и унести в тепло.
— Да уж… старье.
А мы что — не старье? Тоже вот в тепле отсиживаемся.
Завязался неторопливый разговор давно и хорошо знакомых людей, вынужденных вместе коротать время в безделье.
* * *
Бортинженер Петр Степанович Сергеев был из старых техников. Он не кончал авиационного института, а прямо из училища был приставлен к гайкам и накрутился их всласть, любовно обихаживая нежные внутренности железных птиц. Он восхищался изобретательностью конструкторов, сумевших в малом объеме уместить так много изящных в своем совершенстве агрегатов, он восторгался сложностью взаимодействия тщательно подогнанных друг к другу частей, с удовольствием изучал их работу, поражался умению инженеров при отказах матчасти определять диагноз, сопоставляя факторы и отсекая лишние из них, как врач диагностирует организм пациента и разрабатывает план лечения.
Когда доходило собственно до самого процесса лечения летающего корабля, Петр Сергеев был на своем месте: вряд ли кто лучше него мог так быстро, четко и рационально отсоединить, отключить, отвести в сторону мешающие органы, добраться до больного агрегата, заменить его, вновь подключить, подсоединить, законтрить и проверить все, к чему прикасалась рука, оставить место ремонта в первозданной чистоте, пересчитать и разложить по местам инструмент, чтобы, не дай бог, чего не забыть. И самым большим удовольствием было — обгонять агрегат, проверить его работу, убедиться, что машина здорова, — и, наконец, подписать документ.
Сергеев привык работать с железом в любых условиях. Ему доводилось замасленными заледеневшими руками крутить гайки и на пронизывающем ветру, и под дождем, и в мороз, и под струей горячего воздуха из бензиновой печки, — с согнутой мокрой спиной, затекшей от неудобной позы, с вывернутой в немыслимое положение шеей, с замерзшими даже в унтах ногами.
Все эти неудобства, вместе с необходимостью безусловного и быстрого выполнения ответственной работы любой тяжести, закалили его характер, научили главнейшему качеству авиатора — терпению. Сергеев мог вытерпеть все.
Он научился не бояться ответственности, а взваливал ее на себя и всю жизнь тащил этот хомут: вечную тревогу за результат сделанного своими руками дела. Он был горд сознанием того, что кто ж лучше него справится. Чуть что — бегут к нему, просят: «Степаныч, сделай! Степаныч, надо быстро! Степаныч, машин нет — на тебя одна надежда!»
Как и большинство профессионалов, Сергеев не кичился своим умением, считая, что работа есть работа, надо только любить свое дело и стараться делать его лучше всех.
Единственной мечтой Сергеева, как и множества других технарей, было — переучиться на борт.
На борт брали лучших, наиболее грамотных, организованных, умелых, решительных, цепких техников. Хозяин самолета должен знать его до винтика; Степаныч как раз и отличался въедливостью в знаниях. Анкета у него была чистая, вполне подходящая под требования «беззаветной преданности», уровень подготовки был выше всяческих похвал. Настал счастливый момент — Степанова отправили переучиваться на бортмеханика. Сначала на поршневой Ил-14, потом на Як-40, а оттуда, как показавшего прекрасную практическую работу в воздухе, — на самый совершенный по тем временам туполевский лайнер. Сбылась мечта жизни: Петр Степанович Сергеев получил свидетельство бортинженера самолета Ту-154.
Сергеев полюбил эту машину, как женщину, раз и навсегда, беззаветно. Он всегда приходил на вылет раньше положенного времени и за два часа пунктуально осматривал, ощупывал и только что не вылизывал самолет. Зная мельчайшие нюансы технического обслуживания, он строго и занудно требовал от техников соблюдения буквы. Опытному взгляду старого технаря достаточно было секунды, чтобы разобраться, как выполнена операция. Он не подписывал карту-наряд до тех пор, пока не убеждался, что его возлюбленная обеспечена всем, находится в полном довольстве и ожидает только команды на взлет.
Бывшие коллеги ворчали, что став летающим человеком, Петро уж больно полюбил командовать. Хотя прекрасно понимали, что требовательный бортинженер прав, просто в душе чуть тлел огонек зависти от того, что у самих судьба так не сложилась.
В экипажах он приживался быстро. Командирам нравился молчаливый, старательный, всегда все успевающий, не требующий понуканий, инициативный, самостоятельный бортинженер. Через пару лет, повысившись в классе, Сергеев получил инструкторский допуск, и Климов, приглядевшись в полетах к тому, как старательно висит над стажерами молодой бортинженер-инструктор, забрал Петра в свой экипаж. Опытный капитан и старательный бортинженер нашли общий язык и сблизились общим подходом к процессу обучения молодежи; у обоих оказался талант зажигать благородную зависть к настоящему мастерству. И получился экипаж с надежным, сросшимся спина к спине хребтом профессионализма.
Они с командиром были почти ровесники и успели состариться в совместных полетах, получить среди коллег устойчивые почтительные отчества «Петрович» и «Степаныч». Климов поседел, Сергеев облысел, у обоих были взрослые дети, оба они представляли собой законченные образцы старых, бывалых, безусловно уважаемых коллегами представителей летной профессии, и когда заходили в летный комплекс, ладони быстро уставали от многочисленных дружеских рукопожатий.
Однажды у Климова случился разговор с увольняющимся по пьянке летчиком. Тот, навеселе, обходил весь штаб с бутылкой и персонально прощался с каждым. Увидев его, старый пилот поморщился: ну что он нового мог услышать от человека, который разменял ТАКУЮ профессию на водку.
Но тот, обвешивая старого капитана комплиментами, от которых Климов все больше и больше хмурился, махнул рукой и, видимо, для большей убедительности, заплетающимся языком выговорил:
— Петрович, ты не хмурься. Я тебе всю правду говорю. Ты у нас, как… как в уголовном мире: авторитет! Честное слово!
* * *
Разговор зашел о состоянии дел в аэрофлоте. Говорили тихо, чтобы не разбудить спящих второго пилота и штурмана. Данилыч было сначала открыл книжку, но под монотонный разговор дедов уронил ее на грудь и стал тихонько подхрапывать.
Состояние дел обсуждалось не столько словами, сколько хмыканьем, междометиями, а главное — интонацией, с которой это хмыканье производилось. Говорить, собственно, было уже не о чем: старики прекрасно понимали, что подошел конец их летной работы, что теряется смысл существования.
Об одном и том же болела душа у старых инструкторов: о смене. Ну, уйдут старики — все старое рано или поздно уходит, — но кто придет им на смену, кто подхватит штурвал теряющей скорость авиации?
Оборачивалось так, что придут из-за рубежа. Может, китайцы. Отечественная авиация кончилась. Летные училища заглохли. И хотя большая часть полетов производилась пока еще нашими старыми экипажами, на отечественном, заслуженном старье, все равно обвал был не за горами.
Наиболее дальновидные хозяева крупных авиакомпаний уже давно установили закулисные связи с сильными мира сего, добились льгот и закупили, добыли новые для России, экономичные зарубежные самолеты, вытолкали на пенсию стариков, переучили молодежь на английский язык и шли явно западным путем.
Те, у кого таких связей не было, тоже пытались бороться за существование, используя старые самолеты, но их давили насмерть либо непосильными налогами и поборами, либо ценами на топливо. Количество авиакомпаний, образовавшихся на обломках бывшего аэрофлота, неуклонно сокращалось.
Вот и родную компанию, не имеющую возможности заиметь по блату налоговые льготы и взять в лизинг «боинги», удавили ценами на керосин, который туполевские красавицы всегда пожирали с непомерным, даже не по нынешним скупым временам, аппетитом.
Заговорили о новой технике. Автоматика, компьютеры, джойстики эти, экраны дисплеев вместо стрелок, — никуда от прогресса не денешься. Тяги, качалки рычаги и пружины уступают место проводам и микросхемам. Самолеты становится легче и экономичнее. Мир обогнал нас и ушел далеко вперед. Видимо, навсегда.
Они говорили вполголоса, два старых летчика, отдавшие всю жизнь той авиации, которая их вынянчила, поставила на крыло и воспитала, — говорили с болью в сердце, иногда забываясь и повышая голос, потом оглядывались на спящих и снова переходили почти на шепот.
Капитан тихонько привел очередной пример:
— Да что сравнивать: возьми моего «Москвича», с его рессорами, и любую «Тойоту», с надутыми бамперами. Раздень и погляди: «Москвич» сварен чуть не из рельсов; «Тойота» — из проволочек и жести. Мотор «Москвича» вытачивали только что не на мельнице с водяным колесом, он грохочет; у «Тойоты» работает бесшумно и жрет вдвое меньше. Технологии другие, массовые технологии, миллионные тиражи. Мы, конечно, тоже можем, но — штучно, затратно, вручную, у Левши в каморке: Ту-160… Як-141…
— Ну. Еще супер-джет этот… Назвать по-человечески не могли.
— Ага. Супер-пупер. С «Боинга» содрали. Нам не впервой: вспомни, как после войны Туполев свой Ту-4 изобрел. Содрал один к одному с ихней летающей крепости.
— А теперь все Европе задницу лижем. Может, тугриков подкинет.
— Губу раскатал. Самим зарабатывать надо.
— Зачем? Нефти, газа полно, трубы открыты — налетай, подешевело!
— Перекрыть бы им крантик… у нас уже бензин дороже, чем во всем мире.
— Не знаю, как с бензином, а уж керосин-то точно дороже.
— Это ж надо: на нефти сидим, а бензин все дорожает.
— А с ним — вся жизнь дорожает, инфляция…
— Прямо как в Эмиратах… Ну, дураки…
К кому относилось это искреннее «дураки», выяснять не стали.
Дальше разговор повернули на роль государства, на полное непонимание проблем авиации на самом верху:
— Им там интересно только вооружение — боевые самолеты, штуками, на продажу. Да и то: авиапром работал семьдесят лет только на армию; так и не научились делать что-то приемлемое для мирной жизни, все — объедки от военных. Плачутся конструкторские бюро: нет денег, кадры разбегаются, государство не заботится… дай! Дай и дай. Дай — тогда, мол, мы, старики, передадим опыт молодым, и они что-то там придумают современное. — Капитан покачал головой, как о давно решенном: — Нет, нам уже никогда их не догнать!
— Ага, дай. «Боингу» вон никто ничего не давал — сами заработали, в жесточайшей конкуренции, и добились качества.
— Ну, насчет качества не знаю. Я на нем не летал и качества не оценивал. Пилоты вон, особенно молодые, которые летали, в общем, хвалят: говорят, заточен под летчика… Но — соковыжималка…
— А у нас все кабины — военные: шуму много, толку мало; терпи, долетишь — отдохнешь. Тоже соковыжималка.
— Позавчера форточка весь полет выла, закрывался детским матрасиком, потом голова как котел… И сейчас еще чуть, — Климов потер виски. — Или это на погоду… Стареем, Петя.
— Форточка — хрен с ней. Летали в свое время и на открытом По-2. Мы все вытерпим. Тут душа болит: такая огромная, самостоятельная, ни от кого не зависящая авиация, такой опыт за семьдесят лет, такие рекорды, кадры опытнейшие, — кому все это теперь нужно…
— Кому, кому. Им вон, — Климов кивнул в сторону спящего второго пилота.
— Оно им надо? Да они спят и видят этот… стеклянный кокпит. Инглиш зубрят.
Разговор становился все громче, переходя в привычный, чуть ворчливый стариковский спор. И главным в этом споре было понимание того, что, как ни прискорбно, как ни жалко, а никуда не денешься: жизнь нашей гражданской авиации, в общем, не удалась. Не претворилась, так сказать, в детях.
— Это как в иной семье: вроде все внешне как у других, а внутри семьи зреют и зреют противоречия, дети убегают от них, семья разваливается, и к старости становится ясно, что — нет, не удалась жизнь. Не удалась… а жить надо. — У терпеливого Петра Степаныча был немалый опыт в этой части, но, по молчаливому согласию, такие темы в экипаже не обсуждались.
— Жизнь не удалась потому, что мы всегда на задворках у военных. Лампасы командуют небом. Да и у них, что ли, так уж удалась? — Климов вспомнил лицо своего военного друга и крякнул.
— Да уж. — Бортинженер, заскрипев пружинами койки, повернулся лицом к командиру. — Невооруженным взглядом ясно видно, что у красноармейцев дела тоже идут к нулю. Эти, горластые… демократы, мать бы их… в своем стремлении угодить той холеной Европе, Америке, бросились чуть не брататься… Аж заспотыкались! С бывшим потенциальным противником! Ах, нам нечего делить! Ах, нам надо дружить! Ах, мы такие же, как все! Мы постараемся, мы научимся, только простите нас, обдуренных большевизмом! Пустите нас в свою цивилизацию! В свое НАТО! Ах, ах!
— Задружился… больной лев с тигром. Только тигр тот, никого не спрашивая и ни на кого не оглядываясь, наводит свои порядки, где хочет. Хозяин! А считаются в этом мире только с силой. Нас вон почему боятся? Потому что — атомная дубина. Ржавая только. А наши правители…
Разговор, перешедший на накатанные до блеска рельсы, увядал.
— У всех беда, Петрович: и у летчиков, и у моряков… Кругом развал, — резюмировал Сергеев и замолк.
Климов тоже замолчал, лег на спину, подложил руки под голову и задумался, глядя в потрескавшийся потолок, из щелей которого высовывались тараканьи усы.
* * *
У Климова был сосед, списанный военный летчик, бывший командир бомбардировщика, такой же старый и такой же неравнодушный к тому, что творилось нынче в авиации. Они дружили и частенько спорили за бутылкой.
— Нет, ты мне скажи, почему вы, гражданские, считаете, что у вас работа сложнее, чем у нас? — горячился, подвыпив, старый офицер. — Ты, аэрофлот, — знаешь ли ты цену летного часа военного летчика?
Он долго и бессвязно описывал тонкости боевого применения и дозаправки в воздухе, трудности боевых задач, тяжесть постоянных тренировок, сложность оборудования, чувство ответственности защитника Родины, напряжение воздушного боя, страх быть сбитым, неустроенность быта, гарнизонную тоску… Во всем том, о чем говорил, он был уверен и прав — да так оно и было на самом деле.
Климов в спорах больше молчал, иногда только ухмылялся про себя, иногда пытался успокоить упрямого оппонента, но однажды, после очередной рюмки, его прорвало:
— Да знаю я, ты мне сто раз уже это описывал! Верно все! Но вот представь себе, что ты выполняешь сложнейший маневр — и с пассажирами за спиной. Дозаправка в воздухе — с пассажирами за спиной! Боевая задача — с пассажирами за спиной! Катапультироваться — а пассажиры за спиной!
Вот ты говоришь, что у гражданских не налет, а навоз, что наши тысячи и тысячи часов не стоят сотни часов летчика-истребителя. Может, и так, но твой истребитель, или бомбардировщик, никогда не чувствовал тяжести, постоянной, накапливающейся годами тяжести ответственности за пассажиров, сидящих за твоей спиной, тяжести расписания, тяжести экономической ответственности перед авиакомпанией!
Одно дело — на пределе сил выполнять поставленную задачу — понимаю: любой ценой! — а другое — из года в год подчинить свою жизнь расписанию и везти живых людей, в любых условиях, — и довезти живыми! Из года в год, десятилетиями! Думать приходится и про экономию топлива, и про задержки, не дай бог, по твоей вине, и постоянно высчитывать тот предел, когда пятьдесят на пятьдесят — сядешь ли или уходить, а потом оправдываться и психовать на разборе! Катапульты — нет! И налет, навоз этот, изо дня в день, из ночи в ночь, а иногда — еще и еще, ночь и ночь подряд! А пассажир твой за спиной — он ни при чем, он и знать не знает ничего, он думает только об удобствах за свои деньги! И ты должен его обслужить. А ответственность эта висит и висит, постоянно, и снится ночами! У вас хоть об экономии, о финансировании нет забот: государство, худо-бедно, но заботится об армии, а нас бросили, как кутят в прорубь! Бизнес!
Он отирал пот со лба, тряс головой, кривил рот:
— Да что мы все делим, чем мы все меряемся? У каждого своя работа, видит бог, нелегкая; ну да сами выбирали… Нам-то, старикам, уже выпрягаться пора, а мы все спорим: сапоги… пиджаки… Летчики мы! Летчики!
Потом они наливали очередную рюмку и приходили к консенсусу:
— Ладно, давай за тех, кто сейчас летит.
— Давай. Чтоб долетели. Небо — одно для всех.
Небо мирило их, небо, которому они отдали всю жизнь.
Как-то Климов задал старому офицеру ошарашивающий вопрос:
— Ты английский знаешь?
Бомбер удивленно нахмурился:
— А на хрена?
— Ну, вот если бы тебе сказали: будешь знать английский — возьмем опять летать.
Только летать будешь по американским правилам, связь вести на английском. И инструкции все — тоже на английском. И контрольную карту читать — тоже. И между собой…
Старый вояка задумался.
— Так это же… зубрить надо…
— Ну да, зубрить. Все зубрить, чтоб от зубов отскакивало. А экзамен сдавать компьютеру.
Подумав, военный летчик сжал губы, как будто у него во рту оказался кислый лимон, и решительно отмахнулся:
— Нет уж! Я — русский офицер, служу России, летаю на русском самолете…. Ладно, пусть — летал… Да и как же это можно — русскому человеку, а все на английском!
— А вот так и можно. И пассажиров возить.
— И они что — зубрят?
— Зубрят, еще как! За такие бабки…
— Погоди: а что — перевести хоть инструкцию нельзя, что ли?
— Нельзя, фирма-производитель запрещает.
Рюмки были давно налиты. Старый военный летчик вдруг, не чокаясь, как за упокой, опрокинул рюмку, крякнул и, не закусывая, выдохнул:
— Я пришел в авиацию не зубрить! Я летать пришел! Я в небо пришел, как в церковь! А мне какой-то поганый эрбас диктовать будет? В моем небе? Нет, кончилась авиация! Кончилась! — И отвернулся, пряча глаза.
* * *
Димка, лежавший с закрытыми глазами у окна на провисшей неудобной койке, уже давно не спал. Сквозь вялые сновидения пробился и долбил голову этот спор стариков — спор на пошлую, тривиальную, банальнейшую, давно набившую оскомину тему: мол, все рушится, и как быть дальше. Он слушал, и в голове толпились аргументы.
Надо не ахать, а искать пути. Вот он — нашел же свой путь; пусть не в родной стране, пусть за рубежом, но жить там вполне можно, жить по-человечески, без тревог, только надо подладиться под те порядки, — ведь там уже давно порядок, не то что здесь.
А эти, замшелые, не хотят подлаживаться. Им важнее судьба этого несчастного, отброшенного на обочину государства. Оно и понятно: прожили всю жизнь в Советском Союзе, и хочется, чтобы этого совкового существования хватило до конца. Они ищут пути в куче хлама. Они пекутся о смене, которая должна пойти по их стопам, их путем, и — на помойку!
Щас! Вот только и не хватало молодым летчикам опыта полетов на По-2, в открытой всем ветрам кабине. Опыта полетов по пустынным трассам Сибири. Опыта подсчетов на бумажечке в столбик. Радиокомпаса не хватало. Да весь мир уже давно летает по спутникам! По десять часов над океаном! И не тягает эти пружины, загружатели штурвала. Когда и кому они теперь понадобятся?
Да просто включи телевизор и нажимай кнопки на пульте! Или что — вставать каждый раз с дивана и переключать канал вручную на деревянном ящике? Ну да: при совке ведь и было-то всего два канала. Клок соломы в общей кормушке.
Какой там еще опыт! Кому нужен опыт конницы Чингисхана? Что — нынешней авиацией востребован опыт пятичленного экипажа? На хрена они нужны в кокпите, все эти штурманы, бортмеханики, бортрадисты, — там же сложнейшая, кондовая, неуклюжая технология взаимодействия. Одна болтовня.
То ли дело — два пилота, в совершенстве изучившие все варианты, два абсолюта за джойстиками. Убрали одного — пришел другой, такой же абсолют. И работать легко! Только — никаких отклонений, никаких разговоров, чек-лист… Работа есть работа, а поговорить можно потом, где-нибудь в гостинице на Бали… Никакой особой слетанности не потребуется, это все совковые выдумасы, — надо только четко выполнять инструкции, от сих до сих. Не должно быть неожиданностей — работа должна быть заранее разобрана на атомы и разложена по полочкам, на все случаи жизни.
Да, это потребует огромной работы над собой. Стать таким, каких — ряды. Стать совершенной ячейкой, абсолютной функцией. На английском — как на родном. Опираясь на самую совершенную в мире авиационную автоматику.
Тяги-рычаги-качалки-пружины… Опыт По-2… Щас. Стиральная машина-автомат — и цинковая гофрированная доска «Амурские волны»…
Ему хотелось вступить в спор, но здравый смысл удерживал его от опрометчивого шага. Надо было терпеть и выжидать. Все равно его здесь не поймут.
Разговор продолжался. Его поддержал проснувшийся штурман, и старики так и не уснули. Второй пилот молча слушал, в разговор не встревал, и всем показалось, что из парня, который не прыгает в глаза и не кичится своим начальствующим папашей, будет толк.
К вечеру в Норильске расчистили полосу, и экипаж в сумерках пошел на вылет. Начался рабочий день.
* * *
На линейке понуро стоял железный ряд самолетов. Засыпанные снегом, зачехленные, с болтающимися флажками заглушек, в сугробах нерасчищенного снега, дожидались своей неизбежной печальной участи воздушные лайнеры, избороздившие в свое время тысячами белых полос бескрайнее небо. Не горели на крыльях красные и зеленые аэронавигационные огни, не светились ряды иллюминаторов; холодные трапы, так же засыпанные снегом, сбились в кучку поодаль. Сгорбленная фигурка охранника скукожилась под крылом.
Неподалеку стояло несколько остовов полуразобранных на запчасти машин. Ветерок покачивал открытые створки пустых капотов, спущенные пневматики колес раздавило об асфальт. Разруха добралась до отслуживших свое ветеранов; хищные скупщики металлолома давно уже вились вокруг компании. Все шло на пропасть.
Климов с экипажем, подходя к этому самолетному моргу, испытывал давящее ощущение своей ненужности, и в груди зарождался протест против того, что и его вот так же скоро подденут на вилы и вынесут на помойку. Он не хотел уходить, он знал цену своему опыту и надеялся хоть малую его часть перелить в учеников. Вот хоть в этого, долговязого, в сына своего бывшего летного товарища.
Димка на минутку отстал от торопящихся на вылет товарищей. Он во все глаза смотрел, как заруливает на перрон толстенький, с чуть задранными вверх крыльями, раскрашенный как попугай, иноземец. Не успел «Боинг» остановиться, как к нему сломя голову понеслись спецмашины, покатили трапы, грузно пополз топливозаправщик, подкатили автобусы за пассажирами. Бесконечной лентой выкатывался из толстенького брюшка поток людей; не верилось, что их столько умещается в небольшой на вид машине.
Климова больно царапнуло по сердцу: да, мальчишке хочется на современную технику, зачем ему старая «Тушка?» Он готовится летать на иномарке и, наверно же, ездит не на «Москвиче», а на «Тойоте». Ну, такова жизнь — молодое тянется к новому.
Он крякнул и, чтобы отогнать эти неприятные мысли, прикрикнул на второго пилота:
— Чего рот разинул? Норильск закроется! Давай скорей!
Самолет ждал. В сумерках отчетливо видны были яркие огни; издали лайнер казался прекрасным, совершенным созданием, чудом аэродинамики, — куда до него этим беременным арбузам. Но в наступающей темноте внимательный глаз мог разглядеть и облупленные, сто раз перекрашенные оранжевые законцовки крыльев, и заплатки и вмятинки в местах, где неудачно подъехал в свое время трап или грузовик, и закопченную корму, и замасленное зеркало изношенных амортстоек шасси… Все это доступно было только наметанному, опытному глазу летчика.
«Старушка», — тепло подумал Климов, похлопывая по пневматикам перчаткой, — «старая добрая подруга, уже не очень привлекательная, но еще крепкая… долетим…»
Он по привычному, натоптанному годами маршруту обошел одну сторону лайнера, начал осматривать другую, столкнулся у трапа с озабоченным бортинженером, что-то втолковывающим технику в форменной робе; Степаныч мельком махнул знакомым жестом: мол, все в порядке, потом доложу подробно… Капитан закончил наружный осмотр и поднялся по трапу в вестибюль.
Каждый раз, переступая порог, Климов вглядывался, вслушивался, внюхивался, вживался в свою машину. Опытному пилоту сразу бросалась в глаза степень готовности или неготовности лайнера. Нынче о полной готовности говорило все: и яркий свет в салонах, и стройные ряды белоснежных подголовников, и перекрестия привязных ремней на сиденьях, и запах кофе, доносящийся из кухни, и сверкающие блузки, тонкие колготки и высокие каблуки безукоризненно накрашенных девчат. Ждали только пассажиров.
Во втором салоне прохаживалась бригадир, старшая бортпроводница, статная, с сохранившейся фигурой женщина средних лет. Наводила последний блеск, давала указания двум молоденьким девчушкам, те подправляли мелочевку, открывали крышки багажных полок, раскладывали принадлежности в туалетах.
Бригадир обернулась: знакомое лицо…
— О, командир! Николай Петрович! — Подошла поздороваться, улыбаясь доброй, откровенной улыбкой. Климова проводницы любили, и лететь с ним считалось за удачу. Климов, мучительно вспоминая, как зовут бригадира (Оля? Ира? Вера? — какое-то короткое имя) поздоровался, девчата хором ответили, он перекинулся несколькими словами с бригадиром: погодка вроде есть, если быстренько посадят пассажиров, то прорвемся.
— Уж с вами, товарищ командир, точно прорвемся, — спокойно ответила бригадир, поправляя на груди табличку с именем. — С вами хоть куда!
— Да и с вами тоже хоть куда, если пригласите, — отшутился, сощурившись, Климов. Таки разглядел большую первую букву имени на табличке: «О» — ага, значит, Ольга ее зовут.
— Ольга Ивановна! Ольга Ивановна! — как раз позвала одна из проводниц, — автобус идет, пассажиры!
— Так, девочки, по местам, принимаем! Учтите: люди раздражены; работать вежливо и спокойно! Следите за багажными полками!
Ну, работайте, — капитан зашагал по салону к пилотской кабине, потом спохватился, оглянулся: — теплой одеждой-то запаслись? Там морозец с ветерком!
Он заботился о проводницах, как о собственных детях. За это его и любили.
* * *
Пассажиров собирали долго. После задержки дежурные по посадке как всегда не досчитались нескольких человек, и динамики в вокзале настойчиво приглашали опоздавших к выходу на перрон. В салонах ходили и ходили взад-вперед бортпроводницы, считали, пересчитывали и снова начинали считать пустые кресла. А пассажиры, натерпевшиеся в ожидании, дергающиеся каждый час при очередном переносе задержки, объявляемом по вокзальному радио, и, слава богу, дождавшиеся и усевшиеся на свои места, — измученные и смертельно уставшие пассажиры, наконец, разжались и начали проявлять свою сущность. Одним хотелось пить, другим курить, третьи просились в туалет, четвертые ворчали, чтобы сосед не толкался, да чтобы сзади в спину не упирались колени, да чтобы не орал младенец; они ждали, когда их, наконец, накормят и можно будет подремать. Некоторые с ужасом вцепились в подлокотники: они разожмут пальцы, может быть, только в наборе высоты после взлета. Кто-то просил гигиенический пакет… нет, два… и рядом: «и мне тоже»… Иной разложил на коленях ноутбук и углубился в работу — таких, с ноутбуком или раскрытой книгой, было, может, человек пять.
Колоритный мальчик, ортодоксальный еврей, в своей тюбетеечке, разложил на коленях толстую книгу, листая ее справа налево, водил пальцем по крупным непонятным знакам и, раскачиваясь взад-вперед, молился; пейсы качались в такт.
Один из самых уж замордованных пассажиров сорвался и стал орать на бортпроводницу, та начала что-то ему доказывать… Ольга Ивановна с застывшей дежурной улыбкой подбежала улаживать конфликт, тихонько пеняя молодой девчонке, что та поддалась на провокацию; потом схватила микрофон и проникновенным голосом стала уговаривать пассажиров снять сумки с багажных полок. В открытую дверь пилотской кабины обрывками доносилось: «для вашей же безопасности… снимите вещи… сволочи!» Не успело ошеломленное ухо капитана убедиться в столь явно выраженной недоброжелательности, как в динамиках повторилось: «с полочек, с полочек сумки снимите, пожалуйста». Ну, слава богу, ослышался…
Каждый раз, видя и слыша суету в салонах перед полетом, Климов испытывал внутри сложное ощущение, которое потом, в продолжение всего полета, будоражило привычные размышления о сути его работы в небе. Оно складывалось из осознания чувства беспомощности этих, доверившихся ему, капитану Климову, полутора сотен людей, заглядывающих в глаза со страхом, любопытством и надеждой, — и гордости за то, что именно он-то, вот здесь, сейчас, — и справится с полетом, вот этими руками. А кто же еще.
В долгих полетах, вися между небом и землей, он задумывался о философии и психологии пассажирских перевозок. Он задавал себе вопросы, которые должны вставать в небе перед каждым зрелым человеком: о страхе и трусости, о труде, о мастерстве, об ответственности, о жертвенности, о предназначении и подвижничестве, о смене поколений, о путях прогресса. Хлеб насущный теперь интересовал его, старика, только как средство поддержания жизни.
Последнее время, в связи с рядом катастроф и поднятой вокруг них общественной шумихой, Климов размышлял, ни много ни мало, — о судьбах цивилизации. Он как раз нынче перечитывал «Машину времени» Уэллса; потрепанная книга и сейчас лежала в его потертом летчицком портфеле, рядом с бритвой и парой чистых носков.
Бессмертное произведение обрело в нынешний век еще большую достоверность предвидения, прозорливости великого фантаста. Климов, листая знакомые страницы, находил в них все новые доказательства и подтверждения ходу своих мыслей.
Как-то, в очередной раз коротая вечер с соседом за рюмкой, Климов проворчал:
— Нет, ну, цивилизация! Ну, элои! Всего боятся, платят такие бабки за безопасность, за гарантии, за страх! А давайте все станем обеспечивать ихнюю безопасность!
— Не ихнюю, а их. — Старый вояка таки знал грамоте.
— Их, нашу, — всех! Давайте все друг друга охранять! А кто ж тогда производить-то будет?
— Это точно, — соглашался чуть осоловевший друг. — Это ты правильно сказал. Кругом одни охранники. Инспекторы, контролеры, бойцы. Мои ребята вон после демобилизации пошли в охрану. Сидят, груши околачивают. Пилоты! Эх… — он наливал еще по маленькой.
— Их же орда! — горячился Климов. — Миллионы! А наша служба авиационной безопасности! Понабирали девчонок, дочерей своих пропихнули… Бдят! Аппарат раздули — больше летного отряда! И, главное, пассажир думает, что это же недаром столько людей занято. Бойся! Опасность везде! Трясись! А потом в самолете истерики закатывают.
— Говорят, штаны на досмотре снимают? — интересовался новшествами старый офицер.
— Штаны, не штаны, а ремни точно снимают. Мужик стоит в очереди, штаны в руках держит. Тьфу! Какой умник придумал?
— Да… дожилось человечество. Штанов боится.
Как и все летчики, Климов возмущался тем, что его перед каждым вылетом, так же, как и пассажиров, прогоняют через рамку сканера, раздевают, заставляют снимать обувь и просвечивают личные вещи рентгеном. Выходя после досмотра на перрон, он, в бессильной злости от перенесенного унижения, оборачивался и ворчал:
— Нашли террориста… суки. Тьфу, чтоб вас… сами себя уже боитесь! — Он досадливо махал рукой и спешил к самолету, утешая себя тем, что это, может, уже крайний раз… скоро пенсия… надо нервы беречь.
Климов вспоминал прогнутые койки, бегущих тараканов в занюханном профилактории, ободранную штурманскую, и горько ухмылялся. Какие миллионы уходят, вместо обустройства жизни, — уходят на страх!
А элои, все равно, нет-нет — да и попадают в пищу морлокам: самолеты-то все равно падают. Но причины падений не имеют ничего общего с этой бесчисленной службой охраны.
К комфорту и удобствам за свои деньги, к страху и беспомощности, к нравственной деградации катится потребительская цивилизация в своем, так сказать, развитии.
Так думал о жизни в полетах старый пилот Климов.
Оглядываясь на толпу трусящих пассажиров, он жалел их, потребителей движения, мудрой, грустной, чуть презрительной жалостью. За долгие годы полетов, в самых непредсказуемых, немыслимых для обывателя обстоятельствах, выкрутившись и потихоньку обсыхая после пережитого страха, он всегда испытывал заслуженную гордость творца, созидателя нового, никем еще не испытанного полета.
Да и что делить людей на искусственные категории. Ты потребляешь после работы, а на работе ты созидаешь что-то нужное другим.
Проходя через хомут и кося глаз на наблюдающих охранителей, он никак не мог представить себе, что эти люди созидают безопасность. Конвейер…
Он не верил в эту, не так давно выдуманную, пришедшую из-за бугра авиационную безопасность. Но в безопасность полета, созидаемую слаженной работой экипажа, технического состава, диспетчерской службы, других необходимых аэродромных служб, — он верил свято, потому что обеспечивал ее в воздухе, лично, головой и руками, всю жизнь.
Понимая, что человек, независимо от того, потребитель он или созидатель, все равно — живая, трепещущая душа, — он ради этой души боролся. Он так старался доставить людей через пространство и стихию, чтобы человек таки понял, кто же есть главный в небе, кто же действительно обеспечивает безопасность, кто же кого, в конце концов, кормит в авиации, да и не только в ней. Чтобы люди долетели и встретились с ожидающими их на земле. Чтобы их дети тянулись не к жвачке для глаз, а к живому, настоящему штурвалу.
Климов, жалея людей, старался возить их по возможности так, чтобы его труд уважали. Каждый его полет должен быть образцовым — так считал старый пилот. Он любил свой труд за то, что после каждого полета сразу за выключением двигателей виден был конкретный и окончательный результат.
Наконец, нашли, усадили и сосчитали всех. Дежурная торопливо выхватила у нерасторопного второго пилота подписанную ведомость, попрощалась и убежала. Климов нетерпеливо смотрел в окно, когда же, наконец, отойдет крыльцо. Трап медленно отполз от борта; ударило воздухом по ушам — бортинженер закрыл входную дверь.
— Отбор! — капитан рванул форточку, уши отпустило.
Штурман обернулся, привстал с кресла, дотянулся до тумблеров отбора воздуха на доске бортинженера и убрал наддув.
Вошел Степаныч, закрыл дверь, быстро сбросил куртку, нажал кнопку поверки ламп и доложил:
— Штанга, штыри, заглушки, заземление на борту, двери, люки закрыты, табло не горят, бортинженер к полету готов!
Начался привычный ритуал.
* * *
Ольга Ивановна не просто ходила по салонам и пересчитывала пассажиров. Она профессионально приглядывалась, кто как себя ведет, и мысленно отбирала кандидатов, которые могут задать ей в полете головную боль.
Эти трое, из ресторана, которых искали. Они уже в такой кондиции, что, пожалуй, головная боль будет у службы перевозок норильского аэропорта, когда станут будить их и выводить из самолета.
Еще одна веселая компания: эти добавили как раз перед посадкой, и сейчас в самом кайфе. Будут приставать к девчонкам, надо предупредить, чтоб те держались построже и не поддавались на провокацию, как давеча эта Наташа.
Напуганная дама… поглядывать, как бы не закатила истерику.
Слава богу, детей нет. Не то время, чтобы возить детей по северам.
Холеный мужик, крутой, стриженый, цепь золотая. Уж больно выпендривался при посадке; этот в полете достанет своими капризами и требованиями.
Дедушка хворый, таблетки глотает. Как бы не пришлось возиться с ним в полете.
Все эти заметки на будущее входили в свод неписаных правил, выработавшихся у опытной бортпроводницы за двадцать пять лет полетов. Она умела распределить внимание и силы бригады так, чтобы хватило на весь полет, вовремя подсказывала, чтобы не вышло какой оплошности, умела подставить плечо и подменить любую из девочек, если у той не все получалось. Особенно это касалось молодых, которым, по опыту своему, она еще не во всем доверяла. Если в плане выполнения своих обязанностей с каждой девочкой все обстояло более-менее нормально, то в моральном плане надо было подстраховывать тех, кто еще не выработал требующегося в работе определенного мужества и стойкости характера.
Она не уставала втолковывать, что бортпроводница на самолете не просто обслуживающий персонал, а прежде всего — спасатель. Поэтому при предполетной подготовке она особенно строго, еще и еще раз проверяла, как твердо знают девочки свои обязанности по аварийному расписанию. В экстремальной ситуации думать и подсказывать будет некогда, надо действовать, может быть, самостоятельно, может быть, будучи травмированной, может, в огне пожара, может, после посадки на воду. Наша задача — спасти людей при возникновении непосредственной опасности для их жизни, повторяла и повторяла Ольга Ивановна своим подчиненным.
Девочки иногда обижались на ее, как им казалось, излишнюю требовательность, даже придирчивость. Так обижается дочка на выданье на свою очень беспокойную, испереживавшуюся за судьбу дочери, но такую родную маму. Да они и годились ей в дочки: у самой Ольги Ивановны подросла дочь-невеста, и мать, взяв кредит на однокомнатную квартиру, не вылезала теперь из рейсов, чтобы заработать дочке на жилье.
Вот об этом и была нынче головная боль у старой бортпроводницы. Всю жизнь поднимая дочку одна, она боялась, что потеряет работу раньше, чем успеет расплатиться с банком.
Рассадив и пересчитав пассажиров, бригадир дала последние указания девчатам, расставила всех по местам и пошла докладывать командиру о готовности бригады к полету.
* * *
После взлета самолет лег на северный курс и стал стремительно набирать высоту, пробивая сумеречный серый смог, висящий над большим городом. Отбалансировав машину, Климов отдал управление второму пилоту, и тот, вцепившись в штурвал и выжимая из него все соки, целиком ушел в процесс пилотирования тяжелого лайнера. Штурман вел связь. Инструктор приглядывался.
Господи, снова и снова думал Климов, ну как ему сразу вдолбить те истины, которые нормальный пилот нарабатывает годами, переходя с легких машин на более тяжелые и сложные? Каким образом и как быстро мальчишка определит степень инертности стотонной машины и научится упреждать ее отклонения тонкими порциями рулей? Сколько же внутренней работы требуется только для того, чтобы человек просто научился удерживать самолет в заданных параметрах.
А ведь существует еще проблема борьбы с непривычными ощущениями, да просто со страхом неизвестности. И решается она только постепенно, только через сотни и тысячи часов полета, в процессе работы среди опытных старших коллег…
Димка старался. Начался процесс набивания руки, надо было, во что бы то ни стало, освоить эту древнюю железяку. Он гонялся за малейшими отклонениями стрелок и неуверенными движениями штурвала старался на них реагировать.
— Ну-ка не сучи, не сучи ногами, сними ноги с педалей, — проворчал Климов. — Сколько раз вам повторять: на тяжелом самолете в воздухе управляют только штурвалом. Только штурвалом! Педалями ты только раскачаешь машину и помешаешь ей лететь самой. А самолет летит сам! Он же само-лет! Ты только научись ему не мешать, а кое-где и помоги. Подправь. Стриммируй. Он сам полетит! Ты потом поймешь! И штурвал не тягай. Триммером, триммером, большим пальчиком. Дай триммера, подожди. Если не реагирует, еще дай и подожди. Пилот выжидает, а голова — работает!
Второй пилот стал гонять туда-сюда тангенту триммера. Устойчивый, инертный самолет не особо стремился реагировать, а неопытный глаз стажера никак не мог поймать по приборам поведение самолета.
«Эх… слабак…» — Климов, талантливый инструктор, может, в сотый раз, разочаровался в ученике, как разочаровывался поначалу в каждом новом втором пилоте. Но потом он вкладывал в человека всю свою страсть к полетам, все умение, стремился зажечь божью искру — и таки зажигал! И этого парня, уж какой он ни есть, тоже как-то надо зажечь, увлечь, заразить благородной завистью, — а там само пойдет… если есть желание и талант.
Димка, сопя от старания, все прилаживался к поведению неуклюжей, тяжелой как бревно машины. Он увлекся процессом, и незаметно куда-то ушли скепсис и легкое презрение к старью, а в прагматичной душе, сквозь банальную житейскую мудрость, ранним пеплом едва припорошившую молодое сердце, — вдруг родился и стал бурно разрастаться мальчишеский восторг обладания.
Вряд ли найдется на земле мальчишка, которого не ввергнет в пучину восторга дрожащий в руках настоящий живой штурвал! Тут же слетают с молодой души ошметки нарочитой бывалости, все эти «да знаем», «да видали мы», «ага, щас», — и тонет это искусственное, напускное, тонет без следа в чистом, горячем, живом чувстве приобщения к НАСТОЯЩЕМУ.
И когда это чувство внезапно пронзит…
Все! Человек «подсел» на полет.
Пошла самая спокойная часть полета. Земная суета осталась позади, и сама земля все удалялась и растворялась, пока не скрылась в сером дымном мареве, оставляя капитана один на один с привычными раздумьями. Второй пилот худо-бедно управлял самолетом, машина немного мотала носом; Климов поглядывал, убеждаясь, что особо вмешиваться не надо, пусть пацан набивает руку. Штурман задавал курс, бортинженер за спиной щелкал галетниками, проверяя работу аппаратуры; до набора заданного эшелона было еще далеко, и старый капитан, внутренне отметив, что отлаженный организм экипажа работает нормально, стал думать, какая их ждет погода в Норильске и удастся ли проскочить в закрывающееся окно.
Летная судьба непредсказуема, выбирать не приходится, а надо принимать ее как есть. Старый летчик Климов не знал, что провидение только что отмерило ему последние спокойные секунды полета.
— Петрович, что-то у нас со вторым… Командир, вибрация второго двигателя велика! — зазвенел голос бортинженера, — и сразу же на приборной доске Климов увидел загоревшееся табло неисправности второго двигателя.
«Ч-черт» — только и успела мелькнуть мысль, — как внезапно в хвостовой части самолета раздался короткий удар, будто палкой по обшивке. Все замерли.
— Что за е…!
Следом раздалось три одинаковых доклада, три крика, почти одновременно:
— Пожар!
— Пожар!
— Пожар!
И сердце ахнуло, а мир сузился до размеров загоревшегося на козырьке приборной доски, прямо перед глазами, прямоугольного красного табло «ПОЖАР».
Климову в своей долгой летной жизни доводилось гореть три раза. Первый раз, в бытность вторым пилотом, когда полыхнул мотор на поршневом Ил-14, - что-либо понять или запомнить он просто не успел: опытный командир мгновенно зафлюгировал винт, выключил двигатель, дал команду; бортмеханик перекрыл пожарный кран и включил систему пожаротушения, Весь тот период долгого смертельного ужаса, страха близкой смерти, затмившего сознание молодого второго пилота красным туманом, — длился пять секунд, в течение которых старый экипаж, состоящий из бывших фронтовиков, сделал, в общем, привычное для них дело. И полетели дальше, на одном моторе.
Климова тогда потрясло, как спокойно воспринял экипаж грозное явление и как уверенно справился в сложной ситуации. Он долго раздумывал тогда о том, способен ли будет он сам на такое спокойствие, не дай бог что. И решил, что справиться он сможет только тогда, когда сумеет задавить в зародыше мысль об опасности для живота своего.
Второй раз горел Климов на Ил-18. Прогар камеры сгорания, редчайший заводской дефект, случился на эшелоне, экипаж сработал, как положено; молодой командир запомнил только, что страх пришлось подавлять усилием воли, и он уходил из сознания, как через сито, а пересохший в секунду язык в это время заполнил весь рот, и ворочать им было тяжело.
Третий пожар был на Ту-154, как потом оказалось — ложное срабатывание сигнальной аппаратуры. Но так как определить, ложное это срабатывание или истинное, в тот момент было невозможно, а табло горело, — действовали по инструкции. Может, потому, что это было уже не впервой, Климов запомнил только, как екнуло в груди и пару секунд тормозились мысли.
Этот, четвертый в своей жизни пожар, старый пилот-инструктор Климов воспринял как команду к действию. Конечно, оттого, что это было не на тренажере, сердце на секунду замерло, мурашки поползли по рукам, — это бывает всегда и у всех людей, попавших в опасную ситуацию, — но капитан ситуацией вполне владел.
— Какой, говоришь, двигатель? — переспросил он, оглянувшись через плечо.
— Второй двигатель, обороты ноль, выключаю экстренно, тушу! — Сергеев знал свое дело. Рычаг среднего двигателя ушел до упора назад. Под штурвалом на приборной доске тускло засветилась красная лампочка падения давления во второй гидросистеме.
— Двигатель номер два выключить, пожарный кран перекрыть, пожар тушить! — четко, для записи на магнитофон, рявкнул Климов. — Взял управление!
— От-т-дал… — второй пилот растерянно, как завороженный, не сводил глаз с красного табло на козырьке приборной доски. В разжавшиеся пальцы рук закололи иголочки, кровь снизу ударила в виски и оглушила: «Нет! Не может быть! Вот так, сразу?»
Климов энергично сбросил газы и заломил крен со снижением в сторону родного аэродрома. Высота была две с половиной тысячи.
— Штурман, удаление?
— Тридцать два!
— Доложи земле! Разворачиваюсь, садимся с обратным курсом!
— Подход, девятьсот одиннадцатый, пожар двигателя, садимся с обратным курсом!
Ошарашенный диспетчер секунду помолчал, а потом спокойным, очень спокойным голосом ответил:
— Девятьсот одиннадцатый, вас понял: пожар; посадку с обратным курсом обеспечиваем. Снижайтесь тысячу пятьсот в район четвертого, работайте с кругом.
Пока штурман докладывал, пока земля запускала в действие механизм подготовки аэродрома к вынужденной посадке борта, а громоздкий лайнер неторопливо выполнял разворот, — капитан считал. Тридцать километров, даже на скорости 600, это три минуты. Да пока закончишь разворот на 180, да разгонишься до тех 600, а потом, перед землей, пока погасишь до 300, — до посадки получается больше пяти минут. А двигатель-то — второй! И он разрушился, раз обороты ноль. Значит, следует ожидать неприятностей гидросистемы…
Старый инструктор хорошо понимал степень опасности. Это был не просто пожар двигателя номер два. Это был удар в ахиллесову пяту самолета. Думать о том, как идет процесс тушения пожара бортинженером, было некогда. Он знал, что Петр справится. Надо было любой ценой, как можно быстрее, сесть на аэродром.
Степаныч действовал. Отточенные на тренажере, доведенные до автоматизма, необходимые операции по выключению и тушению горящего двигателя были произведены, первая очередь пожаротушения сработала.
Табло «ПОЖАР» не гасло.
Бортинженер Сергеев был старый, тертый, опытный волк, он хорошо знал устройство двигателя и топливной системы, понимал, что сейчас из перебитого трубопровода хлещет в мотогондолу топливо под давлением больше пятидесяти атмосфер, струей, толщиной чуть не в руку, почти зримо представлял себе, какой факел пламени тянется за хвостом машины.
Прежде всего, необходимо было перекрыть топливо, да не ошибиться в запарке и не остановить исправный двигатель.
Он сначала убедился, что упали обороты не первого, не третьего, а именно второго, среднего двигателя, что горит табло неисправности именно среднего двигателя, что именно в головке рычага останова среднего двигателя загорелась красная лампочка, потом потянул на себя этот рычаг, открыл красный колпачок пожарного крана, средний из трех на приборной доске, и перекрыл подачу топлива. Все. Теперь остатки керосина должны догореть, а больше там гореть нечему: одно железо.
Только табло все светилось алым смертельным светом. Сергеев почувствовал, как вниз по позвоночнику течет зудящая волна страха.
— Ну!
Он перещелкнул тумблер, выждал 20 секунд, включил вторую очередь. Еще раз проверил, перекрыт ли средний пожарный кран. Перекрыт. Стоп-кран второго двигателя закрыт. Генератор… отбор воздуха… Почему оно не гаснет? Так, третья очередь… Нажал! Ну же!
Табло «ПОЖАР» погасло.
Все.
Бортинженер, за эту долгую минуту взмокший от лысины до пяток, секунду сидел как выжатый лимон. Потом доложил:
— Командир, пожар потушен!
— Молодец, Степаныч, теперь следи за гидросистемами. Уровень жидкости! Уровень!
«Какие еще гидросистемы! Какой там еще уровень! Пожар потушен, это главное!»
Внезапно сквозь восторг и усталость победы просочилась трезвая, тревожная мысль: это же второй двигатель! Второй! Двигатель номер два! Рядом с ним проходят трубопроводы гидросистем!
И сразу пожар отошел на задний план. Бортинженер с замершим сердцем нажал на кнопки проверки уровня. Он не поверил глазам. Стрелки на приборах уже подходили к нулю!
— Уходит! Уходит!
И тут у Климова внутри все оборвалось. ВОТ ОНО!
Вот оно! Теперь ему предстоит решить ту давнюю, застрявшую колючкой в сердце проблему: вопрос жизни или смерти! Времени на решение у него оставалось всего несколько секунд, и надо было собрать все силы, всю волю, все мастерство пилота и капитана, чтобы успеть произвести необходимые действия.
Климов быстро и точно, одним сложным движением вывел машину из крена и снижения, одной рукой ударил по рычагам газа, а другой, подтягивая штурвал, стал гасить скорость, выдерживая строго горизонтальный полет и снимая усилия со штурвала триммерами. Тяжелая машина медленно, очень медленно тормозилась. Он выпустил интерцепторы; машину затрясло, стрелка скорости быстро покатилась к отметке 400. Убрал интерцепторы, снова стал балансировать триммерами: тангаж, крен… Отпустил на секунду штурвал: сама летит? Исправил возникший крен, еще раз снял усилие триммером. Добавил режим. Бросил взгляд на указатель скорости и руля высоты: скорость 400, руль в зеленом секторе, центровка нормальная, самолет сбалансирован. Еще раз бросил штурвал: так летит сама? Руки тряслись, сердце колотилось в горле и отдавалось в висках, часто и ровно стискивая голову.
Самолет летел.
«Так. Спокойно, спокойно… Спокойно!»
В этот момент под штурвалом недобрым красным глазом загорелась лампочка падения давления в первой гидросистеме. Отказал еще один канал управления.
— Сколько минут прошло?
Бортинженер глянул на секундомер, включенный в момент начала пожара. С трудом ворочая вдруг одеревеневшими губами, произнес:
— Четвертая минута доходит. Падает давление!
Загорелась лампочка третьей гидросистемы. Все три лампочки горели!
— Командир, давление… давление упало! Во всех трех! Жидкость ушла!
— Знаю, — хрипло выдавил Климов. Он сжимал в руках штурвал, но боялся им шевельнуть. Текущие струйки пота противно щекотали между лопаток.
— Все, Петрович… давление ноль!
Климов, с обреченностью осознавая, ЧТО сейчас произойдет, тронул рога. И ЭТО произошло: самолет не среагировал. Он покачал сильнее, сунул колонку от себя… мороз продрал по коже…
Самолет не отвечал на отклонения штурвала. Управления не было. Но он все еще не падал. Скорость медленно уменьшалась. Машина тихонько опускала нос. Руки дрожали. В голове вертелся клубок заклинивающих друг друга мыслей. Надо было взять себя в руки; он не мог. Надо было бороться! Оставались секунды!
Климов глубоко вздохнул и, продираясь сквозь страх, связавший язык, кое-как выдавил из себя команду:
— Двигателям… внешним… номинал! Взлетный!
* * *
Когда рев двигателей стоящего на старте самолета начинает претворяться во все убыстряющееся движение, когда инерция вжимает тело в спинку кресла, а руки судорожно ухватываются за подлокотники, современный пассажир начинает тихо молиться.
Он слишком много знает, этот современный пассажир.
В давние времена не избалованный обилием информации человек, усаживаясь в кресло самолета, испытывал чувство восторга, смешанное с легкой боязнью: «Сейчас я полечу! Неужели полечу?»
Нынешний пассажир — ожидает. Он наслушался, начитался в газетах и насмотрелся по телевизору такого… Такого! Он нервный, этот современный пассажир самолета. Он утонченно прислушивается и анализирует. Он очень боится за свою драгоценную жизнь.
Но все равно, каждый раз, когда требуется лететь самолетом, человек платит свои кровные, и немалые, и каждый раз окунается в это состояние вялотекущего ужаса, и из каждого нового полета выносит новые и новые болезненные ощущения, эти вирусы аэрофобии, и в каждом новом полете ожидает: «Вот! Сейчас!» И молится. И как только самолет начинает движение, холодок в животе у такого человека превращается в нервную тряску пищевода и ожидание…
Не все, конечно, подвержены этому страху, но инфекция распространяется безостановочно, захватывая все новые и новые круги.
Поэтому пассажиры Климова были внутренне подготовлены к этому короткому, как палкой, удару в хвосте. Мгновенно холодный пот оросил сжавшиеся спины, адреналин валом хлынул в кровь, она, вскипев, ударила в виски…
«Все. Смерть».
Призрак смерти охватил салоны костлявыми руками. И как только двигатели сразу после удара резко сбавили тон и самолет хоть и медленно, но все же гораздо быстрее, чем обычно, завалился на крыло, все сто пятьдесят человек ахнули единым криком.
В ушах начало давить, это означало, что самолет падает… естественно, камнем…
Когда терпеть это бесконечное падение стало невозможно, людей вдруг плавно вдавило в кресла, самолет выровнялся, двигатели вновь зазвенели, и оказалось, что кричали напрасно. Страх еще не отпустил, но у большинства плавно начал превращаться в стыд.
Самолет спокойно повис в воздухе, и все стало как всегда. И каждого пассажира стал мучить вопрос: «Что это было?»
Никакой информации не поступало, динамики молчали, страх потихоньку растворился в осознании каждым своей трусости: «да мало ли что… а я…» Но неизвестность страшит больше опасности. Главное, пассажирам никто ничего не удосужился объяснить, как будто и не было этого удара, явно говорящего о какой-то серьезной неполадке. Однако удар слышали все, и сотни сомнений и предположений будоражили воспаленную пассажирскую мысль.
Тоска окутала сердца. Что случилось? Ну, хоть слово!
Господи, да что же это за экипаж — не может улучить свободную секунду и сказать слово? Хоть одно слово, только чтобы успокоить?
Тихо, прижав уши, сидели в салонах пассажиры, подавленные растущим напряжением неизвестности.
Потом двигатели взревели. Значит, самолет перешел в набор высоты.
* * *
Несмотря на всю внезапность и весь ужас создавшегося положения, капитан Климов был к такому случаю готов. Мало того — вряд ли кто другой из пилотов был так подготовлен к действиям при полном отказе управления, как старый, обладающий здравым смыслом, думающий инструктор Климов.
Все началось с того давнего злосчастного дня, когда в Красноярске при взлете самолета Ту-154 произошло разрушение двигателя, возник пожар и перегорели все три гидросистемы, посредством которых управляется самолет. Тяжелая машина в этот момент была в развороте, рули и элероны отказались повиноваться отклонениям штурвала, и самолет с креном рухнул на заснеженный лес.
Несчастный экипаж к такому развитию событий был совершенно не готов, ни теоретически, ни психологически. Все те четыре минуты с начала аварийной ситуации, в течение которых можно было бы успеть развернуться и произвести посадку на аэродром, капитан потратил на выяснение обстоятельств и на попытки потушить пожар. Тогда никто из летчиков не верил, что трижды дублированная система управления может отказать: ну, одна гидросистема откажет, ну, две… но третья-то останется!
И в руководстве по летной эксплуатации не было никаких рекомендаций на этот немыслимый случай.
Оказалось, что три трубки высокого давления расположены практически рядом, их может перерубить случайный осколок, или, как в том красноярском случае, за четыре минуты в струе пламени расплавятся алюминиевые соединительные элементы стальных трубопроводов и гидросмесь под давлением более двухсот атмосфер мигом высвистит на улицу. Это расположение трубок оказалась самым слабым местом прекрасного, мощного, надежного самолета.
Было долгое расследование. Представители авиапрома пытались взвалить вину на молодого бортинженера, что, мол, ошибся и перепутал кнопки и выключатели, и от этого пожар не был потушен. Представители аэрофлота защищали экипаж и упрекали авиастроителей в нерациональной компоновке трубопроводов. Независимые научные расследователи нашли производственный дефект, послуживший причиной разрушения двигателя. Авиационные психологи доказывали, что в такой ситуации вообще не справился бы никто. Проводились эксперименты, доказавшие правоту психологов. В межведомственной борьбе оказалось никому не выгодным искать причину; искали виновника. В конце концов, оказалось, что никто вроде и не виноват, спустили на тормозах… Семьдесят человек похоронили, самолет списали.
Потом вышел министерский приказ по обстоятельствам катастрофы, его изучили в летных отрядах, но как-то быстро забыли: случай редчайший, единственный в своем роде… «со мной этого не случится».
В приказе были рекомендации, в общем, неконкретные; было какое-то принятие мер… все утонуло в текучке начавшейся перестройки.
Для Климова, после похорон экипажа, наступил период сомнений и поисков. Он перерыл гору литературы, и все искал возможность спасти тот полет, прикладывал эти обстоятельства к себе, не спал ночами, накручивая на себя простыни и скрипя пружинами гостиничной койки, — и все обдумывал и обдумывал распределение обязанностей в экипаже, контроль и взаимоконтроль, расставлял приоритеты действий в аварийной ситуации…
Он похудел, стал строже и задумчивее, перед полетом тщательно готовил экипаж к действиям в аварийной ситуации и при вынужденной посадке. Много и охотно, в отличие от большинства летчиков, работал на тренажере, и все просил инструкторов смоделировать отказ и пожар в наборе высоты, на втором развороте, как у тех ребят. Он считал радиусы и время разворота на разные углы, вычерчивал схемы и думал, думал, думал…
Словом, всю его жизнь этот случай перевернул.
С этого времени пилот Климов стал раскладывать на атомы каждый свой полет, донимать этим экипаж, и командование, заметив дотошность и требовательность молодого капитана, быстро отправило его на инструкторские курсы. Думающие и требовательные пилоты всегда ценились.
Вывод, который был сделан летным составом Ту-154 в результате поисков правильного варианта действий, был однозначным: при пожаре — немедленная, в течение трех-четырех минут, вынужденная посадка на аэродром вылета. Отработаны были действия на тренажере; оказалось, что уложиться в такое короткое время не так-то просто, но постепенно все научились вертеться вокруг пятки.
Обернулось так, что эта катастрофа подстегнула процесс совершенствования летного мастерства пилотов. Казалось, весь летный состав, эксплуатирующий Ту-154, довел необходимые в таком случае действия до автоматизма.
Скоро сказка сказывается… Понадобилось еще около десяти лет — и снова произошла катастрофа на взлете, уже в Иркутске, и — точно, один в один, — как тогда в Красноярске. И здесь экипаж так же не был психологически готов к отказу управления, и здесь не знал, что делать, сидел в шоке, и снова все погибли.
Да и что ты сделаешь, когда всю свою летную жизнь отрабатывал и отрабатывал тонкое штурвальное искусство управления тяжелым самолетом… а тут — машина не управляется! Все. Читай молитву. Штурвал мертв.
Но у иркутян были особенности.
Во-первых, в момент отказа управления рули у них стояли нейтрально, и самолет находился почти в горизонтальном полете, ну, чуть снижался, и не стремился накрениться, был уравновешен. Отказ управления практически не повлиял на траекторию полета!
Во-вторых, бортинженеру тогда удалось погасить пожар.
В-третьих, был январь, ясный день, и рядом — замерзшее озеро Байкал, естественный аэродром, длиной более шестисот и шириной в среднем шестьдесят километров.
И, главное, на что никто при разборе этих катастроф никогда не обращал внимания: из органов управления на самолете в подобной ситуации оставался вполне работоспособным электрически управляемый переставной стабилизатор.
Климов, к тому времени изучивший наизусть обстоятельства красноярской катастрофы и успевший надоесть своими вопросами и предложениями на эту безнадежную тему своим отмахивающимся коллегам, воспринял иркутский случай совсем уж болезненно.
Ну, неужели иркутяне не сделали выводов десять лет назад? Неужели не пытались продумать варианты? Неужели не задумывались о возможностях срочной вынужденной посадки?
Выходит, не задумывались. И случай этот застал их буквально врасплох, и сознание неминучей смерти ввергло их в ступор. Самолет продолжал полет, а они медленно снижались навстречу своей смерти — и не боролись!
А ведь добавь только режим двум оставшимся двигателям — и перейдешь в горизонтальный полет. Самолет очень мощный, даже на двух моторах набирает высоту, тем более, зимой.
А если одному двигателю добавить, а другому чуть прибрать тягу? Самолет ведь начнет разворачивать!
Значит, в такой ситуации, при отказе или пожаре среднего двигателя и связанном с ним отказе управления, вполне возможно использовать для разворота, а также для управления кренами разнотяг двигателей, хотя он может оказаться и не очень эффективным.
А если использовать отклонение стабилизатора, то, вероятно, можно будет как-то управлять подъемом и опусканием носа самолета.
Только как резво отреагирует самолет на отклонение стабилизатора? Площадь стабилизатора ведь гораздо больше площади руля высоты. Может, малейшее отклонение стабилизатора вызовет такой резкий рывок, что безвозвратно нарушится продольная устойчивость машины?
Правда, в полете, как заметил Климов, эффект от отклоняющегося одновременно с закрылками стабилизатора проявлялся не сразу. Может, заложенное в конструкцию машины довольно медленное отклонение стабилизатора все-таки позволит как-то управлять тангажом?
Проводить такие испытания при создании самолета и в голову ведь никому не приходило! «Титаник» непотопляем! Три независимые гидросистемы!
Климов терялся в сомнениях и все думал и думал об этом, все перебирал и раскладывал по полочкам варианты действий. Он уже ни с кем не пытался поделиться своими соображениями. Слишком сложно все это. Но план действий на такой крайний случай постепенно прояснялся, правда, он пока отлеживался в дальнем уголке мозга.
И все-таки… да минует нас чаша сия!
* * *
Лайнер, наклонив нос, медленно разгонялся. Долгие секунды он продолжал снижаться, правда, понемногу, по три метра в секунду, при этом скорость неуклонно нарастала, нарастала, подошла к отметке 500, перевалила за нее, — и, наконец, с ростом подъемной силы, нос стал потихоньку подниматься. Вариометр показал набор высоты.
— Командир, снижаться надо!
— Садиться надо, скорей!
— Петрович!
— Петрович! Снижайся!
Климов, стиснув зубы, молча наблюдал за приборами и что-то обдумывал.
— Так у нас… у нас что… вообще нет управления? Вообще нет?
Этот вопрос задал дрожащим голосом второй пилот. Он растерянно обвел глазами застывшие мокрые лица капитана и штурмана, потом осторожно тронул штурвал, а затем вдруг судорожно схватил его и стал таскать туда-сюда, одновременно отклоняя рога вправо и влево. Самолет не реагировал.
Капитану было не до объяснений: он внимательно следил за поведением машины, и только где-то на краю сознания мелькнула мысль: «сейчас мальчишка закатит истерику…»
— Тихо! — Крепкий удар штурманского кулака по шее пришелся как раз кстати. Ошеломленный, Димка бросил управление и стал переводить бессмысленный взгляд с одного взрослого дяди на другого:
— А… а как же… мы будем… садиться? — Челюсть его тряслась.
Этот вопрос терзал и остальных членов экипажа, почти подавленных страхом безнадежности. Не было никаких сил терпеть неизвестность, за которой была пустота.
Старый капитан стиснул тонкие губы и выдержал бесконечно долгую паузу. Потом, не отрывая глаз от приборов, четко разделяя слова, решительно произнес:
— Я — знаю, что делать. И мы с вами это — сделаем! Справимся! Вместе!
И такой уверенной силой веяло от капитанских слов, что экипаж, а особенно Димка, еще не совсем веря, облегченно вздохнул. Значит, выход есть? Этот опытный дядька, этот старый волк знает путь к спасению? Можно выкрутиться?
Но внутри, в животе, волчком вертелся комок страха, и от этого верчения мелким зудом дрожало все тело.
В это время земля вышла на связь:
— Девятьсот одиннадцатый, вам удалось потушить пожар?
Они там даже и предположить не могли, в какую ловушку попал лайнер.
* * *
С первых секунд после установки номинального, а потом и взлетного режима капитану стало ясно, что при увеличении оборотов двигателей самолет хоть и поднимает нос, но очень неохотно. На приборе вертикальная шкала тангажа перемещалась относительно линии искусственного горизонта едва заметно, вариометр тоже почти не реагировал. Хотелось самому упереться руками в потолок, чтобы кабина поднималась быстрее. Тяжкие секунды ожидания нестерпимым холодом окутывали сердце. Только когда вариометр показал набор три метра в секунду, Климова чуть отпустило, правда, руки дрожали, и он рефлекторно покрепче ухватился за мертвый штурвал. Мысли метались:
«Да… Если бы мы были чуть ниже… это запаздывание… полон рот земли… Сто тонн массы, вниз… инерция… не так легко остановить… а тем более, направить вверх. Нет, надо уходить, уходить, уходить от земли вверх… только вверх… там разберемся».
— Уходим, уходим вверх!
Надо было набирать высоту, уходить подальше от земли, чтобы выиграть время и получить простор для неуклюжих, размашистых эволюций машины. Предстоящие пробы и ошибки при подборе режима и степени управляемости самолета должны были производиться с большим запасом высоты, гарантирующим от столкновения с землей.
Два оставшихся двигателя, уверенно звеня, потащили лайнер ввысь. Серая мгла за окном окутывала машину, в кабине был полумрак, и капитан добавил освещение на приборной доске. Теплый свет растекся по окошкам приборов; в центре выделялся ярко освещенный шар авиагоризонта, разделенный горизонтальной линией на две половины: голубую и коричневую. Под неподвижный силуэт самолетика на стекле прибора потихоньку подплывал голубой цвет, цвет неба. Лайнер набирал высоту.
Две задачи тут же встали перед Климовым. Первая — в предстоящем наборе высоты не потерять скорость меньше 400, чтобы не свалиться, — а значит, надо будет постараться упредить, чтобы нос самолета начал опускаться именно в нужный момент. Как этого добиться, он пока себе еще не представлял. Он только рассчитывал на стремление устойчивой машины вернуться к исходному режиму полета. Так его всю жизнь учили, доказывая формулами на бумаге, что самолет должен стремиться сохранить нарушенное равновесие.
Вторая задача — когда нос начнет опускаться, не прозевать и не дать лайнеру разогнаться на снижении за предел приборной скорости 600, чтобы машина не начала разрушаться от возросшего скоростного напора.
Таким образом, надо было как-то сузить границы скоростного диапазона и попытаться установить приемлемую скорость для дальнейшего полета.
Первый страх, животный ужас близкой смерти, уже прошел: самолет не падал, а все еще летел и даже как-то реагировал на изменение тяги двигателей. Он все набирал высоту, нос незаметно поднимался, голубой фон явно преобладал на авиагоризонте, и скорость лезущего вверх и вверх самолета начала уменьшаться: сначала чуть сдвинулась, потом медленно поползла от 500 к отметке 400. Перевалит или нет? На 370 уже есть риск свалиться.
Климов взглянул на указатель угла атаки. Запас по сваливанию до этого был почти четыре, а теперь до критического угла атаки оставалось всего три градуса, и стрелка все еще тихонько ползла к запретному красному сектору.
Очень хотелось отдать штурвал от себя! Но делать это было бесполезно!
Климов, не отрывая глаз от прибора, и чувствуя, как в животе скапливается комок нового страха, выжидал. Он надеялся, что устойчивый самолет не полезет на мертвую петлю, а попытается восстановить нарушенный режим равновесия. Ведь он так устроен, что должен стремиться к равновесию! Формулам надо верить!
А если не восстановит? Может, прибрать режим? Тогда нос должен начать опускаться, так устроен самолет. Но и скорость при уменьшении тяги начнет падать сильнее. Что произойдет скорее: опустится нос или же самолет потеряет скорость, затрясется и свалится? Нет, нет, не надо трогать двигатели, остается только стиснуть зубы и ждать! Надо верить!
Высота все росла, уже набрали три тысячи метров. Самолет летел в сером мареве — не то в дымке, не то в слоистых облаках. Линии горизонта, относительно которой можно было легко определить перемещение носа, не было видно, а шкала тангажа на авиагоризонте, хоть и ярко освещенная, была слишком мелкой, чтобы по ней уследить за тенденциями.
Но старый инструктор недаром пролетал на этой машине двадцать лет: уж что-что, а пилотировать по этому прибору, по авиагоризонту, кстати, на «Туполе» — явно не самому совершенному из множества подобных, — он таки научился. Он и ученикам своим постоянно вдалбливал: учитесь пилотировать по тангажу, по авиагоризонту, а не по вариометру! Вариометр запаздывает, а авиагоризонт, какой он ни есть, все равно, точно показывает тенденцию, а значит, можно ее упредить.
Поэтому остановку шкалы тангажа на коричнево-голубом шаре авиагоризонта, а потом ее медленное движение назад, — он уловил. Шар начал медленно поворачиваться под самолетик коричневой стороной. Скорость не дошла еще и до 450, как нос стал опускаться. Следом и стрелка вариометра показала уменьшение скороподъемности.
Устойчивость самолета зримо подтверждалась!
Теперь оставалось дождаться, когда самолет перевалится через положение горизонтального полета и опять станет снижаться, — и снова вытерпеть разгон скорости. Эта размазанная синусоида вверх-вниз должна же когда-нибудь успокоиться.
Климов понимал, что сильно разгоняться — опасно, что никаких резких эволюций и раскачки допускать нельзя. Только мелкие, незначительные изменения режима. Счет будет идти на проценты и метры в секунду. Надо как-то сжаться и работать — не плечами и локтями, а кончиками пальцев. Надо сбалансировать полет на наивыгоднейшей скорости. Стабилизатор… единственный инструмент…
Лихорадочные мысли, вернее, соображения, постепенно, через мокрую спину, через дрожь в руках, возвращались в привычное русло давно продуманных, наизусть затверженных вариантов. Пришло время подтвердить прежние долгие ночные расчеты на практике. Вот сейчас судьба их, эти расчеты, и проверит.
Климов все отдал бы сейчас за то, чтобы только ничего никому не доказывать, — а скорее оказаться на земле, вместе со своими пассажирами. Но выбора не было. Он пытался отодвинуть переживания в дальний угол, но страх все равно просачивался, обволакивал мысли, связывал пальцы. А бояться было теперь нельзя: наступал момент истины!
Когда вариометр показал снижение по 10 метров в секунду и скорость снова поползла к 500, Климов решительно откинул колпачок управления стабилизатором, и под ним открылся тот самый, жизненно важный, заветный тумблер, вернее, два тумблера, скрепленные планкой воедино. Теория устойчивости и управляемости, изложенная в аэродинамике, сейчас должна будет превратиться в практическое оружие пилота против слепой стихии. Никто и никогда до него так не делал. Вот сейчас и станет ясно…
Что ж… деваться некуда.
Нос продолжал опускаться. Ждать, пока скорость разгонится до предельно допустимой, было нельзя. Климов с замиранием сердца набрал воздуха в грудь и отяжелевшей вдруг рукой чуть тронул спаренный тумблер на себя. Тумблер не поддался.
«Ага, он же щелкающий, а не нажимной», — мелькнуло в мозгу. Климов пересилил сопротивление, почувствовал щелчок — и сразу вернул переключатель на место, ожидая броска машины вверх.
Ничего не произошло. Только екнуло в груди.
«Ага! Рывка нет! Ну-ка, еще…»
Он снова щелкнул на себя, чуть подержал и вернул тумблер на место. Машина не реагировала. Он стиснул зубы и удержал тумблер нажатым несколько секунд. И тогда нос самолета медленно, вяло, очень вяло перестал опускаться. Тогда Климов, с какой-то вспыхнувшей вдруг надеждой и отчаянной, садистской радостью, нажал на себя и стал ждать: «Ну, я ж тебя додавлю!» Стрелка указателя положения стабилизатора поползла к единице. Нос самолета заметно пошел вверх; Климов быстро сдернул до половины рычаги газа, чуть отжал тумблер обратно, от себя, еще, еще… Когда нос начал останавливаться, Климов коротким щелчком снова чуть взял на себя и вновь добавил режим. Бортинженер своими рычагами молча выровнял проценты. Климов почувствовал шевеление рычагов под рукой, и теплое чувство мелькнуло в мозгу: не теряется Сергеич, помогает!
Самолет выполнял команды, и выполнял их плавно! Оказалось, стабилизатор отклоняется электромоторами очень медленно, и аэродинамическая сила на нем нарастает тоже медленно! Недаром конструкторы заложили в конструкцию механизма очень большое время полного отклонения на все пять с половиной градусов — целых двадцать семь секунд! Надо только прочувствовать инерцию, темп реакции машины. Уж чему-чему, а этому-то старый пилот за тридцать с лишним лет научился.
Внезапное чувство радости, даже какого-то восторга, явно неуместное здесь, почти в смертельной ситуации, захлестнуло Климова. Он оказался прав! Он правильно рассчитал! Есть средство управления! Есть надежда! Самолет, хоть и вяло, но слушается!
— А, с-сука… — с радостной злостью пробормотал он, — хрен нас возьмешь! Мы еще поборемся!
Экипаж молча наблюдал за манипуляциями капитана. Страх еще крепко держал всех за шиворот, но способность оглядеться уже возвращалась, и главное, что проявилось в сознании, — самолет все еще продолжал лететь! Капитан каким-то образом удерживал параметры полета! И у всех в груди вдруг вспыхнула надежда: «Петрович знает! Петрович спасет!»
Капитан Климов, сначала с неуверенным удивлением, а потом с чувством облегчения человека, вцепившегося в спасательный круг, нащупывал степень продольной управляемости казалось бы ставшего игрушкой стихии лайнера. Все эти абстрактные центры давления, аэродинамические фокусы, суммы моментов и сил вдруг материализовались и сосредоточились в трех пальцах его правой руки. Щелчок… еще щелчок…
Машина, плавно скользя, как с горки на горку, потихоньку карабкалась вверх над тайгой на высоте трех с половиной километров. Вариометр показывал набор высоты то по три, то по пять метров в секунду, скорость гуляла в пределах 450–480, особых стремлений к разгону или потере скорости вроде не наблюдалось…
И тогда у всех, потихоньку, по капельке, медленно, стало выкристаллизовываться и крепнуть осознание того, что раз добиться более-менее устойчивого полета им удалось, то значит… есть надежда! Есть надежда!
Для экипажа символом этой надежды был старый капитан. Он сидел в кресле, сощурившись, с прямой спиной, с рукой, лежащей на козырьке приборной доски, собранный, сосредоточенный, знающий, что надо делать, и жизни всех полутора сотен душ на борту были зажаты в трех пальцах его руки.
Сиденье под ним было горячее, мокрое белье прилипло к телу от шеи до колен, но это было не главное. Об этом можно было даже не думать — сколько раз он выкручивался с мокрой задницей! Важно было то, что он оказался прав! И это придавало старому капитану сил и уверенности, выражающихся в каждой черточке каменного лица.
Климов только беспокоился, выдержит ли отклоненный на один градус стабилизатор повышенную, недопустимую для него в этом положении скорость. Он надеялся на заложенный в туполевскую железную машину русский запас прочности. Теперь он был почти уверен, что сможет в течение длительного времени удерживать самолет на высоте.
Он вытер рукавом пот со лба и уселся чуть поудобнее. Так. Спокойно. Летим. Следить за тенденциями и упреждать. Подобрать темп. Слушается, родная! Так… успокоить ребят…
Он полуобернулся вправо и, стараясь придать голосу уверенности, почти весело крикнул:
— Мужики, живем!
Немного успокоившись, еще пару раз попробовали чуть убрать обороты. Самолет при этом не спеша, вяло, как в замедленном кино, наклонял нос и начинал снижаться. Когда снижение по вариометру достигало десяти метров в секунду, Климов, уже без прежней опаски и страха, отклонением стабилизатора на себя выводил машину из снижения, балансировал ее, и она летела горизонтально, но уже на меньшей скорости. Так удалось постепенно отклонить стабилизатор до двух с половиной градусов и установить горизонтальный полет, ну, чуть с набором высоты, с вертикальной скоростью два-три метра в секунду.
Высота перевалила уже за четыре тысячи. Скорость гуляла около отметки 440. Обороты двигателей Климов постепенно подобрал: в пределах 85 процентов — режим, обеспечивающий выдерживание этой, удобной во всех отношениях скорости, практически в горизонтальном полете.
Все эти манипуляции, как показалось Климову, когда к нему вернулась способность осознавать и оценивать обстановку, — заняли около получаса. Он понимал опытом, что в минуту опасности время как бы растягивается, вмещая в себя сотни мыслей, решений и действий. Для проверки бросил взгляд на полетные часы. Стрелка на малом циферблате показывала, что прошло только девять минут полетного времени. Девять минут с начала разбега!
У него появилось несколько свободных секунд. Он связался с диспетчером и коротко обрисовал положение дел. Самолет удалось стабилизировать по тангажу, но машина пока еще не управляется по курсу. Экипаж сейчас попытается изменять курс, используя разнотяг боковых двигателей. Если получится — пойдут на Байкал и попытаются произвести там посадку на лед.
Диспетчер сдержанно поинтересовался, чем земля может помочь.
— Чем, чем. Ну, свяжитесь с КБ, — с издевкой сказал Климов. — Может, они что посоветуют.
Ему некогда было разговаривать пустые разговоры.
Земля тоже замолчала. Там, наверное, молились.
И вдруг Климов вспомнил, что за спиной у него сидят живые люди.
* * *
На случай возникновения аварийной ситуации в каждом аэропорту существует разработанный и утвержденный план необходимых действий. Он включает в себя схемы оповещения, взаимодействия, расписывает роли, технологию работ, очередность операций, расстановку сил и средств, организацию и руководство действиями служб.
Поэтому через пару минут после доклада экипажа о пожаре на борту аэропорт гудел как улей. Звенели телефоны, голосили селекторы и динамики, с рычанием выкатывалась на позиции специальная техника, по перрону ползли пожарные машины, спасатели загружали в автофургон свои мешки, экипаж дежурного вертолета бежал на стоянку…
Через пять минут спина у руководителя полетов, мотающегося между экранами, пультами, телефонами и другой аппаратурой, была в мыле.
Оповещенный первым, генеральный директор компании раскручивал механизм защиты. Начальнику инженерно-авиационной службы были даны указания насчет проверки и доведения задним числом до ума необходимой технической документации. Начальник инспекции по безопасности полетов уже добывал у командира эскадрильи личные данные членов экипажа, чтобы были готовы первые листы многостраничного дела по будущей катастрофе. Командир эскадрильи бросился проверять летные дела экипажа: все ли проверки и тренировки своевременно внесены в задания, и если не все, то, может, можно еще исправить… Диспетчеры готовили объяснительные, руководитель полетов арестовывал пленки с записью радиопереговоров с экипажем.
В администрации прикидывалось количество будущих жертв и расходы на предстоящие похороны… траур…
В прокуратуре готовились завести уголовное дело по статье «Нарушение правил выполнения полетов».
В милиции ждали команды выслать оцепление к месту катастрофы.
В редакциях навострили перья и обрывали телефоны аэропорта.
Сразу пять телестудий рванули на машинах в аэропорт.
Сразу три десятка машин скорой помощи неслись туда же.
В больницах разворачивалась подготовка к приему раненых.
В федеральной службе безопасности создавалась оперативная группа по разработке версии террористического акта.
В похоронных бюро готовились к своей работе.
В домах людей, улетевших на этом рейсе, родственники ни о чем еще не знали. Провожающие едва успели отъехать от аэропорта.
Но самолет все еще пока не падал. Он сделал большой круг над аэродромом и потянул куда-то на восток.
Когда об этом сообщили в администрацию, в сердцах официальных лиц зародилась надежда, что, может — не дай бог, конечно, — катастрофа произойдет не у нас, а в соседней области… Господи, только бы не у нас…
Диспетчеры, наблюдая засветку борта на своих экранах, вели с экипажем скупые переговоры. И вскоре выяснилось, что экипаж каким-то чудом удерживает машину в воздухе и с достаточной уверенностью утверждает, что сможет довести ее до замерзшего Байкала. Это было невероятно, немыслимо, походило на сказку или бред… но это было так.
Однако давать отбой было рано. Все оповещенные лица были живые люди, и все они, в том числе и работники похоронных бюро, молились сейчас о том, чтобы экипаж как-то извернулся и спас полторы сотни людей, чтобы люди эти остались живы, чтобы горе не пришло в сотни домов…
Сообщили в Москву. Сообщили в Иркутск. Концентрическими кругами стало распространяться напряженное ожидание.
Постепенно стало ясно, что центром событий станет все-таки Иркутск. Там приступили к подготовке спасательной операции.
Самолет пока летел, уклоняясь от иркутской трассы на юг, и следящим за его полетом диспетчерам видно было по своим приборам, как гуляет у него курс, как непостоянна высота. И каждый диспетчер с волнением следил, как медленно перемещается в его зоне засветка борта, и каждый молил бога, чтобы она только не пропала с экрана, и каждый со вздохом облегчения передавал борт под контроль следующей воздушной зоны.
* * *
Прошло несколько минут, наполненных для пассажиров страхом неизвестности. Вдруг над головой раздался щелчок, и спокойный, очень спокойный голос произнес:
— Уважаемые пассажиры. Говорит командир корабля. У нас возникли проблемы с управлением. Мы пытаемся их решить. В целях вашей безопасности приказываю: всем оставаться пристегнутыми на своих местах, хождение по салону запрещаю. Бригадиру бортпроводников пройти в кабину экипажа!
Как будто живой водой брызнуло на пассажиров! Все стали переглядываться и обмениваться короткими фразами. Значит, действительно, авария? Управление не действует? Или все же работает немного? А как же самолет тогда летит? И куда? А как будем садиться? Решит ли экипаж эти проблемы?
Гул множества голосов сменил мертвую тишину в салонах. В руках появились мобильные телефоны. Начались возбужденные дебаты. Строились предположения. Должен же найтись выход!
Пока человек активно мыслит, он жив. Призрак смерти растворился, неизвестность уступила место надежде. Люди всегда надеются на лучшее. Никто теперь не желал даже предположить, что с ним, таким живым, таким вечным, может что-то случиться. Молитвы кончились: то, чего так боялись, уже произошло… и все оставалось как было.
Мальчик-еврей, не замечая ничего вокруг, все так же самозабвенно качался над священной книгой.
Самолет все так же летел в спокойном воздухе.
Ряды пристегнутых людей все так же заполняли пространство салонов.
Но взгляд каждого был устремлен теперь не внутрь себя, а искал поддержки в таком же взгляде товарища.
Единственно: никто из этих людей не мог никоим образом вмешаться и изменить ход вещей. Оставалось только верить в мастерство экипажа: командира корабля, второго пилота, штурмана и бортинженера.
Постепенно шум голосов умолк. Люди пытались глубже осмыслить свое положение.
Напряженная, гнетущая тишина повисла в салонах. Шум вентиляции и звон двигателей практически не принимались во внимание и были нечувствительны для привычного уха.
* * *
Никто из пассажиров не подозревал, что второй пилот практически исключен из действия и является, по сути, таким же пассажиром, который только занимает не пассажирское, а правое пилотское кресло, да знает чуть больше пассажира и от этого больше боится.
Положение Димки было поистине незавидным. Худо-бедно наученный пилотировать, он мог удержать машину в наборе высоты, горизонтальном полете и на снижении, имел слабенькие навыки захода на посадку, и все его умение заключалось, может, разве только в том, чтобы вывести машину на полосу и грохнуть ее о бетон.
Не дай бог, случись чего с капитаном в обычном полете, этих навыков, возможно, и хватило бы, Но как удержать машину без штурвала, да еще и довести ее до места безопасного приземления, он не представлял себе. Не говоря уже о том, как же, собственно, неуправляемую машину посадить.
Поэтому его так и поразила внезапно открывшаяся картина полной беспомощности экипажа в первые секунды. Разбираться же в нюансах, на которые только и рассчитывал капитан, — да у Димки просто не было об этом никакого понятия. Страх моментально лишил его способности оценивать и обдумывать обстановку.
Димка не имел представления о том, как ведут себя самолеты с брошенным управлением, конечно, хорошо отбалансированные самолеты. Климов это знал, испытал и поэтому учил молодых пилотов балансировать самолет так, чтобы у машины не было стремлений отклониться ни в какую сторону и чтобы она летела сама на любом этапе полета.
Димка не знал, каким инструментом можно чуть изменить траекторию полета свободно летящего самолета. Климов это давно продумал и сейчас нащупывал тонкую обратную связь, ответ неуправляемой машины на постороннее непривычное вмешательство в ее балансировку.
Димка не верил, что можно безопасно приземлить неуправляемую машину без угрозы ее разрушения. Климов — верил в такую возможность, и уверенно и упорно действовал заранее продуманными, отработанными методами, и вел ее к намеченному месту, реализуя тонкое чутье машины, выработавшееся за годы работы над собой.
Молодость отвергает опыт стариков, ей нужен свой опыт, наработанный методом собственных проб и ошибок. Климов же использовал не только свой, приобретенный десятилетиями опыт авиатора, но и наработки своих учителей, в которых был растворен опыт предшествующих им поколений пилотов. Старый капитан не имел права на ошибку и стремился использовать все знания, что хранились в его памяти, и все профессиональные навыки, которыми он владел.
Кроме того, старый пилот понимал, что добиться задуманного он сможет, лишь используя слаженную, дружную, точную, инициативную, нестандартную работу всего экипажа.
Экипаж у Климова был старый, слетанный, инструкторский. Привычка работать втроем, обеспечивая полет почти без участия вторых пилотов, которые чаще всего были «переменным составом», позволяла каждому в отдельности и всем вместе решать более широкий спектр задач, направленных не только на собственно выполнение полета, но еще и на учебный процесс, которому пожилые летчики были истово преданы.
И сейчас, в жизненно опасной ситуации, старый капитан рассчитывал на то, что слетанность и большой опыт экипажа освободят его от сложных психологических заморочек, зачастую возникающих среди группы мало знакомых, еще только начинающих присматриваться друг к другу людей, которые вынуждены вместе делать общее дело, да еще в сложной, нервной, аварийной ситуации, на грани катастрофы.
Сейчас заниматься психологией было некогда. Очередной второй пилот, еще не оперившийся, едва только знакомящийся с новым для него видом деятельности, путающийся в кнопках и рычагах незнакомого самолета, не умеющий толком вести связь, до смерти перепуганный, получивший по шее и полностью деморализованный, — мешком сидел в правом кресле, уставившись остекленелым взглядом на разбегающиеся стрелки приборов. Это не помощник. У пацана шок. Эх… летчик… Поддержать бы его теплым словом… да некогда.
В своих старых товарищах Климов был уверен как в самом себе. Это — испытанные, проверенные, надежные воздушные волки. А вот мальчишка…
Мальчишка был плох. Бледное лицо, остановившийся взгляд, белизна костяшек вцепившихся в штурвал рук, — все выдавало крайнюю степень напряжения и страха. Климов опасался, как бы пацан не запаниковал и не сломался от свалившегося внезапного груза ужаса и неизвестности.
Прошло уже немало времени с момента начала развития аварийной ситуации, а второй пилот все не мог прийти в себя. У капитана же все никак не находилось минутки, чтобы как-то подбодрить парня.
* * *
Отпустив кнопку микрофона и чувствуя, что с плеч хоть на время свалилась тягостная необходимость общения с пассажирами, Климов, наконец, смог уделить теперь внимание второму пилоту.
— Дима! Дима! — старый пилот дотянулся до плеча парня и тряхнул его. — Дима! Димка, мать твою…! Ты что — пассажиром сюда пришел? Покататься? Ну-ка давай, работай, е….!
Надо было вышибать клин клином. Экипаж удивленно воззрился на капитана, который никогда не допускал малейшей грубости по отношению к молодым и требовал того же от экипажа. А тут — по матушке…
— Дима, давай, помогай. Давай, давай, работай! — капитан все тряс и тряс второго пилота; у того голова моталась так, что даже наушники перекосило. — Ты живой или нет? Погляди: мы же летим, и летим нормально! Пожар потушили, управляем худо-бедно! Это разве переделка? Бывало и похлеще. Это тебе — впервой, поэтому так и страшно. — Климов увидел отблеск возвращающегося к парню сознания, и тон его стал отеческим. — Все, хватит переживать. Хватит, сынок. Ты погляди, какие у нас мужики. Они справятся! Мы все вместе — справимся! Только работать надо, дружненько работать.
Димка медленно приходил в себя. Он еще не совсем понимал, чего от него хотят, но встряска пробудила его от душившего кошмара рваных мыслей, из которых главнейшей была одна: «это конец… а как хочется жить!»
Полностью подавленный страхом неминучей смерти мальчишка, можно сказать, волею случая ввязавшийся, влипший в эту историю, — молил бога только об одном: чтобы эти опытные, бывалые дяди спасли его. Зачем, ну зачем он послушался отца и влез в эту авиацию! Сюда должны идти только фанатики, которые… которые… ну, не такие, как он.
Он вдруг остро, кожей ощутил, что летная работа требует от человека какого-то стержня, каких-то особенных качеств, которыми он сам ну явно не обладал. На краю сознания пульсировала смутная мысль: «Большие бабки даром не платят», — но связать ее с нынешним полетом он как-то не мог, и не хотел, и вообще гнал от себя все мысли.
Как же ему только хотелось жить! Ни о чем другом сейчас он не был способен думать. И терпеть этот растянутый, сверлящий ужас он больше уже не мог. Ему хотелось завыть и забиться в какую-нибудь спасительную щель.
— Так… какая у нас скорость? Быстро! — капитан сменил отеческий тон на командный! — Скорость?
«Скорость… скорость… зачем ему скорость? Господи!»
— Ну! Работай же! Скорость?
— Четы… — Димка судорожно глотнул. — Четыреста… сорок.
— А курс? Курс какой у нас?
— Курс… — Димка шарил глазами по приборной доске. — Курс… триста… триста пять. Триста три… Он повернул голову влево и вполне осмысленно спросил:
— Мы что, разворачиваемся?
— Ну, слава богу. Соображать стал. Давай, помогай. Следи за кренами и курсом. Крен у нас какой?
— Крен… левый, три градуса.
— Вот и следи, и если превысит пять — кричи. Понял? Крены не более пяти градусов. Я на тебя надеюсь. Понял?
— Понял… — Димка все еще никак не мог прийти в себя, но зацепка в мозгу появилась: крены, крены! Следить и докладывать! Крены… Неужели они справятся? Господи, страшно как…
Климов еще раз бросил испытующий взгляд на второго пилота. Лицо у того стало снова розоветь. Ну, слава богу, вроде отошел. Климову больше некогда было заниматься парнишкой, и он переключил внимание на компас. Тревога о том, сможет ли экипаж направить самолет в нужном направлении, все висела в подсознании, и вот теперь можно было проверить давние предположения.
Авиагоризонт показывал левый крен три градуса, и указатель курса не очень заметно, но уверенно, градусов по десять-пятнадцать в минуту, уходил влево. Вместо севера самолет, медленно разворачивался на запад. По мере разворота в кабине светлело; вот-вот уже должны были выскочить выше облаков, и на горизонте должно было появиться солнце.
— Так, ребята, — не отрывая руки от спаренного тумблера, капитан обернулся через плечо к штурману и инженеру, — давайте-ка попробуем путевую управляемость. Ну-ка: левому — номинал, а правому — приберем… давай восемьдесят. Только пла-авненько!
— Есть левому номинал, правому восемьдесят!
Левый рычаг пошел вперед, правый назад. Тяга левого двигателя возросла, а правого упала. Если бы двигатели были расположены под крылом, особых проблем с путевым управлением не было бы. Но здесь двигатели были расположены слишком близко к фюзеляжу, плечо силы для разворота было невелико, а потребный для горизонтального полета на этой высоте режим двигателей стоял и так уже почти предельный, добавлять было некуда. Уборка же режима противоположному двигателю приводила хоть и к незначительной, но потере тяги, а значит, и скорости, и подъемной силы, и высоты.
Курс сначала остановился, а потом самолет медленно стало разворачивать вправо. Левое, накрененное до этого крыло пошло вперед, подъемная сила на нем чуть выросла, и крен из левого потихоньку перешел в правый.
— Крен правый пять! — срывающимся фальцетом крикнул Димка.
— Молодец! — быстро отреагировал капитан, и тут же снова переключил внимание на курс. Самолет реагировал на разнотяг, надо было только подобрать режим!
— Стоп-стоп-стоп! — легко проговорил Климов сам себе, стараясь, чтобы голос его выказывал командирскую уверенность. — Не так резво! Ну-ка, как там высота? Что — пошли вниз? Добавь-ка пару процентиков правому. Ага, вот так, вот так. Пошел курс? Пошел? Вот и хорошо. Давайте потихоньку разворачиваться на восток.
На удивленный взгляд штурмана Климов твердо повторил:
— На восток! На Байкал!
Витюху, так же, как и всех, ошарашенного внезапностью и быстрым развитием опасной ситуации, вдруг осенило: может, недаром старый волк так много думал и донимал всех своими бреднями о Байкале! А вдруг?
Самолет медленно начал разворачиваться на север и далее на восток. Штурман и бортинженер прикипели взглядом каждый к своим приборам. Мальчишка тоже участвовал в процессе.
«Отлично!» — поймал себя на крамольной мысли Климов.
Высота к этому времени была уже четыре с половиной.
Внезапно за бортом посветлело, и в кабину ворвался свет сияющего мира. Снова потемнело, еще раз посветлело… Самолет не спеша продирался через лохматую верхнюю кромку облаков.
Наконец, вылезли. Над головой было чистое синее небо, на западе, уже за спиной, светило закатное солнце. Розовая верхняя кромка облаков стремительно неслась под крылом раненого лайнера. Экипаж разом вздохнул. Чистое небо, небо их мечты, может, в последний… нет — в крайний раз, раскрыло людям свои объятия.
Слева, далеко вверху, навстречу протянулся ровный белый след встречного лайнера. Климов позавидовал ему.
Теперь, на фоне проявившейся линии горизонта, было хорошо видно, как плавно, будто на гигантских волнах, поднимается и опускается нос машины. Колебания эти оказались очень медленными, — но они существовали; каждый раз, когда нос опускался, в животе тоже что-то чуть опускалось, и руки сами рефлекторно, автоматически тянулись к штурвалу, чтобы подправить… Неосуществимое это желание отвлекало внимание, раздражало, бесило… и, в конце концов, капитан, нажав тангенту триммера, решительно увел бесполезную штурвальную колонку подальше к приборной доске, до упора, а триммером крена повернул рога вправо:
— Все, ребята, забыли о штурвале! Летим без руля и без ветрил! Даст бог, доберемся до Байкала, а там уж как-нибудь сядем. Аэродром безлимитный.
Подумал и, покосившись на второго пилота, буркнул, вроде про себя:
— Сядем, как положено…
Очнувшийся второй пилот пытался осмыслить, что же с ними произошло. Что в это время происходило в нем самом, он еще пока понять не мог, но чувствовал: что-то изменилось внутри.
Штурвалы с отклоненными в одну сторону рогами вдруг создали иллюзию, что самолет стоит на земле, как перед запуском, когда гидросистемы еще мертвы, рули и элероны загнаны ветром в крайние положения и ждут только живительного давления, чтобы скакнуть и застыть в нейтрали…
Гидросистемы, и правда, были мертвы, но… это было не на земле. Смертельно раненная машина как-то еще держалась в воздухе, несясь как на американских горках, только гораздо более плавно, медленно, как по волнам: вве-е-ерх… вни-и-из! И снова:
вве-е-ерх… вни-и-из! И так без конца.
Горизонт темнел; выше него небо стало менять цвет с синего на фиолетовый; белая кромка облаков, несущаяся под крылом, утратила розоватый оттенок и посерела.
С востока, навстречу самолету, надвигалась, наливаясь темнотой, фиолетово-пурпурная линза ночи.
* * *
Обязанности распределили так. Штурман, пытаясь выдержать общее направление в сторону юго-востока, командовал бортинженеру, куда надо поворачивать, вправо или влево. Бортинженер добавлял обороты одному и соответственно убирал их другому двигателю. Ждали. Когда создавался крен и нос самолета начинал перемещаться в сторону крена, второй пилот подсказывал, и штурман давал команду чуть сдернуть назад. После того, как добились выдерживания общего направления, поддерживать курс в пределах сто пятнадцать плюс-минус пять градусов оказалось не так уж и сложно. При маневрах самолет норовил чуть потерять высоту, после выравнивания снова ее восстанавливал, и качание носа вверх-вниз постепенно стало восприниматься почти как норма.
Капитан, не снимая руку с переключателя управления стабилизатором, был готов исправить возмущение самолета, возникающее иногда, то ли от болтанки, то ли от не совсем адекватной манипуляции газами. Несколько раз ему пришлось энергично вмешаться, когда снижение самолета приблизило его к самой кромке облаков. Климов стремился как можно дольше продержаться в условиях визуального полета, при видимой линии горизонта, чтобы лучше понять поведение машины и быть более уверенным в себе потом, когда наступит ночь и ориентироваться в пространстве придется только по приборам.
Он видел, что штурман и бортинженер справляются с выдерживанием курса, и, если бы не смертельное напряжение, вздохнул бы с облегчением, что хоть об этом пока у него голова не болит.
Он нагрузил второго пилота дополнительно контролем за скоростью и запасом по углу атаки. Парень вошел в норму и очень старался. Ему было стыдно за проявление слабости страха — такое понятное и такое простительное с точки зрения старых летчиков, и такое болезненно-позорное в понимании молодого человека.
К его счастью, он не ведал и десятой доли тех проблем и страхов, которые терзали изнутри старого капитана.
Если бы капитану сейчас сказали умные слова «алгоритм» или «оперативный образ», или, еще круче, «механизм информационного поиска», — Климов бы только отмахнулся. Никакого поиска не было, искать было нечего: простое, как мычание, действие, туда и обратно, — вот и весь арсенал приемов.
Рука потихоньку затекала, он периодически снимал ее с козырька приборной доски, разминал, чувствуя, что уже начинает тонкой болью отдавать напряженная шея, но при малейшем отклонении носа машины вниз вновь судорожно хватался за спасительный тумблер. Он молил бога только об одном: лишь бы не отказали электромеханизмы, не рассчитанные на такой повторно-кратковременный режим работы. Он старался сберечь стабилизатор для решения более серьезных задач, предстоящих на снижении, и, загнав страх вглубь живота, стал терпимее относиться к раскачке.
Самолет, плод творчества огромного коллектива, оправдывая расчеты конструкторов, продолжал лететь. Он покачивался с крыла на крыло, опускал и поднимал нос, но, в общем, полет его был устойчив. Так летит авиамодель: пока тянет моторчик, маленький самолетик, качаясь, преодолевает волны воздушного океана; когда кончится топливо, он опускает нос, снижается и плавно приземляется, где уж бог ему положит.
Где бог положит прикоснуться к планете неуправляемому лайнеру, приблизительно знал только капитан, и он упорно вел корабль к расчетной точке. Он был теперь твердо уверен, что до спасительного озера машину с помощью экипажа доведет.
* * *
Тяжелый лайнер летел над просторами Восточной Сибири. Уже позади остались Канск и Тайшет. Красноярский диспетчер дрогнувшим голосом попрощался, пожелал мягкой посадки и отправил на связь с Нижнеудинском. Справа, скрытый под кромкой облаков, тянулся Восточный Саян,
Климов глянул на топливомер. Прошел уже час полета, сгорело восемь тонн, осталось двенадцать. Расходомеры показывали общий расход: шесть триста в час. Он прикинул в уме: с учетом снижения — на час сорок пять максимум.
— Штурман, сколько осталось до Байкала?
— Пятьсот двадцать верст. К траверзу Нижнеудинска подходим.
— Как путевая скорость?
— Тоже пятьсот двадцать. Попутная составляющая восемьдесят. Ветерок двести шестьдесят градусов, сто кэмэ. Через час будем над озером.
«Так… к озеру подойдем с остатком топлива на сорок пять минут полета», — подумал Климов. — «Там уж лишнего времени на раздумья не останется».
Ночь плавно сгустилась вокруг самолета. Правее курса, среди зажегшихся на темно-фиолетовом небе звезд, проявилось знакомое созвездие Ориона, еще правее и выше ярким ровным светом бил в глаза Юпитер. Машина углублялась в ночь, как ныряльщик в воду, и чем дальше на восток, тем темнее становилось небо, ярче полыхали звезды и издали видны были мерцающие маячки встречных бортов. Их следы, пока еще видимые как серые полосы на темном небе, смещались влево, уходили все дальше и дальше на север: раненая машина уклонялась от привычной трассы к югу, ближе к Саянским горам.
Штурман и бортинженер, защищаясь и отвлекаясь от страха привычными, отработанными до автоматизма действиями, дружно работали в тандеме. Летчики вообще народ обучаемый; оба опытных, побывавших не в одной переделке воздушных волка быстро вошли во взаимодействие, перекидываясь короткими рабочими фразами, поймали раскачку машины по курсу и, по мере того как самолет более-менее стал реагировать на разность тяги двигателей, все больше убеждались в том, что даже без гидросистем самолетом можно как-то управлять. Они были даже вроде как рады, что освободили своего командира от рутины наблюдения за курсом. Они были рады, что вообще пока живы, работают, и надеялись жить дальше.
Хотя контроль за кренами был возложен на второго пилота, штурман не совсем доверял мальчишке и все время его подстраховывал. Единственно, что было непривычно штурману — определять сторону крена по авиагоризонту. Наклонялся перед глазами не прилепленный к стеклу прибора неподвижный самолетик с крылышками, а сам коричнево-голубой шар, и трудно было в первую секунду понять, кто куда кренится. Приходилось сначала представлять себе, что силуэтик на стекле — это ты сам, а относительно тебя самого поворачивается мир, олицетворенный в двуцветном шаре за стеклом. И если для пилотов, привыкших годами пилотировать по этому прибору, такое восприятие пространственного положения было привычно, то для штурмана, большую часть своей летной армейской жизни пролетавшего за своим штурманским столиком и практически не работавшим с авиагоризонтами, сориентироваться сразу было трудно. Он как-то внутри себя мельком отметил, что непривычному глазу лучше было бы, если бы кренился силуэтик самолета: накренился влево — значит крен левый; накренился вправо — крен правый.
К счастью, на этом авиагоризонте был еще один индекс, внизу прибора, получивший у пилотов название «отвес». При левом крене он уходил влево, а при правом — вправо. Честно говоря, пилоты и управляли кренами, ориентируясь по этому вспомогательному индексу, и на чем свет стоит кляли этих умных дураков, конструкторов неудачного прибора, прилепивших на стекло вводящую в заблуждение бесполезную неподвижную дурилку в виде самолетика.
Все видящий Климов несколько раз подправлял штурмана, когда тот допускал ошибки, потом просто сказал:
— Отвес влево — крен левый. Понял? Верно, Дима? Отвес влево — добавь левому, правому убери.
Димка был горд, что капитан разговаривает с ним как пилот с пилотом.
Когда Витюха врубился в этот простейший алгоритм, дело пошло, и капитан постепенно перестал отвлекаться на исправление кренов. Он знал, что теперь ребята справятся.
Еще когда только самолет выскочил в синее небо и стал виден размытый, но явственный горизонт, проблема вроде отпала. Но впереди стояла ночь, и опыт работы с определением кренов по прибору должен был потом еще пригодиться.
* * *
Когда в прежние времена Климов приставал ко всем со своим бредовым вариантом приземления неуправляемого самолета на байкальский лед, члены его родного экипажа считали эту идею своего капитана сначала чем-то вроде заскока, потом — вроде мании, потом смирились: у каждого есть внутри какая-то заноза — ну, пусть человек себе тешится этой теорией. Самолет упадет раньше, чем хоть один пункт из этой галиматьи можно будет попытаться претворить в жизнь. Страх скует мысли, уничтожит чувства, парализует волю. Не дай бог! Это будет не с нами! С нами этого не случится.
Теперь же ЭТО случилось именно с ними. Сначала, когда экипаж был потрясен внезапностью, когда ужас протек через все клеточки безвольного тела, — они все, сжавшись и почти смирившись, ожидали только скорой и неминуемой смерти, то есть приближения земли и прекращения существования. Но теперь, после уверенных слов и действий капитана, после того, как машина отреагировала на эти действия, после того, как полет — вихляющийся и качающийся, не очень устойчивый, но все же полет, — продолжался без особых эксцессов, в душе у них появилась тоненькая ниточка надежды, — и штурман с бортинженером лихорадочно уцепились за нее. А по мере того, как самолет, подчиняясь воле капитана, обретал и устойчивость, и какую-то мизерную управляемость, надежда на спасение горячим потоком затопила разум. Капитан — знает! Он прав! У него получается! И вообще, как можно было не верить в такой простой способ спасения? Да мы… да мы и тогда не так уж и сомневались… Да мы в душе верили! Да мы сделаем это!
И снова холодок сомнения шевелился внизу живота: «Неужели же мы сделаем это?»
Но взгляд в сторону каменной фигуры капитана успокаивал: «Справимся!»
Особенно хотелось в это верить молодому, неоперившемуся второму пилоту.
Климов наблюдал за состоянием экипажа. Пока люди были заняты выполнением какой-либо операции, внимание их было сосредоточено на действии. Но как только появлялась свободная минутка, взгляд каждого замирал, стекленел, оборачивался внутрь.
Нельзя было допускать, чтобы темные мысли проникали в душу. Экипаж должен быть занят.
Климов, инструктор до мозга костей, использовал любую возможность для учебного процесса.
— Дима, — улучив момент, сказал он, — посмотри, как легко самолет на двух двигателях набирает высоту. Вот преимущество трехдвигательной схемы. Тяга двигателей симметрична, самолет летит без скольжения, а значит, имеет меньшее сопротивление, и весь избыток мощности идет на набор высоты. А представь себе, что двигатель отказал на двухмоторном самолете. Половина тяги пропала. Тяговооруженность небольшая, а самолет летит раскорячившись. И бороться с ним нелегко. Кстати, давай-ка подсчитаем нашу тяговооруженность! Ну-ка!
Димка взял листок бумаги и, шевеля губами, стал подсчитывать. Ну, слава богу, отвлекся. Только что-то долго считает.
— Дима, ты возьми наш взлетный вес, посмотри, сколько топлива сгорело, отними, это будет текущий полетный вес, — вмешался штурман. — Суммарная тяга двух двигателей сколько?
Димка стал вспоминать.
— Двадцать одна тонна наша максимальная тяга на взлетном режиме. Что теперь надо сделать? — Штурман, озадачив Димку, бросил через плечо бортинженеру: — Степаныч, левый кренчик убери. Ага, вот так, хар-ррош!
Димка снова задумался.
«Да… в голове каши полно, а приоритеты — что надо знать назубок, а что потом, — не расставлены. Вот этому и надо научить за период ввода в строй…» — думал себе Климов, радуясь, что занял экипаж абсолютно сейчас не нужной, но отвлекающей ребят от тягостных мыслей задачей.
Второй пилот, наконец, выдал искомую цифру:
— Двадцать пять процентов получается.
— Правильно, двадцать пять, — подтвердил капитан. — Это же примерно — тяговооруженность любого исправного пассажирского самолета. Исправного! А у нас один двигатель отказал. Вот что такое наша ласточка! Она нас довезет!
Димка, пораженный, задумался. А что делал бы экипаж «Боинга», не дай бог случись такое с ним? Да его просто перевернуло бы. А тут капитан сидит, рассуждает… как будто ничего и не случилось.
— Вот ты на бумажечке приучен считать, — продолжал старый пилот. — А ведь в полете руки заняты. Значит, надо научиться быстро прикидывать в уме. Штурман считает точно, на линейке, — это его работа, — а ты прикидывай. Чтоб в общем твои расчеты с штурманскими совпадали. В общем. Мы с тобой этому еще научимся, — капитан Климов улыбнулся.
Димка неуверенно улыбнулся ему в ответ.
* * *
После того, как капитан сообщил пассажирам всю правду о состоянии машины, в салоне произошло явное расслоение пассажиров, ставших заложниками ситуации, — расслоение по типу мышления и темперамента.
Большинство активных по жизни людей привыкли в любой ситуации как-то на нее влиять. Они, даже сидя в салоне троллейбуса, осмысливают и пропускают через себя все ощущения, все действия водителя, дают оценку его профессионализму, поругивают за огрехи и некомфортный стиль езды, мысленно ставят себя на его место и сами себе говорят: «А вот я бы…»
Есть, наоборот, люди пассивные, ожидающие от судьбы какого-то действия и поступающие в зависимость от этого действия. Это фаталисты по натуре, они легко сдаются на милость обстоятельств и покорно ждут своей судьбы, понимая, что вмешаться в волю провидения невозможно.
С учетом статуса пассажиров — людей, отделенных от пилотской кабины бронированной дверью, а от окружающей атмосферы — железным бортом судна, — такие фаталисты наиболее желанны и удобны для экипажа как идеальные, доверчивые, терпеливые, не мешающие работать, послушные клиенты.
Совсем не то активные личности. Ну, так они устроены, тут природу не переделаешь. Но работать с ними ох как тяжело!
Такой взгляд выработался за долгие годы работы с пассажирами у старой, опытной бортпроводницы Ольги Ивановны. Задатки психолога должны обязательно присутствовать в наборе качеств девушки или парня, желающих работать бортпроводником. Бригадир владела этими качествами в достаточной степени, как настоящий профессионал.
Теперь опытному глазу видно было, что большая часть пассажиров, выслушав информацию капитана, ушла в свои переживания и молитвы, а меньшая их часть активно общается между собой и явно нуждается в уверенном лидере. От того, кто будет этот лидер, зависело, куда будет направлена энергия активной части пассажиров и как поведет себя быстро поддающаяся массовому психозу остальная толпа.
Ни в коем случае нельзя сейчас отдать инициативу какой-нибудь истерической личности: в накаленной страхом и неизвестностью атмосфере одно слово может стать взрывателем паники.
Но твердое слово, сказанное вовремя опытным лидером, может снизить, а то и свести до минимума общее напряжение.
Когда Ольга Ивановна услышала удар, то сразу поняла сквозь пронзивший ее, как и всех в самолете, ужас, что экипаж будет выполнять сейчас вынужденную посадку на аэродроме вылета, а значит, надо готовиться к аварийной эвакуации пассажиров.
Первая мысль была: девочки! Успокоить девочек. Успокоить, настроить, организовать, подстраховать…
Она не знала степени опасности, просто испугалась, как любой человек, как женщина. Но как профессионал, она поняла, что настал ее час, а значит, надо собрать волю в кулак и не сметь проявлять на людях свои страхи и сомнения.
В том, что Климов справится, у нее сомнений не было: она доверяла его мастерству абсолютно. Других таких мастеров летного дела она знала очень немногих, всего несколько человек. И то, Климов выделялся на фоне всех, именно совокупностью всех положительных капитанских качеств, которых у других капитанов иногда не хватало.
Но она по опыту знала, что летная жизнь непредсказуема и может подкинуть такую каверзу, что и огромный опыт не спасет.
Ольга Ивановна ожидала, что вот-вот последует информация командира корабля пассажирам.
Информации все не было. Значит, дело серьезное, и на информацию времени просто нет: капитан занят более важными делами.
Она встала, привычно взглянула на себя в зеркало и, зажав внутри тревогу, прошла через оба салона уверенной походкой знающей себе цену красивой женщины. Тревожные взгляды пассажиров скрестились на ней в поисках хоть тени тревоги. Она улыбнулась легкой профессиональной улыбкой. Все в порядке. Командир знает, что и когда сообщить. Мы подождем. Поманила за собой сидевшую на свободном кресле Наташу.
У сидящих в вестибюле девчонок круглые глаза: «Что? Что это было?»
Она, не снимая улыбки, спокойно и уверенно сказала:
— Девочки, скорее всего, будем сейчас садиться. — Посуровев лицом, помолчала, поглядела в глаза и решительно продолжила:
— Так, приготовились! Собрались! Вспомнили свои обязанности и места по штатному расписанию! Работаем только по команде! Пока всем оставаться на местах!
«Не торопиться. Речь должна быть спокойна. Паузы.»
Еще помолчала, потом весомо добавила:
— А капитан у нас — самый надежный из всех!
Присела на контейнер, готовая мгновенно вскочить при первом сигнале из кабины. Динамики и телефон молчали.
Девчонки сначала оцепенели, потом с серьезными лицами сбросили туфли и начали торопливо переобуваться в удобные уличные сапожки.
Как раз в этот момент прозвучала информация капитана. Ольга Ивановна, занятая внутренней подготовкой к предстоящей эвакуации, не восприняла сути слов, для нее проблемы с управлением были чем-то сугубо пилотским, — да мало ли возникает в полете проблем! Но команда пройти в кабину подхлестнула.
Дверь туда уже была открыта. Все было как всегда, как в тысяче полетов: летчики на своих местах, какие-то радиопереговоры; правда, шибанувший навстречу острый запах мужского пота подтвердил ее подозрения.
Климов, полуобернувшись, держа правую руку на козырьке приборной доски, быстро проговорил:
— Оля, отказал двигатель, у нас серьезные проблемы с управляемостью, всех привязать, хождение запретить, приземлиться пока не получится, успокойте пассажиров, паники не допускать…. ну, ты умеешь. — И добавил: — Мы сделаем все, что сможем. Иди. — И еще вдогонку крикнул: — Главное — по салонам не ходить! Равновесие!
Активность отдельных пассажиров в салоне уже достигла уровня головной боли. Речь не шла о посетителях ресторана — они крепко спали. Речь не шла о выпивших — хмель давно слетел с них как легкая мишура.
Речь шла о том, крутом, с золотой цепью. Сначала он воспринял информацию капитана, как и все: то есть оцепенел и задумался на секунду. Потом его прорвало: он поманил пальцем выходившую из кабины бортпроводницу и стал возмущенно о чем-то спрашивать, чего-то требовать… Ольга Ивановна, потрясенная, никак не могла сосредоточиться и выслушать его. Они не могут сесть! Они не могут сесть! Значит… значит…
Верзила дергал за руку. Она, механически улыбаясь вдруг одеревеневшими губами, с трудом произнесла:
— Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста.
Страх ледяной рукой схватил ее изнутри, и она изо всех сил боролась с ним — такая нарядная, красивая и спокойная.
Она отстранила руку активного пассажира и прошла к пульту громкоговорящей связи. Надо было перехватывать инициативу.
* * *
Основная задача — удержать самолет в воздухе и направить его в нужную сторону — была, в общем, решена. Правда, на решение этой задачи потребовалось истратить приличное количество топлива, пока самолет выполнял растянутый вираж в районе аэродрома. Но теперь, после мучительных попыток, экипажу все же удалось заставить машину лететь в заданном направлении, и даже удерживать на курсе в пределах, обеспечивающих уверенное прибытие на Байкал.
Правда, обеспечение управляемости самолета требовало от экипажа значительных усилий, терпения, твердости духа и веры в успех полета. На сколько хватит сил экипажу, Климов пока не думал. Мозг капитана был занят решением самой сложной проблемы: как безопасно приземлить машину.
Климов, как и все пилоты, был хорошо подготовлен к выполнению возможной вынужденной посадки вне аэродрома. Такова особенность авиации: самолет рано или поздно должен оказаться на земле. Лучше, конечно, ему приземлиться вовремя, но судьба не спрашивает. Поэтому, чтобы уменьшить степень риска, старый капитан, обдумывая ту катастрофу, обстоятельно разбирал все известные ему случаи вынужденных посадок вне аэродрома и делал для себя выводы. Теперь они должны были пригодиться.
Садиться на вынужденную можно с выпущенными шасси, а можно на брюхо. У Климова не было возможности выпустить шасси: на Ту-154 они и снимаются с замков, и выпускаются гидравликой. Оставалась посадка на брюхо, более жесткая, чем на колеса.
Климов еще раз перебрал в уме уже сто раз продуманные аргументы и варианты.
Из всех видов вынужденной посадки на Ту-154 самой опасной является посадка на воду. И не потому, что самолет быстро утонет, — современный герметичный лайнер, если только не разрушится, как раз тонет не быстро. Опасно другое: возможность зарывания какой-либо части самолета в воду в момент касания на большой скорости. Вода в восемьсот раз плотнее воздуха, а значит, на зарывшейся части возникнет такая страшная тормозящая гидродинамическая сила, что самолет, на скорости около трехсот километров в час, кувыркнется вокруг этой тормозящей точки опоры, и его неизбежно разорвет на клочки.
Поэтому посадка на воду должна производиться с убранными шасси и закрылками. Надо особо учитывать, что крылья на туполевском лайнере отогнуты вниз, а значит, малейший крен недопустим.
Посадка без шасси на земную поверхность тоже опасна, потому что самолет коснется земли не колесами, а опять же какой-то выступающей частью: либо брюхом, либо крылом, если посадка на неровную поверхность, либо двигателем, если двигатели под крылом. Эта выступающая часть тоже будет стремиться зарыться, но зароется она не так глубоко, потому что земля тверже воды, однако сильное трение может создать ту же точку опоры и тот же кувыркающий момент.
Неизвестно, что получится при посадке на снег. Здесь снова все зависит от того, как глубоко зароется крыло либо при посадке с креном, либо на неровный склон, встретит ли оно более плотные слои или саму землю. Но все же существует малая вероятность того, что касание произойдет мягко, самолет не зацепится ничем, кроме фюзеляжа, и заскользит на нем по снегу, как на лыже.
Примерно так думал пилот Климов, анализируя давние катастрофы и заранее готовясь к возможной в его летной жизни вынужденной посадке вне аэродрома.
Но все варианты вынужденной посадки предусматривают, что самолет пилотируется, управляется, слушается рулей! И рекомендации сводятся к тому, чтобы пилот подвел машину к поверхности, все равно, к воде или суше, в положении, наиболее соответствующем условиям посадки, и на возможно меньшей скорости. Чтобы свести до минимума возможность возникновения этого страшного кувырка.
Профессионализм пилота Климова был отточен до такой степени, что мог бы обеспечить самую тонкую ручную управляемость машины в самой сложной ситуации.
Сейчас у него такой возможности не было.
Единственная надежда остаться в живых — произвести посадку на лед. Касание любой части машины о гладкую, скользкую поверхность льда, пусть даже на повышенной скорости, — безопаснее, чем прикосновение к любой другой поверхности. Самое главное — не возникнет трения, не будет точки опоры, не проявится стремление к кувырку! А там — свисти хоть десять верст по природному катку. Если, конечно, лед гладкий.
Он заранее перебрал все варианты посадок и, в принципе, конечно, был готов произвести посадку на лед. Но его мучили сомнения.
Климову доводилось летать зимой на Ан-2 над замерзшими сибирскими реками. Он хорошо запомнил, какая там поверхность льда. У берегов закраины гладкие и покрыты снегом, зато ближе к середине стоят торосы — неизбежное следствие мучительной борьбы быстрой северной реки с жестоким морозом.
Он знал о могучих байкальских ветрах и сомневался, позволят ли они гладко замерзнуть поверхности воды в период осенних штормов. И вообще, как выглядит этот лед на зимнем озере?
Перед ним вдруг возникла масса вопросов, казалось бы, никоим образом не относящихся к авиации.
И тогда Климов засел за книги о Байкале.
* * *
Все, что удалось ему вычитать из различных источников о ледовой обстановке на великом озере, сводилось к следующему.
Лед на Байкале набирает максимальную толщину к середине января. Образовавшийся из чистейшей байкальской воды, он очень прочен и очень прозрачен, толщиной до метра. В южной части озера он может быть тоньше, в северной — толще, но зачастую там он покрыт слоем снега.
Если замерзание происходит в тихую погоду, зеленоватая поверхность льда абсолютно ровная; от мороза она покрыта сетью сухих трещин. Климов видел картинки, даже фильмы, и поразился, насколько байкальский лед вылизан ветрами и величественно монолитен.
Но есть места, где ровные ледяные поля, во время штормов, от напора ветра и перепада температур, начинают трескаться и сдвигаться. Все-таки недаром Байкал называют морем. Подвижки льда на нем нередки. Конечно, это не Карское море, с его многометровой высоты валами ледовых гряд, не дающими никакой надежды на вынужденную посадку. Климову доводилось летать над морем, и он имел возможность видеть страшные последствия подвижек льда.
Нет, лед на озере относительно тонкий, и трещины и разводья на нем обычно невелики. Такие трещины называются «становыми щелями», они существуют всю зиму, тянутся на десятки километров и обозначены характерными грядами невысоких торосов, высотой от полутора до трех метров, а иногда и выше, но редко.
Есть еще места неровного льда, образующегося при замерзании воды в ветреную погоду, он называется по местному «колобовник»: вроде как крупная булыжная мостовая, только ледяная. Даже на такой лед, хоть и бугристый, но лежащий строго горизонтально, можно сесть относительно безопасно.
В местах, где вода не стоит спокойно, а циркулирует, поднимаемая донными газами, лед очень тонок, покрыт слоем снега и обманчив: существует опасность провалиться. Это так называемые «пропарины».
Ледяные поля, ограниченные становыми щелями с полосами торосов, имеют размер от десяти до тридцати километров в поперечнике. Лед на них чист от снега, вылизан ветрами, сила которых во время штормов нередко доходит до двадцати и более метров в секунду.
Таким образом, уяснил себе Климов, байкальский лед далеко не однороден, и просто так, наобум, сесть на него без риска не получится.
А где в авиации нет риска?
* * *
Ольгу Ивановну мучили сомнения: что сказать пассажирам, как их успокоить? Она видела, что многие, несмотря на обычный предполетный запрет, уже звонят по мобильникам. Это же только представить себе, как разрастается кольцо тревоги на земле, какой шквал звонков разрывает телефоны аэропорта!
Она представила, как подхватились журналисты, какая бурная деятельность раскручивается в редакциях, и в милиции, и в администрации, и в больницах, какое стадо автомобилей мчится по дороге в аэропорт.
Сейчас начнет раскручиваться истерия, и обратная связь по тем же мобильникам потечет в салоны терпящего бедствие лайнера, накалит там обстановку до предела, и стоит только какому-нибудь безумцу…
Она тряхнула головой, взяла микрофон и начала общаться с пассажирами:
— Уважаемые пассажиры! Наш полет продолжается…
«Да, да: именно продолжается, и мы не падаем…»
Она начала рассказывать, какой у них опытный капитан, сколько лет он летает и как хорошо изучил все особенности этого самолета. И экипаж под стать капитану: все опытные профессионалы, инструкторы. Уж кто-кто, а они знают, что надо делать.
«Да, да, эти седые и лысые мужики, эти мужчины сейчас решают сложную задачу, и надо не отвлекать их, а взвалить часть ноши на себя…»
Она заверила, что полет обязательно должен закончиться благополучно, только надо успокоиться, набраться терпения, а главное, для сохранения равновесия и устойчивого полета машины, — ни в коем случае не вставать со своих мест, покрепче пристегнуться и во всем беспрекословно слушаться бортпроводников.
— Надеюсь, что вы со всей серьезностью воспримете эту информацию. Благодарю за внимание, — стандартной фразой закончила Ольга Ивановна и, чувствуя, как жар бросился ей в лицо, а холод — в ноги, выключила микрофон и бессильно бросила руки на колени. Никогда еще ей не было так трудно общаться с пассажирами: все душевные силы ушли на этот спокойный, уверенный, доброжелательный, будь он проклят, тон.
Она выглянула в салон. Пассажиры вновь вытащили мобильники. Ладно: пусть сообщат на землю, что хоть экипаж у них опытный.
* * *
Решение задачи, которую судьба поставила перед Климовым, заключалось в том, сумеет ли он довести почти неуправляемый самолет до замерзшего озера, найдет ли на нем участок гладкого прочного льда и сумеет ли плавно, невесомо подвести к нему машину.
Приземление самолета обычно происходит следующим способом. Пилот в нескольких метрах над землей убирает до минимума тягу двигателей и начинает рулем высоты пропорционально приближению к земле задирать нос машине, так, чтобы угол атаки крыла увеличивался и поддерживал падающую подъемную силу. При этом машина начинает приближаться к земле все медленнее и осторожнее. В конце концов, самолет прикасается колесами к земле на малой поступательной скорости, в намеченной заранее точке взлетно-посадочной полосы.
Пилот всю свою жизнь совершенствуется в навыке, позволяющем мягко сажать машину точно на полосу, на определенной скорости, в любых, самых сложных условиях, искусно управляя рулями и режимом работы двигателей.
У Климова не осталось рулей. Ему предстояло приземлить, вернее, «приледнить» тяжелую машину, без рулей, с убранными шасси, на фюзеляж, и так мягко, чтобы самолет после удара о жесткий, как сталь, лед остался относительно целым и пассажиры не пострадали. При этом скорость машины при соприкосновении со льдом явно будет не привычные двести пятьдесят километров в час, а раза в полтора выше.
Нормальная, безопасная, небольшая скорость посадки достигается за счет выпущенных закрылков, позволяющих приземляться на гораздо меньшей скорости, чем на «чистом крыле». У Климова не было закрылков. У него в распоряжении оставалось только «чистое крыло»: закрылки, убранные сразу после взлета, уже не могли быть выпущены. Они ведь тоже управляются гидросистемами, жидкостью, которая вращает гидромоторы выпуска. Жидкость ушла. А подъемная сила на «чистом крыле» обеспечивается только на большой скорости. На этой скорости и летел сейчас самолет. На этой, или, если удастся, на чуть меньшей скорости, предстояло прикоснуться ко льду, и не слишком грохнуться при этом.
Требовалось всего-то: подвести машину к поверхности льда очень плавно, почти в горизонтальном полете. Все зависело от минимальной вертикальной скорости приближения к поверхности льда, а регулировать ее можно было только при стабильном снижении, только тонким изменением тяги двигателей — и больше ничем.
Он вспомнил об эффекте экрана. Когда крыло приближается к земле на слишком близкое расстояние, под ним возникает вроде как воздушная подушка, которая поддерживает машину. На этом принципе основан полет экранопланов — летательных аппаратов с коротенькими крылышками, приспособленными специально для полета на воздушной подушке, на высоте одного-двух метров, — аппаратов, относящихся по чьей-то заумной военной классификации к классу «морских судов».
Да Климов и сам, как и многие летчики, неоднократно испытывал влияние воздушной подушки на поведение машины перед касанием о полосу. Иногда приходилось даже чуть «дожимать» не желающий садиться самолет.
Какое влияние окажет воздушная подушка при полете на большой скорости с убранными шасси над самой поверхностью льда? Какое стремление возникнет у машины: не станет ли задираться нос и не придется ли энергично убирать тягу двигателей? Не отойдет ли от поверхности льда самолет? Не станет ли после уборки газа резко падать подъемная сила? Как исправить возникшую тенденцию?
Самолет должен плавно, очень медленно подойти к самой поверхности льда и удерживаться над нею на воздушной подушке. Полет должен стабилизироваться в режиме экранолета. Тогда станет возможным оценить состояние ледовой поверхности и, как только откроется ровное ледяное поле, чуть убрать газ и тут же коснуться льда.
Каковы особенности устойчивости полета в таком режиме?
Он снова засел за книги.
Да, экранолету не страшен отказ двигателя: он при отказе просто плавно опустится на поверхность, над которой скользит.
Но как добиться этого скольжения по воздуху на высоте полутора метров, над самыми торосами?
При подходе ко льду поджидает еще одна опасность. Оказывается, когда начинает действовать эффект экрана, центр давления на крыле смещается назад и самолет получает пикирующий момент, стремится опустить нос и может грубо удариться носом о лед. А приземление должно произойти сразу на все брюхо, и для этого перед касанием надо выдерживать достаточно большую скорость, чтобы машина шла, не сильно задрав нос: может, триста семьдесят, может, четыреста… уж как получится.
Так как же должен быть установлен нос: выше? Ниже? И чем его установить и выдерживать?
Понадобится ли вообще скользить над поверхностью льда, над торосами, выбирая место побезопаснее? Или, может, повезет сразу попасть на ледяное поле и с ходу хлопнуться на гладкий лед? Как его, этот зеленый лед, распознать ночью, в свете фар? Выдержит ли он удар восьмидесятитонной машины?
Узел вопросов, которые накапливались в течение нескольких лет, вопросов, ответа на которые не было, затягивался, решение их все откладывалось на будущее.
И вот оно, это будущее, стало настоящим и потребовало срочного, неотложного решения.
Когда Климов обращался с подобными вопросами к своим коллегам, они обычно махали рукой:
— Да что ты мудришь! Вон американцы же сумели на полосу попасть без управления. Не дай бог, конечно, но если припечет — вывернешься. Ну, развалится самолет, ну, часть погибнет… Кому как повезет. Судьба! — И трижды плевали через левое плечо: нет… не дай бог!
Случай такой, и правда, был. На американском «Дугласе», тоже трехдвигательной схемы, разрушился в полете расположенный в хвосте средний двигатель, а за ним — все гидросистемы, и управление полностью отказало. Экипаж, ювелирно используя разнотяг широко размещенных под крылом остальных двух двигателей, сумел с достаточной точностью привести самолет на полосу аэродрома, но справиться с быстрым приближением к земле не смог, самолет при ударе о бетонку развалился, закувыркался, загорелся, и половина пассажиров погибла.
Климов видел любительскую съемку этой катастрофы. О не хотел, чтобы хоть один человек из полутора сотен пассажиров, доверивших ему свои жизни, погиб.
О своей драгоценной жизни думать сейчас ему было некогда.
* * *
Самолет колыхнуло. Неведомые атмосферные силы приподняли участок воздушной массы вместе с находившимся в нем лайнером, затем плавно опустили. Потом снизу машину снова подхватил упругий воздушный поток. Скорость на приборе стала возрастать, самолет, подчиняясь законам устойчивости, начал неуклюже поднимать нос, чтобы скорость снизилась и вернулась к прежнему сбалансированному значению.
Второй пилот тут же доложил о росте скорости. Пришлось немного сбавить обороты двигателям. Внимание Климова теперь распределилось на предотвращение раскачки и удержание высоты. Опять пришлось привести в действие механизм управления стабилизатором, и снова вспыхнула затаившаяся было тревога, не подведет ли насилуемый агрегат в самый неподходящий момент, не оставит ли он раненую машину без какой-то, хоть приблизительной управляемости в продольном канале.
Только начала успокаиваться синусоида раскачки, как машина снова попала в зону турбулентности. Начались провалы по высоте — плавные, почти незаметные со стороны, — но это были десятки и даже сотни метров по прибору. Если так будет продолжаться до самой земли — как же добиться плавного подхода ко льду с вертикальной скоростью один-два метра в секунду?
Экипаж, работая, тревожно поглядывал на своего капитана.
Климов, неподвижно застывший в командирском кресле с правой рукой на козырьке приборной доски, бросал взгляд на занятых делом членов своей старой, слетанной воздушной семьи, и сквозь напряжение полета и боль в шее и спине теплое чувство пробивалось в душу. Эти — не подведут. Что бы ни случилось, эти ребята будут биться до конца. Надо только хвалить, хвалить независимо от того, получается у них или нет. От похвалы у человека вырастают крылья — ох как же они нынче каждому из них нужны! Особенно этому парнишке.
На второго пилота Климов старался лишний раз не смотреть, чтобы мальчишка не мучился стыдом недавней слабости. Пусть работает. Даст бог, выкрутимся — пацан должен задуматься над жизнью. Такие уроки обычно вправляют мозги надолго.
Он проглотил комок, внезапно вставший в пересохшем горле, и, собрав нервы в кулак, с беззаботным восхищением сказал:
— Не, ну, ничего себе! Как будто век так летали. Ну, экипаж! Ну, молодцы!
Он не замечал капель пота, росой выступивших на лбу и носу. Да и никто этого не замечал.
Ночь уже почти накрыла мир. На темно-фиолетовом небе зажглись редкие бледные звезды, а серая верхняя кромка облаков растворилась в густых сумерках. И только по тому, как в моменты болтанки звезды на время пропадали, становилось ясно, что граница облаков поднимается все выше, и это по верхней кромке так побалтывает.
Скоро в кабине совсем стемнело, пришлось даже приглушить режущее глаза освещение приборов. Климов оставил ярко подсвеченным один авиагоризонт. Надев очки, он напряженно всматривался в деления на шкале тангажа, улавливая тенденции их перемещения относительно самолетика. Он целиком переключился только на продольный канал — опускание и подъем носа для сохранения стабильной скорости и высоты.
За кренами уже давно следили второй пилот и штурман. Витюха давал короткие команды бортинженеру, когда крен начинал увеличиваться больше трех градусов. Без крена лететь никак не получалось: все выдерживание курса и заключалось, собственно, в создании кратковременных кренов в ту или другую сторону. Это балансирование кренами и курсами и составляло сейчас трепетное действо, называемое в аэродинамике боковой управляемостью.
В какой-то миг непродолжительного отдыха, когда самолет на секунду перестал раскачиваться, Климов вдруг наглядно, внутри себя, ощутил суть этого сложного процесса устойчивости-управляемости. Никакие теории, никакие занятия, никакие плакаты, пособия, схемы и фильмы не показали бы быстрее, нагляднее и доходчивее взаимосвязь этих двух противоположных понятий. Бумажные графики и рисунки, абстрактные формулы, показывающие связь сил и моментов, — теперь обрели зримую остроту ножа, приставленного к горлу.
Климов сказал второму пилоту:
— Вот смотри, Дима. Как же это теперь понятно. Стихия стремится раскачать — а устойчивый самолет стремится вернуться в исходное положение. Пилот стремится сдвинуть — а самолет сопротивляется. И надо как-то, косвенными методами, непривычными инструментами, суметь использовать именно то стремление машины, которое требуется в данный момент. Мы это и делаем.
Димка, сидя с серьезным лицом, осмысливал сказанное старым инструктором. Он никогда и представить себе не мог, что жизнь преподнесет ему такой урок аэродинамики.
Будь у него в руках послушный штурвал — не было бы проблем в решении задачи, как обуздать раскачку и одним искусным движением руля помочь самолету стабилизировать режим полета.
Будь в руках послушный штурвал — не было бы сложностей в том, как направить машину по заданному пути.
Все эти вопросы технически решались бы в течение секунды.
А теперь любой крен, любой кивок носом, любое возмущение движения лайнера компенсировались только законами аэродинамики, которые претворялись в действие с большим опозданием, вялыми затухающими колебаниями. И экипаж, реализуя весь свой профессионализм, мог регулировать процесс полета только микроскопическими порциями небольших, с огромным трудом наскребаемых по сусекам физических моментов от стабилизатора и двигателей.
Через поджатый от страха спинной мозг до молодого человека стало доходить, что же это такое — полет и пилотирование в воздухе тяжелого лайнера. Это процесс, когда пилот в нужный момент чуть помогает аэродинамическому закону претвориться в нужное действие.
Но главный урок, который сейчас переваривал в мозгу второй пилот, был урок нравственный.
Почему-то Димке не хотелось теперь думать о своем забугорном компьютерно-летательном будущем. Настоящее оказалось конкретнее, страшнее и интереснее всех мечтаний. Качаясь вместе с самолетом на воздушных волнах и преодолевая в себе холодок страха и недоверия к покалеченной машине, он впитывал в себя те вечные истины, для постижения которых в тепличных условиях потребовались бы годы.
Экипаж, единая команда, плечом к плечу работал сейчас не для совместной добычи денег, а ради спасения полета. Будет спасен полет — будут спасены сами летчики, будут спасены и пассажиры. И уж тогда будут заплачены деньги. Но это не главное. Главное сейчас — долететь туда, где капитан обещает спасение. Он — знает! Он — человек, принимающий решения. Он идет впереди, а я прячусь за его широкую спину.
Нет, никто тут уже не прячется. Все мы сидим и смотрим в глаза одной смерти. Мы боремся! Я борюсь! Но… как же мне страшно…
Так думал теперь этот мальчишка, в котором, как и во всех своих учениках, старый инструктор Климов пытался разглядеть и своим примером зажечь огонь будущего лидера, капитана.
Полет в ночи продолжался, потому что в кабине терпящего бедствие самолета слаженно работали четыре человека. Они исполняли свой долг, вкладывая в спасение все силы, все способности, весь профессионализм. Все свое старание теперь вкладывал в этот полет и молодой второй пилот. Обучение шло методом щенка, брошенного в водоворот. И пока, по наблюдению капитана, щенок, преодолев первый испуг и подбадриваемый примером товарищей, как-то барахтался.
Страх этого полета давил и мешал работать, необычные обстоятельства заставляли Климова изменить все привычные стереотипы, искать новые способы, все время приспосабливаться к новым обстоятельствам и быть готовыми к любому повороту судьбы.
Это требовало огромного расхода нервной энергии, черпать которую каждый член экипажа мог только внутри себя.
Но значительную часть духовных сил и надежды на благополучный исход полета придавала людям спокойная уверенность капитана, цементирующая дружное, слаженное взаимодействие давно знающих друг друга людей. Локоть к локтю, плечо к плечу, спина к спине.
Мальчишка, сидевший на правом кресле, сначала был не в счет. Они жалели пацана, которого судьба бросила в такую страшную передрягу. Помочь ему, подбодрить, просто сказать теплое слово, — сначала было некогда. И все же нашлась у капитана минута, и он сумел вытащить парня.
Теперь же, ободренный и увлеченный примером старших, молодой летчик постепенно укреплялся духом. Мужчина, конечно, должен справиться с собой сам. Только надо чуть помочь ему стать мужчиной.
* * *
Верхняя кромка облаков становилась все выше потому, что машина пересекала холодный атмосферный фронт.
Зародившись на границе полярной и арктической воздушных масс, он стремительно перемещался из северной области высокого давления на юг, в сторону низкого, и представлял собой тысячекилометровый вал ледяного воздуха полярных широт, катящийся по земле со скоростью курьерского поезда. Процесс перемещения холодного воздуха выглядел на земле как снежный буран: вот он-то и ревел ночью, он-то и переносил массы снега, забивая плотными передувами дороги и ложбины и до черной земли обнажая вершины холмов.
Трудно представить себе всю громадность и мощь циклона. Его энергия расходуется постепенно, на большом пространстве, производя огромную разрушительную работу. А если бы собрать всю энергию воедино и выделить в течение секунды — она же все сметет на своем пути, как ядерная бомба. Только на гораздо, неизмеримо большей площади.
В безбрежном атмосферном пространстве, охваченный циклоном, висел пассажирский самолет — маленькая частичка воздушного планктона, влекомая необъятным течением воздушной массы. И управлял им разум человека, сконцентрированный в микроскопических клеточках серого вещества.
Теперь холодный фронт, плавно поворачивая против часовой стрелки с северного направления, уходил на юго-восток, в сторону Байкала, и терпящему бедствие самолету предстояло обогнать его и успеть произвести посадку до того, как свирепое ледяное дыхание севера перевалит Байкальский хребет и выйдет на просторы озера.
Кто — кого?
Климов мучительно вспоминал, как при подготовке к полету выглядела синоптическая карта, как располагались на ней фронты. На севере, он знал, к Норильску подходил теплый фронт полярного циклона, и капитан принимал решение на вылет в Норильск, просчитав все варианты, связанные именно с норильской погодой. А фронты, ушедшие на восток, он отметил просто по давней привычке, краем глаза, и сейчас не мог вспомнить, как далеко от Байкала был нарисован на карте тот фронт, который сейчас, как кошка мышью, бездушно поигрывал обреченным лайнером.
Зимние фронты невыразительны внешне. Сверху видно только, как взвесь снежных хлопьев сбивается в невысокие, жидкие, почти прозрачные кучевые облака, которые своими клочковатыми вершинами не поднимаются выше четырех-пяти километров над землей. Их вытесняет, выдавливает сила катка ледяного воздуха, но энергия подъема, не подпитываемая, как в жаркие летние грозовые дни, солнечным теплом, гаснет уже в нескольких километрах над заснеженной подстилающей поверхностью. Значительных восходящих потоков практически нет, зато ветер дует вдоль земли с беспощадной леденящей силой. И если на его пути встретится препятствие в виде горного хребта, ветер, обтекая горы, стремится прорваться через ущелья, превращая каждое в природную мощную аэродинамическую трубу.
Климов торопился обогнать фронт, чтобы на снижении не попасть под завихрения невидимых воздушных течений над предгорьями в южной части Байкала. Он знал, что глубина фронта невелика: может, восемьдесят-сто километров; скорость перемещения воздушного вала тоже примерно восемьдесят километров в час. Летя со скоростью пятьсот, можно было обогнать фронт, но как близко тот подошел уже к озеру? Ведь над южной оконечностью Байкала придется развернуться на северо-восток и идти уже не перпендикулярно фронту, а вдоль него, и фронт будет быстро приближаться слева, переваливая через Байкальский хребет и стремительно сокращая тот небольшой кусочек времени, который останется у экипажа для производства плавного снижения и посадки на лед.
С другой стороны, это время ограничивалось все уменьшающимся остатком топлива. Надо было торопиться, но… скорей огня — не сваришь.
Он запросил синоптическую консультацию. Через несколько минут женский голос в эфире сообщил ему требуемые данные: фронт прошел Нижнеудинск, он перемещается со скоростью восемьдесят километров в час, расчетное время пересечения береговой черты — через полтора часа, усиление юго-западного ветра начнется примерно через час, потом разворот ветра на северо-западный.
Климов поблагодарил и снова переключился на контроль за высотой и скоростью, постоянно щелкая переключателем.
Болтанка отбирала силы, и капитан, несмотря на уже близкое начало снижения, подумав, дал команду добавить каждому двигателю по пять процентов. Машина стала медленно набирать высоту и, пробив верхнюю кромку, на высоте пять тысяч вновь повисла под черным, усеянным яркими звездами ночным сибирским небом.
Можно было бы минутку отдохнуть. Но тревога, угнездившаяся в душе, крепко стискивала сердце, и холодок в животе не проходил. Оставалось терпеливо дожидаться конца. Никто из членов экипажа не знал, каких усилий будет ему это терпение стоить, никто не мог предположить, какие еще сюрпризы готовит им стихия, и поэтому все были сжаты в ожидании неизвестного.
Их поддерживала надежда на удачу, а главное — на расчеты капитана.
Вышли из нижнеудинской зоны. Диспетчер попрощался и пожелал удачи. Штурман набрал частоту Иркутска.
* * *
Все те нравственные усилия капитана, второго пилота, штурмана и бортинженера, которыми, собственно, и держался этот полет, подпадали под модное нынче научное определение «управление ресурсами экипажа», сокращенно обозначаемое в авиационной среде английской аббревиатурой CRM.
Климов, воспитанник совершенно самостоятельной советской школы летного мастерства, в своих инструкторских изысканиях не обошел вниманием усиленно внедрявшееся в передовых авиакомпаниях новшество. Он добыл этот увесистый документ и посвятил достаточно времени знакомству с ним.
Поначалу у старого пилота теплилась надежда, что он почерпнет в этих западных разработках что-то новое для себя. Он окунулся в первые разделы… и сразу увяз в развесистой клюкве формулировок, определений, классификаций, деления на части, частички, доли, ответвления, деление ответвлений на главки, разделы, подразделы, части, частички…
Он искал в этом документе новое; новым для него оказалось то, что простые вещи, которые были известны ему почти с пеленок, — выдающиеся умы Запада сумели запеленать в строго выверенную, красивую, сложную, пропорциональную, солидную, увесистую, внушительную паутину, строго офисного, вылизанного пошиба.
По мнению создателей этого руководства к действию, сидящих в уютных кабинетах американского университета за чашечкой кофе, — его должны были изучить назубок все как один летчики. Их и заставили зубрить. А вызубрившие этот документ летчики все равно исправно убивают людей в катастрофах, причем, не реже, чем во всем мире, и в той же России, в частности.
К такому выводу приходил старый пилот-инструктор, выпустивший в небо, может, не один десяток толковых капитанов.
Волга впадала в Каспийское море. Но Волга, согласно трактовке этого шедевра, относилась к классу рек, к отряду больших рек, отряд этот подразделялся на горные и равнинные, стремительные и неторопливые, с крутыми и с пологими берегами, а берега, в свою очередь, распределялись по целому ряду своих признаков и отличий.
И за столь великой, цельной, увесистой, внушительной системой, которую впаривали доверчивому русскому летчику прагматичные и дальновидные западные деятели, в кружевах прописных истин как-то затерялся весь смысл, сводящийся к тому, что великая река все-таки в то море просто впадает.
Климов задавал себе вопрос: а может, он просто не дорос до современного понимания? Может уровень его интеллекта не позволяет? Может этот… тьфу, прости господи, индекс, айкью этот, у него не столь высок? Высшего образования не хватает?
Он вспомнил один забавный случай. Как-то раз в штурманской летчики обсуждали проблемы новой, капиталистической жизни. Разговором заправлял кудрявый молодой капитан, с двумя ромбиками на форменном пиджаке, свободно оперирующий высокими псевдонаучными категориями. Он явно чувствовал свое интеллектуальное превосходство. И когда Витюха задал ему наивный вопрос, желая что-то уточнить, кудрявый снисходительно обернулся к штурману:
— Вот ты — не знаю, как тебя зовут… а — Виктор… — вот ты, Виктор, сразу видно, что не имеешь высшего образования… — он повернулся к аудитории ромбиковой стороной груди. — Как бы тебе попроще объяснить…
Срезал. Витюха, кончавший высшее военное штурманское училище, как-то увял и постарался незаметно испариться из штурманской.
Некоторое время спустя тот «дважды умный» капитан при элементарном уходе на второй круг допустил досадную и опасную промашку, чуть не свалил самолет, и CRM ему не помог: сняли во вторые пилоты…
Старый летчик вспомнил, как, бродя по залам музеев и картинных галерей, на экскурсии по которым он вечно таскал экипаж и проводниц, он вглядывался в произведения великих мастеров и прекрасно, без особой подготовки, понимал, что хотел сказать ему художник.
За исключением этого черного квадрата. Он долго ломал голову, что может означать этот шедевр, почему его называют великим, почему его с помпой и треском покупают олигархи, да за такие деньги, на которые можно было бы обустроить приличную авиакомпанию.
Потом, на склоне лет, он понял. Голый король! Голый! И никому не хочется прослыть дураком и невеждой, и все стыдливо лепечут друг перед другом нечто эдакое, про абстрактные, высокопарные, нежизненные понятия. А король таки голый! И Малевич велик тем, что сделал из людей миллионы этих… лепечущих… с индексом айкью… Щеки только надувают.
Привыкший видеть в документах практическую сторону, Климов никак не мог приложить этот CRM к реальному полету. Он вгрызался в эту чуждую систему, пытался вызубрить, вникнуть, разложить по полочкам… Нет, не получалось. Вроде там все было правильно. Очень правильно. Но он пытался увязать документ со своей работой — и увязал в словоблудии. Мозг отказывался воспринимать эту кашу, и, в конце концов, Климов согласился остаться дураком и работать по старинке, так, как подсказывал ему опыт.
Такой документ мог быть сочинен только в обществе, где за великое достижение прогресса считается удалить всех до единого микробов с унитаза. И потом его что — лизать? Стерильное, спрятавшееся от грязи жизни, деградирующее общество.
Деньги правят всем. Впарить, умеючи, можно все что угодно, и так у них большинство свои гроши и зарабатывает. Элои этим и живут, думал старый летчик. Постигая жизнь из окна автомобиля, на котором американцы ездят чуть ли не в туалет, никогда не сотворить жизнеспособного документа. Но пыль в глаза пустить можно, и еще и заработать на этом.
Климов, в бытность свою вторым пилотом на Ан-2, как-то вышел жарким летом из самолета на глухом таежном аэродроме, вернее, простой площадке, вырубленной прямо в тайге, и решил справить нужду под буколической сенью дерев, таких пышных и красивых сверху.
Продравшись сквозь кусты густого подлеска, он вдруг оказался как на другой планете. Трава, росшая выше пояса, путала ноги. Со всех сторон на человека налетели, налипли, впились и покрыли буквально слоем пауты, комары, мошка, гнус… Он терпел несколько секунд, потом во весь дух бросился на открытое место, преследуемый тучей хищной мелкой живности, забился в кабину и все охлопывал себя и не мог дождаться взлета.
Вез Климов тогда таежников, весьма непрезентабельно выглядевших в своих сапогах и брезентовых гачах, с сетчатыми накомарниками на головах, — но вышедших к самолету из той самой тайги, в которой они живут, работают, рожают и выращивают детей, и которая не приняла изнеженного горожанина.
Потом он дня три задумчиво ходил, весь опухший от укусов, чесался и думал о жизни.
Реальная жизнь разительно отличалась от воображаемой издали благостной пасторали. И не дай бог сесть в тайге летом на вынужденную!
Может, поэтому, наученный собственным несладким опытом сибирских реалий, Климов не доверял пришедшим с лощеного Запада новациям.
Сидя теперь в качающемся с волны на волну бедствующем самолете, он вспомнил определение из этого, обязательного для изучения всеми порядочными летчиками трактата, определение, используемое в том ICAO, из которого и спускаются передовой цивилизацией в дикую Расею подобные штучки. Он его, шутки ради, выучил наизусть и иногда пугал коллег тирадой, выдавая на едином дыхании:
— «Осознание ситуации относится к способности человека точно знать, что происходит в кабине и окружающей ее среде. Это понятие распространяется на планирование нескольких вариантов действий в любой аварийной ситуации, которая может произойти в ближайшем будущем. Сохранение осознания ситуации человеком — это комплексный процесс, зависящий от степени понимания человеком, что восприятие реальности иногда отличается от самой реальности. Это понимание поощряет постоянное обращение за информацией (on-going questioning), перекрестный контроль и критическую оценку восприятия, постоянное осознанное обновление представления о ситуации. Оценка собственной и других членов экипажа работоспособности жизненно важна, но часто недооценивается».
Особенно его умиляло строгое: «и других членов экипажа работоспособности».
Сейчас было время как раз осознать и оценить ситуацию. Он ее и осознал, и оценил, в тот самый момент, когда штурвал в руках умер.
Ни умная теория ошибок, ни виды памяти, ни управление рабочей нагрузкой, ни стандартные процедуры, ни методы предупреждения стресса, ни даже само Извлечение из Doc 29 (Appendix 16) и JARTEL WP5, гласящее, в частности, что «признаки стресса и усталости необходимо обсуждать и принимать во внимание», — ни ухом ни рылом не лезли в помощь терпящему бедствие экипажу и не могли быть применены в той страшной ситуации, в которой он оказался и которую вполне осознавал без зарубежных советов.
Вот и этот парнишка, справа, наверно же, в училище набивал голову этой галиматьей, а теперь надо, управляя его резервами, вытаскивать самолет из аварийной ситуации.
Капитан Климов, которого безжалостная судьба поставила в необходимость задействовать все ресурсы, все резервы «членов экипажа работоспособности», видел в этом окрыляющем документе для зубрил — тот же черный квадрат.
Они там, видимо, рассчитывают только на нормальную, рутинную работу, с использованием бесконечного списка подробных советов на все случаи жизни: на какие кнопки нажимать. А случись нестандартная ситуация — бестолково тычут в кнопки и кричат «Боже мой!»
Это — не для нас, решил Климов.
* * *
Витюха Ушаков пришел в гражданскую авиацию с флота. Военный штурман, он летал на Севере, в морской авиации, штурманом-навигатором противолодочного Ил-38 — военного варианта всем знакомого Ил-18, только с более длинным фюзеляжем, набитым сложным оборудованием слежения.
Долгими часами серая машина барражировала на небольшой высоте, выполняя поиск подводных лодок. Скучные эти полеты монотонностью своей надоедали экипажу, и для развлечения придумывались различные, не очень афишируемые аттракционы.
Иногда летчики снижались на предельно малую высоту и, несясь в тридцати метрах над волнами, устраивали проверку нервов: бросали штурвалы и дожидались, кто же первый не выдержит и подхватит начинающую снижаться к воде машину. Остальные члены экипажа зажимали руки меж колен, дожидаясь, пока летчик, выматерившись, не хватался за штурвал. Проигравший потом за свой счет поил экипаж.
Иной раз, вечером, дождавшись, когда раскаленная коврига солнца скроется за горизонтом, правый летчик полувопросительно-полуутвердительно предлагал командиру:
— Командир! Восход солнца — вручную!
Командир снисходительно кивал. Самолет задирал нос, и через несколько минут стремительного набора светило вновь величественно показывалось из-за горизонта.
Гусарская холостяцкая жизнь в далеких гарнизонах, дальние перелеты, дружеские попойки и преферанс в гостиницах, мимолетные встречи с женщинами, снова перелеты, боевые задания, бескрайняя даль северных морей, ледяные поля и айсберги, хмурые обрывистые берега архипелагов, прикрытые сверху одеялом низкой, строго обрезанной облачности, палочки военных кораблей на свинцовой воде, несущиеся под колеса квадраты бетонки, — все это заполнило душу молодого штурмана радостью бытия, он не представлял себе более интересной жизни, прикипел к Северу, как прикипает к нему душа любого, кто отдал Заполярью лучшие годы жизни.
Он хорошо осознал свою необходимость службы, нашел свое место и совершенствовался в навигаторском деле; командир корабля полностью доверял штурману, который по первому требованию точно выдавал ему место самолета, расчетный курс и время полета до точки — и никогда не ошибался. О старшем лейтенанте Ушакове в полку заговорили с уважением, несмотря на его молодость: как навигатор он был настоящий профессионал, и любой командир корабля хотел бы иметь такого специалиста у себя в экипаже.
Но началась перестройка. Армию, как и всю великую страну, залихорадило. Начались политические игры с потенциальным противником, в которых козырями служили полки и дивизии, стратегические ракетоносцы и тяжелые крейсеры.
Настал черный час — и полк противолодочных самолетов расформировали, а летный состав выбросили на улицу.
Это было время, когда в авиации штурман еще считался необходимой и востребованной фигурой. Витюха, хоть и сильно тосковал по морской авиации, по Северу и гусарской жизни, не растерялся, устроился на работу в аэрофлот, в отряд, где еще эксплуатировались старые Ил-18, хорошо зарекомендовал себя и, как только пришли новые Ту-154, в числе первых был отправлен на переучивание.
К тому времени Климов уже был пилотом-инструктором, его старого штурмана списали по здоровью, и бойкого холостого Витюху определили к нему в экипаж. Климову понравился легкий, открытый, компанейский характер нового специалиста, его стремление всегда первым схватить и взвалить на себя самую тяжелую ношу, подставить плечо, сбегать куда-либо по делам экипажа, хотя бегать должен был, по положению своему, второй пилот.
А уж как специалиста капитан молодого штурмана сразу отметил. Прекрасно владея старыми, отработанными методами самолетовождения, Ушаков все время вынюхивал новые способы, приемы, читал литературу, выписывал в записную книжку какие-то формулы. Когда в продаже появились первые заокеанские спутниковые навигационные приемники, Витюха не пожалел денег, приобрел импортный «Магеллан» и в полетах, небрежно плюнув на присоску антенны и прилепив ее к верхнему стеклу, показывал Климову и второму пилоту на крохотном экранчике линию пути, боковое уклонение от нее в десятках метров, расчетное время пролета поворотного пункта и многие другие данные, которые при полетах на наших лайнерах испокон веку рассчитывались на линейке.
Иногда на трассе попадался встречный иностранец, и всегда Витюха расходился с ним, как он говаривал, «брюхом и спиной, тика в тику», чем подтверждал неизменную точность этой ширпотребовской туристической джипиэски, несравнимую с приблизительностью палочно-веревочно-шестеренчатого навигационно-вычислительного устройства туполевского лайнера, созданного для бомбардировщиков еще в начале пятидесятых и переборошенного потом на пассажирские самолеты, за неимением ничего лучшего.
Иногда в шестеренках НВУ что-то заедало, цифирки в окошках застывали, и тогда штурман, подвесив навигационную линейку двумя пальцами над окошком, ронял ее торцом на пульт. Цифры от удара снова начинали двигаться, а Витюха весело поднимал вверх линейку и тряс ею:
— Во! Пригодилась! Как же мы без нее. Нужная вещь!
Но считать на линейке он таки умел. Мало ли что: джипиэска — вещь забугорная; а вдруг потенциальный противник отключит спутники!
Свою, отечественную спутниковую систему навигаторы перестройки похоронили в треске обещаний. Зато иноземные приемники стали широко и успешно использоваться в нашей гражданской авиации. И постепенно молодежь стала доверять этому компьютеру больше, чем древним навигационным приборам.
Опытный штурман Ушаков на разборах не раз предостерегал своих беспечных коллег:
— Глядите, как бы не аукнулось! Командиры, требуйте со своих подчиненных, чтобы не забывали старые, проверенные, дедовские методы. Не хватало еще блудануть из-за отказа джипиэски. Позору не оберетесь.
На второй год полетов на лайнере Ушакова уже сделали инструктором. Он посолиднел, заматерел, а через год решился-таки жениться. Гуляло на свадьбе чуть не полотряда.
Через год у Витюхи родилась дочка, еще через год — сын. И нынче жена его ходила на последнем месяце — Виктор Данилыч наверстывал прогулянное.
То ли привычка к флотским аттракционам в полете, то ли опыт и здоровье зрелости, то ли спокойная уверенность Климова, — помогли штурману в этом полете пережить свой страх, загнать его внутрь, отстраниться от него и сосредоточиться на главной навигационной задаче, которую поставил перед ним капитан: на Байкал!
Когда гидросистемы отказали, первая мысль Витюхи была о детях. Слишком малы они для того, чтобы находящаяся на сносях мать смогла безболезненно поднять их одна…
Дальше думать о семье было просто некогда, а надо было думать о кренах, курсах и скоростях. Но в долгие секунды ожидания между дачей команды и ее претворением в жизнь эти мысли прорывались и терзали сердце.
Нельзя было умирать! Невозможно было умереть сейчас здоровому и сильному мужику Ушакову, когда там остались беспомощные его дети! И самолет пока еще летел!
Виктор Данилыч стиснул зубы, собрал всю свою волю в кулак и приготовился бороться до конца. Он знал множество примеров, и в военной авиации, и в гражданской, когда удавалось выкарабкаться из самых безнадежных положений. Надо только всем дружно бить в одну точку. И эта точка — Байкал! Он приведет их на Байкал! Раз самолет слушается и, пусть медленно, неуклюже, но поворачивается, куда хочет человек, — значит, человек победит. Они, с Петровичем и Сергеичем, — победят!
Он полез в портфель, нашел нужную карту: на ней, главное, нанесена сетка координат. Есть локатор, а значит, мимо славного моря не проскочим. Так, сектор получается градусов… градусов… ну, двадцать. Вот в этот сектор и надо вписать синусоиду линии пути. От южного берега примерно до середины озера. Заходить ведь будем с юга — не так ли? И снижаться заранее. Иркутск надо обойти южнее. Не дай бог что случись — от городских кварталов подальше, подальше…
Он понимал это «не дай бог что» — чисто умозрительно. Возможность падения не исключена, значит, город надо обойти южнее. А перед Иркутском еще Нижнеудинск; его, получается, тоже надо будет обойти южнее. А южнее Нижнеудинска — Восточный Саян, горы до трех тысяч… сильно на юг не уклоняться…
Он собирался обходить города так же, как летом обходил грозы. По возможности подальше от греха, от ненужного риска.
Так, теперь сборник схем и частот. Дальномеры, расстояния, азимуты, позывные, частоты… тьфу ты — все это не пригодится. Земля будет следить, переводить с частоты на частоту, сообщать место самолета. А вот безопасные высоты надо посчитать.
Время от времени кося глазом на авиагоризонт и подавая команды бортинженеру, Витюха углубился в расчеты. Хотя, какое там «углубился», — он делал их буквально на лету, используя отшлифованную штурманскую практику. К моменту, когда машина стала худо-бедно выдерживать курс на южную оконечность озера, плюс-минус пять градусов, основной план полета был составлен и записан, трасса проложена на карте, рассчитано время входа и выхода из диспетчерских зон, записаны частоты связи, определены безопасные высоты и границы, за которые заходить нельзя, рассчитан расход топлива по этапам полета, с поправками на малую высоту и повышенный режим двигателей. Работа, работа, все внимание работе — это не давало пробиться темным, деморализующим, обессиливающим мыслишкам.
Когда Климову понадобилось несколько цифр для уточнения основных параметров полета — листок тут же лег ему на колени. Старый капитан почувствовал, что и сзади, и сбоку — от бортинженера и от штурмана — распространяется надежное человеческое тепло единомышленников. Один он ни за что бы не справился, не хватило бы духу.
Но тот мальчишка, что сидит справа, — способен ли он будет понять, что это такое — дух слетанного экипажа, как он помогает действовать и побеждать не по стандарту?
* * *
Второй пилот Дмитрий Кузнецов не был заядлым театралом и не задумывался над столь часто употребляемым в театральной среде, да и не только в ней, умным понятием «катарсис». Выросший в семье пилота и неоднократно слышавший рассказы старых летчиков о пережитых ими страшных моментах в полете, когда вся жизнь переворачивалась, он верил, что да, в минуты острой опасности человек таки может испытать потрясение, возвышающее его над обстоятельствами и над своим прежним мировоззрением. Дима рос умным, начитанным мальчиком, однако потребности идти в театр, чтобы там, искусственно, окунаясь в лицедейство актеров, доводить себя до состояния просветления, очищения и прочей интеллигентской белиберды, — он не испытывал. Он больше верил в логику ума, чем в силу эмоционального потрясения.
Если бы ему сказали, что вот сейчас, в минуту испытания судьбой, в минуту высшего душевного напряжения, он пережил этот самый катарсис, — Димка бы рассмеялся этому человеку в лицо. Он испытал другое: страх, безысходность, отчаяние, бессилие, — а потом его за ухо вытащили из этого бесконечного ужаса, обматерили и заставили работать, и это как-то помогло отодвинуть страх, скатать его в холодный комочек, и загнать его в уголок под ложечкой, чтобы как все мыслить, работать и спасать полет.
Однако теперь, старательно выполняя возложенные на него, в общем, несложные обязанности, он всматривался в этих дедов совсем другими, благодарными глазами.
Он был благодарен им за то, что о нем не забыли, несмотря на страшное напряжение этого полета.
Он испытывал чувство благодарности к старому инструктору Климову, который сразу, с первого полета отдал ему штурвал, не держась мягко за управление, как те, другие, а доверяя и давая право на мелкую ошибку, естественно, в педагогических целях.
Это не укладывалось в его прежние понятия, которые подразумевали, что в полете надо действовать строго по букве, от сих до сих.
Вообще, весь этот полет, если можно было назвать полетом эту подвешенность между пожаром двигателя и вполне возможным падением машины, — выполнялся не только не по инструкции, а вообще против всякой логики. Следуя прямолинейной логике, самолет должен был уже давно упасть, а он все летел. И пилот-инструктор так уверен в благополучном исходе, что в полете задает задачки!
Существовала, стало быть, иная логика — логика творчества летчика, логика продуманной последовательности действий в катастрофической ситуации, логика, отвергаемая абсолютным большинством грамотных, здравомыслящих пилотов, не желающих заглянуть за привычную грань. Эта логика, вот сейчас, вот здесь, — выделяла капитана Климова и поднимала его над всеми. И второй пилот глядел теперь на своего капитана с благоговением.
Он испытывал благодарность к лысому деду-бортинженеру за своей спиной, который знал и умел так много, — он спас всех от пожара, самого страшного, что только может приключиться с самолетом.
Правда, потом с ними случилось еще более страшное, но это был уникальный, единственный, абсолютно смертельный случай, автоматически именуемый как катастрофа.
Однако самолет летел. И этот старик, все время терпеливо, без отдыха устанавливающий режимы двигателям, а попутно поддерживающий температуру в салонах, контролирующий работу агрегатов и систем, — был в глазах молодого летчика повелителем железа, которое, будучи искалеченным, все же исправно везло их в точку спасения.
Он был благодарен энергичному и умному штурману, который сумел направить самолет в эту точку, используя совершенно нестандартные способы выдерживания курса и без подготовки умеющий определить, далеко ли горы, и не завести в них летящий на малой высоте самолет, — человеку, умеющему рассчитать время этого зигзагообразного полета по непостоянным, меняющимся параметрам и вывести машину на Байкал, а попутно еще контролирующего крены, ведущего связь и решающего в уме задачи, пока недоступные неопытному второму пилоту.
Он был благодарен этим мужикам за то, что они вытащили его из пучины ужаса, подняли до своего уровня и не давали сжавшейся от страха душе снова юркнуть за спину взрослых дядь.
Он взрослел в этом бесконечном полете и не замечал этого.
* * *
Теперь пришло время сообщить пассажирам, каковы дальнейшие планы экипажа. Капитан не был уверен, что пассажиры воспримут его план приземления на байкальский лед с восторгом. Но он понимал и другое. Нельзя в опасной ситуации скрывать правду. Надо, чтобы все терпящие бедствие, находящиеся в одной лодке, знали степень опасности и приняли оптимальные меры для спасения жизни. И, самое главное, — не разрушили бы своими несогласованными действиями тот зыбкий карточный домик, который может спасти всех. Климов складывал этот домик, карта к карте, тщательно и осторожно, почти не дыша. Теперь пришло время раскрыть карты.
— Открой дверь, — обернувшись назад, скомандовал Климов. Надо проверить, хорошо ли слышно меня в салонах.
Петр Степанович открыл дверь. За дверью, натянутая как струна, стояла Ольга Ивановна с бутылками минералки в руках.
— Давай, заходи, ты как раз нужна, — сказал Климов, держа в руках микрофон. Он глубоко вздохнул и нажал кнопку:
— Уважаемые пассажиры! Прослушайте, пожалуйста, информацию, которая… — он на секунду запнулся, — от которой будет зависеть ваша жизнь.
«Да… явно не Левитан. Ну, да и черт с ним. Так… теперь о главном…»
Он тянул паузу, понимая, что сейчас салон, мягко говоря, неадекватно отреагирует.
— Как я уже сообщал, у нас возникла проблема с управляемостью самолетом. Она такова, что лететь мы можем, а попасть на аэродром — нет.
Он снова выдержал паузу. Надо говорить весомее.
— Вторая проблема: у нас не выпускаются шасси.
Из салона через открытую дверь в кабину донесся сначала приглушенный говор, потом голоса слились в непрерывный гул.
Ольга Ивановна побледнела и присела на стульчик за спиной капитана, прижимая к груди бутылки.
Климов, перемежая паузами короткие рубленые фразы, четко и ясно объяснил пассажирам суть посадки на лед Байкала.
— От вас требуется одно: сидеть и не двигаться, — закончил он. Потом подумал и добавил:
— Мы балансируем, как на канате. Самолет наш так устроен, что летит сам, ему не надо только мешать. Прекрасный самолет. Верьте ему: он нас выручит и довезет. Верьте экипажу: мы знаем, что делать. Благодарю за внимание.
Он обернулся назад:
— Так, Ольга Ивановна. Слышала? Давай теперь распределим обязанности.
* * *
Диспетчер Иркутска дал удаление. До Байкала оставалось сто пятьдесят километров. Капитан потянул к себе раструб радиолокатора. На прямоугольном экране бегающий лучик высвечивал темные зигзаги горного хребта и за ним — ослепительно-белую засветку береговой черты и поверхности великого озера.
— Ну что, ребята, — сказал Климов, отодвигая раструб, — аэродром наблюдаю. Большой аэродром. Давйте-ка приступим к предпосадочной подготовке. Штурману выставить курсовую систему на магнитный меридиан аэродрома посадки.
— На какой меридиан?
— На какой, на какой. На иркутский. Давай, Данилыч, выставляй, а мы с Димкой будем посматривать за кренами. Степаныч, правому чуть добавь.
— Добавил два процента правому.
Штурман быстро перевел и согласовал гироагрегаты.
Второй пилот встрепенулся от этого капитанского «мы с Димкой». Его держали за равного в этом экипаже!
За эти бесконечные два часа полета, вернее, балансирования на краю пропасти, Климову открылось так много неведомых до того истин, что уставший от напряжения мозг уже не просил, не молил — он ревел об отдыхе. Тонкая боль в висках растеклась по всей голове и охватывала ее все туже и туже стягивающимися тисками. Временами накатывали даже промежутки затмения. Климов встряхивал головой и пытался заставить себя расслабиться, но встающие перед ним каждую минуту новые, непривычные задачи требовали немедленного решения и претворения в действие непривычными для пилота способами. Рядовое исправление возмущений он производил уже тупо, на подсознании, приспособившись к новому стереотипу. Теперь надо было освободить хоть небольшой участок мозга для составления плана действий на снижении, с учетом опыта, полученного в процессе этого полета.
Все его предыдущие предположения и наработки теперь, в реальном полете, претерпели значительные изменения.
Так, опасение, что невозможно или очень трудно будет удержать полет в устойчивом состоянии, развеялось, и стало ясно, что задача эта решается гораздо проще.
Сомнения в возможности точно выдерживать высоту оказались несостоятельными, потому что выдерживать ее точно и не требовалось: самолет, качая носом, летел себе сам, а главным и самым трудоемким оказалось — выдержать не высоту, а направление, не допуская при этом больших кренов.
Стабилизатор оказался работоспособным и достаточно послушным инструментом для исправления значительных отклонений, но постепенно необходимость в его использовании уменьшилась. Отклонения по тангажу машина неуклюже исправляла сама, требовалось только зажать часть тела в кулак и вытерпеть; потом острота страха ушла, осталась опаска, потом пришло вроде как привычное равнодушие, нарушаемое изредка внезапными толчками болтанки. Климов был даже рад, что натруженные электромеханизмы стабилизатора охлаждаются: ведь согласно Руководству по летной эксплуатации допускалось лишь три полных перекладки стабилизатора подряд, затем требовалось получасовое охлаждение. Сколько уже раз он хлестал пусковым током по нежным обмоткам электромоторов, сколько многотонных усилий выдержал винтовой механизм, — Климов только удивлялся, как это железо еще выдерживает.
А стабилизатор надо было сберечь до самого касания. Исправить возможную внезапную раскачку носа над самым льдом при отказе механизма будет нечем.
Диспетчер Иркутска поинтересовался, скоро ли аварийный борт приступит к снижению. Надо было рассчитать точное время старта спасательных вертолетов.
Климов как раз и занимался предпосадочными расчетами.
Засветка Байкала заняла уже половину экрана. Скоро надо будет поворачивать влево. На каком удалении надо начинать разворот? Каков будет радиус этого вялого, с креном пять градусов, разворота? Сколько времени займет этот маневр? Не пора ли начинать снижение? Удастся ли произвести посадку на участке озера до устья Селенги или лучше не рисковать и пройти это, образованное обширной дельтой реки сужение, а дальше — просторы славного моря и более толстый в северной его части лед… Где меньше торосов? Успеет ли самолет проскочить перед фронтом, в спокойном воздухе, или нет? Как установить и выдержать заданную вертикальную скорость три метра в секунду?
Климов сомневался. Слишком много поставлено на карту. Два часа полета без управления — это уже и так из ряда вон. Испортить все одной единственной ошибкой недопустимо. Надо подкрадываться, издалека, думая наперед. Озеро большое, спешить не надо.
Топливомер показывал остаток три тонны. На тридцать пять, может, на сорок минут. Все, раздумывать некогда. Срок подошел.
Климов, как пловец перед входом в ледяную воду, еще секунду помедлил, потом, набрав в грудь воздуху, нажал кнопку переговорного устройства и начал запись на магнитофон:
— Внимание, экипаж! Прослушайте предпосадочную информацию. — Голос капитана был внушителен. — Погода на аэродроме посадки… озеро Байкал, в пределах… — он осекся, затем по инерции продолжил: — в пределах установленного минимума. Заход визуальный, используем посадочные фары. Механизация ноль. Посадка вне аэродрома, на фюзеляж, скорость повышенная. Выравнивание с использованием отклонения стабилизатора. На случай отказа стабилизатора на выравнивании — продолжаем снижение с плавным увеличением режима, вплоть до касания. После касания поверхности льда двигатели выключить, самолет обесточить. Все — по моей команде. Управление курсом, исправление кренов — штурман и бортинженер; управлять тангажом буду я. Особое внимание всего экипажа — стабильность вертикальной скорости, три метра в секунду. В случае превышения вертикальной вблизи льда — добавляем режим, уход вверх и повторная попытка. Высоту контролируем по радиовысотомеру. После остановки самолета всем оставаться на местах. Дежурное освещение — по команде. Эвакуация не понадобится: пожара не будет — гореть уже нечему. Штурману: перед приземлением засечь координаты места посадки и передать их спасателям. Вертолеты дежурят. Всем плотно пристегнуться, дверь пилотской кабины открыть и закрепить. На пробеге возможно повреждение носовой части самолета торосами, деформация фюзеляжа. Готовность к снижению доложить!
— Бортинженер готов!
— Штурман готов!
— Второй пилот готов!
— Готов! Контроль по карте!
Все шло как в обычном полете. Только аэродром был без радиосредств посадки, без светового старта, без установленного минимума погоды… и почти без границ. Климову надо было дать понять экипажу, что все идет как всегда, обычное дело… долетели до места, надо снижаться.
У капитана в животе вновь возник холодок: «Неужели таки сядем?»
Он на время отогнал сомнения и скомандовал:
— Ну, с богом! Потихонечку сбавляем режим, давай пока на пять процентов.
Машина медленно опустила нос, вариометр показал снижение по четыре метра в секунду, Климов снова взялся за тумблер управления стабилизатором. Высотомер начал медленно отматывать высоту.
Штурман глянул на сидящего слева командира и то ли ему, то ли себе, а заодно и бортинженеру, дал команду:
— Поехали влево! Крен пять! Добавь правому, убери левому! Так, хватит.
Засветка береговой черты на экране начала медленно, почти незаметно поворачиваться по часовой стрелке.
Климов взял в руку микрофон и спокойным, проникновенным голосом обратился к пассажирам:
— Уважаемые пассажиры! Наш самолет приступил к снижению. Через… — он еще раз глянул на топливомер — через двадцать пять минут мы произведем посадку на лед озера Байкал. Пожалуйста, пристегните ремни и выполняйте указания бортпроводников.
* * *
Весь этот полет был для молодого второго пилота сплошным открытием и потрясением. Все оказалось не так, как он себе представлял на земле эту свою будущую, любопытную и не более, летную работу.
Летная работа оказалась опасной, страшной, искренней. Она смотрела не в глаза — прямо в душу, она заставляла задавать себе вопросы и искать на них быстрые и правильные ответы. Она была как зеркало и открывала все изъяны. Она оказалась страшно интересной, мужской, ответственной. Она заставляла думать над жизнью.
Работа экипажа в таких условиях, которых даже и предположить было невозможно, приводила Димку в трепет восторга, смешанного с завистью.
Ну откуда у них столько сил и жизненной энергии? Как они преодолевают страх? Как они умеют терпеть эти мучения, делая при этом свое дело без жалоб, да еще и подбадривая слабого? Как они чуют друг друга, понимая с полуслова? Почему они так тепло, по-братски, сердечно обращаются друг к другу, несмотря на то, что смерть за плечами?
Какие мужики!
Даже притаившийся в животе страх на время уходил куда-то, когда Димка с восхищением наблюдал, как умело выполняет экипаж сложный маневр, подстраховывая и упреждая друг друга, причем, кажется, будто все это получается само собой.
И управляет непростым процессом вот этот старый, мудрый, внушающий уважение капитан. Он все видит, все чувствует, все знает наперед, обо всем догадывается, ничего не упускает, всему определяет место и время, и от этого в кабине так спокойно… как только может быть спокойно в кабине терпящего бедствие самолета.
«Мы терпим бедствие. То есть: мы летим на Байкал и там сядем на лед. И все дела».
Вдруг до Димки дошло, какое великое дело предстоит им сделать и на какой ниточке висят сейчас жизни полутора сотен пассажиров. И ужас понимания ситуации ледяной рукой снова сжал ему горло.
* * *
Славное сибирское море простиралось перед ними, скрытое непроницаемой завесой ночи. Звезды светили на черном фоне так ярко, как они могут светить только летчикам, поднявшимся в заоблачную высь. Свет в кабине был приглушен, и звездное небо сияло во всем своем праздничном великолепии. От горизонта до горизонта полыхали созвездия, их невидимые астрологические линии тянулись к самолету и перекрещивались снопами предсказаний.
Но судьбы пассажиров нынче не подчинялись светилам; одна судьба командира экипажа, старого пилота Климова, его звезда определяла сейчас судьбу всех. Все — и экипаж, и пассажиры, и их родственники и друзья на земле, и коллеги в воздухе, и милиция, и врачи, и администрация, и ведущие лайнер по небу, впившиеся глазами в его засветку на экране диспетчеры, — все молились только об одном: чтобы Бог, Создатель, Творец, Спаситель, — укрепил его дух и руку.
Впрочем, рука на выполнение этого полета почти не влияла. Она уже отваливалась.
Климов положил ее на колено, опустил плечи и стал похож на усталого серого грифа, с морщинами на голой жилистой шее. Он берег остатки сил. Он все свое профессиональное умение направил на сбережение этих остатков. Изредка исправлял раскачку носа, а потом снова ронял руку на колено.
Великий Байкал, от края до края растекся по экрану. Справа наплывала дельта Селенги, за нею, переключив масштаб, можно было разглядеть прихотливый, похожий на головку дятла, силуэт Святого Носа. Самолет снижался по середине озера, целясь аккурат на острие южного мыса.
Ледяной панцирь застывшего в зимнем сне великого водоема тихо дышал. Невидимые течения перемещали слои чистейшей, самой прозрачной в мире воды, и ледяные поля, сжимаемые трением воды снизу и давлением мороза сверху, трещали с грохотом, напоминавшим пушечную канонаду. По становым трещинам корежило кромки льда, выдавливало и укладывало валами и грядами, коверкало и топорщило торосы. Мороз прихватывал причудливые ледяные стенки, чтобы через день-два их разрушило и уложило в гряду, а на смену выжало и поставило торчком новые обломки.
Озеро жило, пусть в зимней дреме, под ледяной шубой, но жило: в пропарины выглядывали усатые мордочки нерп; стайки омуля и голомянки кормились в глубине, чтобы впоследствии самим стать кормом для грациозных зверьков.
Целый мир, чуждый, огромный, холодный, страшной глубины мир сибирского моря, ждал, когда у зудящего над головой самолета кончится топливо, или иссякнут силы экипажа, или сломается воля его капитана.
* * *
Бортинженер Петр Степанович Сергеев изнемогал. Левая рука, прикипевшая к рычагам управления двигателями, затекла и отказывалась служить. Голова была как во хмелю, сознание сузилось и вмещало только восприятие и реализацию команд штурмана:
— Давай, Степаныч, чуть вправо: левому добавим, правому уберем. Так, хорошо. Теперь правому чуть добавим. А теперь чуть сдернем обоим.
Пальцы левой руки, охватывающие два крайних рычага, все время шевелились и подправляли проценты оборотов. Кисть, уставшая поворачивать головки влево-вправо, ныла тупой болью. За всю свою жизнь Сергееву не довелось столько раз — и так тонко и часто — менять режимы.
Самолет, вяло подчиняясь движениям его пальцев, медленно переваливался из крена в крен. Иногда совместными усилиями им со штурманом удавалось поймать нейтральное положение, и тогда можно было на секунды снять руку с рычагов и помассировать кисть. Он пробовал управлять рычагами с помощью обеих рук, потом только правой рукой, — не получалось, было неудобно и, в конечном счете, еще труднее. Командир экипажа не мог помочь ему, перемещая свои, синхронные рычаги на центральном пульте, потому что и рука его, и внимание были заняты работой с переключателем стабилизатора; кроме того, пилот никогда так точно не установит режим, как это делает бортинженер. И при заходе на посадку обычно пилот дает команду, цифру, проценты, а бортинженер устанавливает рычагами обороты по шкалам своих тахометров.
Да и отвлекать капитана от главного, сохранения скорости, было нельзя.
Многолетняя привычка устанавливать режим всем трем двигателям одновременно, постоянно подправляя обороты и приводя их к одному и тому же значению, мешала сейчас бортинженеру, давила на психику именно тем, что, борясь всю жизнь с разнотягом, нынче он должен был именно сам устанавливать разнотяг, да еще по командам штурмана, то влево, то вправо. Кроме того, при этих манипуляциях надо было сохранять общую суммарную тягу, чтобы сохранялась постоянная скорость полета, — а значит, все время считать, складывать и отнимать цифры. Уставший мозг уже начал путаться. Спасало только ощущение родного человека рядом, сознание того, что этот человек понимает его трудности и всей душой желает помочь. Виктор Данилыч и так отдавал ему команды ласково-небрежным тоном, в котором улавливалась спокойная уверенность профессионала.
— Может, местами поменяемся, а, Степаныч? — Штурман был всерьез обеспокоен, хватит ли до посадки сил инженеру, и так пережившему сильнейший стресс при тушении пожара. — Тут ты хоть двумя руками будешь работать, а то весь перекосился…
— Да ладно, Витюха, потерпим…
Если честно, бортинженер уже как-то философски относился к тому событию, которое теперь, в конце полета, стало для него далеким прошлым: казалось, целое столетие прошло с того момента, когда он, лихорадочно нажимая кнопки пожаротушения, с замиранием сердца ждал погасания проклятого табло. Ну, потушил; подумаешь, пожар… первый год летаем, что ли.
Теперь для него главным было порученное капитаном дело: держать крены, ну, и попутно, для штурмана, этот курс. Байкал большой, не проскочим. И он старательно, на пару со штурманом, при участии второго пилота, эти крены держал. Ведь, распределяя обязанности, Климов очень доходчиво объяснил:
— Кренов не допускать! Прозеваем крен, возникнет скольжение, машина опустит нос — и лови ее тогда. Держать крены! Из диапазона плюс-минус три градуса, максимум пять, — не выходить!
Поэтому Сергеев четко расставил для себя приоритеты: главное — равновесие самолета, а потом уже — состояние агрегатов и систем. Ну, не может уже теперь случиться, чтоб еще что-то отказало. Ящик Пандоры и так открыт настежь, все несчастья экипаж получил сполна, сверх меры, как никто другой.
Однако за параметрами работы систем он краем глаза следить успевал, комфорт в пассажирских салонах обеспечивал, топливо из групп баков вырабатывал равномерно, к собственной усталости относился хоть и стиснув зубы, но спокойно. Он был обеспокоен другим: вот-вот должна была загореться красная лампочка сигнализации малого остатка топлива.
— Петрович, торопиться надо! Две семьсот осталось! На режиме снижаемся, расход большой, минут на двадцать пять хватит, а там, может, бог даст еще пару-тройку минут — и все. Заначки нет!
Климов, попеременно со штурманом вглядывающийся в экран локатора, ловил курс в нужную, одному ему известную точку великого Байкала. Как ни старался он упреждать, но разворот затянулся, и со снижением немного запоздали. Уже траверз Селенги ушел назад, дальше море расширялось; слева под крыло подплывал длинный остров Ольхон, вдали, за сто шестьдесят километров, прямо по курсу, на экране отбивались крутые утесы Святого носа. Он бросил взгляд на высотомер: три сто. Вертикальная скорость — четыре-пять. Даже если снижаться по четыре метра в секунду: в минуту двести сорок метров, за четыре минуты потеряем километр высоты, за двенадцать минут — три…
— Успеем. Минут пятнадцать еще. Да пока выберем место, еще минуты три пройдем на малой высоте.
Климов говорил спокойным, чуть уставшим тоном, как о давно решенном, привычном, надоевшем, набившем уже оскомину деле. Никто из ребят, а больше всего мальчишка, не должны испытывать сомнений в безопасности посадки.
Старый капитан один знал, чего ему стоит этот спокойный тон, какое внутреннее напряжение он скрывает. Он сомневался, чуял и ожидал от стихии еще чего-то, какой-то опасности, которую мог не учесть. А думать, перебирать и вспоминать было некогда.
Штурман беспокойно заерзал на своем жестком креслице:
— Петрович, ты не забыл — на высотомере стоит давление 760, а Байкал-то над уровнем моря — 450 метров? Осталось до льда не три тысячи метров высоты, а две с половиной. По три метра в секунду — четырнадцать минут. При нашей скорости — это лететь километров сто десять. С этим курсом упремся в Святой Нос, надо прижаться чуть влево, к Ольхону. Давай возьмем курс тридцать пять.
Климов не успел ответить. Машину внезапно ударило под крыло мощным потоком, она накренилась и повалилась вправо, опуская нос. Сердце вместе с показаниями высотомера рухнуло вниз. Он только успел сказать себе: «Вот и все». Через открытую дверь из салона донесся общий крик полутора сотен глоток.
Фронт таки догнал их, как раз возле Ольхона. Климов с внезапным, поздним, безнадежным прозрением вдруг понял, предчувствие какой опасности так его угнетало. Это была сарма!
Огромный мир Байкала, не дождавшись, когда сдастся летящий над ним лайнер, перешел в наступление сам.
* * *
Пока самолет приближался к Байкалу, Димка Кузнецов успел сделать для себя кое-какие выводы.
Во-первых, мы еще живы, а значит, есть надежда, что полет окончится благополучно.
Если все окончится благополучно, надо долетать с Климовым программу ввода в строй. С таким инструктором, с таким капитаном, с таким человеком Димка теперь был готов идти в огонь и воду.
Димка за этот час узнал о своем капитане и его экипаже столько, сколько не узнал бы за год благополучных полетов. В этом экипаже он готов был теперь летать вторым пилотом хоть всю жизнь.
Дальше пошли мысли насчет заграницы и родины.
Легче всего — сбежать. Покинуть родину, найти себе другую. Это как бежать из одного экипажа, приспособиться к другому, потом к третьему…
«Они меня не бросили! Они меня вытащили! Они на меня надеются!» — Димка еще немного стеснялся этих, таких правильных, таких сусальных, таких тривиальных мыслей, выскажи которые вслух в группе современной молодежи, между дружками своими деловыми, он был бы осмеян.
А на смену этим мыслям приходили новые, еще более правильные, выспренные и пафосные.
«Из этого вот самолета не сбежишь, пройдешь с ним до конца. С вон теми пассажирами, которых везем. Они на нас надеются, верят в нас. В меня…» — Димке стало нехорошо, муторно на душе. Он не мог отогнать то очевидное, что высветилось перед ним в небе.
Он — недостоин этого доверия. Пока недостоин. Слаб.
Ему вдруг открылась одна, совершенно непредвиденная, безжалостная истина. В небе не солжешь. Даже самому себе. Тем более — самому себе. Здесь, под гнетом опасности, ты должен дать себе отчет: чего ты стоишь на этой земле, в этом небе, в этой стране, среди этих людей, что доверились тебе.
Он представил себе, что могут подумать о нем эти настоящие мужики, небесные трудяги. Ему стало тошно — Димка был очень самолюбив…
Он впервые задумался о людях, среди которых надо жить. Не о нужных, используемых для своих удобств, для карьеры личностях, а о людях вообще. Что думают люди о нем, выходя из самолета? А те, кто ждет на земле?
От следующей за этим мысли холодом сжалось сердце.
Что подумают о нем, идя за гробом? Что скажут? Ведь самолет еще не сел…
Он впервые постиг смысл древнего изречения «Memento mori». Помни о смерти! Что скажут о тебе после тебя?
Он вернулся к мысли о родине. Территория, где родился, называется родиной с маленькой буквы. А та страна, среди людей которой ты живешь…
Они все, вся страна, летят в одном терпящем бедствие самолете. Родина терпит беду. Рушится в ней многое.
Что же теперь: удрать за бугор — и трава не расти?
Он начал понимать цену пафосу. Когда самолет в беде, надо спасаться всем вместе. Дружно. Доверять друг другу. Плечом к плечу. Спина к спине. Как вот мы сейчас.
Только вот где найти второго Климова?
Вопросы становились все сложнее, он не находил ответа, да и размышлять особо было некогда. Но вода дырочку прососала, и уже теперь не остановить.
Он точно утвердился для себя лишь в одном: надо стать таким же, как эти деды, и лучше их.
* * *
Предстоящий процесс спасания пассажиров включал в себя не только безопасную посадку на лед. Мало было завершить неуправляемый полет по воздуху и остановиться на поверхности льда. Самолет при посадке мог деформироваться или даже развалиться на части при ударе о торосы. В заледеневших салонах долго не высидеть, а выходить на открытый воздух во время шторма, который должен был вот-вот разразиться, заведомо означало верную смерть. Неизвестно, сколько времени может продлиться этот буран на ледяной поверхности озера, где кроме чистого, стерильного льда не найти больше ничего.
Что касается бортовой вспомогательной силовой установки, способной обогреть салоны, — экипаж мог и не запустить ее после приземления из-за возможной полной выработки топлива.
Если задует всерьез и придется пережидать, вполне возможны обморожения и даже смерть кое-кого из ослабленных пассажиров.
Поэтому, войдя в зону Иркутска, Климов сообщил примерные координаты места и время предполагаемой посадки, чтобы вертолетчики из МЧС рассчитали заправку, наметили маршрут и подготовились к спасательной операции так, чтобы, не теряя лишней минуты, успеть эвакуировать людей поближе к жилью.
Оказалось, что уже давно дежурят в готовности номер один экипажи и машины, спасатели и врачи, готово и уложено все оборудование, которое полагается иметь профессионалам, занимающимся сложным делом спасания людей, намечен предварительный маршрут эвакуации. Все ждут только команды на взлет.
Конечно, скорость самолета вдвое больше скорости вертолетов, поэтому время старта спасательной операции было рассчитано с упреждением. Вертолеты взлетели и легли на курс к предполагаемой точке приземления аварийного борта еще до того, как он приступил к снижению. Самолет должен был обогнать их только перед самым приземлением, чтобы помощь подоспела в первые же минуты после его остановки на льду.
По прогнозам синоптиков видимость над озером была пока еще более десяти километров. Вертолетчики рассчитывали даже наблюдать визуально маячки и огни снижающегося лайнера.
Но оказалось, что экипаж ошибся с расчетом разворота и снижения и предполагаемая точка приземления будет дальше. Терпящий бедствие самолет обогнал спасателей и уходил от них все дальше; каждую минуту вертолеты отставали от него примерно на четыре километра. Тревожно мигающие красные маячки лайнера скоро скрылись из глаз, растаяв во тьме.
Спасатели сначала рассчитывали, что лайнер приземлится, не долетев до острова Ольхон, и беспокоились, выдержит ли лед. Известно же, что лед на Байкале тем крепче, чем дальше на север. Кроме того, гидрологи предупредили, что в районе Ольхона часты подвижки льда, который весь изрезан здесь становыми трещинами, а вблизи Ольхонских ворот и около северной оконечности острова не исключаются замаскированные пропарины.
Вся возможная информация о состоянии льда, все рекомендации были переданы на борт. Оставалось выбрать место приземления и согласовать его со спасателями.
Сначала, по докладам экипажа, выходило так, что самолету хватит топлива только до Ольхона. Может даже, придется приземлиться раньше. Все зависело от того, удастся ли выдержать стабильное снижение.
Потом экипаж дал поправку: топлива вроде должно хватить до района Святого Носа.
В это время синоптики передали, что холодный фронт подошел к Приморскому хребту. Пилоты вертолетов предвидели это и шли на большой высоте, опасаясь местных горных ветров и связанной с ними болтанки. Но предупредить экипаж терпящего бедствие лайнера никто не успел: он вышел из зоны устойчивой радиосвязи, и склоны гор поглотили информацию, а когда с борта вертолета ее продублировали, лайнер уже падал.
* * *
Слово «сарма» на Байкале известно всем: нет страшнее ветра, внезапно вырывающегося на просторы славного моря из узкого ущелья, по которому протекает речка Сарма. Ветер-душегуб, он ежегодно берет дань — человеческими жизнями. Это — беспощадная, страшной силы стихия, бороться с которой невозможно: от нее не убежишь, не спрячешься на воде, и бывалые рыбаки благодарят судьбу хотя бы за то, что сарма обозначает себя определенными признаками и дает отсрочку около получаса, чтобы люди успели причалить и найти укрытие на берегу. Кто не успел или кто не придал значения тому, что облачные «ворота» над ущельем приоткрылись, того ожидает верная смерть. Ураганный ветер усиливается в течение часа и сметает все на своем пути; крыши домов в деревне здесь испокон веку привязывают к земле.
Из всех ущелий по западному берегу Байкала долина Сармы представляет собой самую мощную природную аэродинамическую трубу. Вал холодного воздуха, докатившись по Ленскому плоскогорью до хребта, недолго задерживается невысокими горами и скатывается по их склонам к воде, приобретая скорость урагана. В ущелье же Сармы, ударяясь о склоны, воздух дополнительно приобретает вращательное движение и вырывается на просторы Малого моря, которое лежит между берегом и островом Ольхон, в виде узкого горизонтального смерча. Этот смерч проносится по Ольхонским воротам, неширокому проливу южнее острова, расширяется и захватывает все больший объем пространства, в ширину и высоту над озером. Иногда ветер достигает даже противоположного берега, но, конечно, уже потеряв страшную разрушительную силу.
Климов только теперь понял, какую опасность может представлять сарма для летящего на небольшой высоте воздушного судна. Падая в накренившемся на крыло неуправляемом самолете, старый пилот мгновенно осознал всю непоправимость его, капитанской ошибки: надо было прижиматься к правому берегу, он должен был предвидеть! Он же читал в свое время о сарме! А теперь — все!
Подползший по ущелью и вырвавшийся на свободу невидимый воздушный дракон играючи зацепил когтем иголочку лайнера и сдернул ее с неба.
* * *
Когда Ольга Ивановна услышала информацию капитана о начале снижения, холодок из живота опустился к ногам и сковал их смертным холодом. Ее заколотило в мелком ознобе. Началось! Через двадцать пять минут, может, последних в жизни, все решится.
Она отогнала тревожные мысли, еще раз оглядела себя в зеркало, хотела примерить дежурную улыбку… не получилось. Она не могла улыбаться.
За всю жизнь ей ни разу не пришлось попасть в летное происшествие, эвакуировать людей, спасая их жизни. Обошлось без этого. Бог миловал. Но во время постоянных тренировок вместе с другими бортпроводниками она старалась представить себе, что ситуация реальная. Она всю жизнь готовилась к особым случаям полета.
Теперь настал ее час.
Она заранее рассадила девочек, приказав не отстегиваться и не шевелиться до самой посадки. Капитан сказал, что эвакуация не понадобится. Пусть молоденькие стюардессы сидят и трясутся, как и все пассажиры. Полезно изнутри прочувствовать, каково в страшную минуту тем людям, безопасность которых приходится всю жизнь обеспечивать.
Девчата, скрывая страх, сидели тихо как птички, тень тревоги легла на ухоженные, миленькие мордашки…
Ольга Ивановна вспомнила лица тех девочек, которых прибежавшие из резерва летчики и бортпроводники выкопали тогда из-под придавившего их тяжелого хвостового оперения, еще теплых… Не дай бог никому такое увидеть.
Тогда на самолете тоже отказало управление, они горели в воздухе; кто-то забежал в профилакторий, крикнул, что самолет упал, — и все, на ходу хватая одежду, рванули к месту падения. Целую ночь пытались найти хоть одного живого… Если бы сразу знать, что девчата лежат в сугробе под стабилизатором…
Пусть сидят. Она сама пройдет по салонам и проверит, как пассажиры подготовлены к посадке самолета на брюхо. Но сначала — дать указания.
Она включила микрофон, точными, заученными наизусть фразами объяснила, зачем надо снять очки и обувь на высоком каблуке, вынуть авторучки, вставные челюсти, потом приказала вынуть сложенную на полках теплую одежду, положить ее на колени, а на нее, согнувшись, положить голову и накрыть ее руками, предварительно затянув потуже привязные ремни.
В салоне началось движение. Люди молча готовились к посадке, прилаживались в неудобной рекомендуемой позе, замирали. Ольга Ивановна не спеша ходила по салонам, проверяла, установлены ли спинки сидений в вертикальное положение, туго ли затянуты ремни, подсказывала, успокаивала, убеждала и сама убеждалась, что люди понимают важность этих рекомендаций и будут им следовать при посадке.
Пока она делала привычную работу, холод внутри рассосался, она согрелась и немного успокоилась.
На первом ряду стриженый верзила, воровато оглянувшись, добыл из портфеля наполовину опорожненную бутылку и, запрокинув голову, выливал содержимое в рот.
Ольга Ивановна, оглянувшись, не успела помешать. Она видела, что многие мужчины поступают точно так же. Залить страх водкой, а там будь что будет.
Трое из ресторана, растекшись в креслах, мирно спали; она проверила, застегнуты ли их ремни, подтянула их потуже.
Крепко пристегнутый, мальчик во втором салоне, завывая, все качался в молитве над священной книгой.
Молились многие; кто осенял себя крестным знамением, кто просто сидел, сложив ладони, шепча бледными губами, может, первый раз в жизни, самую свою искреннюю просьбу к Создателю: спаси и помилуй!
Напуганная дама уставилась в спинку переднего кресла невидящим взглядом. Ольга Ивановна тряхнула ее за плечо и улыбнулась: все будет в порядке!
Старая бортпроводница уверенно исполняла ритуал подготовки доверившихся ей людей, может, к последней в их жизни посадке. Она ходила по салонам, улыбалась и помогала людям, и от ее доброжелательного спокойствия людям становилось легче. Она излучала надежду. Ольга Ивановна и сама верила, что опытный экипаж сумеет их спасти, и уверенностью своей вливала эту веру в пристегнувшихся и ожидающих своей участи трепещущих живых людей.
Она вернулась на кухню, снова включила микрофон и сказала:
— А теперь разогнитесь, сидите спокойно и ждите, я скомандую принять рекомендуемую позу перед самым приземлением. Ремни не расстегивать!
Она только сама не успела пристегнуться, и когда машину швырнуло вниз, судорожно ухватилась рукой за стойку стеллажа, выпустив микрофон, и закричала от ужаса, вместе с салоном, — инстинктивным смертным криком погибающего живого существа.
* * *
Климов ничего не мог предпринять в первую секунду падения. Страх смерти снова схватил его за горло, и он даже не смог бы отдать команду. Но правая рука автоматически схватила рычаги управления двигателями и сунула их вперед до упора. Это было все, что еще мог сделать старый пилот для спасения лайнера.
Самолет, ревя турбинами, дрожал в воздушном потоке, высотомер мчался к нулю, а стрелки вариометров, перекрутив полный круг по тридцатиметровой шкале, установились в положении «подъем». На самом деле, вертикальная скорость снижения перевалила за сорок метров в секунду, и у обреченного лайнера оставалось едва полторы минуты жизни.
Однако приборная скорость особо не нарастала: самолет, перемещаясь в закрученной бешеным приземным ветром воздушной массе, падал вместе с нею. Невидимые атмосферные протуберанцы отрывались от поверхности льда, а на их место притекали новые воздушные струи; огромный самолет был их игрушкой, щепкой в воздушном водовороте.
Крик стоял в салоне. Железная бочка с людьми подплыла к Ниагарскому водопаду и низверглась в него.
Но экипажу некогда было обращать внимание на салон: летчики работали.
Разглядеть показания приборов становилось все труднее: от тряски приборные доски плясали на своих амортизаторах, и стрелки с цифрами расплывались перед глазами. Спинки кресел тряслись и мотали закрепленными плечевыми ремнями бессильные тела пилотов. Турбины ревели на взлетном режиме — самолет всей мощью оставшихся двигателей стремился вырваться из струй турбулентности в спокойное небо. Ни о каких попытках перевода его в набор высоты не могло быть и речи; только счастливое стечение воздушных потоков, ниспосланное свыше, могло изменить траекторию падения. Да и что такое двадцать тонн тяги против тысячетонной атмосферной мощи. Это — неравная борьба мышки с кошкой, в которой почти стопроцентно предопределена победа силы над изворотливостью. Тут все решают звезды.
В такие секунды, как пишется в романах, положено молиться или прокручивать перед мысленным взором всю свою жизнь. Экипажу делать этого было некогда. Штурман, собрав все свое мужество, громко отсчитывал убывающую высоту, подсказывал скорость; бортинженер удерживал рычаги газа в положении взлетного режима и контролировал температуру газов за турбинами. Ребята исполняли свой долг.
«Хорошая смерть, — мелькнуло в сознании Климова, — мужская…» Но тут он глянул на вцепившегося одной рукой в подлокотник, а другой в ручку форточки мальчишку. Тот было открыл скривившийся рот, чтобы закричать, но подавился спазмом, только слезы текли из безумных глаз…
«Господи! — подумал Климов, — его-то за что? В чем виноват этот мальчик? Только в том, что я, старый болван, ошибся!»
— Димка, держись! — успел крикнуть капитан.
Он понимал, что шансов нет, но готовился бороться до конца: если перед самой землей самолет не выровняется, придется полностью отклонить стабилизатор вверх. Оторвет его потоком — все равно смерть, а если железо выдержит — может, удастся все же переломить траекторию. Капитан крепко стиснул пальцами тумблер стабилизатора.
Короткими гудками зарявкала сирена сигнализации опасного сближения с землей.
— Триста метров! Двести пятьдесят! Двести! Сто пятьдесят! — четко долбил Витюха. — Высота сто! Вертик… Ох!
Он не успел доложить показание вертикальной скорости. Неведомая сила подхватила машину, переложила ее в противоположный крен и швырнула вверх. Сильно вдавило в кресло, страшно зашумел за бортом разодранный воздушный поток; внезапно отяжелевшая рука капитана, протянутая к тумблеру управления стабилизатором, сорвалась с козырька приборной доски и больно ударилась о рукоятку интерцепторов. Салон, до этого все время кричавший долгим и беспорядочным криком, дружно ахнул, и все стихло.
Звезды оказались счастливыми.
Высотомеры вновь начали наматывать высоту, сирена умолкла. Самолет несло вверх, он судорожно махал крыльями, его все так же трясло, но показания приборов Климову кое-как удалось разглядеть. Прибор зафиксировал максимально допустимую перегрузку: два с половиной — больше на шкале и делений не было. Машина на взлетном режиме уходила от земли. Скорость плясала около цифры 500.
Мышке, хоть и искалеченной, все же удалось вырваться из кошачьих лап и добраться до спасительной норки.
Смерть снова дала отсрочку. Надолго ли?
* * *
Несколько секунд, а может, минут, экипаж находился в полубессознательном состоянии. Слишком много потрясений сразу свалилось на людей, и нервная система, приглушив разум, защищала психику от перегрузки.
Капитан опомнился первым. Как во сне, происходящее с ним представлялось не совсем реальным, он не мог поверить, что и в этот раз обошлось, ожидал, что все повторится вновь, и вообще, хотелось ущипнуть себя: такого не должно было быть, такое трудно представить, что ж это за испытание судьбы?
После безумия этого броска общее чувство смертельной опасности полета, ставшее за два часа уже даже немного привычным, показалось теперь почти комфортным. Самолет все-таки летел, и хотя его еще качало и трепало, он уверенно набирал высоту и уходил от страшного приземного ветра.
Восстановить параметры полета отработанным методом теперь уже вроде бы не представляло особого труда, но не было сил шевельнуть пальцем; голова была как с тяжкого похмелья: давило виски, звон стоял в ушах, тошнило.
— Может, сдернем немного, а? Коля? — Степаныч произнес это из-за спины обыденным тоном, таким обыденным, что Климов даже удивился: что это такое с Петром? Потом понял: старый бортинженер видит, чует минутную слабость обмякшего капитана и хочет помочь. Ему на секунду стало стыдно, и хоть зубы стучали, он заставил себя разжаться, отдал команду:
— Сдерни, Петя. Поставь восемьдесят. Поставь, родной. Поставь. — Он как-то присмирел, и вроде как даже отстранился от страхов. Их и так было предостаточно. Организм защищал себя.
Но тут взгляд его упал на экран локатора. Лучик мотался вправо-влево, выделяя чередующиеся светлые и темные сектора, картинка пропала.
— Витюха, что с локатором? Ну-ка проверь… попробуй… может, резервный? — Климов вновь начал ориентироваться в обстановке, но все еще как-то урывками.
— Сдох! — объявил после минутной манипуляции с переключателями штурман. — Засекторил, собака, — и на самом интересном месте. — Он рукавом вытер пот со лба, помолчал, потом неуверенно пробормотал: — Ну, думал — все… Может, поживем еще, а? — губы его подрагивали.
— Курс! Курс! — вдруг быстро сказал Климов. — Куда летим-то?
— Курс? Елки! Девяносто пять!
— Давай влево! Петя, правому взлетный, левому малый газ! Бери курс тридцать! Двадцать бери, Витюха! Двадцать! Влево, влево!
В процессе падения самолет развернуло носом на восток. Каждая секунда приближала его к крутым склонам правого берега. А локатор подвел в самый опасный момент!
Самолет, накреняясь все сильнее, покатился влево. Нос начал опускаться.
— Хорош! Теперь левому номинал, правому малый газ! Так, теперь добавь правому восемьдесят! Стоп! Всем восемьдесят! — Климов, не дожидаясь, когда уберется крен, стабилизатором чуть поддержал нос, и когда раскачка уменьшилась, скомандовал:
— Все, ребята, успокоились! Плавно берем курс двадцать, работаем, работаем, мужики! Работаем! Выходим на середину озера! Давай, давай, курс двадцать пока!
Он отдавал команды, скорее, не экипажу, а самому себе, изгоняя страх, сковавший на минуту руки и ноги. Ну, бросок. Ну, подумаешь — мало их было. Все, все! Работай!
Он чувствовал: что-то мешает смотреть. Опомнился: очки! Пот с бровей тек по оправе, заливая стекла. Машинально снял, достал из кармана мокрый платок, размазал влагу по стеклам.
— На, возьми вот салфетку. — Витюха, тоже весь мокрый, уже немного пришел в себя и успокоился, насколько может успокоиться штурман, не совсем уверенный в том, где сейчас находится его самолет. — Петрович, сколько времени прошло, как нас швырнуло? Минуты две? Три? Мы с восточным курсом ушли к правому берегу. Теперь, без локатора, я тебе буду выдавать место по спутниковой системе, по координатам на карте, а она у нас мелкая, сорокакилометровка, точно определить место вряд ли получится. И Иркутск уже нас не видит, не подскажет место: мы слишком низко, не услышим. А Святой Нос — вот он, под носом, — штурман не заметил невольного каламбура. — Высота хребта на нем — тысяча восемьсот. — Он сверился с цифрами на экранчике джипиэски, приложил линейку к карте и тревожно сказал:
— Влево, влево надо! Нас же прямо на мыс выносит!
Бортинженер молча, без команды, снова косо переместил рычаги газа. Климов, видя, что экипаж вновь включился в работу, тоже немного успокоился. И тут на глаза навалилась свинцовая тяжесть. Ему почему-то смертельно хотелось спать. Он, казалось, на один только миг прикрыл слипающиеся веки. Голова свалилась, он дернулся, тряхнул ею, еще, еще… Мутная завеса перед глазами потихоньку прояснялась.
— Коля, — подал сзади голос бортинженер, — садиться надо — красная лампочка горит! Две триста осталось!
— Ну и пусть себе горит, хрен с ней, — устало и как-то безразлично ответил Климов. Что-то внутри него было не так. — Давайте потихоньку снижаться вдоль Святого Носа, а как пройдем его, там уже простор, там можно не думать о курсах, а… — Он потер грудь: — Что-то мне… вроде как душновато. Да… крепко потрепало нас. Вы-то как?
— Да ничего, держимся.
— Терпимо. Думал, задницей об лед…
— Дима! Дима, ты как?
Мальчишка справа висел на ремнях в полной прострации. Эх, слабак. Нет стержня. Неужели вот такое все новое поколение? А вроде ж уверенно выглядел. Сломался пацан. Теперь вряд ли его вообще затащишь в самолет. Насмотрелся раньше времени… пассажир хренов. Работа-то мужская, к ней постепенно привыкать надо…
— Дима! Дима! Ну, все, тихо, тихо… обошлось. Давай, работай! — Витюха тряс Димку за плечо. Тот опомнился, зашевелился.
«Ну, слава богу. Конечно, много страху… Пережил пацан… Надо помогать, вытаскивать… Все мы пережили… Молодец, Витюха…» — металось в голове.
Климов встряхнулся, отогнал эти обрывки мыслей, заставил себя сосредоточиться на предстоящем снижении. Соображения никак не удавалось собрать в кучу.
Так. Ураган забросил лайнер на высоту полторы тысячи по высотомеру. Относительно льда это будет… будет… около тысячи метров. Когда приступим к снижению, после пересечения истинной высоты 750 метров отшкалится стрелка радиовысотомера. Он покажет точную высоту. И — снова подкрадываться ко льду с вертикальной три метра. А фронт догоняет, и близко к левому берегу подходить нельзя, там из любого ущелья может дунуть ветерок под названием «горная», такой же точно, как и сарма, может, чуть слабее. Господи, успеть бы до ветра, надо торопиться! И… не надо спешить: не дай бог ошибиться, а на малой высоте уже не исправишь. Топлива-то осталось бочек пять-шесть. А тут еще внутри что-то давит, сердце колотится как бешеное: наверно, адреналину хватанул много…
Гормоны, выплеснувшиеся в кровь, жгли его изнутри. Очень хотелось пить, но некогда было оторваться от накатывающих валом новых и новых задач.
— Надо протянуть за Святой Нос. Хватит ли топлива? Петя, сколько там?
— Минут на десять. Тонну в расходном баке показывает, а сколько на самом деле — один бог знает. — Голос Степаныча отвердел: — Капитан! Коля! Снижайся и садись! Садись, пока палки крутятся! Потом поздно будет!
— Вить, сколько еще вдоль этого носа лететь?
— Дак… где-то середину проходим, здесь самые высокие горы, дальше будут пониже, еще минут шесть-восемь, точнее не скажу. Эх, была бы карта-десятикилометровка, я б тебе, Петрович, с точностью до ста метров дал место. Но по расчету мы выходим на середину озера между Ольхоном и Святым Носом, ближе все-таки к Святому Носу. Я бы еще левее взял: вполне возможно, правый снос увеличится.
Штурман помолчал, озабоченно завозился с пультом спутниковой навигации, потом встревожено обернулся к капитану:
— Что-то пропадает… неуверенно берет… Джи-пи-эс этот, американский, мать бы его…
«Ну почему все отказывает именно тогда, когда без него никак не обойтись?»
Он еще раз потыкал кнопки:
— Все, больше ничего нет, сдох, собака! Расчет — только по скорости и времени.
— Нету времени! — Климов обозлился. — Нет у нас времени! Вечно у вас не вовремя отказывает все: то локатор, то джи-пи-эска… спецы…
Он помолчал, потом опомнился:
— Вить… извини. Нервы. Давай потихоньку начнем снижаться, метра по два. Ты пойми: фронт догонит, начнется болтанка — все! И топливо кончается! Ну, еще пять градусов влево возьми, больше не надо: фронт слева ведь подходит. Лучше к тому берегу не прижиматься. Давай, давай снижаться. У нас всего пять минут! Все впритык! — Голос его окреп: — Так, Все! Поехали вниз, по два метра в секунду! Следить за показаниями радиовысотомера! Если начнут быстро уменьшаться — сразу уходим влево!
Он вспомнил о пассажирах. Во время болтанки, во время общего крика, он не воспринимал их как живых людей — было не до этого. Только теперь, чуть остыв, Климов понял, что вместе с ним во время неуправляемого падения испытали смертельный ужас и его пассажиры! И разве сравнить его страх, страх профессионала, знающего обстановку и хоть как-то, но действующего, с ужасом людей, закрытых в железной бочке, брошенной в водоворот!
Он взял микрофон, несколько долгих секунд сидел, сгорбившись, собирая силы. Потом, устало и совершенно неофициально, как будто обращаясь к малым детям, заговорил:
— Что, натерпелись страху, родные мои? Мы тоже натерпелись. Но теперь все хорошо, через десять минут сядем. Пожалуйста, потерпите еще, посидите спокойно, всего десять минут! Вертолеты следом летят. А мы уж постараемся…
Горло ему вдруг перехватило. Климов умолк, повертел в руках микрофон и бросил его в боковой карман у кресла.
Самолет давно уже летел в чистом небе. Топлива в его расходном баке оставалось, если верить показаниям прибора, меньше чем на десять минут полета. Десять минут жизни! А может, пять… Яркие звезды светили с черного свода, знакомые созвездия наблюдали сверху за мерцающими огоньками движущейся над великим озером живой пылинки, везущей полторы сотни судеб, предсказанных свыше. А внизу, в полном мраке, людей поджидал таинственный, опасный, неизведанный лед.
* * *
Ольга Ивановна очнулась на полу, среди выпавших из гнезд кипятильников и сотейников. Сильно вдавливало в пол, и она никак не могла подняться. Потом перегрузка уменьшилась, самолет, ревя двигателями и трясясь, полетел ровно. В голове гудело, она села, ощупала себя и убедилась, что цела. Из вестибюля, вытягивая голову, на нее таращилась одна из девочек, по щекам ее, испачканным размазанной тушью, текли слезы.
— Тихо, тихо! — поднимаясь с пола, Ольга Ивановна уже беспокоилась, как пережили бросок люди в салонах, и первые — вот эти плачущие девочки-стюардессы… такого ли ожидали они от романтической профессии, когда рвались в небо? — Тихо, спокойно! — твердым голосом повторила она. — Возьмите себя в руки! Приведите себя в порядок! Мало ли что в воздухе может случиться! — И увидев, что девчонки пытаются отстегнуться и встать, прикрикнула: — Сидеть! Я сама схожу, посмотрю, как там в салонах.
В салонах все было по-прежнему, только взмокшие лица и тяжелое дыхание пассажиров говорили сами за себя. Во втором салоне на заднем ряду бледным пятном маячило лицо Наташи, она махнула рукой, что там порядок. Ольга Ивановна, придерживаясь за спинки кресел, в опасении нового броска, осторожно прошла по первому салону вперед, вернулась назад: здесь тоже порядок. Ни у кого из пассажиров теперь не возникнет ни малейшего желания отстегнуться.
Она села в переднем вестибюле, пристегнулась, уперлась локтями в колени, а подбородок положила на сжатые кулаки. Все тело болело, как будто его измял какой-то безжалостный каток. После пережитого потрясения, с отключением сознания на несколько секунд, в голове стоял звон, а действительность воспринималась как через сетку, бледно и размыто. И только иногда, сквозь разрывы в этой сетке, реальность происходящего больно стегала по нервам.
В летной жизни старой проводницы бывали передряги, но, в основном, рабочего порядка. Как-то она попала в сильную болтанку при обходе грозы; одного из пассажиров, с которым она весь полет воевала, чтобы пристегнулся, выдернуло из кресла и шмякнуло о багажную полку головой. Пришлось вызывать к трапу врача, но, к счастью, человек отделался шишкой.
Она вспомнила, как умирал от инфаркта пассажир, до ближайшего аэродрома оставалось полтора часа лету, она ничем не могла помочь, и сознание собственного бессилия рвало на куски сердце. Пассажир умер при заходе на посадку, она плакала над ним, как над родственником.
Однажды она сама чем-то отравилась перед продолжительным полетом, чуть тогда не отдала концы, но до последнего держалась на ногах и исполняла обязанности в салоне, пока девчонки не уложили ее на свободные кресла. Ей тогда было так плохо, как никогда, ее вынесли на носилках, и скорая помощь с сиреной и мигалками неслась в город, и она меркнущим сознанием ощущала даже какую-то гордость, что ради ее спасения расступаются встречные машины.
Но все эти случаи не шли ни в какое сравнение со всем ужасом, пережитым ею в этом бесконечном полете. Такой тревоги, такого страха, такой ответственности она не испытывала никогда. И, наверное, уже не испытает.
Ее вдруг пронзило отчетливо-яркое осознание того, что этот ее полет может стать последним. Дочка останется одна… долг перед банком…
Потом вспыхнула мысль: страховка! Ребенок получит страховку за ее гибель и рассчитается с банком. Только… какова сумма этой страховки? Соизмерима ли она со стоимостью хоть той несчастной однокомнатной квартиры?
В это время капитан обратился к пассажирам с проникновенными словами. Она не вслушивалась в смысл, но прочувствовала интонацию: экипаж был на последнем пределе!
Ольга Ивановна стала молиться, чтобы все обошлось. Ей жалко было несчастных пассажиров, она жалела свой смертельно уставший, геройский экипаж, и девочек своих, и себя. Помолившись, она тяжело встала, усталой походкой прошла на кухню и по громкой связи отдала команду принять рекомендуемую позу и ожидать скорого приземления.
* * *
— Отшкалилась! — Витюха внимательно следил за перемещением стрелки радиовысотомера. Радиоволны отбивались от лежащей внизу поверхности и возвращались назад, время отскока воплощалось в показаниях прибора. Сейчас прибор показывал высоту семьсот сорок метров.
Штурман был озабочен одним: соответствует ли темп уменьшения высоты на радиовысотомере показаниям вертикальной скорости на вариометре. Пока вроде получалось, что и вариометр, и радиовысотомер показывают плавное, по два метра в секунду, уменьшение высоты. Значит, внизу ровная поверхность, надо полагать, лед. А вот если стрелка радиовысотомера пойдет к нулю более энергично — значит, набегает земля, склон, значит… не дай бог, вынесло на берег Святого Носа. Тогда — только энергично влево с набором высоты!
Только откуда же у неуправляемого самолета возьмется эта энергия разворота.
Он старался очень точно прокладывать по карте курс, учитывая, что самолет сносит вправо вместе с общим перемещением воздушной массы относительно земной поверхности. Надо взять упреждение, градусов десять, на снос. До северной оконечности полуострова по расчету еще минут семь. Прибор показывает путевую скорость четыреста пятьдесят. Угол сноса плюс девять. Ветерок слева, попутно-боковой.
— Степаныч, давай еще — правому добавь, левому прибери.
— Поставил. Крен три, левый. — Бортинженер, поглядывая через левое плечо на авиагоризонт капитана, потихоньку взял на себя весь контроль по кренам. — Держу левый три.
— Я слежу… — Димка уже пришел в себя и старался включиться в работу, как все.
— Остановились. На курсе.
— Крен убрал. Режим поставил обоим восемьдесят.
— Добавь пару процентов обоим: вертикальная четыре, великовата.
— Добавил: режим восемьдесят два.
— Хорошо, теперь сдерни.
— Режим восемьдесят.
— Хорошо, вертикальная три. Высота триста по РВ!
Экипаж, собрав остатки сил, старался выдержать вертикальную скорость. Капитан в процессе снижения сбалансировал машину на скорости четыреста километров в час. По мере выработки топлива из баков, расположенных в стреловидных, откинутых назад крыльях, центр тяжести машины потихоньку смещался и смещался вперед, и самолет теперь летел более устойчиво. Стрелка стабилизатора застыла на делении три градуса.
— Так, ребята. Пора проверить фары. — Климов щелкнул переключателями на верхнем щитке. — Ну-ка…
Ничего не изменилось за окном. Еще высоко.
— Пусть горят. Две минуты осталось.
Холод в животе стал почти нестерпимым. Что же там, внизу? Скорее! Ну!
И тут штурман заметил, что стрелка высотомера побежала к нулю чуть быстрее: двести восемьдесят, двести семьдесят, двести пятьдесят! Он не поверил глазам: этого быть не могло — ведь под ними должен быть голый лед!
— Что за… — он не успел договорить.
— Деревья! Деревья внизу! — Климов вглядывался в стекло поверх очков. Неужели…
— Ну-ка, добавь режим! Номинал! Взлетный! — Он толкнул рычаги вперед, затем снова ухватился за тумблер стабилизатора и нажал его на себя. — Штурман, высота?
— Двести двадцать по РВ!
Внезапно по ушам ударила сирена: земля слишком быстро набегала под самолет!
Климов вспомнил, что левее Святого Носа, на самой середине озера, лежат четыре островка, три крошечных, а один побольше, — Ушканьи острова. Он еще тогда запомнил цифру: двести восемнадцать метров — высота Большого Ушканьего. Но предположить, что их занесет аж сюда, что на пути встанет именно Большой Ушканий остров, он никак не мог. Он вообще позабыл о существовании этих крошечных островков, прибежища множества зайцев, прозываемых на местном диалекте ушканами.
Заросший заиндевелыми деревьями пологий левый склон подплывал спереди; справа в свете фар стал просматриваться обрыв крутого берега. Огромный лайнер с ужасающим грохотом несся над самыми верхушками деревьев, сметая с веток иней. Зацепит или пронесет?
К моменту встречи с вершиной возвышенности самолет уже получил импульс вверх, снижение прекратилось, и машина, вяло переламывая траекторию, шла на высоте двухсот метров. Оставалось преодолеть восемнадцать метров плюс деревья. Растопыренные ветки, увеличиваясь на глазах, так и норовили ухватить лайнер и навек оставить его обломки на вершине; двигатели, всеми своими клеточками толкающие машину в небо, звенели, дожигая, может, последние литры топлива.
Климов судорожно давил и давил тумблер на себя. Стрелка стабилизатора давно уперлась в крайнее значение, пять с половиной, а он все пытался выдавить дополнительную подъемную силу.
Радиовысотомер показал: тридцать метров до земли! Двадцать восемь! Двадцать шесть! Двадцать! Вариометр стоял на нуле. Долгие секунды, растянутые предельным напряжением нервов, нестерпимой болью сжали сердце. Ну! Давай же! Лезь!
Вершины леса все ускоряли свой бег и, наконец, замелькали под крылом бесконечной белой лентой. Впереди, в лучах фар, проступал пологий, почти плоский гребень вершины.
Штурман тоже видел на карте эти островки, но, по его расчетам, машина не могла так сильно уклониться влево от крутого бока Святого Носа. Видимо, в момент отказа спутниковой навигационной системы он изначально начал прокладку курса с ошибкой. Теперь, с ужасом наблюдая, как на него со смертельной неотвратимостью надвигается поросшая лесом вершина, Витюха только застонал от отчаяния. Его вина! Ужас осознания ошибки ударил в голову кровавой волной и на несколько секунд отшиб память.
Димка видел, что капитан переложил тумблер стабилизатора, но самолет все никак не хотел задирать нос и переходить в набор высоты. Деревья все приближались, и наконец понеслись под самолетом так близко, что ноги сами инстинктивно поджались. Неужели зацепим?
Но тут как молотом его ударил стыд. В голове причудливым узлом завязались и первый ужас, и встряска, и уговоры капитана, и его доверие…
Он не был так связан ответственностью за какие-то свои решения и действия, как капитан. Может, поэтому он воспринял набегающие деревья не как результат ошибки, а как досадное препятствие, через которое вот-вот, сейчас, перепрыгнем… капитан знает! Стыдно бояться, надо помогать!
Может, вот так и зарождаются те бесценные нравственные качества, которые позволят человеку в будущем сохранять хладнокровие в самых непредсказуемых ситуациях.
* * *
Сидящий сзади Степаныч страдал от недостатка информации. По репликам командира и штурмана ему показалось, что самолет вынесло на берег озера, и оборачивалось так, что развернуться обратно на лед уже не хватит топлива. Он молил бога все-таки о том, чтобы топливомер врал, занижал показания. Может, там еще плещется пара бочек керосина…
Он приготовился к смерти. Если что, он ее не почувствует. Не смотреть влево, в лобовое стекло. Не смотреть! Температура газов и давление топлива! Обороты! Все в норме. Летим. Может, вытянем?
На послезавтра у младшей дочери назначена свадьба. Откуплено кафе, созваны гости; Петрович, Витюха, — само собой. Нет, умирать нельзя.
Давление топлива в норме. Обороты в норме. Уровень вибрации в норме.
Он представил себе лицо дочери, когда сообщат… Нет! Нельзя умирать!
Конечно, жизнь, в общем, прожита. Чего уж там ждать от нее. Впереди пенсия, телевизор, теплое местечко на автостоянке… Старшая дочь замужем, детей пока почему-то нет. Значит, младшая должна родить ему внука! Надо жить и дождаться.
Давление топлива в норме. Не смотреть влево. Не отвлекаться. Петрович знает. Держать рычаги. Выдавить из двигателей все!
Остаток… стрелка уже около нуля. Господи, боже ты мой, дай долететь! Дай Петровичу сил! Коля такой летчик! Пусть он справится! Господи! Не дай нам убиться!
Он молился в душе, а глаза и руки делали свое дело, как делали его всегда, — добросовестно и надежно. Петр Сергеев не умел ничего делать кое-как; только — как положено, и тому же всегда учил своих стажеров.
Раскаленные секунды заполняли голову и застывали в ней свинцовой тяжестью. Выдержать, вытерпеть, справиться, потом будет легче. Лишь бы двигатели не подвели, лишь бы хватило топлива!
Упершись мокрой спиной в мокрую спинку сиденья, стиснув зубы, Петр Степанович давил рычаги управления двигателями.
«Они наверно уже подвернули на лед; сейчас, еще немного потерпеть — и выскочим».
Он не осуждал капитана за позднее начало снижения, почти без запаса керосина. Ну, так получилось. Не каждый же раз выпадает летать без управления. Этот бросок… было страшно, но все же не так, как вот сейчас: тянется и тянется… да что ж она не идет в набор?
Вариометр показывал ноль. Ноль, ноль…ага, вот, стрелочка пошла чуть вверх. Не смотреть влево! Давление топлива! В норме. Набор высоты, два метра в секунду…
В этот момент кто-то стал трясти его за плечо.
* * *
Крутой, коротко стриженый пассажир, в золотой цепи, никак не мог ждать смерти в рекомендуемой позе. Бутылка виски, выпитая из горла, замутила разум, но тревога, которую так и не удалось залить вискарем, распирала его изнутри, не давала усидеть на месте. Надо было вмешаться. Надо было присутствовать и своими глазами все видеть — может быть, удастся в последнюю секунду конкретно извернуться… сколько раз так бывало… по жизни…
Он отстегнул ремень, качаясь встал, огляделся: перед мутным взором стройными рядами стояли спинки кресел. А где люди? А? Куда они все подевались? Надо бежать! Надо выяснить? Это кошмар какой-то! Бросили! Кинули!
Он шагнул в проход. Прямоугольник двери, за ним полумрак… сидят мужики…
— Э! Пацаны! Че вы тут? — он шагнул в кабину.
Ольга Ивановна, сидевшая на откидном креслице в вестибюле, так же, как и все, в рекомендуемой позе — согнувшись и закрыв голову руками, — ожидала, что вот-вот раздастся удар, скрежет, будут толчки и рывки, что ее потащит куда-то бессмысленная тупая сила… Сжавшись в жесткий, сопротивляющийся комочек, она ожидала всего — но только не этого наглого вторжения пассажира в кабину экипажа перед самым приземлением. Она мгновенно забыла об опасности для своей жизни, рванула пряжку и, метнувшись вслед, успела ухватить за руку вдрызг пьяного верзилу:
— Куда! Нельзя! На место!
Она чуть опоздала. Мужик ввалился в кабину, что-то неразборчиво крича и матерясь, и стал хватать за плечо сидящего боком к нему бортинженера. Петр Степанович, внимание которого было занято только двигателями, остановки которых он ожидал каждую секунду, ничего не мог понять: кто-то тряс его за плечо, все сильнее и сильнее, норовя вырвать из кресла. Он оглянулся… Мужик, уйди… не мешай… оттолкнул руку: давление, давление топлива! Пока в норме. Температура газов в норме. Обороты держатся. Топливомеры на нуле… Господи, только бы двигатели не сдохли, вытащили! Да не мешай же! Да откуда он взялся, что ему надо?
Он свирепо заорал через плечо:
— Ну-ка вали отсюда! Пошел вон!
Сзади криком кричала проводница:
— Назад! На место! Сядь на место, тебе говорят! Не мешай экипажу!
Она изо всех сил тащила этого бугая из кабины, и он все никак не мог конкретно ухватить этого лысого водилу и вытрясти из него душу. Случайно взгляд его зацепился за несущиеся навстречу самолету вершины деревьев; он оторопел и стал осмысливать происходящее, рука его разжалась, и Ольге Ивановне удалось выдернуть его в вестибюль. Но через секунду верзила опомнился и снова рванулся в кабину. Старая бортпроводница, ломая ногти, вцепилась в него как разъяренная кошка, он рассвирепел, больно толкнул ее в грудь кулаками, она задохнулась, упала и выкатилась в проход к первым креслам.
Боль в груди и ушибленном колене, отчаяние от того, что она не смогла предотвратить проникновение в кабину постороннего, страх за то, что сейчас он начнет крушить все в кабине, унижение и возмущение от того, что он, мужчина, посмел ударить ее, женщину, — заставили ее позабыть о прежнем своем страхе перед приземлением и привели в безумную ярость. Убить гада! Приподнявшись, она машинально обшаривала взглядом салон в поисках подходящего орудия. Ряды спинок скрывали согнувшихся за ними пассажиров. Она была одна, помощи ждать было не от кого. Чем бы его…
Взгляд ее упал на ноутбук, лежащий на откинутой полке в первом ряду. Она вскочила, схватила тяжелый аппарат… ага, как раз… Прыгнула в кабину. Там шла борьба: бугай, рыча «Водилы, блин!», левой рукой хватался за плечо капитана, правой давил шею задыхавшегося штурмана, бортинженер, держа рычаги газа одной рукой, другой пытался оторвать от штурмана правую руку нападавшего, но, плотно пристегнутый к креслу, не мог справиться. Второй пилот тянулся к дерущимся из своего угла. Все неразборчиво и отрывисто кричали.
Капитан, отбиваясь от неизвестно откуда свалившегося пьяного человека, обернул искаженное гневом и отчаянием лицо к маячившей в проеме бортпроводнице:
— Оля!!!
Он ничего не успел добавить. Собрав все силы и всю ярость, она подняла обеими руками тяжелый ноутбук и плашмя треснула крутого по темени. Брызнули осколки. Она, не помня себя, ударила еще раз, замахнулась в третий, но мужик уже обмяк, повернулся всем телом назад, и сполз к ее ногам, хватаясь за них руками и пачкая кровью, закапавшей с коротко остриженной рассеченной головы. Уронив разбитый ноутбук, она отпрыгнула от поверженного верзилы, как от змеи.
Самолет летел.
* * *
Отклонение стабилизатора спасло положение: верхние ветки почти неслышно хлестнули по крыльям и ушли в пространство, земля провалилась вниз; впереди была пустота!
Климов не мог пошевелить пальцем. Так близко смерти в глаза он еще не заглядывал. Он сидел неподвижно, тяжело и часто дыша, вялый как веревка. Борьба с неведомо откуда взявшимся в кабине человеком отобрала последние силы.
«Как он попал в кабину… дверь открыта… открыта и закреплена… вынужденная посадка вне аэродрома…» — Мысли вертелись в голове, никак не связанные с чем-то главным… главным и неотложным…
«Авиагоризонт… Что-то не так… режет глаз… Что не так? Авиагоризонт не так. Авиагоризонт! Голубой фон! Набор высоты!»
Медленно, очень медленно возвращалось и фокусировалось сознание.
— Скорость! Скорость! Падает! Запас по сваливанию! Один градус! Угол! Угол!
Крик второго пилота мгновенно отрезвил всех.
Внезапно и страшно приборы показали, что машина лезет вверх и скорость падает. Уже триста пятьдесят!
Продольная устойчивость самолета была нарушена. Стабилизатор был отклонен полностью на себя и продолжал задирать нос машины!
Медленно и неотвратимо лайнер приближался к сваливанию.
Капитан мигом пришел в себя. Все! Все: препятствий больше нет, впереди один лед, и до него… до него триста метров!
— Молодец, Димка! — Климов, стиснув зубы, нажал тумблер стабилизатора от себя, бросил руку вниз, в поисках рычагов газа… надо поставить взлетный… вспомнил, что взлетный режим уже стоит, снова перехватил тумблер стабилизатора… Машина все лезла вверх, потом плавно, не спеша, начала уменьшать набор высоты. Скорость остановилась на цифре 350. Климов все давил тумблер, хотя стрелка на указателе давно стояла на нуле.
— Скорость триста пятьдесят! Триста пятьдесят! — Второй пилот настойчиво долбил и долбил, думая, что до капитана не доходит. — Скорость триста пятьдесят! Триста шестьдесят! Пошла! Пошла скорость! Запас растет! Два градуса!
Скорость дрогнула и стала нарастать; казалось, секунды растянуты до бесконечности. Не спеша нос машины перевалился на снижение; Климов, уже на одних нервах, нажал на себя; машина долго не реагировала, потом качнулась в набор. Он утратил чувство времени и обратной связи, трясущейся рукой невпопад тыча тумблер туда-сюда, никак не мог поймать синусоиду. Самолет начал раскачиваться, скорость разгонялась, высота падала. Терпение кончалось.
— Господи, да что же она не слушается! — в бессильном отчаянии крикнул Климов. Он понимал, что топлива осталось на пару минут и двигатели вот-вот могут остановиться. И никак, ну, никак не поймать проклятую вертикальную скорость!
Неужели все напрасно? Столько сил истрачено, столько дела сделано — и погибнуть за две минуты до посадки!
Ужас положения вновь сковал Климова. Неужели все? Неужели зря? Что делать? Не слушается!
— Не могу! Не могу перевести на снижение! Не мо… — голос Климова сорвался.
Димка, пораженный таким проявлением капитанского бессилия, замер.
— Так мы не на берегу? — Петр Степаныч не мог поверить, что и на этот раз обошлось. И вдруг, скороговоркой, из-за спины, начал упрашивать: — Давай, Петрович, соберись. Давай, дорогой, успокойся. Получится! Коля, милый, у тебя обязательно получится! Родной ты наш… — слезы вдруг зазвенели в голосе бортинженера, — спасай!
Климова будто ударили по голове. «Да что же это я», — мелькнула мысль; он резко выдохнул воздух и после секундной паузы твердо отдал команду:
— Режим восемьдесят! Штурман, высота?
— Сдернул, восемьдесят! — дал квитанцию Степаныч.
— Высота двести! — подхватил как будто вдруг проснувшийся Витюха. — А, мать бы его… Сядем! Сядем, капитан! Сядем! Высота сто восемьдесят! Вертикальная пять! Ну, чуть-чуть! Чуточку на себя!
Штурман уже забыл, что пять секунд назад его кто-то душил; да он, глядя в глаза набегающей смерти, собственно, этого и не чувствовал, и не понимал.
Климов, подхлестнутый, опомнился и поймал раскачку. Два-три щелчка тумблером. Вертикальная три. Стоп, все. Проверь. Вроде три стоит. Три. Три метра в секунду стоит. Лучше бы два, но теперь уже поздно менять. Теперь только дежурить. Стисни зубы. Собери волю. Реагируй. Ну, минута! Минута всего!
Он задыхался, сердце молотом колотило изнутри, даже подбрасывало в кресле.
Это была бесконечная минута. Самая долгая минута жизни.
Самолет медленно приближался к поверхности небесного дна. В глубине, в свете фар, начало проявляться светлеющее пятно, оно расплывалось, растекалось — и вот, как под водой, снизу, со стороны дна, в поле зрения медленно вплыла бледная сетка.
Вот он, байкальский лед! Они таки пришли к нему!
Все яснее и четче проявлялся прихотливый узор проплывающих внизу становых трещин, уже можно было различить большие участки гладкого льда, черневшего в ярких лучах посадочных фар. Движение внизу все ускорялось, мелькание белых линий становилось чаще. Вдруг белые линии пропали, одна чернота, чернота… Снова трещины, все ближе, все чаще… снова ледяное поле…
Ледяной Байкал напряженно ожидал горячего прикосновения.
Так. Стабильное снижение. Вертикальная три. Приборная четыреста двадцать. Не трогать ничего. Самолет устойчив, крена нет. Высота… Господи! Дай еще сил! На одну минуту! И двигатели! Одну, всего одну минуту! Полминуты! Сердце разорвется!
— Сто по РВ, вертикальная три!
— Восемьдесят, вертикальная три!
— Шестьдесят, вертикальная три!
— Полста!
— Командир, давление топлива падает!
Центробежные насосы подкачки топлива начали захватывать воздух. Сделать было ничего нельзя; оставалось только терпеть и молиться.
— Высота сорок!
Секунды вязко текли. Одна. Две. Три.
— Тридцать метров!
Одна секунда. Две секунды. Три секунды.
— Двадцать метров!
Вот теперь — чуть стабилизатор на себя. Климов нажал и отпустил тумблер. Самолет не реагировал. Он нажал еще. Никакой реакции. Климов надавил изо всех сил. На боковой стенке кабины четко щелкнули два автомата защиты. Стабилизатор бездействовал. Заклинило! Отслужил свое… эх…
Он был готов к этому с самого начала, но не мог предположить, что стабилизатор подведет в самый ответственный момент. От неожиданности Климов на долю секунды замешкался. Осталось только добавить газы и ждать: может, хоть у самого льда нос чуть приподнимется, хоть на полметра уменьшится вертикальная скорость падения. Он схватил рычаги…
Вдруг машина как бы мягко натолкнулась на невидимое препятствие, и тут же прозвучал четкий доклад Степаныча:
— Первый остановился!
— Взлетный! — рявкнул Климов и толкнул рычаги вперед. Он знал, что двигатели не могут остановиться оба сразу.
Это было все, что он мог сделать для спасения полета.
Импульс тяги третьего двигателя на секунду поддержал скорость. Лайнер стало разворачивать влево.
— Пятнадцать метров! — гремел голос Витюхи. — Десять! Восемь!
И вдруг наступила неправдоподобная тишина.
— Третий сдох, — устало сообщил бортинженер.
Петр Степанович тоже сделал все.
Машина, медленно просаживаясь, продолжала лететь, белые полосы мелких торосов неслись и пропадали под носом.
— Скорость четыреста!
Одна долгая секунда. Две до-олгих секунды. Три до-о-олгих секунды. Ну-у-у!!!
Самолет летел над самым льдом, тихо заваливаясь в левый крен. Сейчас коснется крылом… Вертикальная все так же: три… будет грубая посадка…
— Держитесь!
— Скорость триста девя… А! с-с-с-с-с…
Машина плашмя грохнулась о жесткий лед. Штурман прикусил язык. Всех мотануло по кабине, но ремни натянулись и удержали. Казалось, самолет разваливается на части. Под полом завизжало: выдранные с корнем антенны отслужившего свое радиовысотомера долю секунды царапали ледяную поверхность, потом с треском улетели.
Черный лед несся навстречу неправдоподобно близко, так, что поджимались ноги.
Воздушная подушка в последнюю секунду все-таки смягчила удар!
Лайнер, дрожа и грохоча, скользил по гладкому льду; сетка мелких сухих трещин мелькала в свете фар. Обесточивать самолет не было смысла: никакие искры не смогли бы уже ничего на нем зажечь. По байкальскому льду, медленно разворачиваясь, с визгом и гулом, сияя яркими конусами лучей, неслась семидесятипятитонная масса железа, чемоданов и людей, и пока все это еще сохраняло форму большого самолета, за которым тянулся султан невидимых в ночи мелких ледяных брызг. Туполевское железо выдержало!
— Смотри!
Справа спереди проявилась белая полоса, угрожающе ощетиненная частоколом торчащих заснеженных ледяных глыб; она надвигалась, росла, охватывая все пространство. Все сжались. Ну! Господи, пронеси!
Самолет пронзил эти глыбы, как иголка масло. Трахнуло внизу, казалось, под самым сиденьем что-то взорвалось, — и снова черный лед и несущаяся под ноги сетка трещин. В момент удара правая крыльевая фара погасла вместе с фюзеляжными; осталась одна левая, она все еще сиротливо светила. Бег не спеша замедлялся, машину развернуло правым крылом вперед, она мелко вибрировала и все катилась и скользила, скользила и медленно разворачивалась, разворачивалась и бесконечно, безостановочно, скользила по гладкому льду, как будто уносясь в вечность; из-под дрожащего пола доносились шипение и скрип заусенцев металла о лед. В салонах, скорчившись, сто пятьдесят живых людей ожидали смерти. Или жизни?
Справа в форточке, тускло освещенная отраженным светом, снова смутно проявилась полоса торосов, гораздо мощнее и выше предыдущей. В животе все заледенело. Бег машины замедлялся, но льдины все надвигались, неотвратимо, с неторопливой уверенностью палача. Не было сил уже смотреть, как приближается гибельный удар.
Неужели вот это — смерть?
Климов не закрыл глаз.
Оцепенев, он своими боками почувствовал, как где-то справа сзади него крыло со скрипом, не спеша, въехало в полосу торосов, уперлось в нее, и остаточная сила инерции, коверкая дюраль и сотрясая лайнер, иссякла. С короткой дрожью и скрежетом изувеченная машина развернулась вправо и остановилась, прижавшись боком к невысокой ледяной гряде. Правого крыла больше не существовало: сыграв роль буфера, оно превратилось в ком бесформенного металла.
Левая фара погасла. Только багровые сполохи невыключенного маячка периодически выхватывали из темноты зубчатую стену торосов.
Тишина. Приехали.
Все еще вращались электродвигатели насосов, гироагрегатов и вентиляторов, но привычное ухо воспринимало их слаженный гул как мертвую тишину.
В глазах капитана все померкло, только искры и круги, бесчисленные искры и желтые круги наплывали и наплывали откуда-то слева, уходили вправо и пропадали, чтобы уступить место следующим. Его понесло влево, влево, вниз, во тьму…
— Й-есть! — Витюха, выбросив вверх сжатые кулаки, вложил в этот крик всю радость, все счастье, все надежды вернувшейся жизни. Внутри бушевало: «Деточки, деточки мои… деточки!». Не чувствуя вкуса крови во рту, он обеими руками медленно начал стаскивать наушники, да так и замер вдруг, с закрытым ладонями лицом, согнувшись и уперев локти в дрожащие колени.
— Деточки… — плечи штурмана затряслись.
Утихали гироскопы, угасали отслужившие свою верную службу приборы. Кабина экипажа, напитавшаяся за эти два часа полета духом человеческих переживаний, еще жила своей особенной, гудящей, жизнью, но жизнь эта утекала, переливаясь в салоны с замершими и еще не верящими в чудо спасения пассажирами.
Димка, ошалевший от калейдоскопа событий, в момент посадки больно ударился локтем о правый борт, и это привело его в чувство. Все? Он оторопело оглядывался через плечо на свет и шум за спиной, морщился и тер руку. Потом до него дошло. Все! Они справились! Он справился! Он победил себя! Он помог капитану в самый решающий момент!
Он вслушивался в то новое, что разрасталось у него внутри после этого страшного полета. Предстояло разобраться во многих вещах… Но это потом. А сейчас всю душу заполнило одно безудержное чувство ликования: «Живой! Я живой!»
Это бывает с каждым, кто встречается со смертью лицом к лицу в первый раз.
Для Степаныча этот раз был далеко не первый. Он выключил насосы, отстегнул ремни, встал и, споткнувшись о стонущего на полу окровавленного человека, на подгибающихся ногах вышел в вестибюль. Мокрая форменная рубаха выдернулась сзади из штанов. В уголке на стульчике рыдала Ольга. Из салона на него смотрели десятки круглых, недоверчивых, ожидающих глаз.
— Все. Прибыли… согласно купленным… — Бортинженер не замечал, что его качает, он ухватился за проем в перегородке, судорожно шаря трясущейся рукой в попытке удержать равновесие, мимоходом сорвал с карниза в проходе занавеску, потом опомнился, шагнул к входной двери и навалился на рычаг: «Проклятая работа…»
Динамик над головой пилотов взволнованным голосом спросил:
— Девятьсот одиннадцатый! Девятьсот одиннадцатый! Вы сели? Вы живы?
Салон взорвался. Общий крик, визг, смех, слезы, топот, объятия, — все слилось в буйный, торжествующий шум внезапно воскресшего, вернувшегося бытия жизни. В ладоши никто не хлопал: животный страх смерти, мгновенно перешедший у людей в животную радость продолжившегося существования, напрочь отмел цивилизованные проявления благодарности; остался только вопль души.
«Живы! Мы живы! Я живу! Я, самый лучший человек на свете, — живу! Я вас всех люблю! Слава Господу! Ура!» — такие мысли фонтаном заливали сознание спасшихся людей и криком вырывались из пересохших глоток.
Кто же в такую минуту отдает себе отчет в своих действиях.
* * *
Ольге Ивановне никогда в жизни не доводилось поднимать руку на человека. Она сидела на откидном стульчике в вестибюле и горько плакала. Болела ушибленная грудь, саднило разбитое колено, ногти на руках были обломаны, окровавленные колготки порваны…
Она только что убила человека! Живого, страдающего человека, пассажира, которого по долгу службы и велению сердца должна была всячески оберегать и спасать в полете! Он заплатил свои деньги, доверил ей жизнь… Ну, напился до чертиков… так обстоятельства же…
Она представила себе будущее расследование, объяснения, суд… Неужели нельзя было обойтись без насилия, спросят ее. И что отвечать?
Страх предстоящей ответственности рвал сердце. Плечи старой бортпроводницы тряслись, она скорчилась на стульчике жалким, беспомощным комочком.
В безутешных рыданиях она и не заметила, что самолет давно уже не летит, а стоит неподвижно, что толпа ликующих пассажиров заполнила проходы и вестибюль. Морозный ветер ворвался через открытую входную дверь. Кто-то осторожно тряс ее за плечо, она подняла голову: женщины суетились вокруг, и сквозь туман сознания, отчаяние и боль стали пробиваться какие-то слова о помощи. Кто-то нуждался в помощи! Может, на борту есть пострадавшие, раненые?
Она вскочила, снова готовая помогать и заботиться, забыв о своем внешнем виде… да черт с ним, с видом… кто пострадавший? Сейчас… где аптечка…
Женщины держали под руки крутого. С разбитой головы капала кровь, текла по лицу, мутные глаза были бессмысленны, но на ногах он держался.
— Нажрался… со страху-то… Не пристегнулся, вот и выбросило, голову вон расшиб. Аж в кабину влетел!
— Живой! Дуракам и пьяницам везет! Неужели мы живы? Ой, я так испугалась, думала — все, конец… А как упали и покатились, поняла, что — все, жива! А думала — все…
— А я подумала…
Женщины, пережившие страх близкой смерти, теперь отходили душой и без умолку болтали, болтали, болтали…
Ноги Ольги Ивановны подкосились. Теперь ей самой нужна была помощь.
* * *
«Что — и это все? Конец? Кричат… дергают… Отстаньте… Дышать! Воздуху!» — Климов почувствовал, что сознание снова гаснет. Он понимал, что сейчас никак нельзя расслабляться, но накатила, навалилась и окутала теплая, отвратительная мгла, сквозь которую прорывались возбужденные реплики экипажа, несмелый робкий смех, шум в салоне… снова мгла… не поддаваться… держись, держись, старик…
В ушах отдавалось эхом: «девятьсот одиннадцатый, посадка на лед благополучно… координаты…» Потом: «Петрович! Петрович!»
Он понял, что самолет остановился, что его кто-то теребит, но главным в меркнущем сознании была тошнота. Тянуло на рвоту. Выйти на воздух… Климов рванул форточку — в кабину влетели клубы пара… хватанул ртом морозу, еще, еще… прояснилось. Он сбросил наушники, отстегнул ремни, потом, упершись в педали, кое-как отъехал с креслом назад. Голос неразборчиво говорил что-то ему над ухом, из салона слышен был нарастающий крик, перед глазами мелькали расплывающиеся лица, — капитан, расталкивая всех, рванулся в вестибюль, потом опомнился, полез назад к вешалке…
Накатывало, отпускало, снизу поднималась судорожная волна… Он отталкивал тянущиеся к нему руки, отмахивался:
— Потом… Потом…
Сдерживая спазмы, он накинул шубу и шапку, протолкался через толпу пассажиров у туалета, неуклюже перевалился через порог двери, мельком удивившись про себя, когда ее успели открыть и как невысоко над поверхностью льда нависает порог: можно спрыгнуть. Морозный ветер ударил в разгоряченное лицо, и на секунду перехватило дыхание. Ноги не держали, тряслись, подгибались, скользили. Адреналин душил. Климов опустился на четвереньки, его вывернуло наизнанку. Отплевываясь и вытирая слезы, он с трудом заставил себя встать, сделать шаг, потом другой. Надо было шевелиться, двигаться, надо было куда-то идти, подальше от всего этого… Кроме желания идти, в пустой голове остался один звон.
Снова налетел порыв ледяного ветра, ударил в бок, подтолкнул в спину, прояснил сознание. Сполохи маячка на долю секунды высвечивали фантастическую картину: лед, торосы, приплюснутая туша лайнера с торчащим комом дюраля на боку… Он хотел сделать несколько шагов в сторону близких, чуть отсвечивающих торосов, но ветер властно повернул его и повлек прочь от распластавшегося на льду самолета. Сопротивляться не было желания. Надо пройтись немного, пока окрепнут ноги. Он, шатаясь, мелкими шажками, широко расставляя ноги, бездумно засеменил по ветру, скользя и балансируя на предательски гладком льду.
В груди было пусто, все тело сотрясала мелкая дрожь, мокрая спина остывала. Он плотнее затянул пояс, влажная холодная одежда прилипла к телу. Руки и ноги сразу замерзли, как будто горячая кровь не доходила до них, а колотилась и застревала где-то в горле. И все так же мутило, и так же звенело в пустом мозгу, выжатом до предела. Как будто перепил. Кто-то уверенно подталкивал его в спину, и он бездумно шел в пустоту.
Он, видать, и правда, в этом полете перепил страху и, если бы был способен сейчас удивляться, поразился бы тому, как много может вынести человек.
Через минуту его окутала темнота. Луна еще не взошла. Навалившееся на ледяную стенку темное тело самолета, с бледными огнями иллюминаторов, растаяло за спиной, а вверху, впереди и вокруг ясно проявились миллионы звезд. На секунду пропало ощущение верха и низа. Млечный путь висел вверху и лежал под ногами. Климов не чувствовал своего тела и плыл как бы в невесомости, только разъезжающиеся ноги возвращали сознание к действительности. «Это лед, — вяло подумал он, — гладкий, отполированный ветрами, — это он отражает». Ему было все равно.
Он шел по гладкому льду Байкала, о котором так много читал, который так мечтал увидеть и пощупать. Теперь это было не важно. Важно было то, что все теперь позади.
Ветер на минуту стих, и можно было устойчиво идти. Он шел среди звезд, и по звездам, победивший стихию и свой страх человек, — шел, ничего не чувствуя: ни собственного тела, ни пронизывающего холода, — ничего, кроме тяжкой, смертельной усталости. В голове проявилась и стучала одна-единственная мысль.
Дело сделано. Он — доказал. Люди живы! А теперь… теперь ничего не надо. Ничего лучшего уже не придумаешь. Теперь будет только хуже.
Перед глазами вставали и таяли обрывки картинок, как придется писать объяснительные и в чем-то оправдываться перед чиновником. Летчик всегда виноват…
Мысли появлялись и разбегались, как стая мышей, — многочисленные, мелкие, серые, быстро пропадающие, пустые мысли.
Налетят телевизионщики, будут совать в лицо свои микрофоны…
Товарищи, отводя глаза, будут совать ему руку, и станет неудобно, что он этой посадкой на лед вроде как упрекнул их: «Вот видите…»
Потом будет обходной лист.
Потом — сидение на шлагбауме и безнадежная тоска по разрушенной авиации.
Потом — рак.
Нет, все лучшее осталось позади.
И что — это уже все? Ради этого он жил на земле? А смена? А как же мальчик?
Он обернулся. Далеко позади, там, где во тьме должен скрываться горизонт, мигал рубиновый маячок искалеченной машины, которую он с таким трудом довел до места и которая, в конечном счете, не подвела, выручила.
Снова налетел западный ветер, обдал лицо холодом, ожег щеки. Мокрая спина замерзла. Надо возвращаться. Небо затягивала пелена, звезды еще проглядывали в разрывы. Фронт догонял застывший на льду самолет. Ветер задул ровной струей.
Он пошел против ветра, прикрыв лицо зажатым в кулаке меховым воротником, дыша через щель. Не привыкать: в Норильске бегал через перрон в сорокаградусный мороз, с таким ли еще ветром. Главное — он успел, опередил фронт!
Сил идти не оставалось. Сил вообще не было — их съел полет. Ноги все так же дрожали и подгибались. Ветер упругой стеной давил в грудь, ледяными иголками проникал в рукава и под воротник, сбивал с ног. Он не ожидал от байкальского ветра такой силы. Руки закоченели, пальцев ног он уже не чувствовал. Опоры не было, ноги скользили; он несколько раз падал, больно ударялся об лед, и только собрав в кулак всю волю, поднимался. Наконец, из темноты и сполохов маячка проявилась темная масса. Всего несколько шагов отделяли его от самолета.
Мысли разбегались. В голове гудел гигантский колокол, правая нога отяжелела и покрылась мурашками. Маячок бил по глазам, бросая красный отблеск на гладкий борт со строчкой тускло светящихся иллюминаторов и выделяя провал двери, в котором копошились люди. Нога отнялась совсем, Климов бессильно осел на лед, потом лег на спину. Отдохнуть… несколько минут…
Маячок погас.
Он лежал и смотрел в небо.
Тучи на минуту рассеялись, и звездный мир снова опустился на лед. Звезды, кругом одни звезды! Вот он какой, твой звездный час…
Звезды не давали забыться совсем, властно притягивали к себе, и все мысли исчезали, растворяясь в чистом сиянии. Осталось ощущение главного: он сделал все. Он — сумел! Он сделал то, чего ни один человек на земле не делал!
Он заплакал слезами горького счастья. Что только может на земле Человек! Он — смог!
А теперь можно уйти.
И стало легко. Ни рук, ни ног, ни тела. Невесомость.
Со слезами утекала жизнь, застывающими каплями скатываясь по щекам на байкальский лед — тот самый, желанный, чистейший лед, до которого он с такими мучениями добрался и на котором теперь принимал свою смерть.
Как это просто. Все сделано. Больше ничего нет. Нет ни сил, ни страха, ни боли, ни желаний. Главное — люди живы… их звезда еще не закатилась… И этот мальчик… Мальчик должен задуматься…
Одни звезды кругом. Звезды — вот главное! Ради этих звезд… ради этих людей…
Сознание растворялось.
Пелена тонких облачков быстро затягивала небо, и Млечный Путь потускнел. Свободный ветер несся над бескрайними просторами Байкала, вылизывая и без того зеркальную поверхность льда, на которой лежало тело человека. Еще раз, на секунду, облака раздвинулись, и звездный свет тускло блеснул в застывших, уже невидящих глазах, заискрился в намерзших на щеках прозрачных ледышках слез, отразился от гладкого бока лайнера и расстелился по сверкающей поверхности озера, ставшего спасительным аэродромом для полутора сотен живых человеческих душ.
Потом все закрыло невидимой в ночи белой мглой.
Пошел снег, все сильнее и сильнее, завихряясь в струях ветра и наметая свежий сугроб над горсткой плоти, бывшей недавно пилотом Климовым.
С юга приближался гул вертолетов.
Спасатели торопились. Надвигался шторм.
Красноярск. 28 января 2009 г.



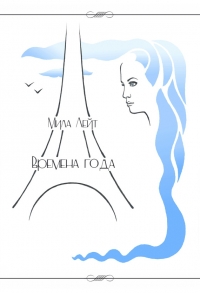
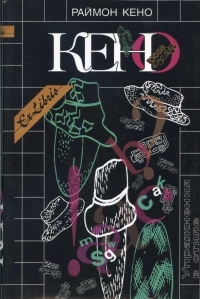

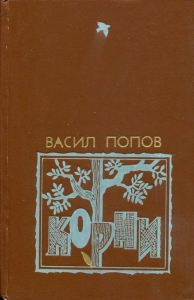
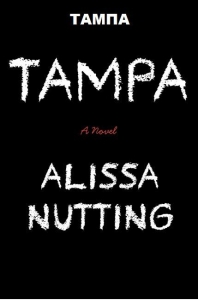
Комментарии к книге «Страх полета», Василий Васильевич Ершов
Всего 0 комментариев