Сергей Дигол Старость шакала Повесть
— Ооу!
Екатерина Андреевна Соколова покраснела и стыдливо, как смущенная собственным смехом восьмиклассница, прикрыла рот ладонью. Соколовой сразу вспомнился Михаил Иосифович Шифман, бывший главврач третьей кишиневской поликлиники, в которой она, пульмонолог высшей категории, добивала последний год перед пенсией. Душевным человеком был Михал Иосич, несмотря ни на что, царствие ему небесное, или что там у евреев после смерти.
Восемнадцатого января семьдесят седьмого года (дату она запомнила на всю жизнь) Екатерина Андреевна засиделась на работе дольше обычного — «горел» годовой отчет. Коридор остывал после нашествия пациентов, непривычно–настораживающую тишину разбавляли лишь гулкие шаги сторожа, скучавшего в вестибюле первого этажа. Внезапно загремел телефон, и, встрепенувшись, — «госсподи!» — Соколова почувствовала в горле пульсирующую боль, что всегда случалось при сильном испуге.
— Екатерина Андреевна, зайдите на пару минут — загудела трубка баритоном Михал Иосича, — и отчет с собой прихватите.
Прижимая к груди пухлую папку, Екатерина Андреевна нервно засеменила в противоположный конец коридора — туда, где за лакированной дверью скрывалась тесная комната, формально — приемная главврача, на самом деле — предпыточная. Во всяком случае, так называли помещение все медработники, кроме, естественно, самого Михал Иосича.
Бумаги на столе секретарши, принятой на работу редкостной растеряхой, аккуратно возвышались двумя одинаковыми стопками — заслуга требовательного шефа, умевшего, чего скрывать, создать атмосферу, в которой любая запорхнувшая в коллектив белая ворона быстро чернела от внезапных, как ураган, проверок, строгих выговоров с занесением и самого высокого, среди всех медучреждений Кишинева, процента увольнений по статье, и уж тем более по собственному желанию. Себя Михал Иосич тоже не щадил: лампочка в его кабинете перегорала чаще, чем у других, но даже осознание феноменальной работоспособности шефа не приносило сотрудникам желаемого облегчения.
Собственные испытания работой Екатерина Андреевна переносила без видимых усилий. Нельзя сказать, что ей приходилось легче, скорее наоборот: с заведующего отделением всегда особый спрос. Утешало ее одно — бескорыстная любовь к главврачу, не обращавшего, однако, никакого внимания на излишне томные и долгие, даже для подхалимажа, взгляды Соколовой на планерках, случайные прикосновения при уточнении графика дежурств и даже особую интонацию голоса — безотказное, как ей самой казалось, оружие, применявшееся Екатериной Андреевной в особых случаях — когда выпадало счастье остаться наедине с шефом в его кабинете. Проще было плюнуть на толстокожего зануду — служебный роман пройдет, а презрение коллег останется — но каждый раз, оказываясь в приемной, пульмонолог инстинктивно выпрямляла спину, распаляя в глазах никак не хотевший гаснуть огонь.
— Войдите! — услышала она в ответ на свой стук. От голоса Михал Иосича на теле Соколовой всегда радостно суетились мурашки, но в тот раз даже у них вышло чересчур резво.
Переступив порог начальственного кабинета, Екатерина Андреевна уронила папку и упала — хорошо, что на дверь, вовремя оказавшуюся за спиной. Перед ней стояло огромное и совершенно голое мужское тело — «снежный человек!», взвизгнул кто–то в голове Соколовой, причем без ее ведома. И хотя от удара о дверь из головы что–то словно высыпалось на пол, пульмонолог не то что сообразила, а скорее ощутила умом, что мысль о снежном человеке как–то связана с запахом хвои, в котором Екатерина Андреевна безошибочно распознала аромат одеколона «Шипр».
— Ооу! — пропела Екатерина Андреевна и, уже теряя сознание, успела почувствовать щекой ворсистую грудь Михал Иосича.
Воспоминание о первой измене мужу всегда сладостно волновало Соколову. Но сегодняшнее волнение изрядно горчило. Стараясь не смотреть на свое отражение, мелькавшее за спиной пациента, Екатерина Андреевна и без зеркала знала, что краснота на ее лице становится пунцовой, и причиной тому — стыд и досада. Бог с ним, с Михал Иосичем, с кем не бывало по молодости? Да и срок давности — есть ли такой у супружеской неверности? — давно уж, наверное, вышел. Досадовала же Екатерина Андреевна потому, что была профессионалом, которые, в отличие от дилетантов, не ищут повода для угрызений совести — угрызения приходят к ним сами и без приглашения.
Застонать при виде полураздетого пациента? Да простительно ли такое врачу с ее стажем? Обычно Екатерина Андреевна обращала на обнаженное тело столько же внимания, сколько электрик — на предупреждение «не влезай — убьет» на двери трансформаторной будки. Как и для электрика, оболочка не представляла для Екатерины Андреевны никакой ценности, в отличие от внутреннего устройства. А среди всех внутренностей внимание Соколовой, что естественно для пульмонолога, привлекали легкие.
Но промах был допущен и даже без удивленного взгляда пациента Екатерина Андреевна знала, что требуется, так сказать, пояснение.
— Какие они у вас, — пробормотала Соколова, не в силах оторвать взгляд от тела мужчины.
Ей и в самом деле никогда не приходилось видеть на чьей–либо груди огромный крест, с трефообразными узорами на концах, сделанный — нет, не из золота, а прямо на коже пациента. Как, впрочем, и все остальные татуировки, занимавшие всю грудь и верх живота мужчины. Слева от креста (со стороны пациента — справа) рябил частокол, и тоже из крестов, от маленьких до едва различимых, в зависимости от размеров куполов, на которые эти кресты опирались. С левой груди надменно взирала совершенно обнаженная женщина, загадочным образом сохранявшая равновесие, стоя на занимавшем пол–живота колесе с двумя выраставшими из него крыльями. Примерно такие же Екатерина Андреевна видела на спинах актеров, сыгравших сосланных на землю ангелов в одном кровавом американском фильме, который постоянно крутили по кабельному телевидению.
— Красивые, — добавила Соколова. Испугавшись, что ее предыдущие слова не были поняты правильно, она тяжело задышала, охваченная новым приступом стыда.
— Дышите, — сдерживая гнев, выдавила Екатерина Андреевна и прислонила мембрану стетоскопа к вульгарного бюсту женщины на колесе. Нарисованные груди закачались в такт добросовестному дыханию пациента, и Соколова вдруг поняла, что это тело, этот торс пожилого мужчины со слегка расплывшимися татуировками и редкой сединой на груди, вызывает в ней противоположные чувства — раздражение и, как оказалось, не навсегда позабытое возбуждение.
— Глубже дышите, — ненавидя себя, прошипела Екатерина Андреевна и, не удержавшись, бросила взгляд в глаза пациенту.
Мужчина, словно почувствовав смущение доктора, отвернулся, насколько позволяла шея, покорно и шумно втягивая и выдыхая воздух.
Вдох.
«Что же ты, тетка, пялишься?… Наколок не видела?..»
Выдох.
«Старый козел, думает… Плевать!.. Не милостыню пришел просить…»
Вдох.
«Заплатил же всем… Поликлиника, мать ее… С пенсионерами как с собаками…»
Выдох.
«Нет, все–таки при Союзе…»
— А теперь спиной! — рявкнула Екатерина Андреевна и, схватив пациента за плечи, развернула его лицом к зеркалу.
Вдох.
«Слава богу, хоть на спине нет!.. На семьдесят пять он не выглядит… Но татуировки, фу, мерзость!..»
Выдох.
«Ой, да он же… Мамочка!.. Точно, бандит!.. Вот ужас–то…»
Вдох.
«А мой что, лучше?… Проклятый инсульт… Толку что моложе…»
Выдох.
«Сколько это уже?… Сколько он прикован к постели?…»
Вдох.
«Три? Господи, три года уже… А этот смотри–ка!.. Подтянутый, с деньгами… Откуда, кстати… Стоп, а это что?..»
— Сидели? — спросила вдруг Екатерина Андреевна.
Развернувшись, старик–пациент смотрел на нее сверху вниз, причем не только из–за разницы в росте, из–за которой Екатерину Андреевну, все еще за глаза, но вот уже лет двадцать как, все, даже санитарки, называли Шпингалетиной. Пациент тяжело дышал, хотя в этом не было необходимости: докторша уже вынула из ушей наушники стетоскопа.
Ну что с такой сделать? Послать? Это никогда не поздно, вот только кроме как на врачей, которых старик презирал не меньше, чем педерастов — в тюрьме и те, и другие норовили залезть если не в задницу, то в глотку — надеяться было не на кого. К тому же за полтора часа скитаний по провонявшимся медикаментами коридорам поликлиники, он оставил врачам восемьсот леев. Любой его ровесник — а все они, в отличие старика, были нищими пенсионерами — имел право на полный медицинский осмотр — бесплатно, согласно полису обязательного медицинского страхования, гарантирующего престарелым толкотню и обмороки в многодневных очередях.
Но старик ждать не мог и приходилось терпеть. И безжалостные поборы учуявших запах денег врачей, и холод больничных кабинетов, и даже вопросы, за которые на зоне принято отвечать тому, кто спрашивает.
— Сидели, я спрашиваю? — повторила Екатерина Александровна и поправила очки.
Ну, это уже слишком!
— Вы же сами видите, — засипел старик, кивнув подбородком на татуировки, — может, подробности хотите? Пожалуйста: количество куполов означает…
— Меня не интересует — перебила Екатерина Андреевна — что это там у вас означает.
— Что же вам надо? — растерялся старик.
— Можете хоть зарубки ставить, как Робинзон Крузо, — все больше распалялась пульмонолог, будто не расслышав вопроса пациента, — год — зарубка, еще год — еще зарубка. Я, мой дорогой, почти тридцать пять лет в медицине и мне достаточно моих ушей и стетоскопа, чтобы выслушать амфорическое дыхание. Подозреваю — после туберкулеза. Одевайтесь!
Она гордо уселась за стол, взяла ручку и чистый бланк.
— Как, говорите, ваша фамилия?
***
— КАСАПУ!!!
Крик охранника Санду был достопримечательностью кишиневской тюрьмы. Нечто подобное выпадало, должно быть, жене диктора Левитана в пылу семейной ссоры. То еще испытаньице: трубный баритон, сбивающийся на истерический визг. И хотя зэки посмеивались — почаще бы он дежурил, глядишь, тюрьма и рухнула бы — после каждого такого выкрика оглушенная камера затихала, чтобы через пару мгновений наполниться нервным шепотком, перебиравшим, словно бусинки на ожерелье, одни лишь матерные слова.
— Касапу, на выход! Давай, старик, пошевеливайся!
Криво улыбнувшись, Валентин Касапу пожал плечами, то ли извиняясь перед сокамерниками, то ли кивая на Санду — что, мол, с дурака возьмешь. Внутри у Валентина легонько поскребывало: ему и в самом деле было неловко перед ребятами, тем более, что подготовился он еще с вечера — знал ведь, что кричать охранник будет громче обычного.
Это было пятое последнее утро Валентина в тюрьме. И все четыре последних утра начинались одинаково — с бешеного крика дежурного. Менялись камеры и этажи, менялись тюрьмы и охранники, а последнее утро каждого срока всегда начиналось одинаково. Дежурные будто только и ждали этого дня, чтобы, затянувшись спертым тюремным воздухом, незабываемо исполнить свою партию и продолжать репетировать дальше — пока не придет время выпускать на свободу очередного мерзавца. В отличие от сокамерников — а сажать стали все больше молодых да глупых, из тех, кто еще не сидел — Касапу заранее поеживался от голоса Санду. И ведь даже вещи собрал накануне, да только — эх, старость, старость — в последний момент закемарил, упершись локтем в свернутый рулоном матрас. Что бы не говорили, а шестьдесят лет — много, насчет этого Валентин готов был биться об заклад. Особенно, если из этих шестидесяти двадцать семь провел за решеткой.
Освободившись в пятый раз, Валентин Касапу попал прямиком в мечту всей своей жизни. В Кишинев образца 1993 года. Сколько себя помнил, Валентин, не то что ненавидел советскую власть, он ею, скорее, брезговал. В молодости грезил бунтом, мечтал о свержении коммунистического режима и об отмене колхозного строя. Сердце Валентина пылало революционным нетерпением, но руки его, ловкие и разборчивые, тянулись не к винтовке, а к чужим кошелькам.
«Долой коммунистов!», думал Валентин каждый раз, уводя толстое ли портмоне из сумочки модницы или пару мятых купюр из дырявого кармана фронтовика. Касапу повторял это как заклинание, не переставая радоваться своей выдумке — фразе из двух слов, верно служившей ему и талисманом, и девизом. Объясниться Валентин ни с кем не решался, но себе давно доказал, что урон Советам наносит уж по крайне мере не меньший, чем бездарные бунтовщики вроде «лучников Штефана Великого».
Разве кражи имущества граждан не подрывают социалистический строй? То–то. Тех же, кто ночами крушил сельсоветы, быстренько перестреляли–повысылали в Сибирь и Казахстан, а талисман Валентина подводил карманника по–божески — всего–то раз в три–четыре года. Но даже в тюрьме Касапу не представлял крушения коммунизма без своего, притом непосредственного участия, опасаясь лишь одного — проспать минуту своего триумфа.
Поэтому когда огромная империя незаметно, без торжественных речей и акта о капитуляции, рассыпалась словно трухлявое дерево, Валентину хотелось перегрызть себе горло. Он почувствовал себя обманутым, как дуэлянт, который тщательно готовится к поединку, привередливо меняет секундантов, ночами корпит над завещанием, а днем фехтует до онемения руки, и вдруг узнает, что соперник глупейшим образом погиб, упав с лошади. Впрочем, сил на решающую схватку, и в этом самому себе Валентин, не без горечи, но признавался, давно не осталось, поэтому он с радостью согласился бы и на роль шакала, описывающего круги вокруг чужого, уже изрядно опустошенного стола.
Между тем Советский Союз уже два года как лежал в руинах, и золотой песок из его разлагающегося трупа вовсю сыпался в наиболее проворные карманы. Где мои силы, где молодость, думал Валентин, умиленно разглядывая выросшие повсюду, словно бурьян на заброшенном поле, торговые палатки. Шестьдесят лет — а Валентин вышел на свободу как раз в год этого, не внушающего радости юбилея, — еще не конец, но и не тот возраст, когда начинают с нуля. На воле же Валентин оказался с честным словом в кармане. Некоторую надежду внушало лишь то обстоятельство, что слово дано было Митричем — вором в законе, при котором Валентин дослужился до смотрящего — впервые за пять отсидок.
— Найдешь Рубца, скажешь что от меня, — говорил, наверное, в сотый раз в жизни, меняя лишь имена, Митрич, — он все сделает.
Валентин молча слушал Митрича, сидя у того в одиночке, за невообразимым для этих стен столом — с вином и бараниной, мамалыгой и плацындами, виноградом и дыней — изысками, запах которых сводил с ума обитателей соседних камер. Прощальный ужин Митрич наметил заранее, и хотя ему было жаль расставаться с Валентином, не отблагодарить Касапу за шесть лет преданности он не мог.
— Он мне должен — добавил Митрич и поморщился: воспоминания о Рубце были явно не из приятных, — так что смело требуй. До чего довели…
Последние слова дались вору в законе с трудом — Валентин и сам почувствовал что–то вроде спазма в горле. Пускать слюни на плече нижестоящего, пусть трижды верного, для авторитета смертельно, но что еще остается, когда ты на обочине и знаешь, что навсегда? Из самых крутых переделок Митрич выходил молча, но когда тебе семьдесят два, ронять слезу не зазорно.
Из тех парней, с которыми он куролесил в молодости, никто не пережил даже генсека Брежнева. Никто, кроме Митрича, который, пережив перестройку, теперь если и мог кого убить, то исключительно за разговоры о демократии, рыночных реформах и западных кредитах. Нет–нет, Митрич не был убежденным коммунистом. Он вообще не был коммунистом и советскую власть любил не больше, чем Валентин. Но и в страшном сне — а Митричу часто снился туннель, по которому он шел, казалось, бесконечно, и чем дальше шел, с тем большей ясностью и бессилием понимал, что туннель этот — расстрельный — даже в таком сне ему не могло привидеться, чем крах коммунизма станет и его крахом. Концом его власти, а значит, и просто концом.
— Сучата, а ведь вот как всех держал! — сжимал он трясущийся кулак и, раскрасневшись лицом, выпучивал глаза так, что, казалось, не миновать беды — или глаза вытекут, или кулак разорвет.
Имен Митрич не называл, но каждый зэк и без подробностей знал, что сучата — это Андрей Лях и Нику Аполлон, воры в законе, двое из трех на всю советскую Молдавию. Третьим был Митрич, но никому и в голову не приходило назвать его третьим. Митрич крышевал и Ляху, и Аполлона — ювелирно, как старый хирург, который уже роется в кишках, а пациент все ждет первого надреза скальпелем. Московские воры — а над ворами молдавскими они имели такую же власть, как ЦК над республиканским комитетом партии — всё, конечно же, знали, но вмешиваться не торопились. Митрич не беспредельничал, работал по понятиям и, главное, вовремя и сполна отстегивал в союзный общак — чего ж еще беспокоиться? Лях и Аполлон тоже не подавали вида, во всяком случае, на больших сходняках, куда съезжались авторитеты со всего Союза, держались так, словно Молдавия и в самом деле поделена на три справедливых доли.
— Орёл! — воодушевлялись они, когда речь заходила о Митриче, и только поэтому можно было заподозрить, что сами–то они — синицы.
Подрезать орлу крылья, чтобы самим взлететь повыше, Лях и Аполлон сговорились, стоило лишь московским паханам вдохнуть ветер перемен, а заодно — учуять запах больших денег и настоящей, охраняемой армией и ментами, власти. Союзный сходняк оказался не прочнее центрального комитета, и уже в начале девяносто второго года, отгородившись друг от друга и от московских воров государственными границами, теперь уже бывшие союзные авторитеты вдохнули — каждый свою — порцию сулящего власть и деньги ветра.
Удача, которую Митрич будто носил с собой — в одном кармане с четками и «Макаровым», впервые оказалась по другую сторону решетки. Сам же он, как назло, как раз находился за ней, коротая очередной, седьмой в жизни срок.
— Дайте только выйти! Дайте же выйти! — кричал он и грозился грохнуть — нет, не Ляха с Аполлоном, а ублюдка в судебной мантии.
Надо же было додуматься: посадить человека в преддверии крупнейшей геополитической катастрофы двадцатого века, как формулировал пятнадцать лет спустя сам Митрич, сидя в одиночке за одним столом с Валентином Касапу.
Свои прежние сроки Митрич принимал как должное и даже нужное. В тюрьме, где ничто не отвлекало от дел, он чувствовал малейшие колебания нитей, которыми опутал криминальный мир республики. В середине семидесятых он даже добился продления истекшего было срока: опасался на свободе, как он сам говорил, «выпасть за канаты».
— Чтобы боксер озверел, его надо оцепить канатами, — часто повторял он.
Тюрьма была для Митрича чем–то вроде санатория и рабочего кабинета одновременно. Здесь он был сыт, силен, уверен, и, как опытный шофер, точно знал, что ждет за поворотом.
И вдруг, в девяносто втором…
— Ничего, дайте только выйти, — грозил Митрич, но от этих увещеваний пользы было не больше, чем шизофренику — от самолечения.
Война подходила к концу и каждый новый день являл Митричу новые признаки поражения.
Только странная это была война. Если бы у Нептуна, владыки морей и океанов, была подводная лодка, он, возможно, и достиг бы той степени могущества, к которому привык Митрич, сидя в кишиневской тюрьме. Можно субмарину назвать темницей Нептуна, а можно — неприступным убежищем, наводящим страх на и без того покорных обитателей морских глубин. В своей лодке Митрич безошибочно угадывал движение каждой, самой мелкой рыбешки, да что там — малейшее помутнение воды не ускользало от его внимания. Он знал, что его боятся и точно знал, кто, когда и где его перестанет бояться, как если бы обшивка субмарины была оснащена сверхчувствительным датчиком. Он контролировал все, пока его лодка не оказалась в подводной — не расстрельной, но не менее коварной — пещере, выход из которой кто–то поспешно замуровал. Передатчик продолжал работать, но ничего, кроме бессильного бешенства, поступавшие известия Митричу не приносили.
Апелляции, которыми он завалил суд, отклонялись с быстротой пробивающего талоны компостера. Его защитники — из Москвы были выписаны звезды российской адвокатуры — словно сговорились: один исчез за день до судебного заседания, второй не менее внезапно взял самоотвод и уехал в срочную командировку, из которой так и не вернулся, третий и вовсе умер, сиганув с балкона гостиничного номера. Погибали и те, кого Митрич называл опричниками — этих изводили оптом и в розницу. То сразу пятеро взорвались в мерсе в самом центре Кишинева, то ведавший кассой бывший вундеркинд по кличке Минфин не проснулся после ночи с любовницей. Но большинство людей Митрича — а любое большинство тяготеет к победителям — спокойно и незаметно перетекло к новым хозяевам.
Да–да, к двум из трех, хотя никому уже и в голову не приходило назвать Митрича третьим. Все что у него осталось — полный грев, который Лях и Аполлон не решились отобрать, а еще — воспоминание об утраченной власти.
— Касапу, пора! — постучав — в камере Митрича орать не полагалось даже дежурным — робко заглянул Санду.
— Закрой, — даже не обернулся Митрич, и дежурный тут же исчез.
— Давай еще выпьем, — поднял кувшин Митрич, и вылил остаток вина в кружку Валентина.
«Бульк!», ответила кружка, и Валентин заметил, как в темном вине исчезает, уходя на дно, что–то тускло–золотистое. Валентин поднял кружку и, глядя в ставшие вдруг цепкими глаза Митрича, выпил до дна, не разжимая челюсти. Не закусывая, Касапу нащупал языком что–то холодное, царапнувшее губу изнутри, и сразу определил, что это гильза.
— Ну, с богом, — поднял пустой кувшин Митрич и повернулся к двери — дежурный!
Валентин встал и, молча поклонившись Митричу, вышел через открывшуюся дверь. Поднял руки, оперся о стену, расставил ноги и подождал, пока его нехотя, словно стряхивая с одежды пыль, обыщет Санду.
Ну, Митрич! Ну, старый бестия!
Если капитан субмарины, заметив в пещере щель, достаточную для прохождения водолаза, ничего не предпринимает — дерьмо он, а не капитан.
Касапу шел по тюремному коридору и чувствовал, как слюна наполняется металлическим привкусом.
Значит, он и есть тот самый водолаз, хотя поначалу Валентин подумал было о бутылке с посланием, которой так наивно доверяют последнюю надежду все потерпевшие кораблекрушение.
Значит, послание в гильзе, а Валентин, в отличие от безмозглой бутылки, знает имя адресата.
Значит, Рубец, который, по словам Митрича, крышует кишиневский рынок.
На Валентина словно напялили бронежилет — идти было тяжело, но с каждым шагом он ощущал себя все уверенней, будто держал за щекой не гильзу, а оберег.
Он снова коснулся ее языком, словно боялся, что металл растворится в слюне.
Оставалось облачиться в скафандр и выплыть через главные ворота кишиневской тюрьмы.
***
Рубцом оказался Николай Семенович Мунтяну — во всяком случае, на этом настаивала серебристая табличка на двери кабинета. В верхней части ее, в два ряда, громоздились, толкая друг друга, важные буквы: «ООО Муниципальное предприятие Центральный рынок», а под фамилией примостилось скромное «директор» — именно так, с маленькой буквы. Слово «Рубец» на табличке отсутствовало.
В кабинете директора муниципального предприятия Валентин почувствовал себя непутевым пассажиром, соскользнувшим с подножки улетающего в будущее экспресса. Дыша белизной стен, сверкая обрамленными в пластиковые рамы стеклами (кажется, такие окна называются стеклопакетами), кабинет Рубца скрипел, жужжал, свистел всевозможными чудесами техники — факсом, компьютером и еще одним устройством, из которого бумага выходила с уже отпечатанным текстом, словно внутри умещалась первоклассная стенографистка в придачу с печатной машинкой. Вдобавок ко всему, к ремню на брюках Рубца крепился диковинный, размером с ладонь, черный прямоугольник, на котором имелось что–то вроде табло калькулятора.
— Пейджер, — ответил Рубец на вопросительный взгляд Валентина и, пожав руку, гостеприимно указал на кресло у окна.
— А что делать, сейчас без этого никуда — добавил он, щурясь в отверстие гильзы, попавшей к нему с рукопожатием Валентина, — миллион дел в день, только успевай крутиться. Уберешь руку с пульса — нет гарантии, что завтра у самого с сердцебиением проблем не будет. Вот он и спасает — Рубец кивнул на пейджер, — хотя скоро, базарят, беспроводные телефоны будут.
Покопавшись в столе, Рубец нашел изящный пинцет и уже извлек было из гильзы — аккуратно и быстро — крошечную, завернутую в целлофан бумажку, как вдруг замолчал стрекотавший до этого факс. Бросив на стол весточку Митрича, Рубец ловко сорвал с аппарата длиннющий свиток. Несколько минут он молча читал, хмуря брови, и Валентин, вдруг почувствовавший себя ничтожно мелким в огромном кожаном кресле, вежливо кашлянул.
— Ну так вот, — встрепенувшись, Рубец стал аккуратно складывать свиток, — сейчас каждый должен быть на своем месте. Делать то, что лучше всего умеет. Прошли времена, когда кухарка управляла государством. Рыночная экономика, так–то братан. А где же еще быть рыночной экономике как не на рынке? — он рассмеялся неожиданным фальцетом.
Братан!
Сказать, что Валентин почувствовал себя мерзко — ничего не сказать. О чем он, эта гнида? На зоне такие чушки боялись заговорить с Валентином, сторонились смотрящего даже взглядом. Во всем виде Рубца было слишком много несоответствующего его положению: мелкий, вертлявый, с реденькими пшеничными волосами и бегающими голубыми глазками, в красном, не по мерке, пиджаке, рукава которого он беспрестанно одергивал к локтям, обнажая бледные кисти. На безволосых пальцах его, под широченными перстнями, скрывались бледно–синие наколки.
Директор, мать его! Да он за последнего баландера не сойдет, а разносчиками всегда берут мужиков крупных — чтобы по десять похлебок за раз донести, да случись заварушка, вовремя дать деру, расчищая площадку профессионалам — головорезам с дубинками, наручниками и стволами.
Что ж, приходилось привыкать к тому, что за тюремными стенами все перевернуто с ног на голову.
— Нужны спецы, — продолжал разглагольствовать Рубец, — а с теми, кто трется вокруг, и так перебор. Менты, налоговики, санстанция бля, таможни. Хорошо, что я, так сказать, из этой сферы, так хоть с крышей вопрос решен.
Он решил с крышей! Блядь, неужели теперь на воле кругом такие вот авторитеты?! Не был бы Валентин голоден, как выброшенный за забор состарившийся сторожевой пес, он бы уже заблевал свежеотремонтированный кабинет.
— В общем, место я тебе нашел, — Рубец поднялся и подошел к окну, выходившему на овощные ряды.
Валентин тоже встал и стал смотреть вниз — туда, где из движущихся навстречу, чтобы перемешаться друг с другом, потоков людей, то там, то здесь выпадали одинокие фигуры и, словно перебежчики, устремлялись под навес овощного павильона. Еще с минуту их потускневшие силуэты можно было различить в полумраке, после чего они растворялись под тенью гигантской пластиковой крыши, а когда выплывали назад — чтобы вновь унестись могучей людской рекой, их было уже не узнать — казалось, и одежда на тех, прежних, была другая, а уж баулов в руках — так точно на порядок меньше.
— Супер! Что скажешь, а! — Рубец толкнул Валентина плечом, и Касапу поморщился — то ли от внезапно удара, то ли от идиотского слова.
— Что скажешь, старик? — повторил, усаживаясь за стол, директор.
Тут же в кабинет вошли три крепыша в кожаных куртках, и Валентин решил, что у Рубца где–то под столом спрятана кнопка, которую он незаметно нажал. Не сказав ни слова, здоровяки уставились на хозяина, не удостоив Валентина даже случайным взглядом.
— Условия такие, — поджав губы, Рубец защелкал зажигалкой и, к ужасу Валентина, поднес ее, вспыхнувшую, к зажатому в пальцах посланию Митрича.
— Сдаешь всю кассу моим людям…
Бумага занялась нехотя, и Рубец, кивнув на парней в коже, по–прежнему игнорировавших Валентина, словно директор общался сам с собой, повернул крохотный свиток загоревшимся концом вниз — так, чтобы целиком утопить его в пламени.
— Двадцать процентов от заработанного — твои. Оплата в конце недели, день можешь выбрать сам…
Спрятав зажигалку в карман, Рубец бросил бумажку, вернее то, что от нее осталось, в пепельницу — дотлевать, испуская дух в виде белого дыма.
— Сейчас с ребятами познакомишься, пройдешься, так сказать, по цеху, осмотришься.
Пока парни в коже продолжали невозмутимо и, как показалось Валентину, слегка надменно смотреть в глаза Рубцу (интересно, а как он успевал смотреть в глаза сразу троим?), у Валентина где–то внутри словно уронили рельсу: он почувствовал, что не в состоянии пошевелиться. От бессилия у него задрожали руки, а еще — от одной мысли, что ему, еще вчера смотрящему в кишиневской тюрьме, теперь, чтобы не сдохнуть на воле, придется горбатиться на какого–то недоноска, в котором так жестоко ошибся Митрич.
— Это все, что я могу для тебя сделать — развел руками Рубец.
— А что делать–то?
В душном кабинете — на стене висел ящик, который Валентин принял за кондиционер, но он почему–то не работал — повисла пауза, и Касапу почувствовал, что духота становится невыносимой.
— Да, постарел Митрич, — подмигнул своим молодчикам Рубец, — а мне сказали, что ты — профи.
— Я смотрящий, — насупился Валентин.
Парни в коже одновременно повернулись к Валентину, будто услышали кодовое слово.
— Кто–кто? — театрально подставил ладонь к уху Рубец, — я что–то не расслышал.
— Смотрящий!
— Смотрящий под кем? Не под грозным ли Митричем, а? Да вот он, твой Митрич, — схватив пепельницу, Рубец перевернул ее, обрушив на стол снегопад из пепла, — нет его больше! — он вскочил, поправляя брюки. — А ты — щипач, причем первоклассный. Для тебя здесь, на рынке — эльдорадо просто! Тьма народу и у каждого кошелек. Митрич ему сдался! Другой бы ползал тут, ноги целовал, что к себе беру. Кому ты бля такой нужен…
Валентин слушал Рубца молча, потрясенный — нет, не его словами — а собственными мыслями. Мать твою за ногу, а ведь купился! Как это, оказывается, просто — торговать собой! И одновременно — продавать других.
— А, может, Митричу хотя бы, — начал Валентин, не понимая, кто заставил его, вскочив с кресла, пятиться спиной к выходу — возможно, Рубец, который, словно забыв о присутствующих, стал озабоченно раскладывать папки на столе, — может, помочь как–то, я не знаю…
— Все, идите, идите, — не переставая перекладывать папки, быстро кивнул на дверь Рубец, и парни в коже ретировались.
— Сожгли–то зачем? — уже в дверном проеме почти прошептал Валентин.
Закрывал он за собой осторожно, стараясь не хлопнуть дверью, но все равно хлопнул, успев услышать ответ Рубца:
— Это все, что я мог для него сделать.
***
— Девушка, ну долго еще?! Забирайте товар, люди ждут!
Расползающаяся к низу, словно тающий снеговик, тетка с засохшими томатными косточками на переднике поверх спортивных штанов, нетерпеливо трясла кульком с помидорами.
— Подождать можете, да? — нервно запихивая кошелек в сумочку, огрызнулась покупательница, блондинка в темных очках.
— Очередь, говорю, ждет! Очки бы сняла!
Что тут началось! Сотканное из сотен голос мерное жужжание, покрывавшее овощные ряды, разорвали, многократно отражаясь о крышу павильона, два женских визга, перебивавших друг друга целых три минуты, из которых Валентину Касапу хватило первых двух секунд.
Очень скоро Валентин понял, что едва истекшее заключение променял на новую тюрьму. На этот раз — огороженную четырьмя стенами кишиневского рынка. Если это и был перевод с одной зоны на другую, то — с понижением. Пошмонать, на правах смотрящего, забивших на понятия зэков в их собственных камерах Касапу не мог, да и не было больше никакого смотрящего Касапу. Не было, впрочем, и зэков, а лишь рабы рынка: реализаторы, грузчики, кладовщики и прочая почти дармовая сила, и еще — щипач Валентин Касапу.
В качестве персональной камеры, за пределами которой Валентину настоятельно рекомендовали не распускать умелые руки, ему отвели овощной павильон, и видимо поэтому Касапу получил от Семена Козмы, острого на язык начальника охраны рынка, новое прозвище. Хотя, почему новое? Погонял на Касапу никогда не лепили, даже для авторитетов он всегда был просто Валентином, а тут придумал же — «Вегетарианец». Питаться, однако, Валентину хотелось не только растительной пищей, и он плюнул — хоть горшком называйте, лишь бы поближе к печи. Пошустрить в соблазнительных мясном или молочном павильонах Валентин не решался: мешало данное Рубцу слово и служба Семена Козмы, что была крепче любой, самой убедительной клятвы.
Правда, еще одно препятствие Валентин придумал для себя сам. Пообтеревшись пару недель, он решил, что охотиться будет только на женщин и исключительно на тех, кто решился на покупку. Шастающие между рядами, лишь бы поканючить о заоблачных ценах бабы его не занимали. Он ждал, когда покупательница расстегнет сумочку и достанет на сгущаемый пластиковой крышей свет кошелек.
Насколько этот, изобретенный им же механизм, идеален, Валентин не подозревал, пока не попал, как ему показалось в начале, случайно, на репетицию одной странной речи.
Вообще–то Рубец вряд ли рассчитывал на такого слушателя. Выскочив из здания администрации, директор отчаянно вертел головой, пока не наткнулся взглядом на сутулую фигуру старика в песочной кепке.
Так Валентин во второй раз оказался в огромном кожаном кресле, у окна в кабинете директора.
— На рынке мужчина особо остро ощущает свою вторичность, — читал Рубец, нервно вышагивая перед Валентином, — много ли удовольствия недовольно сопеть в спину благоверной и уныло закатывать глаза, пока та выбирает капусту потверже, а у тебя и без всякой капусты ладони изрезаны ручками пудовых сумок, задевающих при ходьбе асфальт. В компании с женщиной мужчина на рынке жалок — нет, не из–за перегруженных рук; в конце концов, тяжести — по мужской части. Унизительна сама диспозиция: инициативная женщина уходит в отрыв, пассивный мужчина плетется сзади и, если и не отстает, то напоминают скорее заглохшую машину, взятую на буксир. Между прочим, женщине ничуть не легче: представьте себе, каково это — буксировать под завязку груженый самосвал. Только вместо троса между женщиной и мужчиной — узы брака. Да, как не горько кому–то сознавать, но вся жизнь мужчин протекает в соответствии с неумолимой формулой семейного движения: баба, словно поводырь, тянет мужика вперед, причем к своей (он поднял палец) цели, пропуская его вперед лишь при необходимости. Как правило, чтобы пробить головой стену, внезапно возникшую на ее пути. Так правомерно ли упрекать мужчину в отсутствии энтузиазма? Чему должен радоваться, бреясь субботним утром, мужчина, обреченный подчинить свою личность явно не знающей границ женской воле? Не лучше ли так называемым семейным психологам отвлечься от расхолаживающей кабинетной атмосферы, от безликих теорий и запылившихся многотомных руководств? Пройдитесь по рынку, дорогие знатоки человеческих душ, и, может быть, тогда вы решитесь признаться, хотя бы себе, что истинная проблема многих семейных пар — в систематически подавляемом врожденном лидерстве, которое, тем не менее, не вытравить из ген даже самых безвольных мужчин.
— Ну, как? — прервал он чтение, чтобы, по–видимому, торопливо пояснить, — я тут книжку пишу. О рынке. Ну, скажем так, почти о рынке.
Валентин давно перестал удивляться проиcходившим с Рубцом переменам. Малиновый пиджак на узких плечах директора уступил место новому — кофе со сливками — костюму, сшитому так, будто Ив Сен Лоран — а Рубец любил повторять, что костюм от Ив Сен Лорана — лично производил замеры талии, плеч и ног, чтобы, не дай бог, не расстроить любимого заказчика. Исчезли золотые фиксы, выдававшие в Рубце, во что бы тот ни был одет — мелкого уголовника, и теперь Николай Семенович Мунтян, директор муниципального предприятия, чуть небрежно пряча руку в кармане итальянских брюк, благодушно улыбался ослепительной эмалью зубов из металлокерамики.
Стремление к респектабельности не помешало Рубцу сохранить почти инстинктивное чувство реальности. Рассказывали, что как–то, в течение нескольких секунд он распорядился проспонсировать городской конкурс красоты и сбросить в канализацию тонну куриных окорочков, в которых главврач санэпидемстанции, не получивший своей обычной доли, грозился обнаружить вирус птичьего гриппа.
Рубец стремительно выходил из тени, с видимым удовольствием отдаваясь щедрым лучам легального — пусть и на бумаге — бизнеса. Рассеянно слушая директора, Валентин рассматривал дипломы на противоположной от окна стене. Раньше такие же — под стеклом, в лакированной рамке, только с Лениным и серпом с молотом вместо молдавского триколора и гербового орла — вручали за успехи в социалистическом строительстве. Если верить дипломам Рубца, его вклад в рыночную экономику был оценен рядом ответственных функций в государственных и общественных организациях, а именно:
в 1997 г. — председателя Ассоциации рынков Молдавии;
в 1999 г. — сопредседателя Республиканского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
в 2002 г. — постоянного члена коллегии Министерства сельского хозяйства;
в 2003 г. — члена комитета по торговле при правительстве.
Валентин подобным карьерным ростом похвастаться не мог. Он вообще не мог похвастаться ростом: за пятнадцать лет, проведенных на рынке, спина его заметно ссутулилась. А еще эти пятнадцать лет понадобились Валентину, чтобы выиграть спор у себя самого.
Да–да, окказалось, что шестьдесят лет — еще не старость. В отличие от семидесяти пяти.
— Ладно, иди — замахал кипой бумаг Рубец.
Он пожалел, что позвал Валентина — в глазах карманника читалось такое равнодушие, что Рубец даже поморщился: Валентин ни черта не понял. Даже не пытался вникнуть.
— Кстати, изучи, — вынув из кармана сложенную вдвое бумагу, Рубец вложил ее в ладонь Валентина, — и постарайся как–то ускорить.
Так Валентин узнал о наличии в своих действиях точной, как швейцарские часы, системы. Если бы не дурацкое предисловие Рубца, содержание бумаги сошло бы за признание высочайшего класса воровского мастерства — не больше, но и не меньше.
секунды 1–3: покупательница расстегивает сумку и достает кошелек.
секунды 4–15 (в зависимости от достоинства купюр и расторопности покупательницы): отсчитывает деньги, вручает их продавцу
секунда 9/15 (в зависимости от продолжительности предыдущего этапа) — не позднее, вне зависимости от начала третьего этапа, секунды 20: продавец вручает сдачу (если потребуется), но не спешит отдать товар
секунда 21–23: покупательница прячет деньги в кошелек, а кошелек в сумку
секунда 24–25: продавец в настойчивой форме требует от покупательницы немедленно забрать приобретенный товар — до того, как покупательница успеет закрыть сумку
секунда 26: кошелек — в кармане В.
Валентин сидел на скамейке в центральном парке Кишинева, пропуская через бессмысленный взгляд мелькавшие троллейбусы. Хорошенькая аудиенция, ничего не скажешь. Стоило ли пятнадцать лет ждать?
«Надо ускорить».
Валентин вцепился рукой в скамейку. Неужели встреча была не случайной? «Не может быть», повторял он, но, представив себя на месте директора рынка, Валентин затосковал. Глупо, да что там — непростительно рисковать свиданием, да еще в собственном кабинете, с карманником, обкрадывающим твоих же покупателей. Пусть и со своим, карманным, так сказать, карманником. Да и служба охраны прекрасно справляется: угрюмые жлобы искусно оберегали Валентина, и так же безупречно следили за каждым его шагом.
Первую волну — бессильного отчаяния, смыла внезапно нахлынувшая надежда, и, наполняясь радостью от вида подгонявших друг друга троллейбусов, напоминавших о кишиневских трамваях, в которых долговязый и худощавый, юркий и неуловимый Валентин Касапу потрошил карманы и сумочки ничего не подозревающих пассажиров, щипач, словно ребенок, сжалившийся над канарейкой, позволил выпорхнуть из клетки своей души одной безнадежной мечте.
Вот он в кабинете Рубца, откуда, кстати, исчезли факс и принтер, но зато появилась приемная с длинноногой секретаршей. Чего только нет у нее на столе: тут и исчезнувшие факс с принтером, и компьютер со сканнером, и два телефона, и куча лотков и бумаг. Вот Валентин в знакомом кресле у окна. Он говорит, а Рубец слушает, кивает головой и изумленно поднимает брови: ну, мол, даешь старик! А Валентин продолжает рассказывать, купаясь в накатывающем удивлении директора. Рассказывает, как в свои семьдесят пять бегает — каждый день! — в центральном парке: час утром и полчаса перед сном. Что вот уже года два как не есть мяса (нет, что вы, не в деньгах дело!), зато потребляет витаминизированные йогурты, и размалеванные бляди в супермаркетах, все в золоте и силиконе, заглянув в молочный отдел, брезгливо отшатываются от сухощавого старика, чтобы — Валентин чувствовал это спиной — открыв рот и хлопая накладными ресницами, тупо рассматривать его, удаляющегося, сзади и, встрепенувшись, сгрести в тележку упаковки чертовски дорогого йогурта — не меньше, чем прихватил этот — надо же! — совсем не нищий пенсионер. И еще Валентин много говорит о том, что его работа требует точности, профессионализма и хладнокровия, почти как труд оператора на атомной станции. Попробуй облажаться — устроят карантин не хуже чернобыльского. Так что, если есть такая возможность, хотелось бы пересмотреть, так сказать, условия. Нет, что вы, не в деньгах дело, а в справедливости, денег–то хватает…
— Так поделись, дед!
Валентин поднял глаза: двое ухмыляющихся парней с бутылками, из которых они по очереди отхлебывают пиво. Парней явно заинтересовали мысли Валентина, незаметно перекочевавшие в речь.
— Поделись, а? Бедным студентам не хватает на пиво!
Валентин нащупал в кармане нож и оглянулся по сторонам. Через пару скамеек обнимались влюбленные — их здесь, в парковой аллее, под сводами протягивающих друг другу кроны каштанов, и днем–то не разглядеть, а уж в сумерках…
— Ладно, дед, жируй! — сказал парень — тот, что до этого молчал, и потянул за собой приятеля.
— Капиталист! — гаркнул на Валентина второй, и оба, заржав и шатаясь, направились в сторону обнимающейся пары.
Валентин поднялся и быстро пошел в противоположную сторону. Покидая каштановую аллею, он вдруг понял, что может ответить на вопрос, с сотворения мира мучающий всех несчастливых людей. Вопрос был следующим: «почему я такой неудачник?». Ответ — именно ответ, а не вариант ответа — теперь знал Валентин, и ответ был таким: «потому что всегда не успеваешь». Самую малость, но опаздываешь.
О чем теперь говорить с директором — о каком таком новом проценте, после того как Рубец опередил — да–да, на самую малость?
Да и решился бы Валентин? Посмел бы?
Неудачник! Самый, что ни на есть, мать вашу!
«Ха–ха–ха! Руки вверх, ваша песенка спета!», торжествовал шпион из мультфильма о капитане Врунгеле. Как–то пролежав два часа перед телевизором, Валентин вдоволь нахохотался над чудным мультиком и недоумевал — как это не приходилось видеть его раньше. Должно быть, сидел, успокаивал себя он.
«Да вот же она!», хотелось Валентину, подчинившись мультяшному герою, вскинуть правую руку вверх — так, чтобы все убедились: его оружие в полной готовности. Но теперь он спешил по парковой аллее, не обращая внимания на каштановый свод над головой и ровный — большая редкость для Кишинева — асфальт под ногами.
«Надо ускорить», не выходило у Валентина из головы, и ему привиделась рука — тоже правая, но чужая, которую он сразу возненавидел.
Рука не была морщинистой и безволосой, со вздувшимися, как у Валентина, венами. Это была другая рука — мохнатая, молодая и мускулистая, стремительная как кобра и точная как копье.
Рука нагло копалась в дамских сумочках вместо руки Валентина.
***
Глава пятая
В одной из предыдущих глав были проведены, хотя и крайне поверхностно, параллели между продовольственным рынком и социально–экономическим устройством государства социалистического типа. В действительности проблема гораздо серьезней, чтобы ограничиваться рассчитанными лишь на эмоциональный отклик аллюзиями. Чтобы не вводить читателя в подобный наркотическому эмоциональный тупик, а заодно — не водить его за нос, обозначу основополагающие положения данной главы в самом ее начале. Итак, я убежден, что:
1) Социалистическое государство реализует двоякую задачу в отношениях с индивидуальной человеческой единицей, а именно:
а) обеспечивает минимальный уровень социально–экономического благополучия, необходимый для поддержания лояльности человека государству в обмен на практически неограниченную эксплуатацию его трудового потенциала в собственных целях;
б) максимально ограничивает человека в возможностях достижения качественно иной ступени социально–экономического благополучия. В социалистическом обществоведении эта тенденция именуется «социальным равенством». Нетрудно догадаться, что в действительности речь идет о вынужденной мере, своего рода предупреждении имманентно хрупкого социалистического строя от краха, равнозначного трансформации социалистического государства в капиталистическое. Система общественных взаимоотношений последнего характеризуется, как известно, естественной конкуренцией, при которой нет и не может быть места социальным иллюзиям, и в их числе наиболее опасной, ввиду ее привлекательности, уже упомянутому так называемому социальному равенству.
2) Муниципальное предприятие «Центральный рынок», г. Кишинев, Республика Молдова в условиях становления системы социального неравенства — зачаточного, как его определяют сторонние аналитики, или дикого — по терминологии участников процесса, капитализма, в своих базовых функциях совпадает с функциями социалистического государства, а именно:
а) позволяет поддерживать минимальный уровень социально–экономического благополучия, сдерживая таким образом рост социальной напряженности в период в первоначального накопления капитала;
б) поддерживает видимость социального равенства — этого ментального рудимента, играющего, тем не менее, центральное место в массовом сознании постсоциалистического общества. Чем очевидней крах системы социального равенства, тем больше степень веры масс в этот общественный фантом, вне зависимости от того, было ли социальное равенство реалией социалистического устройства, или элементом массового гипноза.
Невозможно представить, чтобы в модном бутике (к этой аналогии мы вернемся еще не раз) покупатели (скорее покупательницы) сварливо обсуждали заоблачные цены на, как их сейчас принято называть, брендированные вещи. Да что одежда, что обувь! В продовольственных магазинах самообслуживания, которые наши сограждане интуитивно, но по сути совершенно справедливо предпочитают называть супермаркетами, базовым критерием потребительского интереса является не цена на товар, как это имеет место на рынке, а сам товар. Качества товара в самом широком смысле — от собственно качества в том банальном понимании, в каком этот термин трактовался в условиях социалистической системы, а именно — минимальный набор функциональных свойств, до социальных, эмоциональных и тому подобных, на первый взгляд, умозрительных качеств. Последние в действительности обладают огромной ценностью, более того — они незаменимы для покупателя капиталистического типа. В последнем случае товар выполняет сигнальную функцию, идентифицируя социальный статус — структурообразующий элемент личности любого потребителя капиталистического типа. В связи с этим трансформируется и восприятие цены, поскольку оценивается не товар, а фактически место покупателя в общественной иерархии. Не удивительно, что потребитель готов переплачивать за продукт, социальные свойства которого на порядок превосходят функциональные.
В отличие от покупателя капиталистического типа, посетители Центрального рынка г. Кишинева знают лишь свою функциональную цену, а она, по подсчетам американских ученых, не превышает восьми долларов — во столько оценивается химический состав человеческого организма. К представленным на рынке товарам у такого рода покупателей отношение соответствующее: никакого пиетета, никакого атрибуирования иных функций, кроме функциональных, никакого иного применения, кроме удовлетворения прожиточного минимума. На первый взгляд, носители такого подхода — реалисты до мозга костей, практичные двуногие машины, у которых вместо головы — калькулятор. В действительности, это наиболее многочисленная и наименее приспособленная часть общества социального неравенства. Как остальные — те, кого мы отнесли к покупателям капиталистического типа, каким образом они, при равных стартовых условиях, таких как: стандартное советское образование, идентичное идеологическое воздействие, более широко — общая социальная среда, как они, представители этой куда менее многочисленной категории оказались в авангарде становления капиталистической системы, предстоит, надеюсь, выяснить наиболее светлым умам будущего. Пока же мы вынуждены констатировать сознательное или неосознанное, но в любом случае ничем не оправданное пренебрежение обществоведами старого, но все еще эффективного компаративного метода для оценки нынешнего этапа становления капиталистической системы на постсовестком пространстве.
Мы уже выяснили, что так называемое социальное равенство является наиболее хрупкой и наименее долговременной формой общественных взаимоотношений, поскольку, и это также представляется очевидным, в основе этих отношений лежит естественный принцип неравенства, что бы там не утверждали так называемые универсальные декларации. Нет ничего удивительного в том, что массы оказываются в простейших психо–социальных ловушках; в конце концов, психология толпы намного примитивнее внутреннего мира отдельного индивидуума.
Намного печальней, когда люди, призванные в моменты роковых поворотов общественной жизни находить новые ориентиры, формулировать и аргументировать новые цели, способные не столько утешить массы, сколько внушить им достижимость новых перспектив, как эти люди либо сами оказываются в ловушках, либо, что еще хуже, создают их в циничном расчете заарканить как можно больше потерявших ориентиры сограждан. Чем же еще объяснить господствующее сегодня в нашем обществе представление о том, что социалистическое социальное равенство — чуть ли не синоним гарантированного прожиточного минимума? Возникающие при этом неизбежные аналогии с капиталистической системой трактуют последнюю как строй, созданный для богатых, которые купаются в роскоши, в то время как подавляющая часть общества борется за достижение того самого минимального уровня, который при социализме якобы гарантирован.
Дело не только в идеологической зашоренности данной формулировки, и даже не в ее очевидной фальшивости. Апологеты подобной точки зрения упорно, и, как нам кажется, намеренно сопоставляют феномены социальной жизни из двух несопоставимых периодов. Разве в первые десятилетия Советской власти, вплоть до начала Второй мировой войны, меньше говорилось о необходимости социального равенства? И разве не были предприняты радикальные шаги для достижения это цели? Одна коллективизация с индустриализацией чего стоят. Привело ли все это к социальному равенству? Если брать во внимание тотальное обнищание — наверное привело, ведь в бедности все равны. Вот только как быть с гарантированным прожиточным минимумом? Так справедливо ли сравнивать уровень социального благополучия, достигнутый в период т. н. развитого социализма с уровнем социальной адаптации при капитализме становящемся — периоде, который наше общество переживает в настоящее время? А ведь именно этим занимаются современные социологи, политологи, и просто политические популисты, эксплуатирующие наиболее низменные социальные инстинкты масс. Что ж, это легче, чем вести кропотливую работу по трансформации массовых инстинктов в социально–конструктивные ментальные установки — мощнейший механизм преобразования общества в соответствии с объективно сложившимися реалиями, где не должно быть места социальной апатии, прикрывающейся деструктивной ностальгией по прошлому. Поэтому, если и сопоставлять развитие капиталистического и социалистического обществ, то, применив уже упомянутый компаративный метод, необходимо оперировать равноценными периодами, и тогда не будет казаться странным, что между 1990 и 1993 годами наше общество прожило не три года, а целую эпоху, и вряд ли кого–нибудь удивит, что между Америкой 1937‑го и Молдавией 2007‑го много общего: в обоих случаях мы наблюдаем массовый исход обездоленных мигрантов.
Возможно, когда такое осознание произойдет, Центральный рынок г. Кишинева и перестанет играть ту социально–терапевтическую роль, которая неблагодарно не осознается меньшинством капиталистического типа, погруженным в первоначальное накопление. Кто знает, происходило бы это накопление так же беспрепятственно, не будь у обездоленного большинства социально–экономического утешения, этакого декоративного социализма, роль которого играет наш Центральный рынок?
Между прочим, эта роль гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и именно в психо–социальном аспекте. Обратим внимание на рыночную толпу. Найдется ли в современном молдавском обществе более красноречивая аллюзия на жизненный путь человека при социализме? Отдельному человеку вырваться из рыночной толпы подчас не легче, чем сардине — из могучего косяка, тянущему ее к южному побережью Африки. И если сардина, маленькая безмозглая рыбешка, и плавником не поведет, чтобы отделиться от общего движения вперед, ибо чувствует — ее сила в единстве, то человек, этот прямоходящий организм, стоит ему начать сопротивление так называемому «стадному» инстинкту рыночной толпы, являющемуся в условиях социалистического общества ничем иным, как инстинктом самосохранения, сразу оказывается в сомнительном положении — как правило, перед ненужными или дорогими товарами, и, что гораздо хуже, вообще без места в толпе, которое не занято другими и не вакантно — его просто больше нет, как не остается пустого места в косяке от сожранных хищными рыбами сардин.
Между тем, роль рыночной толпы в обеспечении пресловутого прожиточного минимума отдельной человеческой единицы трудно переоценить. Достаточно вспомнить, как она, я имею в виду толпу, безошибочно ведет индивидуума к так называемому оптимальному соотношению цены и качества.
Стандартная ситуация: группа людей штурмует торговую точку с помидорами, в то время как соседние лотки — с томатами точно такого же цвета, размера, сорта и вкуса, не вызывают ровно никакого интереса. Здесь впору говорить о присущем рыночной толпе инстинктивному чувству цены, ведь разница между двумя идентичными продуктами может не превышать считанных процентов. Отдельный индивидуум на рынке может довериться толпе, даже желательно, чтобы на те полчаса–час, что он проводит здесь, его личность как бы растворилась в коллективном разуме, о чем ему не придется жалеть: ведь действительно удачными его действиями будут решения толпы, которым он всецело подчиниться. Путь нашего покупателя — от западных ворот к восточным, или наоборот, это жизнь социалистического человека — жизнь, в которой не выжить вне толпы, и стоит ли удивляться, что к нам так тянутся люди, потерявшие толпу своей жизни.
Можно, конечно, радоваться, что поток наших клиентов, а значит, и приток прибыли иссякнет, похоже, не скоро и даже гордиться тем, что мы не так уж плохо справляемся с социальной функцией, которой нас официальные органы не наделяли, хотя утешение обездоленных — как раз по части государства.
Но, знаете, с гораздо большим удовольствием мы протянули бы между стенами рынка металлический каркас, навесив на него жестяные листы, имитирующие старый добрый шифер. Мы залили бы весь асфальт бетоном, постелив поверх сверкающий кафель, а обшарпанные стены закрыли бы по всему периметру идеально ровным гипсокартоном. Мы провели бы сотни метров канализации, водопровода, электричества, вентиляции и сигнализации. Завезли бы километры торговых полок в несколько ярусов и установили бы с полсотни касс последней модели. Мы не пожалели бы средств, сил и времени, чтобы создать самый большой, самый совершенный и самый удобный супермаркет в городе и больше не вспоминали бы о рынке, где десятки тысячи людей ежедневно покупают дрянные продукты, экономя на всем, лишь бы дотянуть до следующего визита к нам.
Мы бы радовались как дети, зная, что большинство сограждан больше не вверяет решение проблемы собственного выживания толпе, но для этого нужно, чтобы вопрос о выживании потерял свою актуальность. Мы с гордостью считали бы свою миссию выполненной и в наших сердцах не нашлось бы и уголка для ностальгии по рынку, который позволил людям пережить смутное время становления системы социального неравенства. И пусть в нашем супермаркете выбирали бы сыр не подешевле, а повкуснее. И пусть бы у полок застывали тысячи мучительно размышляющих, привередливо рассматривающих этикетки одиночек, а не тысячная толпа, мгновенно и безошибочно решающая задачу, но только одну — «что–бы–такое–купить–подешевле–чтобы-не–сдохнуть».
В конце концов, человек — он ведь дороже восьми долларов.
И, кстати, супермаркет — чертовски прибыльное дело!
***
Лист, который Касапу так и не развернул по дороге домой, теперь валялся, скомканный, под диваном. На обратной стороне лежал Валентин и щурился в телевизор. Этот фильм он смотрел раза четыре и это только за последний год. Сегодня он впервые решил досмотреть его до конца и как раз наблюдал за развязкой.
Актер, изображавший, кажется, демона — на дьявола он не тянул, хотя и очень старался — на самом деле походил на чикагского гангстера. Галстук, шляпа, голливудская улыбка, обаятельная и кровожадная. Но главное — автомат, из которого он резал очередями крылья ангелов. Ангелы, кстати, те еще были: два вполне взрослых обалдуя, весь фильм паливших в кого попало. Так что Валентин не пожалел бы, если бы демон и вовсе пришил их. Но он лишь перебил им крылья, без которых ангелы стали, наконец, теми, кем, похоже, и стремились стать — ублюдками, перебившими кучу людей.
Выругавшись, Валентин прицелился пультом в экран, отчего телевизор тут же выключился и, кряхтя, полез рукой под диван. Развернул мятый листок, прогладил и стал читать.
Вообще–то, эти четыре строчки Валентин запомнил сразу и наизусть, но приятные слова, хочется перечитывать снова и снова, верно? Тем более что, увидев этот сложенный вдвое лист впервые, Валентин отшатнулся как от огня, — по идее, смертельно опасного как раз для этого клочка бумаги.
— Тебе передали — шепнул охранник Женя, вкладывая лист Валентину подмышку.
Касапу, словно ему сунули раскаленный уголь, взмахнул рукой и отпрыгнул в сторону.
— Не понял — похоже, действительно не понял Женя, и Валентин, буркнув что–то невнятное — сам он так и не вспомнил что именно — наклонился за упавшим на асфальт листком и зашагал прочь, на ходу складывая бумагу: вначале вчетверо, затем — в карман.
И хотя ему хотелось бежать — прочь с рынка, из города, из этой, будь она неладна, жизни, шел он медленно, оттягивая мгновение, когда окажется в квартире и — куда деваться? — развернув бумагу дрожащими руками, станет читать.
«Надо ускорить», пульсировало у него в голове, пока он плелся по улице Митрополита Варлаама, обгоняемый вечно спешащими маршрутками.
«Надо ускорить», подгонял его скроенный из выхлопных газов теплый ветер, который у каждого автомобиля свой.
В кармане словно развели костер, набросав бревен — так там было жарко и тяжело. Почему–то Касапу вспомнилась древняя легенда, то ли греческая, то ли египетская. В ней герою подсунули одежду, пропитанную, как оказалось ядом. У Валентина даже потемнело в глазах — казалось, яд с бумаги растекается по организму прямо из кармана.
В съемной квартире Валентина было, как всегда, тихо, но теперь молчали даже настенные часы: их заглушал пульсирующий шум в ушах.
«Надо ускорить», Бог знает в какой раз повторил кто–то в голове Валентина, и он полез дрожащей рукой в карман.
секунды 27–35/42 (в зависимости от местоположения В. в овощном павильоне): В. перемещается в рыбные ряды.
секунды 43–47 (в зависимости от обстановки у «рыбников»): В. оставляет кошелек на наименее людном прилавке
секунды 47–48: следящий за В. охранник забирает кошелек и направляется в условленное место
секунды 48/52–60 (в зависимости от местоположения В. в рыбном павильоне): В. возвращается в овощной павильон, чтобы начать с секунды 1.
Итого: 60 секунд
Раньше Валентину едва хватало трех минут, чтобы добраться в другой конец рынка. Там, на углу перед входом в мясной павильон, всегда дежурил кто–то из охраны, которому запыхавшийся Касапу бросал добычу через расстегнутую до пупка молнию. Кошелек падал внутрь плотно облегавшей ниже пояса куртки, в которой охранник стоял, словно талисман мясного павильона, круглый год — мерз, потел, мокнул под дождем и ненавидел старика, исправно приносившего деньги. Охранники менялись, но куртка на них и старик с деньгами оставались теми же.
Пока Валентин читал, перед ним словно маячил Рубец — злой, взмыленный, нервно надиктовывавший длиннющей секретарше эту, если ее так можно назвать, инструкцию.
«Шагу! Шагу без меня не сделаете!», кричал он, переводил дыхание и продолжал диктовать.
Почему–то Касапу решил, что бумагу составлял именно Рубец. Уж точно, не кто–то из охранников, что было ясно из Жениного «тебе передали». Возможно, Козма, но Валентину все же хотелось думать, что Рубец.
Пятнадцать лет жить с чувством, что тебе сделали одолжение! Словно подобрали на улице. Бросили кость. Вытащили с помойки, да еще и подарили золотоносный рудник. На, вкалывай на здоровье!
И Касапу вкалывал: обчищал женские сумочки шесть дней в неделю (понедельник был на рынке выходным днем), по шесть часов в день, лишь бы не чувствовать себя должником. Чтобы и мысли такой у Рубца не возникло. Когда же пару лет назад Валентину шепнули, что Митрич умер в тюрьме, Касапу, не сдержавшись, разрыдался. Не от жалости — в конце концов Митрич был старше на двенадцать лет. Благодарность — вот что сочилось из глаз Валентина. Запоздалое признание за обеспеченную старость, билетом в которую Митрич щедро одарил Валентина в день их последней встречи.
Но теперь, лежа на диване съемной квартиры, ценой двести евро в месяц — целое состояние для молдавского пенсионера — Валентин ощутил во всем теле легкость от одной мысли, что никому и ничего не должен.
Что? Рубцу больше нечем заняться, как думать за гребанного воришку?
Плевать!
У него комиссии, министерства, заседания, а он чуть ли не с секундомером просчитывает каждый шаг за старого пердуна?
Да плевать же!
У него бизнес на миллионы — миллионы, мать вашу, евро, а он тратит два часа — знаете, знаете, сколько стоит минута его времени? — которые не удосужился потратить на самого же себя занюханный щипач?
Плевать, мать вашу, плевать!!!
«Надо ускорить»!
И это после пятнадцати лет, да еще кому? — старику, который в отцы годится! Пусть оглянется вокруг, высунет морду из затонированного, блядь, мерседеса, пусть посидит у засанного парапета, рядом с нищими, искалеченными жизнью и такими вот ублюдками стариками! И пусть попробует после этого…
Да! Пусть попробует найти хотя бы одного толкового карманника, пусть!
Хрен он кого…
Валентин закашлялся — он опять не заметил как заговорил, вернее, закричал.
Эх, старость, старость…
Старость и одиночество. Сестры–двойняшки. Две не разлей вода реки, уносящих к последнему водопаду, за которым — пропасть в бесконечность.
Одиночество доставляло Валентину не меньше хлопот, чем старость. Дело не в семье, которой у него никогда не было, а в настоящем одиночестве, которая сродни болезни. Если так, то Валентин был обречен — его болезнь достигла последней стадии.
Это когда не с кем поговорить. Совсем.
Необходимое условие работы карманника — незаметность, предстало перед ним в жутком виде, как если вместо слепой любви подданных правитель внезапно почувствовал бы на собственной шкуре истинную причину поклонения себе — парализующий страх перед тираном. Валентина не замечали не только жертвы, что не давало повода для беспокойства, но и те, кто так же, как он, кормился с рынка — более или менее законными путями. Или замечали, но делали вид, что его вовсе нет.
Кто же будет разговаривать с тем, кого нет?
Исключения составляли «пастухи» Валентина — охранники, да и те перестраховывались, заговаривая лишь в крайних случаях. Торгаши овощного павильона, повязанные обязательством осуществлять отвлекающий маневр, и вовсе ненавидели Касапу. Нет, в глаза ничего такого себе не позволяли, но смотрели в лучшем случае как на привидение.
Однажды Валентин не выдержал и, подмигнув Нине — любимой реализаторше (о, как она выдерживала паузу, как вовремя теребила покупательницу за рукав — «забирайте, забирайте, очередь же!»), чувствуя прилив ничем не объяснимой веселости, спросил: «Почем картошка?».
Ох! Хорошо, что Нина — не экстрасенс. Вроде Кашпировского или Чумака. Взглядом, которым она обожгла Валентина, не то что воду заряжать — человека сжечь можно. Валентину будто дали в морду и под зад одновременно: покраснев, он побежал, виляя в толпе, и остаток дня провел в центральном парке, мрачно вышагивая по асфальту каштановой аллеи, пересаживаясь с одной скамейки на другую.
Лучше перо под ребро, чем такой взгляд!
Хотя нет.
Про день, когда молчаливая ненависть выплеснулась–таки наружу, Касапу не мог думать без одышки. День этот мог стать для него последним днем на свободе, но стал последним рабочим для Игорька — шустрого продавца зелени.
— Ой, кошелек украли! — растерянно воскликнула женщина с двумя хвостами — одним, спадающим роскошными волосами с затылка на спину, и еще одним, тянущимся едва уловимым шлейфом дорогих духов, по которому Валентин и вычислил новую жертву.
— Не иначе, старый шакал увел, — услышал Валентин голос Игорька, поспешно покидая овощной павильон с толстым лакированным кошельком в кармане.
На следующее утро реализаторы о чем–то тревожно перешептывались и подавленно замолкали. Накануне вечером окровавленного, с проломанной головой Игорька обнаружил случайный прохожий под забором Армянского кладбища. Поговаривали, что лечение займет месяца три и что Игорек, даже если выкарабкается, не сможет не то, что торговать — ходить вряд ли будет. Как бы то ни было, а стол Игорька пустовал недолго — через неделю петрушка и сельдерей бойко расходились из рук высоченной девки, исключенной из колледжа за долги по оплате учебного контракта.
После случая с Игорьком от Валентина стали отворачиваться задолго до его приближения, в особенности продавцы соседнего с овощным рыбного павильона. Стоило ему появиться у них в междурядье, когда кошелек, словно черная метка, мог в любую секунду оказаться перед носом каждого из торгашей, медленно сползая по липким рыбьим бокам, как реализаторы либо ныряли под стол — якобы за товаром, либо поворачивались боком — пересчитать выручку, а то и вовсе показывали Касапу спину, затевая ставший вдруг неотложным разговор с коллегой из соседнего ряда.
Валентин чувствовал себя котом, попавшим в мышиное царство. Повсюду его покусывали — зло и исподтишка, хотя и не смертельно. Но, так же как кот, уйти он не мог — слишком уж лакомым было место.
«Как прокаженный!», задыхался от ненависти, то ли к торговцем, то ли к себе, Валентин. В таком состоянии его взгляд обычно останавливался на цыганках, вытянувшихся живой цепью во всю центральную аллею рынка.
— Отрава, отрава! Отрава для мышей, тараканов, — галдели они с утра до вечера, — свечи, носки, чулки!
Как же он раньше не замечал? И в самом деле, цыганки никогда не прятали взгляда от Валентина, теперь же он не мог не заметить, что они не просто видят — они его рассматривают.
«Да–да, и они тоже. Их тоже никто не любит», думал Валентин, и сердце его наполнялось неожиданным теплом при виде этих смуглых и сморщенных лиц.
— Может, вы мне погадаете? — подошел он к одной из них, чувствуя, что больше не может, да и не нужно, сторониться этих, возможно, последних родственных душ.
Другие цыганки, как по команде, замолчали и уставились на Валентина. Самая пожилая — та, которой Касапу доверил рассказ о собственном будущем, недоверчиво покосилась на протянутую ладонь карманника. Покопавшись в сумке, они достала тонкую церковную свечку, щелкнула невесть откуда взявшейся зажигалкой и поднесла огонь к фитилю.
— Лучше я за тебя свечку поставлю, — сказала она, — вот так.
И, перевернув фитилем вниз, погасила свечу о ладонь Валентина.
***
Глава седьмая
Давайте сразу условимся: женщина гораздо лучше мужчины приспособлена к обществу потребления. Возможно, это прозвучит цинично, но без женщины никакого общества потребления не было бы. Хотя, не исключаю, что, не наступи эра потребления, исчезли бы и сами женщины. Как бы то ни было, а без признания превосходства женщин над мужчинами в данном аспекте настоящая глава не сложится, как не выйдет победителем из спора с женщиной мужчина без признания ее правоты.
Истина не в том, что к женщинам мужчины подчас относятся как к товару, при этом некоторые из них считают себя продавцами. Но даже если и так, то и подобная расстановка — в пользу женщины. Не каждый день продавцу улыбается удача, он терпит убытки, может даже разориться, а качественный товар всегда найдет покупателя, это я вам как директор рынка заявляю. Не продавец торгует товаром — товар меняет продавцов.
Огромный недостаток политической экономии — социально–экономический анализ без учета психологии полов. С таким же успехом можно изучать причины таяния арктических льдов, заранее исключив фактор глобального потепления. А ведь причина обоих процессов — в позитивной динамике среднегодовой температуры на планете. Причина возникновения общества потребления и особого места, занимаемого в нем женщиной — тоже одна, а именно — женская зависть.
Нет, вообще–то зависть женщины к женщине так же естественна, как мужское бахвальство. «Женщины склонны к обману» — то и дело слышим мы, забывая или умалчивая тот факт, что за женским обманом не кроется злого умысла или, более того, маниакальной наклонности. Обман — всего лишь боеприпас зависти, играющий примерно такую же роль, как серебряные пули в борьбе с вампирами: без них не управишься, но и сами по себе, без прилагаемого к ним орудия они совершенно бесполезны — не станешь же, в самом деле, расстреливать вурдалаков из рогатки.
«Привет, дорогая, как ты?»
«Прекрасно выглядишь!»
«Тебе так идет!»
«Ой, как тебя классно подстригли!»
«Целую, подружка!»
Обман и зависть, зависть и обман. Женщина усыпляет бдительность другой женщины, чтобы нанести внезапный удар, поднимающий ее на вершину успеха у мужчин. В этом, повторимся, нет ничего необычного и страшного. Зависть одной женщины к другой — и не зависть вовсе, а здоровая конкуренция, подталкивающая женщину к самосовершенствованию.
А вот когда женщина завидует мужчине…
Что я слышу? Откуда эти истеричные визги? Неужели феминистки?
Мужчины, опасайтесь собственного малодушия! Феминизм — не столько защита слабых, сколько уничтожение сильных. Эта плотина, перегородившая вечно живую реку эволюции, и вот уже все мы плещемся не в кристально чистом, стремительном потоке, а барахтаемся в мутной жиже, где отовсюду слышится мерзкое кваканье. И пусть многие из лягушек — вылитые принцессы, лучше от этого не становится. В конце концов, не каждому нравится жить в болоте. Беда в том, что кроме болот, других пригодных для жизни мест, похоже, уже не осталось.
Как, феминистки требуют справедливости? Я не объективен, я умалчиваю истинные причины? А какие, позвольте спросить? Ах, неравенство в правах, дискриминация по половому признаку, несправедливая оплата труда?
Что ж, я отвечу. Лучше всего — результатами триумфального шествия феминизма. Вместо неравных прав — господство серости на всех ступенях общества, вместо недоплаты за женский труд — пожизненные финансовые гарантии массам ничтожеств — этих живых мертвецов, до самой смерти захороненных в офисных склепах. Наконец, вместо сексуальной дискриминации — орды инфантильных мужчин, для которых мужественный поступок — не обделаться в застрявшем на пару часов лифте.
Не хочется, да и не буду цитировать преданных феминистками анафеме авторов, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление, нет–нет, да и умудряются, благо Интернет пока не закрыли, высказать о женской эмансипации то, что думают, а не то, что нужно прогрессивной политкорректной общественности.
«Среди представителей точных наук феминисток нет», «феминистки изгнали с экрана обнаженную натуру, но не имеют ничего против самых кровавых сцен, вплоть до расчлененки», «политкорректность, это чудовищное порождение феминизма, рассматривает психически нормального гетеросексуального мужчину как исчадие ада».
Я далек от теории неполноценности женщины в сравнении с мужчиной, но не в силах объяснить упорное стремление феминисток выдать слабое за сильное, глупость — за ум, черное за белое. А главное — их патологическое желание выдать себя за мужчин. Политика — нет, это частное явление, всего лишь верхушка айсберга, все самое страшное скрыто в пучине так называемой повседневной жизни так называемых обычных людей.
Хотя, если уж речь зашла о политике…
Кажется, мы слышали это всю жизнь: «в политике недопустимо мало женщин», «женщин не пускают на государственные должности», «женщины дискриминируются в своих политических правах». Стоит только, уверяли нас, отдать женщинам ключевые посты, как голодные насытятся, здоровые поправятся, мир станет мирным, а человечество — человечным.
Оглянитесь вокруг: женщины–министры, женщины–спикеры, женщины–канцлеры, женщины–президенты. Ну, и как вам этот мир? Гуманный мир, сытый мир, самый мирный из всех миров, не так ли? Не знаю как другие, но когда я вижу на экране этих монстров в юбке, африканские президенты–каннибалы не кажутся мне злом в последней инстанции. Вот женщина — министр иностранных дел, спокойным, без малейшего намека на дрожь, голосом объявляет о начале военной операции. Женщина–министр экономики прогнозирует увольнение десятков тысяч работников нерентабельных отраслей. Женщина–президент вручает государственные награды и улыбается подряхлевшим головорезам, пожимая их старческие руки, с которых даже времени не под силу смыть кровь.
Не слишком ли они заигрались в мужчин? Да так, что превзошли их в цинизме, жестокости, безответственности — в тех самых гнусностях, которые феминистки приводят в доказательство безнадежной безнравственности сильного пола?
Между прочим, феминизм, пусть и частичный, всегда присутствовал в советском обществе, и не нужно плутать в политических дебрях, достаточно вспомнить доблестных крановщиц и шпалоукладщиц, Пашу Ангелину и Валентину Терешкову. Вот только о своих правах наши женщины наслышаны не были, да и слова такого — «феминизм», знать не знали, ведать не ведали. К счастью наших отцов и дедов. А вот нам, похоже, придется столкнуться с опасностью лицом к лицу. Печальней всего то, что опасность живет с тобой в одном доме, спит в одной постели. Все равно, как если бы инопланетное существо проникло в здоровый организм, перепрограммировав его на бесчеловечные гнусности — вот что такое феминизм для нашего общества.
Взгляните на женщину, идущую по Центральному рынку г. Кишинева. Много ли в ней от женщины? Нет, она может попытаться оставаться женщиной и на рынке, но среда, среда…
Как неуместно будет выглядеть на рынке женщина кокетничающая, женщина стильная, женщина обворожительная и сексуальная. Вот она в платье с вырезом, в шляпке с вуалью, на высоченных шпильках, гордо протискивается между мешков с картошкой и лотков с капустой. Она потеет, с нее сбивают шляпку, платье мнут. Отдавив шпилькой чью–то ногу, она немедленно вознаграждается явно не заслуженным комплиментом — «вот уродина!» и после всех злоключений выглядит помятой, нелепой, заплаканной неудачницей, которая на рынке уместна так же, как гусарский жеребец на графском балу.
Но может быть, женщине вообще бессмысленно показываться на рынке?
Если и показываться, то вот какой.
Вот она входит через западные ворота, заранее надев на лицо маску деловой озабоченности и отчужденности. На ней обычные джинсы, темная неприметная блузка и туфли на низком. Холодная и сосредоточенная, она вклинивается в толпу и медленно, синхронно с общим движением, направляется в сторону молочного павильона. Она не старается быть красивой — большинство женщин преднамеренно не красятся перед тем, как отправляются на рынок, чем безмерно радуют мужей, устающих от ежедневных часовых кривляний супруги перед зеркалом. На рынке женщина не улыбается, не старается говорить томно, или высоко, или гулко (у каждой женщины есть собственная убойная интонация — еще один боеприпас зависти, который недалекие мужчины считают сексапильным голосом). Ей и в голову не придет подражать знаменитой походке Синди Кроуфорд. Одним словом, на рынке женщина не пытается быть лучше, чем она есть на самом деле. Сюда она приходит без зависти к другим женщинам, она честна настолько же, насколько может быть честной в общении с поднадоевшим мужем или с соседкой сверху, заливающей квартиру после каждого ремонта.
«Почем капуста? Да подавитесь такими ценами! Сама дура! А ну–ка, поверните телятину! Да какая же свежая, вся потемнела! Вот врет–то, а еще задницу отъела! Мужчина, а вы куда прете! Я перед вами занимала!».
И все–таки женщина на рынке завидует. Завидует мужчине, его грубой физической силе, с которой он продирается сквозь толпу, завидует его нетерпению, с которым он проносится по рынку, подобный урагану — женщина инстинктивно противиться такой скорости в местах торговли (мужчины тяжело вздохнут, вспоминая бездарно потраченное в модных бутиках время в ожидании прекрасной половины).
Итак, женщина на рынке честна и не завидует другим женщинам. Собственно, это уже вердикт, поскольку перед нами — не женщина. Это — машина, циничная и расчетливая, жестокая и непривлекательная. Вылитая феминистка.
На наше счастье, до общества всеобщего потребления, а следовательно, до диктатуры феминизма нам еще далеко, и не факт, что с такой жизнью большинство из ныне живущих дождутся этой поистине жуткой эпохи. Но стоит уже сейчас задуматься, хотим ли мы в этом обществе оказаться.
А лучше — решать проблему феминизма уже сегодня, когда наше, кажущееся пока далеким, развитое капиталистическое будущее, похоже, предопределено.
***
Люди в церкви гудели, как рой слетевшихся на покойника мух. Отдельные слова — что–то о столовой и калачах — доносились лишь из задних рядов, тех, что теснились у входной двери, к которой прислонился, оказавшись внутри, Валентин.
Собравшиеся и в самом деле провожали покойника, вернее покойницу, гроб с которой занимал почетное место под центральным куполом церкви Святого Пантелеймона. Лицо у почившей старушки было неестественно сморщенным, словно померла она лет пять назад.
«Зачем мумию отпевать–то?», подумал Валентин и тут же звонко хлопнул себя по лбу, словно изгоняя богохульные мысли.
На хлопок укоризненно обернулись, но жужжание разговоров стихло, лишь иногда кто–то невидимый покашливал и еще — слышались сдержанные, но нетерпеливые вздохи. Людей можно было понять: батюшка работал добросовестно, и это утомляло.
Валентин застыл в дверях, не решаясь уйти, но и не понимая, зачем оставаться. Он почему–то был уверен, что в будний полдень в церкви будет пусто, но не учел, что люди умирают, не сверяясь с календарем.
— Проходите, что же вы, — женщина, которой Валентин загородил вход, подтолкнула его в спину и заодно — к решению остаться.
Да и тянуть Валентину было уже невмоготу.
— Двенадцать штук, — ткнул он пальцем в свечку и полез за деньгами.
— Заупокойную будем читать? — ласково спросила женщина в черном за прилавком, если только стол, с которого продают ритуальные принадлежности, в церкви разрешено называть прилавком, — только подождать придется — она кивнула на скорбящую толпу.
— Нет–нет, я сам, — испуганно замахал Валентин и расплатившись, сгреб свечи.
— Куда это… ставить? — остановился он, направившись было к иконе в ближайшем углу, — мне бы за здравие.
Когда цыганка ткнула его свечой в ладонь, Валентин ничего не почувствовал. Никакой боли. Что он — ребенок, что ли? Людей в средние века на кострах жгли, и ничего, терпели. Еще умудрялись умные речи толкать, да погромче, чтобы всем зевакам слышно было. Вот бы с нынешними горлопанами так — долго бы они митинговали?
Нет, Валентин даже не ойкнул. И не ударил — как можно? — наглую цыганку. Ударить женщину он не мог, не имел права: ударить ее означало обратить на себя внимание.
Проклятая незаметность! Ничем не заменимая незаметность! Так и спалиться не долго, думал Валентин. Да нет, не от свечи, конечно же! Но кто скажет, не воткнут ли ему в следующий раз шило в задницу? Те же цыганки, мать их! И будет ли Рубец — а ведь он узнает, как пить дать — потом разбираться, кто ткнул, чем ткнул, найдут ли, что вряд ли, то самое шило? Одно можно сказать точно — рисковать Рубец не рискнет, а значит — прощай, Валентин, ла реведере, визжащий на весь рынок, хватающийся за задницу воришка!
Глядя на вонзившуюся в его ладонь свечу, Касапу не издал ни звука, даже рта не раскрыл. Поэтому выступившие на его глазах слезы выглядели не вполне естественно: так подозрительно выглядит заплаканное, но совершенно не расстроенное лицо человека, если не знать, что он только что нашинковал гору лука. Нет, правда, свечой о ладонь — совсем не больно, но пусть кто–нибудь осудит человека, потерявшего последнюю надежду.
А ее–то, не больше и не меньше, Валентин и потерял. Гребаный рынок! Не то что родственной, ни одной живой души не встретишь! Озлобленные и жадные, завистливые и бездушные твари! И, главное, цыганкам–то он чем не угодил?
После Игорька Касапу зарекся закладывать провинившихся реализаторов. И кто его за язык дернул? Валентину и в кошмаре не могло привидеться, что эти безмозглые гориллы, числящиеся сотрудниками службы безопасности рынка, чуть не угрохают парня. Да и не желал он ничего такого Игорьку, бог с ним, у него вся жизнь впереди. Вернее, должна была быть впереди. А пока, в обозримом, как говорится, будущем, у Игорька впереди больницы, операции и куча дорогущих лекарств, а еще — больная безработная мать, у которой нет денег на больницы, операции и лекарства для сына, единственного, между прочим, ребенка.
— Он у матери единственный сын, между прочим, — укоризненно покосился на Валентина охранник Мишка, калечивший Игорька в числе прочих ублюдков.
Валентин втянул голову в плечи, чувствуя, что может не вынести ноши, к которой, помимо бед несчастного Игорька, добавились моральные страдания охранников. А в том, что служба безопасности страдала, Валентин после слов Мишки не сомневался.
Катись оно ко всем чертям! Торговцы, деньги, цыганки, съемная квартира в центре, охранники эти долбанные! Провалиться этому рынку вместе с директором, мысленно слал проклятия Валентин, лежа на промокшей от слез подушке — один, в пустой, окутанной вечерним сумраком квартире.
Лишь бы не видеть их всех. Не слышать. Не говорить с ними, хотя это, последнее пожелание давно исполнилось.
На следующее утро исполнилось и первое.
Проснувшись, Валентин по привычке протер глаза, но увидел не то, что ожидал. Этим не тем была сплошная пелена — белая, как если бы на глаза повязали салфетку, и Валентин даже усомнился — а жив ли он? Вспомнились рассказы очевидцев — их в последнее время часто передавали по телевизору — переживших клиническую смерть. Люди рассказывали о длинном коридоре с белым светом в конце. Свет бил им в глаза, слепил, поэтому стены коридора никто толком описать не мог. Отчего же они решили, что это был коридор, недоумевал каждый раз Валентин.
«Что смерть всего лишь клиническая — это, конечно, хорошо, но вот кто меня будет вытаскивать?», запаниковал Касапу, представив, как над забинтованной головой Игорька склоняется врач, проводящий утренний осмотр.
Пошарив рукой, Валентин узнал по очертаниям родной диван и решил присесть. Пощупав лицо и убедившись, что на глазах посторонних предметов действительно нет, и что глаза открыты, он снова лег и начал вспоминать.
Однажды в передаче «Здоровье» рассказывали, что инфаркт не случается внезапно, хотя большинство инфарктников уверены в обратном.
«Вспомните», ласково уговаривала ведущая участников передачи, «наверняка бывало, что вам не хватало воздуха, или отнималась левая рука. Это и был своего рода желтый предупреждающий сигнал, включенный светофором вашего организма и если бы вы…»
Черт, что же там было? Словно пыльные страницы семейного альбома, перебирал Валентин события прошлого, надеясь отыскать хоть что–то похожее на симптомы расстройства зрения и — надо же! — ничего не мог обнаружить. Да он и об очках–то никогда не думал, и это в свои семьдесят пять! Он вообще не мог вспомнить, болел ли когда–нибудь серьезно. Разве что кашель в тюрьме — даже туберкулез ставили, так ведь для зэков это вроде близорукости для библиотекарей: и болезнью не считается. А так — разве что в детстве и, кажется грыжа (он попытался нащупать шов, но ничего не нашел — должно быть, зарос).
Точно, грыжа, и вроде бы, даже перетонит был. Видимо, еле выходили, решил Валентин, вспомнив печальное лицо матери. Ее влажные от слез глаза Касапу ясно видел даже сейчас, и это было единственное, что он видел. Мать почему–то он запомнил именно такой — плачущей. Рыдания она всегда прятала, зарывшись головой в подушку. Горевала ли мать из–за мужа — отца Валентина, кто теперь ответит? Да и был ли он мужем, был ли Валентину отцом? Ясно одно: страдала мать из–за мужика, этого неизвестного, то ли мужа, то ли отца, которого Валентин никогда не видел, во всяком случае, не запомнил. Помнится, бабка Евдокия, тетушка матери, обнимала ее, содрогавшуюся в рыданиях, за плечи и ласково уговаривала: «Поставь за него свечку! Только огнем вниз — сама увидишь, ссохнется не по дням, а по часам».
Мать ва…!
Господи!!
Господи, мать вашу!!!
Валентин почувствовал, как холодный пот — липкий, тяжелый, как свинец — из волос он, что ли берется? — скатываясь со лба, с затылка, струится по шее, по груди и спине, повсюду оставляя за собой зловонные следы.
Господи, неужели?!
«Давай–ка я за тебя свечку поставлю», повторила цыганка в голове Валентина и утопила пламя в его ладони.
Змея! Сука! Отродье дьявольское!
Проклятье!
Да–да, проклятье, мать вашу, проклятье! Оно самое! И до чего быстро сработало, а? Вчера прокляла, сегодня ослеп! Значит, не брехня все это про цыган? Про наговор, про их колдовскую силу?
Валентин вспомнил, как долго, уже будучи взрослым, завидев цыганку, он каждый раз инстинктивно сжимал губы — из детского страха. Считалось, сколько зубов успеет сосчитать цыган, столько лет и проживешь.
— Так ведь с закрытым ртом совсем ничего не сосчитает, — возразил как–то Валентин друзьям, таким же оборванцам, как он сам, — что ж тогда — сразу помирать?
Но пацаны только замахали руками — не задавай, мол, глупых вопросов, и Валентину ничего не оставалось, как верить и еще плотнее сжимать губы.
Теперь, может, цыганки подсчитали, сколько часов нужно Валентину, чтобы ослепнуть? Касапу снова прошиб пот. Помимо уймы неудобств, потеря зрения означала для него смерть, и не клиническую, а самую что ни на есть окончательную. Чем теперь заглядывать в дамские, чтоб их, сумочки?
Скорая! Срочно нужен врач! Может, еще можно что–то сделать. Валентин сполз с дивана и на ощупь пробрался в прихожую, где, пошарив, сбил трубку с телефона на пол.
Какой же там номер, подумал он и ужаснулся — номера скорой помощи он, хоть убейте, не помнил. Нет, раньше, в советские времена эти номера знали все: пожарная — 01, милиция — 02, скорая — 03 и так далее. Но сейчас к ним прибавили то ли одну, то ли две цифры. 1403, что ли? Или 2203?
Валентин тупо (он знал, что это выглядит именно так) пялился туда, где, если его не обманывали руки, располагался телефон и вдруг увидел, как из сплошной белизны перед глазами выглядывают, словно всплывая в молоке, квадратики телефонных кнопок. Вначале правильным контуром обозначились кнопочные границы, за ними показались негативы цифр и наконец — сам телефон, но не прежний, ярко–красный, а будто с выцветшей фотографии, отчего казался устаревшим, хотя Касапу и купил его всего с полгода назад.
Валентин застыл над телефоном, упершись в стену зажатой в руке трубкой и тяжело дышал. Капли пота падали, срываясь с кончика носа, на кнопки телефона, но массы их было недостаточно, чтобы набрать даже однозначный номер.
Слава богу! Спасибо, тебе, господи, прошептал Валентин и еще что–то, что, как ему казалось, Всевышний согласится зачесть за молитву.
«Пойду, Богом клянусь!» пообещал себе Валентин.
И на следующий же день был в церкви.
С двенадцатью свечами в дрожащих руках — а он заранее решил, что свечей должно быть по числу апостолов — Валентин подошел к иконе, стараясь не смотреть в центр зала — туда, где проходила панихида. Поцеловав одиннадцать свечей пламенем двенадцатой, он пробормотал: «дай прозреть, господи!» и направился к выходу. Взявшись за ручку тяжелой входной двери, Валентин содрогнулся, словно от удара током. Двенадцать — число–то четное! Он купил еще одну и вернулся к своим свечам, которые, печально оплывая, приняли в свои ряды свежеиспеченную соседку — пока еще стройную и высокую.
Выйдя из церкви, Валентин почувствовал необычайную легкость, будто душа его и в самом деле очистилась. По алее каштанов, опрометчиво салютовавшим первыми побегами обманчивому кишиневскому марту, спустившись вдоль Дома печати к Органному залу, он остановился у входа в городскую мэрию, откуда открывается замечательный вид на проспект Штефана Великого с Главпочтамтом, Макдональдсом и магазином Детский мир. Взглянув на рекламный щит, загородивший окна второго этажа американской закусочной, Валентин прищурился, чтобы понять, что же там изображено, но ничего не разглядел. Воображение подсказывало, что на красном полотнище не может быть ничего иного, кроме многослойных булочек с котлетами и пластиковых стаканчиков с прохладительными напитками, вот только все эти гамбургеры и колы виделись Валентину как после наркоза, когда кажется, что наблюдаешь становление мира — настолько гибкими представляются все, даже самые твердые предметы.
На углу у мэрии Касапу теперь останавливался ежедневно и каждый раз чувствовал себя обкраденным, что для вора примерно то же, что для брандмейстера — пожар в собственном доме. Зрение Валентина словно побывало в ломбарде, потому и вернулось не полностью — без комиссиона, удержанного за хранение. Черт с ними, с гамбургерами, но глаза жгло, как при попадании хозяйственного мыла, от ламп, автомобильных фар и даже от робких весенних лучей. На рынке Валентину приходилось прикрывать глаза ладонью как козырьком, что существенно снижало маневренность рук. От мысли о солнцезащитных очках пришлось отказаться — любой намек на подозрительную внешность исключался, к тому же и без темных очков он с трудом различал кошельки в полумраке сумочек.
Зато Валентин понял, насколько совершенны его пальцы. Он почти перестал доверять глазам и, чуть не коснувшись сумочки носом — убедиться, что открыта — выпрямлялся и запускал руку внутрь почти не глядя, иногда даже вертел головой по сторонам. Пальцы не подвели ни разу, словно обладали собственным, более совершенным зрительным аппаратом, на который не подействовали цыганские чары.
Цыганки наверняка знали, что происходит с Валентином: чем же еще объяснить их презрительные ухмылки? А может, и не было никаких ухмылок, а виной всему — воображение и никудышное зрение? Думая так, Валентин стал грешить на себя, чертыхаясь и бледнея каждый раз, когда вспоминал, как из–за нелепого суеверия разменял двенадцать апостолов на тринадцать («счастливое», что и говорить, число!) свечей, но потом успокоился. В конце концов, если Бог был в состоянии помочь, он бы так и поступил, думал Валентин и понял, что не обойтись без старого бабушкиного способа — посещения окулиста. Не мешало бы, решил он, целиком провериться — как бы помимо глаз другие болячки не повылезали. Как ни крути, а семьдесят пять лет — не шестьдесят.
Больничные очереди Валентин миновал, благоразумно уплатив сто леев регистраторше. Больше ста врачам он не давал. Меньше — тоже; в конце концов, собственное здоровье чего–то, да стоит. За каких–то сорок минут, ведомый уверенной регистраторшей, Валентин прошел семерых врачей, так и не вкусив угрюмости очередей и равнодушия медработников. Выйдя из последнего кабинета — пульмонолога, с кипой бумаг в руках и без восьмисот леев в кармане, он вдруг понял, что, кроме настойчивого совета немедленно лечь на операцию по удалению катаракты, другого ответа на главный вопрос — как улучшить зрение, он так и не получил. Помявшись, Валентин зашаркал к кабинету окулиста, где его уже поджидали мстительные взгляды.
— Куда? — взвизгнула очередь и, словно удавка, затянулась вокруг Валентина.
— В конец! В самый конец! — обрызгала Валентина слюной невероятно страшная, видимо, из–за собственной худобы старушенция. При желании он мог бы убить ее одним ударом кулака.
Спорить с ощетинившейся толпой Валентин не стал и, нащупав в кармане предпоследнюю сотку, поплелся в регистратуру.
Выписанные врачом капли помогли — глаза перестало жечь, но зрение, если и изменилось, то не в лучшую сторону. Эх, были бы капли от злости, Валентин охотно поделился бы с цыганками. А лучше — отворот от приворота, противоядие от ядовитого укуса цыганской свечой. Только вот где его, это чудесное средство, взять, после того, как капитулировали и церковь, и медицина?
— Тебя Николай Семенович хочет видеть — столкнувшись в воротах с Валентином, на ходу бросил охранник Женя.
Рубец!
Валентин еле сдержался, чтобы не обнять Женьку. Конечно же Рубец! Как же он раньше не додумался!
Сбиваясь на бег, Валентин с надеждой поглядывал на окна второго этажа администрации, за которыми, знал он, окажется через пару минут. Проклятая робость! Нет, к черту! Надо, наконец, решиться и потолковать с Рубцом. Пусть знает все, как есть. Все равно надеяться больше не на кого.
Засмеет? Пускай! Пошлет? Ну что ж, так тому и быть.
Но — нахохотавшись до колик и послав Валентина в самые грязные путешествия — Рубец, пусть в шутку, пусть лишь бы отвязаться, но потребует от цыганок снять с Валентина проклятие.
И куда им тогда деваться? Разве что навести порчу и на Рубца.
***
Часы на арке работали исправно и даже брали на себя больше положенного. Пробивая одиннадцать, они исполнили мотив песни о городе — мелодию, ежечасно оглашающую центр Кишинева с других часов — тех, что на башне городской мэрии, метрах в двухстах от настоящей Арки победы. Поразившая Валентина арка была совсем как та, настоящая, по циферблату которой сверяют время чиновники из здания правительства напротив. Да пожалуй, она и была настоящей — из чистого золота и стоила, подумалось Валентину, не многим меньше оригинала. Сам стол, на котором гордо возвышалось пресс–папье в виде арки с беззастенчиво укравшими мелодию часами, словно впав в немилость, переместился в дальний угол комнаты и совершенно не привлекал бы к себе внимания, если б не золотая копия шедевра кишиневской архитектуры.
Центр кабинета теперь занимали два стула, примостившиеся к прозрачному круглому столику на изящных ножках. Недопитая бутылка шампанского в окружении одного стоически чистого и двух меченых помадой бокалов, двухэтажной вазы с потемневшими бананами и подсохшими дольками нарезанных апельсинов и киви — вот все, что занимало поверхность крохотного столика. С другой стороны к нему примыкала широченная кровать, которую язык не повернется назвать двуспальной — минимум на четырех человек, хотя подушек действительно было две. Еще одна кровать нависала с потолка — в зеркале, полностью совпадавшем размером и расположением с ложем внизу.
Чуть в стороне от окна, из которого Рубец когда–то показал Валентину будущее место работы, на темной тумбе с высокими стеклянными дверцами расположился огромный телевизор с плоским экраном, по обе стороны которого возвышались два серебристых небоскреба — звуковые динамики. Чтобы увидеть снующих между рядами людей, теперь пришлось бы одернуть розовые бархатные шторы, которые гармонировали, и то с оговоркой, разве что с дальней стеной, выкрашенной, в отличие от трех желтых, в бордовый цвет. В правый угол бордовой стены и был сослан бывший хозяин кабинета — неуместный в новой обстановке офисный стол с золотой аркой победы, в другом же примостилась изящная этажерка, представлявшая что–то наподобие открытого бара — так тесно было на ее полках бутылкам с разноцветными жидкостями.
— Нравится? — послышался голос Рубца, — проходи, не робей.
Вынырнув из–за этажерки с бутылкой виски в одной руке и двумя бокалами со льдом — в другой, директор присел к стеклянному столику, кивнув Валентину на стул напротив.
— Когда же… — присел Валентин, не переставая оглядываться.
— Когда успели? — перебил Рубец, — вижу, ты совсем заработался. Две недели чуть ли не круглосуточно ремонтировали. Хотелось, знаешь, чтоб и на работе как дома, — он покосился на кровать–аэродром.
— Виски? — приподнял бутылку Рубец.
— Спасибо, я на работе.
— Ну и как работается? — ошпарил лед струей «Джек Дэниелс» Рубец.
Заерзав, Валентин придвинулся на край стула.
— Я как раз хотел поговорить, — торопливо начал он.
— Говорят, ты бабки ныкаешь.
— Что–что?
Подняв бокал, Рубец с равнодушием палача следил за кусочками льда, которые и кубиками уже нельзя было назвать — так быстро растворялась их индивидуальность во враждебной алкогольной среде.
— Цыганки сказали, — сказал Рубец и залпом выпил.
— Ка… какие цыганки?
Показав Валентину ладонь — мол, подожди — Рубец сморщился, а затем выпучил глаза и открыл рот.
— Ххууу… аааа…, — он закинул в рот кусочек апельсина вместе со шкуркой, — наши цыганки, какие ж еще?
— Да ты что?
Валентин вскочил, и Рубец только сейчас заметил, что старик, оказывается, совсем не маленького роста.
— Они видели как…
— Да змеи они, цыганки твои!
— Все нормально — снова вытянул ладонь, на этот раз успокаивающе, Рубец показавшемуся в дверях начальнику охраны Козме, — мы сами справимся. Так ведь, Валентин? — спросил он тоном переговорщика, убеждающего психа не прыгать с крыши многоэтажки.
Касапу послушно присел, тем более что ноги вдруг перестали слушаться, будто стоял он в вагоне разогнавшегося на стыках рельс поезда.
— Видишь ли, — Рубец вытащил из пачки на столе сигарету, — я все понимаю. Тебя, как бы это сказать… — он закурил, пыхнув на Валентина дымом, — недолюбливают, что ли.
Валентин тяжело ссутулился, словно подтверждая неприятный факт.
— А если посмотреть с другой стороны? У тебя ведь другие ставки. Да, другие риски — он взмахнул рукой с сигаретой, — но и деньги не те, что у всей этой шушеры. Морковка, свечки, кофе. Даже свинина, блядь. Они вкалывают не меньше твоего, но разве можно сравнить по деньгам?
— Я просто хотел, чтобы вот эти необоснованные…
— Ты погоди. Не горячись. В твоем возрасте, извини, конечно, что напоминаю, но что поделать, если в твоем возрасте нервничать действительно вредно. Да, ты можешь этот аргумент — я имею в виду возраст — привести и в свою пользу. И будешь прав. Прав, потому что ты единичный экземпляр. В свои, сколько тебе — семьдесят? больше? — в свои годы заткнешь за пояс двадцатилетнего. Нет, серьезно, не скромничай, таких ведь больше нет. Сколько уже — лет десять? Нет, какие десять? Девяносто тре… сейчас какой? две тысячи во… Пятнадцать! Пятнадцать лет! Без единого — тьфу–тьфу — даже намека на прокол! Это, я скажу тебе… — Рубец уважительно поджал губы, — и неужели ты думаешь, что я это не ценю? Я же все вижу, и у меня нет к тебе претензий. В этом плане, как минимум. Но если я не идиот — а мне почему–то кажется, что я не идиот — почему мне, спрошу тебя, почему бы не подумать о завтрашнем дне и не подобрать — нет, не равнозначную, равнозначная замена тебе — это утопия, а хотя бы более–менее достойную кандидатуру, а?
Валентин не двигался и даже дышать старался неслышно.
— В конце концов, это бизнес. Деловой человек нуждается в подвижных глазах — совсем как у хамелеона. Чтобы пялиться не только под ноги, но и заглядывать за горизонт, и желательно делать оба дела одновременно. Понимаешь, о чем я?
Валентин кивнул.
— Давай договоримся, — Рубец явно перешел к деловой части разговора, о чем свидетельствовал мобильный телефон, который он достал из кармана, чтобы беспорядочно нажимать на кнопки — была у него такая привычка, — ты работаешь как работал. Тише воды, ниже травы. Петрушки, киндзы, лука, ну и прочего, чем торгуют сам знаешь где. Шучу, конечно. Как, кстати, твои помощники?
— Кто?
— Нина, тетя Маруся, Богдан, Василий, Доминика, кто там еще? А говорят, я страшно далек от народа. Даже из обычных реализаторов кое–кого помню. Игорек опять же… Ах, да — он покосился на Валентина, — Игорек–то как раз уже не работает. Так что, содействуют? Проблем нет?
— Ну… — замялся Валентин.
— Не понял, саботирует кто? — напрягся Рубец, — ты только шепни.
— Нет–нет — испугался Валентин, — что ты… вы.
— Да ладно, я ведь тебе в сыновья гожусь, — заулыбался Рубец.
— Я хотел сказать — очень даже. Я и не знаю, что бы без них…
— Это точно — с гордостью подтвердил Рубец. Еще бы — ведь схему с ассистентами–реализаторами придумал именно он.
— Ты хотел что–то добавить? — спросил Рубец, заметив, что Валентин открыл рот.
— Вооот… А что я хотел? — спросил себя Рубец после того, как Валентин отрицательно помотал головой, — ну да, работать. Продолжай, никто тебя не тронет, да пусть бля рыпнется кто! Главное, чтобы все по понятиям. Прозрачно. Транспарентно, слыхал, наверное, такое слово? Даже если эти сучки черножопые и наговорили — я сам их, признаться, не перевариваю, но мой внутренний расизм не должен мешать бизнесу, понимаешь? Ну кто из нас без недостатков? Зато я — спокоен, ты, надеюсь, не обижен, не так ли? Ну, хочешь, подниму цыганкам арендную плату? В качестве моральной компенсации, а? Шучу, шучу, — хлопнул он Валентина по плечу, вставая — прием был окончен.
В дверях Касапу обернулся.
— А ведь они все время пасут меня, — сказал он.
— Кто? — не понял Рубец.
— Да фраера твои. Женьки, Мишки, Виорелы все эти. Я же шагу без них ступить не могу.
— Ну и?
— Ныкал бы я деньги, неужто не усекли бы? — развел руками Валентин.
— Ну, — улыбнулся Рубец, — если они ни разу так и не усекли, как ты уводишь кошелек…
После этого странного разговора с Валентина словно гора свалилась.
«Шел бы он», мысленно решал он, куда бы послать Рубца — так, чтобы не мешал разбираться с цыганками.
В голове Касапу словно ожил давно потухший вулкан — мозг плавила кипящая лава ненависти. Война так война, определился Валентин, а еще — решил, что обязательно прижмет цыганок. Прищучит, бля, черножопых. Кровью будут плевать, но зрение вернут.
Но лучше крови, подумал Валентин, пустить слух. Он по себе знал, что родившиеся на рынке слухи разносятся, как смертельная эпидемия — стремительно и сражая наповал. Словно бациллы, разбегалось по городу бабьё, заражая страхом перед неуловимым карманником, который — и куда только смотрит полиция! — грабит женщин на рынке среди бела дня. Другие женщины вздыхали, цокали языками и ругали правительство, но, стоило им затесаться в рыночную толпу, как тут же забывали об опасности.
С цыганками еще проще. Цыганок сторонятся все, даже те, кому позарез нужны дешевые свечки или тряпичные туфли. Была мысль пустить «пушку», что в их тараканьем яде содержатся нитраты. А что — в Молдавии все панически боятся нитратов, считая, что к ним и прикасаться опасно, не то что употреблять в пищу. Или, вспомнив детство, прибегнуть к самому убедительному аргументу — колдовской силе цыганок? Шепнуть, что, на какую сумму купишь у них свечей, яда, сумок и прочего дерьма, столько часов проживешь и ни секундой больше? Или что цыганки по одному взгляду вычисляют адрес, телефон и код домофона?
Вариантов было — хоть отбавляй, и Валентин уже представлял, как бубнит то одному, то другому покупателю, заговорщически косясь на смуглых теток со сморщенными лицами.
И тут — она.
Алое платье до колен, стройные ноги и огромные черные очи, прожигающие до самого сердца даже сквозь белесую пелену на глазах Валентина. Поначалу Касапу принял ее за любовницу кого–то из охранников — так примелькалось на рынке ее алое платье. А может, и самого Козмы, решил было Валентин, пока не застукал красотку с цыганками, голосящей таким же мерзким голосом и, конечно, на тарабарщине, из которой выпадали отдельные молдавские и русские слова. Валентин остолбенел: цыганки так вились вокруг женщины в алом, послушно кивая в ответ каждой ее фразе, что сомнений не оставалось — она и есть над всеми цыганками цыганка.
«Хана вам, змеюги!», ликовал Касапу, прикидывая, в какую сумму может оценить свое зрение. Пристроившись в паре метров от алой цыганки, он внимательно рассматривал ее и запоминал. Получалось прилично: с десяток золотых перстней на обеих руках, массивный золотой браслет и тяжелые, оттягивающие мочки, кольца в ушах. Роскошное — надо признать — платье и туфли на высоком каблуке в тон ему. По всему выходило, что в сумочке, тоже красной, притаился пухлый — нетрудно догадаться, какого цвета — кошелек.
Одна проблема — красавица–цыганка никогда не заглядывала в овощной павильон.
«Домой ей, что ли, продукты доставляют?», тосковал Касапу, но поработать на чужой территории не рискнул.
Охранник Мишка, вращавший головой как флюгером, в три секунды находил Валентина даже в самой непроходимой толпе. Поэтому, когда цыганка в алом застыла у лотка с цитрусовыми, Валентин, уже стоявший за ее спиной, мысленно произнес всего два слова: «долой коммунистов».
— Какие ж это два кило, девушка? — цыганка размахивала кульком с апельсинами, — а ну–ка давай еще раз, — и она метнула кулек на весы.
Секунды 0–1: кошелек падает в сумку. Руки покупательницы тянутся к весам.
Секунда 2: правая рука В. цепляет кошелек.
Секунда 3: правая рука В. задерживается в сумочке, зафиксированная посторонней рукой № 1 (здесь и далее посторонние руки и голоса обозначены номерами).
Секунда 3: рука № 2 загибает левую руку В. за спину. Спина В. рефлекторно сгибается параллельно асфальту.
Секунда 4: над головой В. вспыхивает яркий свет, источник которого не идентифицирован.
Секунды 5–6: раздается голос № 1: «Улыбочку, дедуля! Вас снимают!». Рука № 3 поворачивает голову В. глазами к яркому свету.
Секунды 7–16: рука № 1 извлекает из сумки правую руку В. с зажатым в пальцах кошельком. После насильственного разжатия пальцев В. пальцами руки № 1 кошелек неслышно исчезает. Одновременно раздается голос № 1: «Свидетели, прошу оставаться на местах! Сейчас последует пересчет денег!»
Секунды 17–18: рука № 1 заламывает правую руку В. за спину. Обе руки В. заковываются в наручники.
Секунды 19–20: руки № 1,2,3 и 4 ведут В. в неизвестном направлении.
Секунда 21: В. вспоминает, что кроме кошелька, иных предметов в красной сумке не было.
Итого — 22 секунды.
Ну вот, совсем другое дело!
***
Глава десятая
Чем теоретик лучше практика? Тем же, чем мудрый правитель лучше глупого народа. Что ни прикажет, все не так поймут, и уж тем более не так сделают. А правитель — он вне подозрения. Ошибки? Побойтесь бога! Это все они, глупые людишки, толкуешь им, разжевываешь, да все без толку.
Аналогичное можно сказать и о теоретике: его ошибки — его победы. Собственно, и ошибками–то они становятся в результате практической деятельности, поэтому винить принято горе–практиков, этих безруких (вернее, безмозглых) вершителей безупречной теории. А теоретик — он велик. Он годами не спал, думал, работал, записывал за собой и вот те на — из–за каких–то бездарей гигантский труд, гениальные мысли, сомнения, терзания и великие открытия — все обращается прахом.
Славно и сладостно быть теоретиком. Поэтому в этой главе — ни слова о теории. Разве что совсем чуть–чуть.
О чем вы, какое благородство? При чем тут рыцарство?!
Теория всесильна и неуязвима, а вы о ветряных мельницах толкуете. Да, она умозрительна, как те драконы и вражеские отряды, что мерещились Дон — Кихоту в мельничных лопастях и в стаде овец, но класть на одну чашу весов плод больного воображения и теорию — не лучше, чем делать вывод, что радиоактивное облако не опаснее радиоволны — на том лишь основании, что обе эти субстанции невидимы.
Не в рыцарстве дело. Да и кто станет противиться теории, если все ее ошибки суждено искупить практике? Бог совершенен, люди грешны. Сколько бы не начудил теоретик, от ошибок его теория станет еще безгрешней, она лишь «совершенствуется» ценой тысяч, миллионов практических действий. Катастрофические потери практиков никого не волнуют и не удивляют. И уж тем более никто не восстает против теории. К этим ошибкам привыкли, их ожидают, «прогнозируют», смиренно называя их «методом проб и ошибок» и воспринимая как неизбежную плату за доказательство совершенства теории.
Я обещал немного теории — пожалуйста. Теория, которой будет совсем чуть–чуть в этой главе, аксиоматична и не требует доказательств. Нет даже необходимости ее формулировать. Достаточно первой ее части, которая звучит так: «рынок и секс», чтобы сознание подсказало часть вторую — «вещи несовместные», и вот уже перед нами теоретическая аксиома, не нуждающееся, что ясно любому психически уравновешенному человеку, в каких–либо доказательствах.
И на этом — действительно довольно о теории. Долой доказательства! Аксиома — и точка. И не ждите подвоха — я не убью остаток главы на то, чтобы незаметно, крадучись, взять в кольцо никем не доказанную и оттого безупречную теорию, и когда она окончательно забронзовеет в ваших умах, внезапным сокрушительным штурмом сбросить ее с постамента. Если даже вам так и покажется — что ж, это ваше право. На мой же вкус, практическая деятельность не всегда нуждается в доказательствах. Как, впрочем, и в теоретическом обосновании.
Это было в теперь уже далеком девяносто третьем. Молодые люди, тем кому сейчас восемнадцать–двадцать, вы многое потеряли, не застав этого времени. Впрочем, те, кто застали, потеряли не меньше. Целую страну, а вместе с ней — спокойствие и уверенность. Согласен, страна могла бы дать и больше, но для тех, кто потерял спокойствие и уверенность, не обретя веры в себя, подобные потери невосполнимы. Допускаю, что отчаявшиеся тогда, даже сейчас и даже самим себе не признаются, что если и дожили до сегодняшнего дня, то лишь благодаря тем, кто в начале девяностых поверил в себя. Благодаря спекулянтам, рэкетирам, челнокам и валютчикам. Благодаря тем, усилиями которых заклинивший было механизм, пусть со скрипом, пусть и в противоположную здравому смыслу сторону, но был запущен. Теперь время работало на всех, даже на тех, кто отчаялся. Страшно представить, что было бы, если б никто не обрел веру в себя. Его, этот механизм, попросту некому было бы крутить. И, знаете, сегодня мне не стыдно сказать: я тоже его крутил.
Я знаю, что вы скажете. Вы скажете: тогда, в начале девяностых, вы, мы то есть, гребли деньги мешками. Так оно и было. Никаких супермаркетов, частные магазины только начали появляться, а на центральном рынке — изобилие, невиданное для советского человека. По популярности мы обошли митинги, бушевавшие на центральной площади Кишинева, тем более, что митинговавшие к этому времени успели изрядно проголодаться. Да, мы загребали, но обогащались–то покупатели. Это ведь они узнали, что батончик — это не пол–хлеба, а «Сникерс», что нет такого города — Бавария, а есть пиво, и что зубная паста и «Поморин» — не одно и то же. Что же плохого в том, что люди расширили свой, извините за пошлый термин, потребительский кругозор? Что благодаря нашему рынку этот кругозор у них, строго говоря, и появился?
А плохо вот что. Недолго они его расширяли. В сентябре девяносто третьего молодое, но очень уверенное в себе молдавское государство ввело в оборот леи — собственную валюту. Да так ввело, что покупательная способность разом упала в десять и более раз.
А вы говорите — загребали.
Загребали! Еще пару недель после обмена.
Этого времени хватило на то, чтобы люди поняли, что их надули. А поняли они это потому, что у них за две недели закончились деньги, которых обычно хватало на месяц. Неудивительно, что люди перестали покупать. Перешли, пользуясь сегодняшним сленгом, на энергосберегающий режим.
А вы говорите — загребали. Девяносто третий — это год, в который мы едва не коснулись макушкой Луны — такой высоченной была гора из денег, на которой мы вальяжно развалились.
Девяносто третий — это год, когда мы чуть не сгорели вместе с внезапно вспыхнувшей под нами бумажной горой, когда мы с ненавистью и надеждой смотрели в небо — только бы не видеть эту Луну, только бы она скрылась за тучами и на нас полился бы, пусть из мелочи, но хоть какой–нибудь денежный дождь.
Как–то утром ко мне заявились три арендатора, которым я сдавал примерно две трети всех торговых мест на рынке, и заявили, что расторгают договор. У них затоварены склады, у них гниет картошка, портятся окорочка, выходит срок годности маринованных грибов, сгущенки, шампуней и порошков. Они — банкроты, и улучшения ситуации не предвидится. У них перестали покупать. Они не рассчитывали, что продажи так резко упадут.
Между прочим, я должен был вернуть им уйму денег, ведь по договору об аренде они оплатили торговые места на квартал вперед. Это значит, рынок не сможет рассчитаться за свет, воду, канализацию и уборку территории. Персонал лишиться зарплаты, нас прижмут за невыплату налогов. Признаюсь честно, в сентябре девяносто третьего мне не удалось избежать греха отчаяния.
Кое–как встряхнувшись, я решился продать рынок. Но то ли оттого, что активный поиск нового хозяина подозрителен сам по себе (как будто вам пытаются втюхать скоропортящийся товар), то ли потому, что оценить перспективу этого бизнеса было некому, моя попытка завершилась ничем.
И тут, как подарок свыше — он. Назовем его N, и никаких других намеков не будет. Он с ходу предложил арендовать все, слышите, все места на рынке, но я смог ему предложить всего две трети — те самые, что освободились от тройки отказников.
Так мы выкарабкались в девяносто третьем. Не уверен, что рынок просуществовал бы до сих пор, если бы не N. Поэтому, вспоминая его, я стараюсь сохранить в душе чувство благодарности, хотя, признаюсь, удается мне это не всегда.
Три года мы работали вместе. Хозяин и главный арендатор. По правде говоря, он был почти таким же хозяином как я. Его стараниями рынок стал таким, каким вы знаете его уже более пятнадцати лет. N нашел беспроигрышные варианты поставки бытовой химии — стиральных порошков, зубных паст, шампуней и средств для мытья унитаза. Он завез миллионы дешевых презервативов из Китая. На арендованных им местах впервые на нашем рынке, да и во всей Молдавии, появились лотки, где и по сей день продают только чай и кофе — десятки видов со всего света, и пусть вас не смущает то, что все они расфасованы в Польше.
N безусловно спас рынок. Спас с расчетом заработать миллионы.
И он их заработал. Нам тоже перепадали приличные куски. С ним было спокойно и уверенно, как обывателю при Союзе. Увы, часто то, что кажется наиболее стабильным, длится меньше всего.
В девяносто шестом мы были вынуждены с N расстаться. Слава богу, без шума. Боюсь, шум срикошетил бы и в нашу сторону, причем неизвестно, кому бы пришлось хуже.
Первым странность заметил один из наших охранников, назовем его M (между прочим, мы сохраняем конфиденциальность данных о всех наших сотрудниках, даже о бывших. М у нас, кстати, больше не работает). М обратил наше внимание на арендованные N торговые места, пустовавшие в разгар рыночной недели, даже в субботу и в воскресенье, когда делается выручка, превышающая суммарный доход остальных дней недели. Мы не нашли бы ничего подозрительного — ну, заболел реализатор, заменить некем — если бы ситуация не повторялась ежедневно: в караване из переполненных товарами лотков — одна–две, а то и три пробоины, причем каждый раз новые.
И это бы ничего, если бы не странности кадровой политики N. Мы как–то сразу привыкли к тому, что он часто меняет реализаторш. Да–да, именно женщин. Тот же М утверждал, что больше месяца ни одна из них на лотках N не задерживалась. Мужчины — совсем другое дело. Я лично (хотя через возглавляемый мною рынок прошли, наверное, десятки тысяч сотрудников) знал многих из реализаторов N — так примелькались их лица. В общем, информации для дедуктивных упражнений у нас было предостаточно. Оставалось собрать факты и увидеть мозаику целиком.
Итак, что мы имели. Во–первых, N наплевательски относился к сотрудникам женского пола. Они для него были чем–то вроде сухих ветвей, которые нужно постоянно обрезать, чтобы не высохло дерево целиком.
Реализаторы, то есть, мужчины, и это во–вторых, были для N чем–то вроде спелых плодов, вершиной его селекции, ради сохранения которых приходилось массово жертвовать высохшими ветвями — женщинами, разумеется.
Наконец, в-третьих, я не мог избавиться от подозрения, что плоды эти, то есть мужчины, реализаторы лишь отчасти. Истинная их роль зашифрована в их отсутствиях (версию о внезапно поражавших реализаторов болезнях мы отмели: не могли же они все болеть лишь по одному дню).
Дело, напомню, происходило в середине девяностых, и у меня сама собой возникла криминальная мысль о криминале. Рассуждать дальше было страшновато, но что если, рассуждал все же я, мужчины выполняют, не совсем, скажем так, законные указания N, тем более что последний неоднократно намекал, что рынок — не единственный его бизнес. Чем же еще объяснить тот факт, что N сознательно отрывал своих подчиненных от работы, фактически, мешал им зарабатывать деньги для себя самого? Знаете, во сколько обходится один день простоя одного торгового места на нашем рынке? А ведь никто не вычтет этот потерянный день из арендной платы. На арендованных N рядах таких дней набиралось 50–60 ежемесячно, а это — два торговых места, арендованных на месяц и простоявших весь этот месяц без каких–либо признаков торговли.
Как не смущал тот факт, что все отлучавшиеся реализаторы возвращались, как ни в чем ни бывало, на свои рабочие места через сутки, живые, без малейших признаков ущерба для организма (что казалось почти невероятным в случае их вовлечения в преступную деятельность), я все же поручил службе безопасности рынка досконально изучить проблему.
Согласен, такое поручение было не совсем легальным, но, повторяю, на дворе стояла середина девяностых: бандитский беспредел и рэкет — с одной стороны и полное бессилие вкупе с тотальной коррумпированностью властей — с другой. Кроме как на себя, рассчитывать было не на кого, а рисковать безопасностью рынка я больше не мог.
Нет, я не собирался шантажировать N, просто для откровенного разговора мне нужны были доказательства. Когда же они у меня появились, я пожалел, что все они, все реализаторы N — не киллеры, не сутенеры и не наркоторговцы. Меня и сейчас мутит, когда я вспоминаю об этом.
Мать их! Они, все эти педерасты, упивались друг другом в своих педерастических оргиях. N, перед тем, как присоединиться, снимал их на камеру. И свое участие тоже снимал! И так ежедневно! Два–три реализатора–гомосексуалиста и их гомосексуальный хозяин. Перманентная смена женского состава отряда реализаторов была своего рода страховкой: женщины, они ведь существа интуитивные и любопытные, так что им просто не давали времени на то, чтобы все разнюхать.
Расстались мы с N, как я уже говорил, мирно. Он меня понял. Я понял, что он меня понял. Я пообещал. У него не было оснований не верить мне. Мы долго (да, три года для эпохи дикого капитализма — это чертовски долго) работали вместе и ни разу друг друга не подвели.
И все же при расставании руки я ему не пожал. Надеюсь, вы меня не осудите.
А потом мы прославились. Нет, N с нами уже не было, но даже если бы его история стала достоянием общественности, сомневаюсь, что резонанс от нее был такой же.
А ведь вы наверняка слышали. Да что вы — вся Молдавия в две тысячи шестом гудела.
Что Молдавия — вся планета включилась. Не будет преувеличением сказать, что сотни миллионов землян узнали о нашей стране именно благодаря этой истории. А все потому, что агентства Рейтер, Ассошейтед Пресс, Итар — Тасс и Синьхуа распространили новость с пометкой «срочно». Кстати, именно китайское агентство протрубило первым: «В Молдове — вспышка птичьего гриппа!». Еще бы, они–то, в Китае, не знают, что с этим вирусом делать, а тут такой повод почувствовать чью–то причастность к собственной беде. Мир всполошился, и даже молдавское правительство, обычно хранящее ледяное спокойствие, пообещало принять экстренные меры.
А все из–за сущего пустяка — в Кишиневе стали находить мертвых петухов. Вряд ли кто–нибудь спохватился бы — вон у нас весь город усеян дохлыми собаками, никто и бровью не поведет, только носы отворачивают. А тут, подумаешь, петухи!
Будь их десять, двадцать — никому бы и дела не было, даже если бы петухов свалили в одну огромную яму. Так ведь находили их в разных районах города. Ощипанные, выпотрошенные, обезглавленные петухи разве могли кого–то напугать?
Но на момент, когда все закончилось, их было найдено 147 (сто сорок семь) и нет никаких оснований считать эту цифру окончательной. Петух — не иголка, но и не бегемот. Считалось, что некоторые птицы были захоронены или выброшены в мусорные контейнеры, так что об этих безвестных птицах никто не говорил как о жертвах: какой смысл вспоминать тех, кого никогда не найдут. Впрочем, в данном случае важно не столько количество птицетрупов, сколько причина загадочной петушиной эпидемии.
А то, что это эпидемия, поначалу не сомневались. Разумеется, территорию вокруг каждого вновь обнаруженного петуха оцепляли в радиусе сотни метров. Естественно, птиц подбирал специально обученный человек в скафандре и тут же прятал петухов в абсолютно герметичную емкость. Без преувеличения, Кишинев был близок к панике — еще бы, птичий грипп, да не в каком–нибудь богом забытом селе. В столице! Руководство готовилось к эвакуации себя и горожан: первых — за границу, вторых — в молдавскую провинцию.
Конечно же, нас закрыли. Ночью рынок оцепил по всему периметру отряд ОМОНа, и даже я на следующее утро не смог попасть в собственный кабинет. Были конфискованы, вывезены неизвестно куда и, по–видимому, уничтожены все мясные, молочные и рыбные продукты, обнаруженные в складских помещениях и в холодильных камерах. Из десяти последовавших за этим дней семь я провел в прокуратуре и в городской санэпидстанции, давая показания и содействуя изучению изъятых у нас документов. Утром на одиннадцатый день, когда я, скорее уже по привычке, собирался на очередную встречу со следователем, мне позвонили и что–то невнятно пробормотали. Я переспросил, и получил раздраженный, но понятный и, главное, долгожданный ответ о том, что ехать мне никуда не надо.
Впервые за полторы недели оказавшись на рабочем месте, я узнал причину удивившего меня телефонного разговора. Ехать к следователю мне не рекомендовали потому, что следователь сам удостоил меня визита. Он был смущен, но резок, и я понял, что причиной его дурного настроения является не чувство неловкости передо мной, а неприятности на работе.
То, что он сообщил, потрясло меня не меньше, чем закрытие рынка. Все 147 (сто сорок семь) птиц погибли в результате сексуального насилия со стороны человеческой особи мужского пола. Проще говоря, петухов, извините, затрахал до смерти неизвестный маньяк–зоофил. Такого не ожидал никто. Смирившаяся было с птичьим гриппом мировая общественность вновь всколыхнулась, лишь китайцы сдержанно сообщали, что новые данные нуждаются в дополнительной проверке.
Увы, новость не избавила наш рынок от подозрения властей. Скорее наоборот. Выяснилось, что этот ненормальный (экспертиза подтвердила, что петухов насиловал один человек) приобретал будущих жертв именно на нашем рынке, и теперь у нас ежедневно дежурили человек тридцать полицейских в штатском, причем некоторые — под видом торговцев птицей. Уверен, что искали бы они его долго — не устанавливать же слежку за каждым покупателем, тем более что и руководство страны, раздраженное ложной тревогой о птичьем гриппе, а с ней и уплывшими надеждами на получение международной помощи, потребовало от министерства внутренних дел прекратить заниматься ерундой.
Уже было снято, к нашему облегчению, полицейское наблюдение, и торговцы птицей, вспомнив о понесенных за время простоя потерях, набросились на покупателей, как стая голодных сов на заблудившуюся в ночном лесу мышь, как вдруг он объявился. Он просто подошел к продавщице и попросил две сотни яиц, но с условием, чтобы из них вылупились непременно петушки и чтобы, боже упаси, не было ни одной курицы.
Курятину с тех пор я не ем, хотя и ловлю себя на том, что улыбаюсь, вспоминая несчастных петухов. А вот плачу я действительно редко и лишь в тех случаях, когда сталкиваюсь с чем–то настоящим. Хотя, допускаю, приступы меланхолии объясняются не столько фактом встречи с истиной, сколько осознанием того, что настоящее — это, во–первых, редкость, а во–вторых, даже столкнувшись с ним, не каждый раз способен распознать это самое настоящее. Оно ведь серое с виду и не трубит о себе на каждом углу, не фонтанирует красками. Напасть на след настоящего — большая удача; обычно это происходит тогда, когда оно, чуть зазевавшись, вляпывается в разлитую повсюду краску.
Нечто похожее произошло и у нас. Они вляпались в историю, и мы их разоблачили. Что, кстати, никак не принижает «настоящесть» этой истории.
Да что там истории! Самой что ни на есть лав–стори!
Как там? «Он был старшее ее, она была…». Да–да, она была чертовски хороша! Стройная, белокурая, с голубыми глазами и светлой кожей, которая струится, как молоко, откуда–то с макушки и становится страшно оттого, что вот–вот стечет с высоких каблучков, навсегда исчезнет в земле.
Она была замужем, он женат, у обоих дети. Что их объединило? Да мало ли таких историй? Разве влюбленные выискивают причины, по которым они вместе? Им просто хорошо. Этим двоим было хорошо, не смейтесь, на нашем рынке. Честно сказать, не знаю, что бы я придумал на его месте. До такого точно не додумался бы. Может, я просто никогда так не любил?
Он был слишком известен, слишком успешен и слишком любил семью — жену и двух сыновей. А еще — какая редкость для бизнесмена — панически боялся связей на стороне, и даже в секретарши брал исключительно тех, кому за пятьдесят.
Но видели бы вы ее глаза! Беззащитные глаза, похотливые глаза. Будь я поэтом, я бы выбросил перо, вылил чернила и сжег всю бумагу в доме, ибо нет на свете рифмы, достойной одного взмаха ее ресниц. Чем больше человек боится чего–то, тем больше он уверен, что опасности ему в конечном счете не миновать. Его притягивает опасность, как идущего по краю пропасти манит туман на дне ущелья. Достаточно одного шага, который лишь по недоразумению называют неверным. Нашего бизнесмена сдуло в пропасть — да–да — одним взмахом ресниц. Но разве не к этому он стремился? И где же им было укрыться в маленьком городе, где сплетни опережают замыслы?
Гостиница, квартира, даже индивидуальные апартаменты — все это, как вы сами понимаете, для него не вопрос. Но и не решение: наш герой панически боялся расстроить жену, которую — можете не верить, и все же — он не стал любить меньше. Даже в авто, пусть и с затонированными стеклами, наши влюбленные не уединялись. Кстати, именно в затонированном Ауди он проезжал мимо рынка в понедельник.
Да–да, в понедельник, когда у нас на рынке выходной день. В этот день вы не встретите здесь никого, кроме пяти охранников — двух, курсирующих по торговым рядам и трех, присматривающих за складскими помещениями, и еще трех женщин, приводящих территорию рынка к относительной чистоте перед новой безумной неделей. Каждый из этих восьми зарабатывал по двести долларов за то, что каждый понедельник два абсолютно одинаковых черных Ауди одновременно въезжали на рынок через западные и восточные ворота и останавливались, нос к носу, у молочного павильона. Спустя час павильон покидали мужчина и женщина, быстро садились в разные машины, которые стремительно разъезжались в противоположные стороны. Поскольку охранники менялись каждую неделю, последним, кто узнал о том, что павильон, где обычно торгуют маслом, молоком и брынзой, по понедельникам превращается в дом свиданий, был начальник охраны рынка, которому по должности не положено нести дежурство наравне с подчиненными.
Да и узнал бы он об этом, если бы не родное МВД?! Между прочим, им и в голову не пришло предупредить администрацию рынка о том, что у нас установлены камеры наблюдения. Целых тридцать шесть штук! Устанавливали тайно, под покровом ночи, чтобы, как пояснил мне впоследствии один высокопоставленный полковник, «обеспечить чистоту эксперимента».
Дай нашему человеку кредит на построение капитализма, он все равно колхоз организует. МВД же получило международный грант на установку системы видеонаблюдения на дорогах. Только проэкспериментировать, как всегда, решили на людях. «Где же еще такой транспортный человекопоток (вот словечко–то выискал!) встретишь, как у вас?», спросил меня тот самый полковник. Он же, загадочно улыбаясь, принес и видеозапись: «Полюбуйтесь, какие сливки мы сняли в вашем молочном павильоне!»
Так что я узнал об этой истории предпоследним и тут же вызвал начальника охраны. Бедняга так озверел, что собрал всех охранников в разделочном павильоне. Не остуди я его пыл, боюсь, крови и свежерубленного мяса было бы не меньше, чем перед Пасхой.
Зато никак не отвыкну казнить себя за тогдашнее малодушие. Иногда, в приступе гнева, не имеющего никакого отношения к той истории, я думаю: может и вправду стоило размазать охранников по асфальту? Вышвырнуть к чертовой матери начальника охраны. Прекратить эти безумные свидания, послать их куда подальше, ну и что с того, что он большой человек?
Но в итоге преступником оказался я. Получается, из–за меня рухнули две семьи, считавшиеся благополучными и возникла одна — с сомнительными перспективами. Как ни крути, а положительного сальдо не выходит. Да еще дети — это самый болезненный пункт обвинения.
Но знаете что? Если случится, что я буду долго и мучительно умирать от какой–нибудь садистской болезни, из тех, что находят особое удовольствие в долгоиграющих истязаниях больного, от болезни настолько длительной, что в каждом усталом взгляде, в каждой вымученной улыбке близких я буду читать пожелание скорейшей смерти, мне бы хотелось, чтобы эти мучения длились как можно дольше. Ведь покидать этот мир я буду под аккомпанемент воспоминания об этих двоих.
Я не праведник — пальцев одной руки много, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться. И все–таки я умру умиротворенным.
Во всяком случае, теперь я точно знаю, для чего Бог создал наш кишиневский рынок. Можете смеяться, но, да–да, для спасения этой грешной любви.
***
Ша–бэ.
Эм–эн–ка.
Ы–эм–бэ-ша.
И–эн–ша-эм–ка.
Ка–эн–ша-эм–ы–бэ-и.
Эн–ка–и…
— Встать! Руки за спину, лицом к стене!
Когда конвоир заорал, оставались еще две с небольшим строчки, но Валентин почти не расстроился. Он помнил расположение букв наизусть и давно не верил в пользу упражнений. И все же легкая досада осталась — последние, величиной с ноготь, буквы Касапу различал почти без труда и, каждый раз, когда проходил таблицу целиком, а делал это он дважды в день, ему хотелось петь. Но теперь было не до песен — после бессонной ночи голова гудела и даже будто прибавила в весе.
По узким коридорам кишиневской тюрьмы, через три зарешеченные двери, два человека, Валентин и конвоир, долго: первый — из–за старческой слабости в ногах, второй — из–за еле передвигавшегося впереди старика, шли, пока не оказались перед камерой, в которой Валентин не был последние пять лет.
Когда за спиной закрылась, громыхнув, тяжелая дверь, Валентин осторожно, словно по льду, прошаркал к столу, и, кряхтя, уселся на краешек стула. Стол был темным от налета лет, но, странно, без единой царапины. Валентин отодвинулся было назад — опереться о спинку, но понял, что так не дотянется до стола. Попытался придвинуть стул поближе — ах, да, привинчен же.
Загремели засовы, и звон тишины, подзабытый в камере на двенадцать человек, разлетелся как ледяная статуя — на мелкие осколки, которые не склеить и не уберечь — все равно растают.
Вошедший был адвокатом — это можно было определить, не требуя лицензии на право юридической практики. Общественного защитника, которого Валентину определили пять лет назад, он принял было за нового сокамерника. Бледный, с куриной шеей и швом, разошедшемся на левом ботинке, он всегда приходил с запахом пота. Виновато глядя на Валентина, он словно знал, чем кончится дело и заранее извинялся за собственное бессилие.
Этого, нового, назвать общественным защитником язык не повернется. Окажись он здесь пять лет назад, Валентин уже испытал бы что–то вроде эйфории солдата, знающего, что в атаку пойдет плечом к плечу с самим генералом.
Но теперь, когда до окончания шестого срока оставался всего месяц, появление адвоката не сулило ничего хорошего. Неужели подстава, думал Валентин, раздражаясь от холеного вида юриста.
— Доброе утро, Валентин Трофимыч, — говорит адвокат подчеркнуто вежливо, что не мешает ему сохранять привычную надменность, правда, всего на несколько секунд.
На шее — галстук с золотым зажимом, наверняка из Парижа или Милана и, конечно, подобран любовницей, которую он привык брать в заграничные командировки.
Галстук, на котором повесился Валентин, был ядовито–желтого цвета. Касапу взял его у Хвоста из пятой камеры, якобы для свидания с женщиной.
— Семнадцать лет как расстались, — пояснил Валентин, заметив мелькнувшее во взгляде Хвоста недоверие, — может, в последний раз видимся.
Хвост не ответил, лишь покорно улыбнулся, чтобы не ставить в неудобное положение авторитета, состоящего к тому же на полном греве.
О том, что он завязывает, Валентин объявил на первом же сходняке с начала шестой отсидки. К удивлению Касапу, для зэков он остался тем же, кем был двадцать лет назад — аксакалом зоны, чуть ли не хранителем воровского закона. Такое положение, хотя и позволяло Валентину не париться о будущем, повергало его в уныние каждый раз, когда он пытался уравновесить волю с неволей и, как не старался, вынужден был признать, что тюрьма больше никакой не конкурент кипящему за ее стенами миру.
Опровергать, однако, легенду о себе Валентин не стал, и вскоре его тихий голос уверенно звучал в мертвой тишине сходняков. Возразить Касапу мог лишь один человек — Пахан Македонский, сменщик покойного Митрича. Македонский, хотя и держал слово последним, сказанное Валентином превращал в обязательный для остальных зэков закон.
— Как чувствуете себя? — натужно улыбается адвокат.
Он впервые здесь, можно не спрашивать доказательств обратного. Он вообще впервые в тюрьме — Касапу понял это по его пружинящей улыбке и пугливому взгляду, который адвокат бросает на все вокруг: на серые стены и зарешеченное окно, на стол, к которому он брезгует прикоснуться, а еще — на руки Валентина: их адвокат разглядывает с особой тревогой.
— У вас Шевроле? — спрашивает вдруг Валентин.
— Что, простите?
— Ничего, ничего, — извиняюще вытягивает руку Валентин.
Может, и не Шевроле. Может Мерседес или БМВ. Какая разница, на чем он въехал на первый курс юрфака Кишиневского университета? Схема–то одинаковая: деньги, машина, юрфак, диплом и собственное адвокатское бюро, которых в Кишиневе столько же, сколько табачных ларьков. Что, впрочем, никак не снижает перенаселенность городской тюрьмы.
— Давайте перейдем к делу — становится серьезным адвокат.
Так ему проще отключиться от пугающего наваждения, от того, что он вдруг представил себя сидящим напротив человеком — стариком, отбывающим бог знает какой срок, немощным зэком, который не видит ничего, кроме этих кажущихся вечно сырыми стен и решеток на окнах. И еще — этого сытого и трусливого лица напротив.
Охранник Мишка, заявившийся к Валентину около года назад, начал примерно также.
— Вообще–то я по делу, — сказал он заговорщическим тоном.
Мишку, как и Валентина, с рынка выжали цыгане.
— Это беспредел какой–то — шептал Мишка, умолчав о том, что первым начал именно он. Ведь это он, а не кто–то другой, потребовал у цыган, обчищавших теперь покупателей вместо Валентина, откат — не больше и не меньше, а ровно столько, сколько привык брать с Касапу.
Валентин отстегивал Мишке почти десять лет, и эта была, надо признаться, умеренная плата сразу за две услуги: право уводить часть денег из–под носа Рубца и молчаливое попустительство самого сообразительного из охранников. Цыгане же откатывали сразу двоим — Рубцу и собственному покровителю — полковнику МВД. Мишка был явно лишним в этом списке.
— Хуже чем на вокзале, — ныл Мишка, — цыганята шныряют повсюду: в молочном, мясном, даже реализаторов пару раз обокрали. Покупатели боятся сунуться на рынок. Уже и облавы были, да что толку, если у них крыша ментовская.
Цыгане и вправду работали топорно — брали числом, а не как Валентин — высоким воровским искусством. Если бы не камеры наблюдения, о которых Валентина никто, даже Мишка, не предупредил, с выходом на тюремную пенсию можно было и повременить. А так — состав преступления в прямом эфире.
— Ты почему о камерах молчал? — спросил Валентин, и Мишка нервно заерзал.
— Да не знал я, — зашипел он, — да что я — ни Рубец, ни Козма ни в зуб ногой. Менты за ночь оборудования смонтировали, клянусь! Полковник–то этот спал и видел как Рубца прижмет. Кстати, когда Рубец отдал менту долю, камеры поснимали — вот это мы уже видели.
Еще бы не поснимали, подумал Валентин, разглядывая Мишку. Охранник сильно изменился с их последней встречи, а это — четыре года, совсем не шутка, особенно в возрасте Валентина. Мишка похудел и запил, и эти события были как–то связаны друг с другом, а еще — с отсутствием денег: рубашка на охраннике совсем выцвела. К его чести, продолжать падение в пропасть бедности Мишка, похоже, не собирался, но почему–то решил, что войти в одну и ту же реку, вернее, на один и тот же рынок через парадный вход — а теперь его тормозили даже на боковых воротах, тех самых, где привык останавливать он — сможет с помощью Валентина.
— Рубец в депутаты подался, — почти одними губами, покосившись на стоявшего за спиной караульного, прошептал Мишка, — базарят, скоро полковника завалит.
Странно, что до сих пор не завалил, подумал Валентин. Он уже знал, что стал пешкой в большой игре, а точнее — рядовым на войне, которую Большой Мент объявил Рубцу.
— Или он полковника, или полковник его, — резюмировал Мишка, подтверждая и без него известную истину.
О том, что полковник с Рубцом играют не на шалбаны, Валентин узнал от Пахана Македонского.
— Спрашиваешь, почему именно ты? — пожал плечами Пахан и налил водку в два стакана — себе и Валентину, — черт его знает. Вообще–то комбинация верная. Менты–то про тебя всегда знали, только бабки шли мимо их кассы. А полковник давно глаз на рынок положил, только Рубец по своей воле разве кого пустит? Базарили, как тебя повязали, он с ОМОНом к Рубцу завалился, так они побили весь интерьер, во как… А что, правда у Рубца кабинет под бордель был заделан?
Валентин кивнул.
— Ну вот. И по видику ему прокрутили, как тебя, значит, вяжут. У мента–то в кармане две бумаги имелись: ордер на арест Рубца, все как полагается, с формулировкой — за пособничество и так далее, и другая — документ о передачи пакета акций рынка. Само собой, на никому не известное физическое лицо. Вот так бля. Рубец прямо там, в разгромленном кабинете, и перевел на этого неизвестного все акции. Ну а формально — да, остался директором, с хорошей — кхе–кхе — зарплатой. Лучше него никто ж не управится. Только думаю, скоро кранты ему будут.
— Почему это? — спросил Валентин.
— Фаршманет его полковник. Такое душняк устроит, бля буду. Знает, сука, что Рубец ничего не забывает, а тут еще этот дурень в депутаты полез: это ж неспроста. Попомнишь мое слово: найдутся какие–то махинации в министерстве, или где там еще этот чушок трется? Возьмут его за жопу конкретно. Коррупцию пририсуют — и добро пожаловать на зону. Вот тогда и встретитесь.
Пахан чокнулся с Валентином, и они выпили. Насчет будущего Рубца у Касапу было свое мнение, но на этот раз он решил промолчать. Валентин вспомнил окорочка в канализации и проникся уверенностью, что Рубец выпутается и теперь. Злорадства — о, нет! — Касапу не испытывал и про себя даже оправдывал Рубца. В конце концов, когда тебе вот–вот поставят мат, о пешках думать не принято. Что ж, Валентин оказался той самой пешкой, которой пришлось пожертвовать, хотя поехавший мозгами Мишка и считал, что шанс вернуться на доску есть, да не просто пешкой, а как минимум ладьей.
— Бежать тебе надо, — шепнул Мишка, окатив Валентина запахом перегара, — у меня и план есть.
— Свидание окончено! — гаркнул дежурный, и Валентин моргнул Мишке — потом, мол, перетрем.
Больше на свидание с выпивающим охранником Валентин не являлся. Мишка приходил еще трижды, но каждый раз вместо Валентина выслушивал немногословного дежурного, сухо сообщавшего, что заключенный Касапу болен и не хочет никого видеть.
— Раньше надо было суетиться, — бурчал Валентин на нарах и поворачивался лицом к стене, — камер он, сука, не заметил.
Ох, глаза мои бедные, вспоминал Валентин в сотый, наверное, раз асфальт перед глазами и собственные руки, заломленные за спину. При этих воспоминаниях он всегда краснел и начинал задыхаться — от негодования и бессилия. Во время одного из таких приступов он и одолжил у Хвоста галстук.
— Как, кстати, у вас со зрением? — спрашивает адвокат, протягивая Валентину запечатанный конверт, вынырнувший из скрипнувшего кожей портфеля, — Николай Семенович настоял, чтобы читали лично вы. Но если вам трудно…
— А вы что, не читали письмо? — перебивает Валентин.
— Это не письмо, а признание, — терпеливо поправляет адвокат, — и я его не читал, хотя и ознакомлен с его содержанием. В общих, так сказать, чертах. Так вы сможете прочесть?
— Да–да, конечно, — торопливо вскрывает конверт Валентин.
Разумеется, сможет, ведь доктор оказался настоящим мужиком. Человеком слова, а этого вполне достаточно для нынешних времен, когда не рекомендуется верить даже собственным глазам. Своим–то Валентин давно не верил, поэтому и доктору поверил не сразу.
— Осилишь книжку — прочтешь и другие, — всучил доктор Валентину совершенно потрепанную брошюрку, из которой посыпались на пол страницы, — спирт–то не забудь оставить.
Спирт Валентин стащил из палаты, после того как повесился на желтом галстуке Хвоста. Едва очнувшись, он снова чуть не задохнулся — на этот раз больничным смрадом и сразу увидел впившуюся ему в руку иглу, от которой тянулся прозрачный и тонкий шланг капельницы.
— На тот свет не терпится, а, дед? — прогудело откуда–то сверху.
Мелькнуло что–то белое, и Валентин увидел над собой врача — круглолицого толстяка в халате. Доктор улыбался, но в глазах его затаилось напряжение.
— Мне бы, — начал Валентин и закашлялся: горло с трудом и болью пропускало не то что слова — воздух.
— Спокойно, спокойно, — вцепился в его запястье доктор, и, чуть наклонив к пациенту ухо, уставился в потолок, словно рассчитывал не только прощупать, но и услышать пульс, — разговаривать нам пока рано.
— К глазнику бы мне, — прохрипел Валентин.
— Конечно, конечно, — рассеянно перебил толстяк, — вот только окрепнем, сразу к нему. У нас, кстати, славный окулист.
О глазнике Аврабие из тюремного госпиталя Валентин слышал и раньше. Отзывы о нем не отличались разнообразием: алкоголик, который закладывает прямо в кабинете. На увлечение глазника руководство госпиталя старалось не обращать внимания — из–за мизерной зарплаты, на которую не находилось охотников даже среди свежих выпускников мединститута. С пациентов же тюремным врачам брать было нечего: перед посещением госпиталя заключенных обыскивали с особой тщательностью, и даже у Пахана Македонского, которому (уж кому как не ему) было чем вознаградить эскулапов, даже мысли не возникало пронести хотя бы сигаретку в собственном заду.
— Херня! — махнул рукой Аврабий, наливая спирт из колбы, — как же, катаракта!
Он выпил залпом и, не закусывая — ничего напоминающего еду в кабинете не было — закурил.
— Специалисты сраные! Где тебе, дед, диагноз поставили? — гремел окулист, — во второй поликлинике? Доктор Штефанец? Как был бараном, так и остался! Как же, катаракта! Обыкновенная старческая пресбиопия! Как же, катаракта! — повторил он так, словно само это слово оскорбляло высокое звание молдавского врача.
— Даже если катаракта — тоже поможет, — успокоился вдруг доктор, — да у тебя, старик, и выхода нет. В твоем возрасте, да с такими легкими и сердцем, чем на операцию тратиться, лучше уж сразу гроб купить. Что, Штефанец заключения кардиолога не читал? Куда же я ее дел? — он стал рыться в выдвижных ящиках, — а, вот!
Брошюра, рассыпавшаяся в руках Валентина, как старый гербарий, называлась «Эффективное улучшение зрения. Быстро и без очков». Автором значился какой–то Бейтс, американский светило, как пояснил окулист.
— Все это чушь! В медицине мудаков не меньше, чем в тюряге, — громыхал Аврабий, а он и вправду громыхал, ударяя кулаком по столу, — не читай лежа, не напрягай глаза в сумерках, не читай в транспорте! Глаза — те же мышцы! Начнешь жалеть — зрение атрофируется. В общем, эта книженция для тебя — вроде Библии для монахов. Попробуй ослушаться — ад гарантирован! Если хочешь, дед, последние годы, или, кто знает, месяцы, провести не во мраке преисподней, который для тебя и так скоро наступит, придется подчиниться товарищу Бейтсу. Ну, будь здоров! — он снова выпил, и опять до дна.
В том, что у окулиста большие проблемы с головой, Валентин убедился, начав читать книжку не менее странного американца. Начал читать — громко сказано. Шрифт был настолько мелким, а умеющие летать листки — такими замусоленными, что своими глазами Валентин не различил бы и названия глав — а их напечатали куда более крупными буквами. Читал Валентину Индеец — один из одиннадцати сокамерников, смуглый молдаванин, действительно напоминающий то ли индейца, то ли мексиканца. Чтец из Индейца был такой же, как из Валентина — тот особо ценимый капитаном матрос, которому доверяют, за его ястребиное зрение, почетное право первым увидеть долгожданную сушу на горизонте.
Запинаясь через слово, Индеец то повторял одну и ту же строчку, то пропускал целые абзацы, а то и вовсе путал очередность рассыпавшихся страниц. И все же, вопреки стараниям неумелого чтеца, от мысли покончить с собой Валентин отказался окончательно. Единственный человек, которого бы он с удовольствием вздернул, был профессор Бейтс — занудный, как оказалось, садист, больше всего на свете ненавидящий полуслепых стариков.
«Пол–литра медицинского спирта за такое дерьмо?», недоумевал Валентин, вспомнив еще одного человека, которому самое место на одной виселице с Бейтсом.
«Если окажется, что все это чушь…», грозил неизвестно кому Валентин. Но другого выхода — в этом Аврабий был прав — не было, так почему бы и в самом деле не довериться не внушавшей ни малейшего доверия книжке? Разве в Библии больше правды?
— Ну что, все прочли? — торопит адвокат.
Он уже минут десять, как начал ежиться и вертеться на стуле, и у него синеет под ногтями: здесь, в комнате для встреч с адвокатом, она же камера допросов, никогда не бывает жарко. Поговаривают, в этих стенах, прихватив с собой бутылек и девочек, коротает знойные июльские деньки начальник караула, для чего в камеру специально заносят его личный кожаный диван.
— Немного осталось, — бормочет Валентин, тыча пальцем во второй абзац снизу.
Валентин и в самом деле застрял на предпоследнем абзаце, вот только читает он письмо, вернее, не совсем письмо Рубца, уже в третий раз. Он прочел бы его и пять, и десять раз, и не променял бы ни на какого Дюма, даже если бы Валентину сказали, что послание Рубца — последнее, что он читает в жизни. Ему хотелось разрыдаться — прямо здесь, в присутствии адвоката, и он еле сдержался.
Неужели дождался? Оно ли самое?
Пять лет Валентин ждал, если не объяснений, то хотя бы весточки от Рубца. Весточки и в самом деле приходили, но ясности они не добавляли, скорее наоборот. Трижды Валентин находил под матрацем конверт с кипой отпечатанных листков внутри. Не подписанные, письма эти, безусловно, принадлежали авторству Рубца, и Валентин не раз корил себя за опрометчивое невнимание, с которым он выслушал, вернее — пропустил мимо ушей отрывок из книги, прочитанный Рубцом в тот памятный день. Теперь эти главы приходили к Валентину целиком, но относился он к ним совсем иначе — также оказавшаяся в пустыне рыба относится к воде.
Касапу чувствовал себя разведчиком, ищущим нужный код среди вороха наполненных бредом бумаг. Он выучил письма наизусть. Он читал текст через слово. Читал по первым буквам каждой строки. Находил в последующем сообщении явный намек на предыдущее и наоборот. К моменту, когда он распечатал конверт с четвертым письмом, прибывшим в портфеле адвоката, Валентин больше года не тревожил порядком измятые листки, придавленные потайным камнем в стене.
Четвертое письмо безжалостно уничтожило загадку предыдущих — никаких кодов в них, конечно, не было. Но Валентин не жалел — сумел бы он обнаружить зашифрованное послание в четвертом письме, если бы не мучался над предыдущими тремя? Сомнений не оставалось — перед Валентином был код, и он его расшифровал.
Только вот если бы Валентина, как человека сведущего, спросили, на какую высшую гнусность способен Рубец, он поднял бы дрожащей рукой это самое четвертое письмо — три набранных на компьютере листка. Сравнивать Валентину было с чем: после дешевой медицинской брошюрки он прочел книг больше, чем за всю предыдущую жизнь.
Спасибо библии Бейтса!
Из нескольких имевшихся в тюремной библиотеки изданий Гулливера Валентин выбрал самый тонкий экземпляр: американский профессор настаивал на шрифте помельче. Касапу читал и чувствовал себя великаном, возвышающимся над мелкими, покорными лилипутами, а он и вправду читал книгу стоя и до тончайшей черточки видел каждую из микроскопических буковок. Вечерами, когда солнце стремительно, будто брезговало прикасаться лучами к решеткам на тюремных окнах, закатывалось куда–то за высокие стены, Валентин погружался во тьму вместе с ненавидимым прокуратором городом, и все равно его видел, несмотря на полумрак камеры. Вместе с князем Болконским он падал — нет, не на поле под высоким аустерлицким небом, а на нары у окна и яснее, чем когда–либо, видел небо Аустерлица, видел Болконского, видел Кутузова и Багратиона. Он видел эти и все остальные буквы, слова и предложения в каждой из прочитанных книг и готов был украсть для Аврабия цистерну спирта, только бы эта сказка не заканчивалась. Он с радостью прочел бы и графа Монте — Кристо, вот только Арсений Казаку — тихий сорокалетний ребенок, неизвестно за какие грехи сосланный в тюремные библиотекари, в ответ на просьбу Валентина шарахнулся, как от привидения, пробормотав что–то невнятное о списании фондов.
— Беднягу, наверное, кондратий хватил! — хохотал пахан Македонский, узнав от Валентина о странном поведении библиотекаря, — а говорят библиотекарь — самая безопасная профессия. Ты что, в натуре не знал?
Покрасневший Валентин лишь развел руками. И в самом деле, неудобно получилось. Но он и вправду не знал об этом суеверном табу, из–за которого ни в одной библиотеке ни одной тюрьмы мира не найти знаменитого романа Дюма.
— Эх, еще бы таблицу Снеллена, — вздыхал окулист, открывая флакон со спиртом, пропавший из процедурной.
С того дня, как Валентин повесился, здоровье все чаще беспокоило его, что, впрочем, никого не удивляло — Валентин был старейшим обитателем кишиневской тюрьмы. Он часто падал в обморок, и в госпитале, куда его каждый раз отвозили, регулярно пропадали сосуды со спиртом — обычно это происходило в процедурной и пару раз — в реанимации. Шуметь о пропажах никто не собирался: медики приписывали этот грех друг другу и молчаливо прощали коллег, в надежде, что в следующий раз простится и им. Валентин же, изображая облегчение так же достоверно как имитировал обморок, спешил в кабинет окулиста, который, узнавая старика по шарканью в коридоре, заранее напяливал на лицо сердитую маску, ликуя, тем не менее, в душе.
— Где же этого Снеллена взять–то? — озабоченно бормотал Аврабий, — впрочем, есть не хуже, — он ткнул пальцем на плакат на стене.
Это была таблица Сивцева — икона советской офтальмологии всех времен. Даже Валентину казалось, что она была всегда — все неполные восемьдесят лет его жизни.
— Держи, — протянул Аврабий свернутый в рулон плакат, — а я составлю бумагу, чтобы тебе разрешили.
Таблицу Сивцева, с выцветшими пятнами на лицевой стороне и пожелтевшими полосками лейкопластыря — на обратной, сокаремники Валентина повесили на стене, прямо напротив его кровати, так чтобы Касапу мог упражняться даже лежа.
Что он и делал трижды в день: поначалу с раздражением, а затем, когда отрицать успехи уже не имело смысла — с радостью собравшего, наконец, конструктор ребенка.
— Ша–бэ. Ы–эм–бэ-ша. И–эн–ша-эм–ка. Ка–эн–ша-эм–ы–бэ-и, — прикрывая ладонью то один, то другой глаз, повторял Валентин с таким старанием, словно произносил заклинание, после которого должно произойти чудо.
Оно и в самом деле случилось — чудо. Другого слова Валентин, хотя и прочел уже с десяток книг, подобрать не мог.
Зато мог выписать подробный рецепт.
Итак, закройте обеими ладонями глаза — так, чтобы пальцы перекрещивались на лбу, стараясь при этом не давить на глазные яблоки. Процедуру повторять раз в сутки после наступления темноты.
Вспомните несколько цветов на выбор — например оранжевый, зеленый, красный. Постарайтесь, чтобы ваша память воспроизвела их с максимальной яркостью, при этом не задерживайте внимание на каждом цвете более одной секунды. Уделяйте этому упражнению не менее пяти минут ежедневно.
Через зарешеченное окно посмотрите на белое облако в солнечный день. Закройте на несколько секунд глаза и снова посмотрите на облако. Закрывайте–открывайте глаза минимум десять раз в течение одной минуты. Не ленитесь делать упражнение каждый раз, когда судьба подарит вам солнечный день.
В положении сидя…
Продолжать Валентин мог долго и, если бы до него этого не сделал американский врач, наверняка написал бы книгу о том, как быстро и без очков улучшить зрение.
— Ноль пять — удивленно объявил окулист, взглянув на Валентина так, как зоолог — на неизвестное науке животное, — такого и у молодых–то не встретишь.
Аврабий отвернулся и замолчал, издавая при этом какие–то странные звуки — то ли носом, то ли горлом.
— Знаешь что? — глухо сказал он, — ты это… В общем, не надо больше спирта. Я тебя так лечить буду.
Повернувшись, он показал Касапу катящиеся по щекам слезы и, если ошалевшему Валентину не померещилось, улыбку бесконечно счастливого человека.
— Вы что, плачете? — спрашивает адвокат, и его лоснящееся лицо неестественно вытягивается.
Валентин быстро утирает слезу кулаком и отрицательно машет головой.
— Это его требование, — оправдывается адвокат, — я же сказал Николаю Семеновичу. Если у вас проблемы со зрением, мне не трудно зачитать. Но он настоял, чтобы вскрыли и читали вы лично. Вы, кстати закончили?
Валентин кивает.
— Есть вопросы, замечания?
Валентин разводит руками — какие, мол, еще вопросы?
— Так что, будем подписывать? — говорит адвокат и достает из внутреннего кармана пиджака ручку.
Валентин не в силах оторвать взгляда от кончика пера.
— Вам ничего не грозит, — заметив смятение Касапу, начинает убалтывать адвокат, — совсем наоборот.
Да–да, золотое перо. Неужели «Паркер»?
— …Ваше признание избавит общество от высокопоставленного коррупционера.
Валентин берет поданную адвокатом ручку, но разглядывает свою кисть. Он не хочет, чтобы адвокат заметил, как рука дрожит.
— …Да еще в органах внутренних дел.
Перебирает пальцами ручку, будто приручает. Может, и вправду гибель в спасении, а спасение — в гибели?
— …А вам Николай Семенович обязательно поможет. Как только станет депутатом.
Чуть не подбрасывает ручку вверх движением большого пальца. Было бы это так просто: орел или решка! Увы, в этот раз решает не жребий.
— …Вот выйдете через шесть месяцев, заживете прежней жизнью.
Шесть месяцев! Еще полчаса назад Валентин готов был ликовать: всего шесть месяцев! Но ведь старый шакал должен сидеть в норе, верно?
— …Да что прежней — лучше, конечно, заживете!
Рассеянным взглядом Валентин скользит по трем листкам на столе.
Чуть слышно вздохнув, резко заносит «Паркер» над головой адвоката.
***
Послесловие к неизданному
Сложная и необычная эта задача — послесловие к книге, которая не издана и вряд ли когда–нибудь будет издана. Более того, к книге, которая, по большому счету, не написана. Ведь, как справедливо отмечает автор этой загадочной книги, нет смысла вспоминать то, что никогда не найдут.
С чем же мы имеем дело? С мистификацией? Капризом автора? Или роковой цепью случайностей, сопровождавшей, как утверждает автор, судьбу его книги?
Как бы то ни было, а любой мало–мальски уважающий себя критик в рецензии на произведение, которому мы собираемся посвятить ближайшие 3–4 страницы, непременно попытался бы ответить на вопросы, не столько поднимающие его самого на качественно новую ступень в серой окололитературной массе, сколько обнажающие срез скрытых смыслов исследуемого материала, о которых, скорее всего, не догадывался даже автор. Современный рецензент будет, безусловно, прав, избегая безнадежно устаревших клише в оценке любого произведения, таких как: единство формы и содержания, художественная ценность и т. д. — тех самых, наиболее субъективных и неоднозначных категорий, оценка которых может несколько раз меняться с «плюса» на «минус» и наоборот в течение жизни одного поколения, не говоря уже об эпохах. Современной наукой доподлинно установлено, что единственными объективными критериями оценки любого литературного произведения являются: а) личность автора и б) обстоятельства создания — широкая категория, охватывающая целиком т. н. внешний фон — от социально–политических среды, в которой проживает автор до обстоятельств его личной жизни.
В нашем случае критерии объективной, а не умозрительной оценки произведения вырисовываются настолько рельефно и ярко, что вычленение ценности рецензируемой работы представляется процессом скорее техническим, нежели творческим.
Вот эти критерии:
а) Харизматичность личности автора
б) Цель написания работы
в) Неординарная судьба произведения.
Начнем с пункта а). Никого не удивил тот факт, что в течение нескольких лет Николай Семенович Мунтяну скрывал, что пишет книгу. Ни у кого не возникло вопросов и после того, как об этой книге, уже завершенной автором, так никто и не узнал, включая самых близких ему людей. В этом нет ничего удивительного, ведь автор — бывший вор, проведший в общей сложности восемь лет в заключении и оказавшийся на рубеже эпох одним из флагманов рыночной экономики в Молдавии.
Рыночной, как он сам любит повторять, во всех смыслах экономики. Отдадим должное остроумию господина Мунтяну, ведь с начала девяностых годов двадцатого века он является бессменным директором Центрального кишиневского рынка. А еще взглянем с другой стороны на его странное молчание и не будем поспешно списывать его на застенчивость графомана. Версия о том, что автор якобы испугался показаться смешным в глазах молдавского научного, литературного и бизнес–сообщества, также не выдерживает критики, разбиваясь об один–единственный контраргумент — сомнительный проект по защите кандидатской диссертации. Сомнительный даже с точки зрения таких сомнительных категорий как единство формы и содержания и научная ценность. Фактически его кандидатская диссертация является переводом с английского работы, изданной в США еще в 1986 году, что не помешало автору успешно защититься и даже издать на ее основе отдельную монографию тиражом в 10 тыс. экземпляров — беспрецедентный факт для специализированных научных трудов, изданных в Молдавии.
По всей видимости, источники загадочной книги Н. С. Мунтяну и не менее странного отношения автора к собственному труду нужно искать в другом. Как нам кажется, в сложной на первый взгляд комбинации двух приведенных выше критериев — а) и б).
И действительно, возможно ли найти другую, более очевидную цель написания данной книги, кроме попытки автора избавиться от груза собственной харизмы, раскопать, если хотите, второе и возможно настоящее «я» под толстым слоем стереотипов — как собственных, так и общественных? А может быть, справедливо допущение, что автор попытался избавиться от обоих своих актуализированных «я». Можно ли утверждать, что неизданная книга — манифест, яркий протест как против уголовника, вора, рецидивиста с одной стороны так и против бизнесмена, чиновника и общественного деятеля — с другой, хотя все эти ипостаси умещаются в одном человеке? Если следовать этой логике до конца, неизбежен вывод, что истинной целью неизданной книги являлось не обнаружение второго «я», а полная денонсация своего договора с обществом, поиск принципиально иного измерения, в котором возможна личность автора без ее непосредственного контакта с социальной средой. В пользу этой последней версии говорит и факт неиздания, а если быть до конца честным, ненаписания, хотя к этой, одной из многочисленных загадок книги, наиболее применим сомнительный тезис автора о роковой случайности.
Какой же вывод мы можем сделать, приняв за исходную гипотезу о книге как об избавлении автора от собственных так называемых реальных личностях? Любой третьекурсник филологического факультета с легкостью ответит на данный вопрос.
Да, перед нами роман. Роман, актуализирующий отказ личности от общественных ролей. Отдадим должное, помимо остроумия автора, его мужеству. Сомнительно, чтобы к моменту, когда замысел книги сложился окончательно, у автора имелось хотя бы смутное представление о возможности реализации личности вне общественной среды. Приступая к роману, автор явно подвергал себя риску, ведь ни для кого не секрет, что утеря собственной личности как общественной единицы чревато, при неблагоприятном развитии психологических процессов, гибелью личности в физическом смысле.
Но не будем перехваливать автора, тем более, что в одной из ненаписанных глав имеется недвусмысленная аллюзия на то, что автор, как минимум, сомневается в целесообразности разрыва своей личности с обществом.
«Пальцев одной руки много, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться», пишет автор и продолжает, «возможно, для моих «добродетельных» поступков понадобилась бы сороконожка, но, подбивая баланс этих чертовых добродетелей, я поднимаю правую руку вверх и говорю: «вот, смотрите, я готов отрубить себе палец с перстнем, и все равно оставшихся пальцев будет достаточно, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться. Поступки, за которые не пострадало больше одного человека».
Показательный фрагмент, не правда ли? А еще — запоминающийся, что избавляет вашего покорного рецензента от поиска надуманных объяснений. Такое сложно не запомнить. К счастью, у меня состоялось несколько бесед с автором, в ходе которых Николай Семенович любезно процитировал вышеприведенный и все остальные цитируемые здесь фрагменты. К величайшему сожалению, основная часть произведения не сохранились даже в памяти автора. И все же без этих бесед мы не приблизились бы к сути замысла романа, ибо ничто так ясно не актуализирует подсознание, как прямая речь.
В ходе наших с автором бесед, Николай Семенович нередко употреблял слово «добродетель», отчего создавалось ощущение, что в его рассказы, посвященные самым рутинным, так называемым жизненным ситуациям, вкладывается существенно более глубокий, даже сакральный смысл. Поначалу я списывал это его словоблудие (он действительно иногда путался в значениях слова и употреблял его скорее по привычке, чем к месту) на характерную для представителей уголовного мира суеверность и даже набожность. Впоследствии я пришел к выводу, от которого не отказываюсь и теперь: в нем говорил не уголовник, а бизнесмен. Но как точно он уловил историческую трансформацию добродетели! Не удивлюсь, если современное богословие обратит внимание на, пусть мимоходом сформулированное, но поразительно меткое определение.
К счастью, я хорошо стенографирую, поэтому воспроизвожу прямую речь автора слово в слово (диктофоном воспользоваться не удалось из–за запрета службы охраны Н. С. Мунтяну):
«Добродетель… Что, черт возьми, понимают под этим словом? Мы будто забыли, в какие времена живем, и, что за поступки, за которые раньше убивали, чтобы причислить к святым, теперь просто убивают. Не может директор рынка думать о добродетели как об абстрактной, а уж тем более, филантропической категории. Добродетель сегодня — категория экономическая. Никаких эмоций, сплошной расчет. Никакого самопожертвования, ведь за тобой, словно шлейф, потянутся другие жертвы — те самые люди, что связали свои планы с твоими.
Уместна ли добродетель, грозящая серьезными рисками? Добродетель в бизнесе — это либо рациональный расчет, либо вынужденная мера. Любое проявление эмоциональной, или, если мыслить должными, то есть экономическими категориями, добродетели не–це–ле–со–об–раз-ной (он произнес это слово именно так, по слогам — прим. рецензента), наказуемо, и это необходимо помнить любому, самому мелкому бизнесмену, не говоря о директоре центрального городского рынка.
Интересуетесь, какую цену можно заплатить за нецелесообразную добродетель? Полмиллиона? Миллион? В леях, в евро? А рынок целиком не хотите? Вам не кажется эта плата чересчур суровой? Мне тоже, только легче от этого не становится».
Должен предупредить, что передо мной не стояла задача подтвердить или развенчать упорно циркулировавшие слухи о том, что господин Мунтяну утратил прежнее влияние на возглавляемый им рынок. Главный вывод, который я сделал для себя из бесед с автором — даже если это, безусловно печальное для него событие и имело место, его значение для переосмысления традиционного понимания добродетели невозможно переоценить.
Позволю себе привести еще один, достаточно пространный фрагмент из монолога автора:
«Вот вы (это он мне — прим. рецензента) пишете рецензию к моей книге. А знаете, почему авторы обычно не возражают, чтобы комментарии размещали в конце, а не в начале книги? (я вопросительно пожал плечами — прим. рецензента). Нет, согласитесь, это логично — предварить книгу своего рода предупреждением, подготовить читателя к адекватному восприятию текста (я снова пожал плечами — прим. рецензента). Видите ли, есть особое авторское удовольствие — представлять, как, прочитав роман, пролив слезы над страданиями благородных героев и вознегодовав от вероломства негодяев, читатель, дойдя до комментариев и уже готовый обрушить свой гнев на жестокосердечного писателя, вдруг узнает в нем душку, наивного романтика, на долю которого выпало немало испытаний — желательно, чтобы в их числе были безвылазная нищета, или брак с невыносимой стервой, или зависть коллег, а лучше — все вместе. Читатель невольно проникается жалостью — на этот раз к писателю, оказавшемуся благороднее самых благородных из его героев, ведь ему приходилось страдать вдвойне: от собственных житейских неурядиц и от страданий им же придуманных персонажей.
Между прочим, мало кто задавался вопросом, склонен ли автор к чувству вины. Нет, я не о литературе вообще — хочется верить, что многие писатели искренне страдают от результатов своего творчества. Я о своей книге. Правда, никто ведь и не задумывался? И не возмутился: мол, директор рынка, где каждый день происходит масса нарушений, где правят несправедливость, обвес, махинации, подтасовки, обсчет, где жуткая антисанитария, наконец. Неужели ему не стыдно? Никто ведь и не думал. Впрочем, это неудивительно. Никто ведь эту книгу пока не читал. (он закурил — прим. рецензента).
Меня и в самом деле не отпускает чувство вины. Ибо, как учили древние, виновен каждый человек и прежде всего — перед самим собой. Не может волк работать санитаром, как бы упорно люди не награждали его этим титулом. У рынка рано или поздно будут проблемы, если его директор излишне добродетелен.
Знаете, я часто думаю, стоит ли человек, ради которого совершается нецелесообразная добродетель, стоит ли он ее, этой добродетели? И как не пытался я разжечь в своей душе костер ненависти, ответить определенно у меня не получилось. Зато я понял, хотя и с опозданием, почему такая добродетель становится нецелесообразной.
Нет, не потому, что ты не все рассчитал. Ты можешь рассчитать все на новейшей компьютерной программе, собрать совет из наиболее приближенных тебе людей и получить их единогласное одобрение, ты можешь даже заказать персональный астрологический прогноз, и даже если он тебе благоволит, ты все равно не все просчитал. Просчитать все нельзя. Невозможно заранее знать, готов ли объект твоей добродетели к твоей добродетели. И не важно, еще ли он не готов, уже не готов или вообще не готов. Сам факт того, что он не готов, и делает твою добродетель нецелесообразной. Ты проигрываешь в самом начале, но узнаешь об этом, когда ничего изменить уже нельзя.
Волк не виновен в том, что ему хочется кушать. Я же виновен, ибо нет никакого оправдания директору рынка, от добродетельности которого страдает не только он, но и сотни людей, поверивших ему и связавших свои планы, свое дело, свои, наконец, деньги с его предприятием. Как назвать такого человека? Праведником? У меня язык не повернется».
Я как сейчас помню свои ощущения. Именно после этой, довольно продолжительной тирады, меня, словно молния, пронзила мысль: эта книга — жертва. Это — роман–искупление. Или, если пользоваться более актуальными категориями — откуп. Это — актуализация его третьей, «нецелесообразной» личности, но актуализация отнюдь не «нецелесообразная». И книгу он написал для того, чтобы избавить первые две свои личности — криминальную и деловую, от необходимости совершать «нецелесообразные» добродетели. Увы, но, похоже, что иные возможности сохранения общественных личностей человека, а заодно с ними — и личностей «нецелесообразных», в сегодняшнем мире исчерпаны. Так вот, роман Н. С. Мунтяну — сам по себе «нецелесообразная» добродетель, искупительная, повторимся, жертва.
Нетрудно заметить, что критерии оценки произведения, если, конечно, подразумеваются истинные, а не архаичные критерии, тесно связаны друг с другом, вытекают один из другого. Цель написания произведения не может не быть обусловлена личностными характеристиками автора, и в то же время жизнь автора претерпевает изменения, обусловленные книгой, цели которой определены им в полном соответствии с особенностями своей личности.
В этом смысле судьба рецензируемой книги показательна, как никакая другая. Обратившись к пункту в) условленной критериальной схемы, мы рискуем сделать поспешный вывод о том, судьба, уготовленная книге Н. С. Мунтяну, и есть ее главная цель. Не поддадимся обману рекламного мышления. Книга погибла не для того, чтобы обратить на себя внимание.
В приватной беседе с вашим покорным слугой автор обмолвился, что роман сгорел случайно, якобы был забыт в папке с предназначенными к ликвидации финансовыми документами. Три главы из двенадцати уцелели якобы потому, что автор зачем–то отвез их домой, по его же словам, для доработки. Остальные девять глав безнадежно утеряны, и, несмотря на мои настойчивые просьбы, Н. С. Мунтяну не просто не пролил света на несохранившиеся части, но и настоял, чтобы, за исключением трех глав, которые мне до сих пор так и не посчастливилось прочесть (хотя автор утверждает, что, кроме него самого, эти главы прочел еще один человек), в этой и во всех последующих рецензиях произведение называли не неизданным, и даже не погибшим, а ненаписанным.
От себя добавлю — и непрочитанным. Что, безусловно, осложняет задачу рецензента, но в то же время максимально ограничивает фактор субъективности. В нашем распоряжении ровно те критерии, которые необходимы для беспристрастного анализа романа: а) личность автора, б) среда написания и в) судьба произведения. Текст романа оказывается не просто необязательным, но нежелательным критерием — он может понадобиться для оценки личности рецензента, но никак не романа.
Истинная причина гибели романа Н. С. Мунтяну представляется настолько очевидной, что вызывает недоумение тот факт, что версия автора о случайном воспламенении до сих пор принимается на веру, без малейшего скепсиса. Возьму на себя смелость утверждать, что знаю, как именно погиб роман.
Во время одной из наших с ним бесед, автор продемонстрировал мне необычное изобретение — ручку «Паркер». На вид ничего особенного — обычная ручка, если, конечно, такое определение применимо к «Паркеру» с золотым пером. Удивление вызвали два конструктивных момента: во–первых, перо, действительно золотое, но необычайно острое, к которому невозможно прикоснуться без риска порезаться; во–вторых — съемный колпачок ручки, с незаметной встроенной зажигалкой. Действие последней господин Мунтяну регулярно демонстрировал вашему покорному слуге, прикуривая прямо от «Паркера».
«Способ борьбы с недобросовестными бумагами», сказал он, заметив мой недоуменный взгляд и пояснил: «если контракт, который мне предлагают подписать, меня не устраивает, я всаживаю перо «Паркера» в шею партнера, а контракт сжигаю, воспользовавшись колпачком–зажигалкой. Впрочем, если с документами все в порядке, «Паркером» можно пользоваться более традиционно. Подписав контракт, например».
Тогда я оценил несколько мрачноватый юмор собеседника, но сегодня могу с уверенностью сказать: «я знаю, кто и чем поджег роман». Протыкать себе шею пером–лезвием автор не стал, наверное, потому, что целью было уничтожение не автора, а романа. А ведь все так просто: роман остается «нецелесообразной» добродетелью до того момента, пока не превращается в продукт. Вероятно, автор оценивал коммерческий потенциал своего произведения так высоко, что сжег его до того, как роман прочтет еще кто–то, кроме него самого. Ну и того второго неизвестного.
Три сохранившиеся главы — это доказательство того, что роман был. Для чего оно автору, точно ответить трудно, но можно предположить, что это своего рода напоминание самому себе, специально для случаев, когда «нецелесообразная» добродетель не дает покоя первым двум личностям автора.
«Будь разумен», как бы предостерегают эти главы и напоминают: «Ты уже заплатил по счетам. Вот они мы, доказательство твоей «нецелесообразной» добродетели». Оно и верно: жить с осознанием выполненного долга куда как легче.
Вот, пожалуй, и все. Роман, который поверг бы в безвылазный ступор любого анахроничного литературоведа, при анализе методом современной критериальной триады, предстает в качестве логичного и даже несколько заурядного произведения. Это неудивительно, ведь в понятие заурядности господин Мунтяну не вкладывает никакого негативного смысла. Во время последней нашей беседы он вдруг начал вспоминать детские годы и, в числе прочего, рассказал удивительно красивую сказку, которую услышал от своего деда.
«К чему это вы?», спросил я его, не поддавшись опьянению красотой.
Поразительный человек — ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже не подал вида, что оскорблен моей попыткой свести самодостаточное великолепие сказки к банальному поводу для перехода на нужную рассказчику тему.
«Не знаю», ответил он, и я — честно — сразу ему поверил.
«Возможно», продолжал, впрочем, он, «в том, что двум незаурядностям не ужиться вместе? Не лучше ли было для обоих, чтобы шакал не показывал носа из норы, а волк сам доставлял бы ему пищу, что называется, на дом?».
Возможно, я ищу черную кошку в той темной комнате, где ее нет, но не могу избавиться от мысли, что странная сказка и не менее странное замечание рассказчика как–то связаны с его романом. Хотя, скорее всего, это мои домыслы, неизбежные подозрения человека, который, что называется, зациклился. А может, мне просто хочется, чтобы во всем, что касается романа, была хотя бы одна загадка, не поддающаяся разрешению?
Как бы то ни было — судите сами.
***
Волк и шакал.
Давно, но не давным, в старину, но не в седую, в лесах, но не в дремучих, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом, в том самом месте, где сейчас Молдавия, объявился шакал. Как так, удивились люди, сроду не слыхивали о таком звере, а тут на тебе — рыщет у самой деревни, как в собственных владениях. И все бы ничего, да стали замечать зверя то с беличьей шкурой, то с заячьими ушами, а то и с фазаньими перьями в зубах.
Эге–ге, переполошились люди, да ведь это хищник! Того гляди, повадится кур да гусей таскать, а то и, страшно подумать, на овец со свиньями позарится. Поразмыслив основательно, но так чтобы не опоздать, решили хищника изловить, снарядив охотников самых проворных, метких да смелых.
Не долго, но и не коротко, а ровно столько, сколько понадобилась собакам, чтобы напасть на след, вышли охотники на тропу шакала, и занялась погоня. День гонятся охотники, догнать не могут. Второй гонятся — догнать не могут. И третий гонятся, и пятый день, а шакал знай себе бежит да пожевывает: то белку, то зайца, а то и фазана — и с новыми силами еще прытче от охотников удирает. Уже собаки языки свесили, пар выдыхают да жалобно поскуливают. Так ведь и у охотников ноги заплетаются да ружья из рук валятся, того и гляди, обратный путь домой не осилят.
Как вдруг — вот удача — застыли охотники, глазам своим не верят, даже дышать перестали — словно птицу счастья боятся спугнуть. Присел шакал в кустах, уши свои шакальи прижал, голову в траву спрятал, сидит, спину во всей красе охотникам показывает. Подкрались к зверю охотники, тише мышей амбарных, прицелы на шакала навели, чтобы уж наверняка, как вдруг…
Господи, помилуй, господи помилуй! Закрестились охотники истово, да назад попятились, шурша травой и хрустя ветками, забыв начисто про осторожность всякую, про шакала, да про погоню свою утомительную.
Матерь божья! Волк! Да какой — не маленький и не большой, а здоровенный, точно медведь! Шерсть густая, торчком, глаза острые как кинжалы, пасть огромная — человеческая рука целиком уместится. Собаки не то что лаять — скулить не решаются, позади шакала в траве схоронились, уши к голове прижали, посматривают на волка осторожно, но не без зависти. А волк господином стоит на полянке, зайца рвет — по–хозяйски, не спеша. Поел, осмотрелся, и двух шагов ему хватило, чтобы раствориться в чаще. А шакал голову поднял, на полянку юркнул, кишки заячьи подобрал и дальше по следу волчьему побежал.
Эге–ге, только и пробормотали охотники, как только речь к ним вернулась. На карася мы грешили, а тут вон какая щука. Придется еще за шакалом побегать, да не губить проклятого, пока на волка не выведет.
День гонятся охотники — шакал знай себе удирает, а волка все не видать. И второй день в погоне проходит, и третий, и пятый. И хлеб весь уже съели охотники, и воду всю выпили, да все ягоды с кустов пообрывали, а собаки, кажется, рады бы и кишки заячьи да шкуру беличью после волка сожрать, да только шакал прытче псов измученных, псов исхудавших.
Эге–ге, сказал тогда старший из охотников, и остальные потупились, соглашаясь — да, упустили мы волка, не видать больше зверя лютого, пока, избави Боже, на дома наши не набредет. Не успели горю своему как следует предаться, как видят — присел шакал, притаился, родимый, ушки свои шакальи к голове прижал, на полянку поглядывает — облизывается, хотя и дрожит. Откуда только силы у охотников взялись — словно Господь наш всемогущий вдунул в них духа больше, чем в остальных смертных.
Бах! Бах–ба–бах, бах, ба–ба–ба–бах!
Рухнул волк замертво, даже удивиться не успел — какие это наглецы посмели на него, царя лесного, стволы поднять. Псы охотничьи, слуги верные, уж на что раньше людей в охоте разуверились, и те с остервенением вцепились в волчару убитого, стали его, еще кровью и паром исходящего, на куски раздирать.
И был праздник в деревне, и пили люди, и ели, и плясали семь дней и семь ночей во славу храбрецов–охотников. И сделали столб высоченный, и подвесили на самый верх его тушу волчью — для острастки, чтобы каждый зверь лесной обходил деревню стороной, по добру, по–здорову.
А что же шакал? Как засвистели над головой его шакальей пули, припустился он с перепугу, да бежать куда глаза глядят. И мчался, не оглядываясь, пока слышались крики охотников, да лай собак. А как стихло все, отдышался шакал, облизал бока, да спину распрямил, сообразив: а ведь теперь я, шакал, и есть царь лесной. И все белки мои, и зайцы, и фазаны. Да не кишки, не головы, и не перья только. Мясо! Мясо нежное, горячее, свежей кровью брызжущее. А то, глядишь, и до кабана доберусь.
Так думал шакал своей головой шакальей, и сердце его радостно трепыхало, воспылав благодарностью к людям с ружьями — освободителям от ига волчьего. Это ж надо, всю жизнь падалью побирался, не мог успокоиться шакал, дрожа от ненависти к убитому зверюге.
Ох, теперь–то наемся, ох и от брюха, нетерпеливо думал шакал, завидев трусящего по лесу зайца. Припустился за косым — да куда там! Только пошел плутать за зайцем меж деревьями, как вдруг — шмяк носом. Пенек!
Лежит шакал в траве, лапой подергивает, глазами помаргивает, вместо морды у него сплошная рана кровавая. Лежит, собирает вылетевшие из головы мысли шакальи. Что за заяц такой попался, думает шакал, такой и волку, небось, не по зубам. Поскулил он, нос разбитый зализывая, как вдруг видит — бельчонок. Крохотный, несмышленный. Ладно, решил шакал, шут с ним, что мясо мало, потом найду и пожирнее. Главное — весь лес мой! Кого поймаю, того и заломаю! Кого захочу, того и проглочу! А начну с бельчонка малого, бельчонка несмышленного. Поплатиться за свою глупость, да что поделать — есть смерть как охота! Подкрался шакал к бельчонку, да как прыгнет! Шмяк о сосну, а бельчонок уже на ней, на ветке покачивается, да на шакала скулящего испуганно поглядывает.
Ох и больно! Ох и напасть–то! Ворочается шакал под сосной, траву подминает, да криком горьким лес оглашает. Скулит так, что все звери лесные затихли, да попрятались: мало ли что, думают, кабы и с нами какой беды не стряслось.
А через месяц зашевелились, захрюкали заросли лесного шиповника — то кабан дикий пришел спелыми ягодами полакомиться. Ест кабан жадно, чавкает так, что далеко слыхать — по вкусу ему ягоды лесные. Как вдруг: уииии–уиииии–уииииии!!! Завизжал кабан, и пустился наутек, бежать со всех лап своих кабаньих.
Смерти заглянул кабан в глаза и с тех пор обходил стороной кусты шиповника, чтобы вновь не увидеть то, что от страха чуть не разодрало сердце его кабанье — пасть шакалью, щелкнувшую зубами перед самым пятаком.
Не узнал кабан и никто из животных лесных и людей деревенских, что в самый последний раз клацнул тогда шакал зубами и издох окончательно, там же, под кустом шиповника, исхудавший и измученный, проклявший охотников метких, зверье резвое, неподатливое да судьбу свою шакалью несчастливую.
Так давно, но не давным, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом там, где рай небесный соединяется с адом кромешным, исчезли и волки, и шакалы.
И с тех пор исчез страх из сердец молдаван и в лес они и по сей день ходят не с ружьями, а с бочонком доброго вина — отдохнуть от трудов праведных.
А если и встретят какую–нибудь зверушку — так и на ту как на чудо заморское глядят. Будь то заяц косой, белка пушистая, а то и фазан с радугой вместо хвоста.

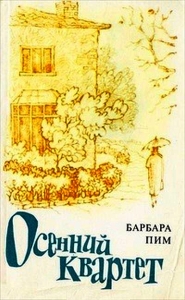

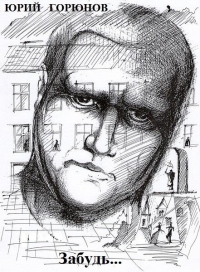


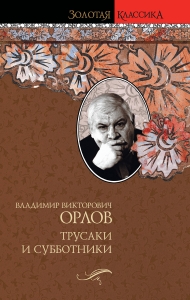

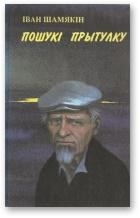
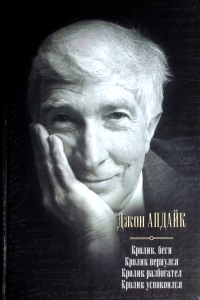

Комментарии к книге «Старость шакала[СИ]», Сергей Вячеславович Дигол
Всего 0 комментариев