Леонид Бородин Киднепинг по-советски
Детали этой истории по некоторым причинам и сегодня не могут быть оглашены. Но, восстанавливая события, если я и допустил импровизацию, то исключительно в деталях.
Рассказ
1
Игорь Смольников считал, что жить можно, и был прав, потому что жил.
Он был дважды и трижды прав, ему было с чем сравнить, потому что однажды то самое, другое, что есть «не жить», в натуре нарисовалось ему своим хамским оскалом. Более того, Игорь знал, и опять же по личному опыту, что не жить, это не всегда означает — умереть. К примеру, жить в степи, но всю жизнь тосковать по горам, по сути — издыхать в тоске по иному, недоступному вообще или просто от лени и трусости сделать шаг навстречу… Впрочем, когда таким образом рассуждал или думал, то полагал, что в основании тоски больше самого обычного вранья, чем тоски как таковой. Есть же тип людей, которые живут и скулят всю жизнь, и скуляжом другим, кто рядом, жизнь отравляют. Личный опыт, если он, как говорится, принят во внимание, — великое дело.
Имея по отцовским связям шикарный блат, с треском провалился он при поступлении в Автодорожный институт, так провалился, что никакой блат не помог. То-то был позор. Катастрофа! Честолюбивому своему папаше-работяге на глаза показаться не мог. В городишко, где все все о всех знают, пути заказаны. Ремесла в руках никакого. Болтался по столице, глазел на людей, которые все при жизни и при деле, завидовал, издыхал и гнил. Предкам задвинул туфту, что, мол, решил сперва жизнь познать, попахать вусмерть, а потом уже… и так далее… Мать, плакальщица-идеалистка, поверила, посыпались письма с ахами и причитаниями. Папаня, тот нет! Не поверил. И молчал. Его молчание, пожалуй, было побольнее материнских слез.
Тут-то и покатился, покатился… Даже не так — спрыгнул, как в яму, сразу на самое дно. На жратву и бормотуху зарабатывал на вокзалах. Когда не хватало, скидывался на троих, когда хватало — за троих на одного. Кантовался при общежитии института. Выследили, выперли. Приятели бомжы вывели на ночлежку по полтиннику за ночь. Когда на лацкане пиджачка поймал первую вошь — разрыдался, соплями поизмазался. И был уже не Игорь Смольников, а Игорек и никак иначе. Насобачился в электричках обдирать лохов в очко. Не зарывался, ограничивался трояком, самое большое — пятеркой, потому под хипеж не попадал. И вообще ни в пьяном, ни в трезвом виде не бузил, просто тихо гнил себе не в радость и не в горе…
После, когда все это кончилось, не раз пытался доискаться до первопричины падения и, кажется, убедил себя в том, что падения, собственно, как такового вовсе не было — эксперимент над собой поставил на предмет отпускания вожжей и только. Ведь в сущности сколько это длилось? Чуть более трех месяцев. На фоне уже прожитой жизни в девятнадцать лет и, тем более, в сравнении с тем, что еще впереди, мгновение, которое запросто не в счет. И все бы в приговоре проклятому прошлому было чисто и логично, если бы не одно обстоятельство, которое, как ни крути, так и просилось именно в счет. Не собственной волей выкарабкался Игорь Смольников, бомж, картежник и пьяница, из ямы, попал в которую зато, увы, исключительно сам! Конечно, теорию экспериментального падения можно было бы подпереть этаким бревнышком, дескать, не будь воли к жизни, никакие обстоятельства не помогли бы… Но обстоятельства были и помогли.
Игру в очко Игорь освоил за месяц в колхозной обязаловке, когда их десятый класс на весь сентябрь был отправлен на уборку картофеля, турнепса, моркови и прочих даров полей. Но с овощей Игорь слинял уже на третий день по прибытии в колхоз, пристроившись грузчиком на МАЗ, тоже откомандированный на уборку аж из другой области. Здоровьем Бог его не обидел, мускулы нарастил сам — взялся один нагружать и разгружать бортовую вместо двух дохляков, которые истекли жалобами на перегрузку. Намахавшись изрядно лопатой у зернопогрузчика, можно было завалиться после в теплое зерно и балдеть полтора часа — семьдесят километров до элеватора. Потом опять отмашка в несколько потов и опять балдеж на ветерке. Два часа обед. После обеда еще два рейса — водила в стахановцы не выбивался, и как на него ни наседали, три рейса в день — и отвалите!
Только что, в августе, Игорь получил водительские права, с отцовским «москвичом» управлялся, как с велосипедом, и тут, однажды выпросив баранку, продемонстрировал водиле очевидные способности. Через неделю водила вчистую обнаглел, поддавать начал, за баранку садился лишь близ пунктов назначения, благо по пути ни ГАИ, ни переездов, степь да степь кругом, несколько деревень проходом — тут главное — кур да гусей не передавить, а так — знай жми на железку!
Этот месяц обернулся Игорю праздником. Водила забрал его из команды на свой постой в красный уголок колхозной бригады, где все свободное время они валялись на матрасах и резались в очко. Сперва за так, потом, когда Игорь вполне овладел технологией психологического давления на противника, а в этом он преуспел к явной досаде учителя, в ход пошли рубли, правда, только рубли — фактически они просто перекочевывали из кармана в карман, и из-за весьма ограниченного их количества ни один, при всем желании и умении, обогатиться не мог — сплошной понт, а не игра.
Поскольку водила обучил Игоря еще и двум-трем шулерским приемам, то понятное дело — когда в дни своего «падения» он обнаружил пристрастие населения пригородных московских поездов к изничтожению проездного времени посредством всесоюзно известного «очка», то пройти мимо такого средства обогащения не мог. В кратчайшие сроки установил, что дачники охотнее подсаживаются к колоде утром, когда едут «туда», а работяги наоборот, когда возвращаются с работы. Что в электричках киевского направления игра идет крупнее, чем курского или ярославского, а по савеловскому только время терять. Что, если нарвешься на себе подобных, они, как правило, парами работают, лучше, судьбы не искушая, проиграть и оторваться. Что в поисках клиентов менять следует не вагоны, а электрички. Когда напрочь и принципиально отказался от погрузо-разгрузочных калымов на вокзалах и, возгордись искусством своим и изяществом стратегии, с присущей ему во всем самонадеянностью переключился на «очко», тогда-то и случилось то самое, что впоследствии и было обозначено им как некое обстоятельство, сыгравшее известную роль в процессе душевного возрождения.
Не вычисленный вовремя ханыга-одиночка так толково работал под служаку нижнего звена, что Игорь наглухо потерял бдительность. Подкидную карту тот отскребал от лавки ногтем и совал в кулак сбоку, пыхтел, ерзал и ревниво озирался, высмотрев подбор, карты свои разве что под задницу не совал, выигрывая, сиял, проигрывая, растерянно хлопал длинными рыжими ресницами и суматошно шарил по карманам в поисках рублевика. Хотя личное амплуа Игоря было несколько иное, он канал под разнорабочего (на большее не позволяла поистрепавшаяся одежонка), приемами они копировали, как дразнили, друг друга. И это совпадение не насторожило. Лишь когда после очередной сдачи у ханыги на руках оказалась масть, которой никак не могло быть, Игорь встревожился, слишком поспешно вышел из игры, а на первой же остановке — из электрички. И опять был прокол; не заметил, что вышел не один. Утренняя пивоопохмелка погнала его на поиски туалета или хотя бы в меру тенистой аллеи. На подходе к аллее у глубокой канавы-обочины его и нагнал конкурент.
— Ну, ты, фраер неписаный, пера хочешь? — услышал Игорь со спины и обернулся.
Ханыга ощерился двумя рядами гнилых зубов, а в руке штыком нож-самоделка из плохой стали, скорее всего, из ромбичного напильника, по форме и вправду похож на гусиное перо.
— Сявка! — буркнул Игорь пренебрежительно и кулака пожалел, излюбленный для всякой прочей мелкоты прием — локтем под челюсть, от чего, как правило, короткий шок, достаточный, чтоб добить или обезоружить. Но так должно быть, когда в форме, когда три раза в неделю по три часа секция самбо, каждое утро гантели, каждый вечер перед сном бег вокруг свалки пятиэтажек. Но если что ни вечер — бормотуха, а с утра пивцо с тухлятинкой, откуда взяться чистоте приема! Гнилозубый только хрюкнул изумленно, рука же его с пером метнулась на встречу с бедром противника, и что встреча не состоялась — заслуги Игоря в том почти не было. Поскольку боком стоял, левой рукой, как положено, ни отбить, ни перехватить перо не мог, правой дернулся, поймал пальцы ханыги вместе с частью лезвия, при развороте ноги заплелись, и он повалился на спину, забрызгивая кровью свои единственные, более или менее приличные брюки. Тогда-то вот и подступил к зрачкам образ того самого — «не жить», перо уже прощупывало подреберье, препятствие — ладонь. Что за препятствие! Игорю казалось, что лезвие вот-вот рассечет ее пополам, боли не чувствовал, потому что уже предчувствовал другую боль, смертельную, непереносимую, спасение от которой только в небытии. Падая, свою левую подмял под себя, а левая рука ханыги уже выдавливала ему глаза и рвала ноздри. Был то миг возмездия за измену жизни — и такая мысль успела прошвырнуться по извилинам в то, в сущности, короткое мгновение, менее минуты, когда «не жить» зависло над ним и заслонило небо.
Закончилось все как в сказке, по закону чуда. Ханыга вдруг оторвался от него и улетел. А к позорно поверженному Игорю склонился мужик с рыжеватой бородкой и усами, в потертом джинсовом костюме.
— Жив?
— Вроде…
— Вставай! — И подал руку.
Ханыгу Игорь увидел в канаве-обочине. Он уже стоял на ногах и оттуда, снизу, беззлобно грозил им обоим пером.
— Топай! — прикрикнул на него мужик, и тот послушно потопал вдоль обочины в сторону перрона. Мужик пошарил в карманах, достал платок, не шибко свежий, и принялся перевязывать Игорю ладонь.
— Как же ты поддался, — ворчал он, — с виду не хиляк. Повезло, что мне в кусты приспичило.
Теперь Игорь присмотрелся к нему и определил, что не «мужик». Лет, во-первых, не более тридцати, интеллигент, в том не ошибешься, наверняка дачник. Чуть отдаль увидел битком набитую хозяйственную сумку, отнюдь не брошенную второпях по причине срочного спасения погибающего, но заботливо прислоненную к телеграфному столбу. И в том усмотрел некую исключительно положительную характеристику своего спасителя, чему даже позавидовать можно, если сформулировать…
— Глубокий порез. В больницу бы надо. Ты здесь живешь или как?
— Никак. Тоже в кусты приспичило.
— Спасибо, что напомнил.
Повертев шеями, оба обособленно друг от друга пообщались с кустами одичавших акаций.
— Больницы здесь нет, это точно. Медпункт, может, и есть, но где? — Не слишком доброжелательно покосившись на Игоря, проворчал: — Ну, ладно, пошли ко мне, йод и бинты где-то должны быть. Один вопрос и чтоб без обиды. Что не блатной, сам вижу. А вот на домушника похож…
Подумать только, за вора приняли, а он и не обиделся, головой помотал, бормотнул невнятно.
— Вроде как бичую. Временно. В институт провалился.
— А, вот так! Понятно. Сочувствую. Для молодого советского человека истинная трагедия.
Юморок Игорю не понравился.
— А для несоветского праздник, что ли?
— Возражение принимается. — И руку протянул. — Аркадий. — Спохватился, вспомнив о ранении, по плечу хлопнул. — Игорь, значит? Или Игорек? Нет? Ну и добро! Пошли!
Долго петляли проулками. Игорь плелся сзади и чувствовал себя приблудной немытой дворнягой. После затяжных октябрьских дождей в первые дни ноября словно лето вернулось. В тени двадцать, на солнце — хоть загорай. И было то очень кстати. Свой плащ Игорь по пьянке где-то так замазутил, что носить его можно было исключительно ночью, ибо ночью не только все кошки серы, но и все плащи, будь они многажды замазучены. Пиджачок же был еще ничего, хотя выборочно тоже приобрел оттенки, текстильщиками не задуманные. Теперь вот брюки испохабил. Если б стирануть в холодной воде, спасти еще можно.
От дачных гнезд пахло уютом и житейской устойчивостью. То слева, то справа с дачных заплотов на тропу свисали гроздья черноплодной рябины, отчего-то не востребованные хозяевами участков. Собаки добросовестно отрабатывали свои служебно-сторожевые пайки. Над головой вороны выясняли свои вороньи отношения. Дачники копошились в земле. Дети качались на качелях и в гамаках. А солнце в небе щедро освещало и освящало мир живущих, в котором Игорь чувствовал себя явившимся из мира теней — вот уж обидно-то! И послушное ковыляние за внезапно объявившимся доброжелателем казалось куда более унизительным, чем дни и месяцы бичевания, потому что — захотел и забичевал. Хочу — живу, хочу — помираю. И ничьи пятки перед глазами не мелькают. А сейчас вот, как головой ни крути, в метре стоптанные кеды шарк-шарк, и в ритм их шарканью пульсирует боль в порезанной ладони, да все сильнее и сильнее, и кровь через платок тоже, кажется, капает ритмично на вязки-шнурки запыленных штиблет.
Дачка оказалась не ахти какая, а хотелось, чтоб была именно «АХТИ!», тогда можно было бы возгордиться пролетарством и спокойным презрением откликнуться на прихоть барского милосердия и тем сравняться и сохранить достоинство. Но и домик, к которому они, наконец-то, притопали, и крохотный палисадник, аккуратно огороженный пилорамными отходами, и крылечко со следами недавнего и не шибко профессионального ремонта — короче, вся картинка словно мордой о плетень тыкала и укоряла, что, мол, вот тоже не при излишках люди живут, но до скотства не опускаются. Аркадий забарабанил в дощатую дверь, она раскрылась, и появился еще один, такой же при бороде, только без усов и темномастный. Увидев за спиной Аркадия чужого, округлил и без того шароподобные зенки.
— Со мной. Подробности письмом, — сказал Аркадий, пропуская Игоря вперед. И тут же в сенях с откровенной торопливостью завернул его от входной двери в бездверную застекленную террасу. Усадил на топчан — скамейку и попросил-приказал чернобородому отыскать на какой-то хозполке аптечку. Потом они оба, мешая друг другу, обрабатывали рану йодом, категорически запретив Игорю стонать и «рожи корчить», неумело перевязывали ладонь, израсходовав столько бинта, что его хватило бы на полную санизоляцию обеих рук. Притом будто так, между прочим, устроили сущий допрос на предмет биографии. Особенно изощрялся тот, другой — Илья, все с какими-то подковырками, и Игорю приходилось не просто отвечать, но и словно оправдываться в чем-то, что-то доказывать, что он вовсе не такой-то и не такой-то, в общем, что не чемодан. К концу перевязки-допроса Игорь заподозрил, что нарвался на тайных сектантов, но эта догадка и успокоила его. Сектанты — это ж дурики. Чего доброго, вербовать начнут, можно покочевряжиться и отвалить — ни один нормальный человек не клюнет на ихнюю блажь. Эта мысль не только вернула ему чувство уверенности, но даже вооружила ощущением некоторого превосходства перед его опекунами, и когда, закончив перевязку, Аркадий, прищурясь, сказал многозначительно: «Ставлю один против ста, что мы хотим опохмелиться!» — Игорь хотя и содрогнулся нутром, аж в горле запершило от жажды, ответил, тем не менее, наидостойнейше.
— Гони сотню. Проиграл.
Илья же хихикнул, ткнул Аркадия в лоб выгнутым указательным пальцем, произнес: «Умом Россию не понять!» Засуетился: «А чего мы, собственно, здесь-то! Пошли в избу». Так, словно по ошибке остановились на террасе! Но в общем-то правильно сделали. Весь пол забрызган кровью, ее изрядно вытекло, жутковато даже.
Когда вошли, наконец, Игоря постигло разочарование. На неубранном с утра столе торчала недопитая бутылка водки, а между столом и обшарпанным сервантом — сетка с бутылками. Сектантами не пахло. На том же столе, правда, книжка раскрытая, на другом столе, что у окна, пишущая машинка и листы бумаги, и еще книги где попало. По сути, вся изба из одной комнаты. Посередине печь. Диван и раскладушка, старые стулья, выцветшие и потрескавшиеся обои на стенах, закопченный потолок, особенно над печкой. В простенке между окнами большая фотография угрюмого бородача. Игорь осмелился продемонстрировать осведомленность, кивнул на фотографию, буркнул небрежно: «Хемингуэй?» Мужики хохотнули, Илья сказал: «Солженицын». И прищур, дескать, ехала деревня мимо мужика. Задетый тоном, Игорь словно на вызов ответил.
— Это который сперва здесь упаковался, а потом удрал на Запад?
— Исключительно объемная информация, — грустно сказал Аркадий, а Илья перекосился.
— Ну, суки же, а! Ну, суки!
— Неправда, что ль? — не без злорадства спросил и в отместку обоим им тоже прищур. — Подумал, вы сектанты, а вы антисоветчики, да?
— А что хуже? — это Аркадий, но не всерьез, а, скорее, чтоб тему закрыть.
— Мне без разницы. — Раненой рукой махнул и от боли искривился.
— Не маши рукой на антисоветчиков, — посоветовал Илья. — Садись куда-нибудь и стони от боли, как положено раненому. Мы же будем ходить кругами, сочувствовать и готовить обед. Устраивает такая диспозиция? Ты гегемон, а мы два сраных интеллигента, Аркаша лирик, я физик. А тот, — на фотографию, — подлый наймит мировой буржуазии. Однако ж, полагаю, тебе, политическому девственнику, сия мерзкая компания не опасна?
— Слушай, ты, физик, — это опять Аркадий, — загони свою желчь обратно в пузырь и дуй за водой.
Рука и вправду разболелась, хоть охать начинай. Прошел в комнату, сел напротив фотографии врага народа, смотрел — никаких эмоций. Зато вспомнился праведник отец, вернувшийся с очередного закрытого партийного собрания. Любил он эти, закрытые. Всякий раз приходил домой в душевном подъеме и с загадочностью во взоре, с повышенной снисходительностью к жене, мещанке-бытовичке, с усиленной требовательностью к детям-шалопаям, к сыну особенно. Девка есть девка, к тому же мала еще, но уже ленива и легкомысленна…
С последнего закрытого пришел по брови полный возмущения в адрес как раз этого самого, что на фотографии. Как посмел он, паршивец, порочить, клеветать! Ему — нате то-то и то-то, что душенька пожелает, дачи, машины, квартиры, а он… И берутся же откуда-то такие, ведь не один уже, расплодили нечисти в Москве и цацкаются. Мать всей своей небогатой мимикой изображала единомыслие и страстное сочувствие отцовским тревогам, этой ее душевной напряги хватало, чтоб достойно выдержать испытующие взгляды своего идейного мужа, когда же он взглядом переключался на другого члена семьи, она мгновенно расслаблялась и опять превращалась в добрую хлопотунью, каковою и была на самом деле.
Игорь, хотя и имел свое «хи-хи» в адрес идейной упертости отца, но знал зато, что папаня его — работяга, что на таких, как он, держится четырнадцатая дистанция пути, где он старший дорожный мастер, что вообще — и власть тоже держится на таких, как он, не на жуликах же и сачках, и если на таких только, значит, и сама она…. Недостатков, конечно, до хрена… А где без? Да и вообще! Жить можно! И все зависит от тебя самого. Никто не виноват, что месяц пробегал по Москве, вместо того, чтобы, как другие, зубрить и зубрить. Но вот получилось так, что ошалел от столицы. Ему, жителю провинциального городка, столичный ритм упал на душу, как песня — каждая клетка ходуном заходила — заплясал, заплясал и проплясал! Позорно проплясал. И ничьей вины в том, кроме его, нет.
Где-то и как-то слышал он, конечно, что есть люди, которые шуршат на власть, и понимал это как обратную сторону отцовской упертости. Когда в жизни столько интересного, в политику могут соваться те, кому интересное недоступно по возрасту или по каким-либо другим причинам, над которыми не стоит голову ломать, короче, это их личные проблемы. Самое последнее, чем бы он мог заинтересоваться, это политикой — в отцовском ли варианте, в другом ли, противоположном, — скукота! Понимание никчемности политического шуршания мешало ему сейчас по достоинству оценить этих двух бородатых, которым, как он уже догадывался, будет обязан гораздо больше, чем случайным спасением и гостеприимством. Будь они обычные нормальные мужики, здорово задружить можно. Это он умеет — дружить. Проверено. Но ведь полезут в душу. А который на стенке, как икона, ну, не хамло ли, ведь писателем сделали, упаковали, а он харкнул за плечо и дал деру.
Рука, меж тем, разболелась, сидел, левой держал правую, морщился и даже не было сил вслушиваться в реплики, которыми обменивались мужики, суетясь у двухконфорочной электроплиты на тумбочке в миникухне. Куда больше его занимала раненая рука. В технологии карточных манипуляций правая рука ведущая и направляющая, как КПСС… Подумал, что, если б вслух высказал это сравнение, угодил бы хозяевам дома. Попытался вспомнить какой-нибудь политический анекдот, полно таких, но на уме одна похабщина бомжевская, наслушался за три месяца. Покормят его сейчас и скажут — ну, давай топай, — куда топать-то безрукому, в кармане две трешки, даже до дому не доехать. И надо же, как все сошлось — тупик! Маманя-плакса увидела бы его сейчас или лучше часом раньше, с пером у подреберья, с рукой окровавленной и мордой перекошенной, — откинулась бы!
Вроде бы и не вслушивался, но понял, что мужики пользуются домом по очереди. Что Илья заправится и отвалит на неделю, что у них тоже проблема с работой, какими-то рефератами занимаются, за что платят терпимо. Аркадий новости всякие сообщал, что у кого-то шмон был, у кого-то уже виза в кармане, а кто-то где-то колется, как сухое полено, и валит всех подряд, на что Илья чуть громче, чем следовало, проворчал: «А народ, как ему и положено, безмолвствует!» Аркадий со смешком ответил: «Народ ранен и голоден, оставь его в покое».
Поздний завтрак или ранний обед был представлен салатом, отваренной картошкой, соленой рыбой и маринованными груздями. От «стакана» Игорь отказался было, но получил разъяснение, что воля не в отказе от спиртного, а в том, чтобы пить и не заклиниваться, что обе крайности вредны, что принципиально непьющий человек такой же урод, как сизоносый алкаш, что вообще вино и женщины — суть атрибуты мужского бытия, бытие сие собой, однако же, не определяющие, но лишь сопутствующие. Им легко было говорить, а у Игоря, только заглотнул, внутренности сладостно застонали, стон переполз в мозг, все извилины выпрямились, напряглись и потребовали повтора. И без того вилкой в левой руке много не наковыряешь, а тут еще и дрожь подлая, не скрыть состояния. Но Илья вдруг взглянул на часы, ахнул, вскочил, засуетился. Последняя электричка перед перерывом. Игорь наизусть знал пригородное расписание, уточнил деловито, что еще двадцать минут, до платформы пятнадцать, не более, успеет. Илья, однако ж, усомнился, побросал в сумку какие-то книги и бумаги и, прохлопав дверями, исчез без прощания.
2
Два года спустя все это вспоминалось как приключение с предопределенно счастливым концом. Шрам на ладони уже не был следом раны, но знаком-памяткой, взглянув на которую, можно было только улыбнуться загадочно, а если кто спросит, так же загадочно ответить, дескать, бандитский нож… Но неделю, ровно неделю пребывал Игорь в роли больного и немощного — все это время, как за ребенком сопливым, ухаживал за ним его спаситель. Было в этом ухаживании-обхаживании нечто непонятное Игорю, родная мать не сделала бы большего. Бородач словно некий обет дал во спасение, только что из ложки не кормил. Перевязывал, обстирывал, откармливал, даже выгуливал — заставлял утром бегать по дачным тропам, а вечерами уводил за пару километров на высокий берег речки Вяжи и убеждал в небывалости подмосковных закатов. И ни слова о политике. Игорь ждал, ждал, не дождался, заговорил сам, про книгу одну с подозрительным названием спросил, о чем, дескать. Аркадий посмотрел на него внимательно, спокойно, без иронии сказал: «А тебе это надо?» Сказал как ответил. Совсем без этой темы, конечно, не обошлось. Так или иначе, за один проговор или за несколько Игорь усвоил, что существуют люди с пониженным и с повышенным порогом болевой чувствительности, точно так же с порогом социальной чувствительности. У кого-то, в силу разных причин, от него не зависящих, он также повышен, чем и вызывается социальная активность. Что это всего лишь тип людей, а вовсе не тип поведения, как многие думают. Это ни хорошо, ни плохо, это факт и только. Что правота всякой социальной активности относительна и зависит от уймы обстоятельств, в которых проявляется. Семья, образование, среда — все корректирует степень правоты. Что Илья, к примеру, этого не понимает и не признает и потому необъективно требователен ко всем, кто живет иначе, и обижаться на него не следует, если иной раз ковырнет.
Из прочих проговоров Игорь догадался, что между бородачами особой дружбы нет, что, похоже, кроме дома, который арендуют на паях, их ничто не объединяет. Но тут уже начинались какие-то идейные тонкости, к которым он допущен не был, да и не жаждал… У Аркадия была жена и сын трехлетний, но там тоже не все в порядке, и эта тема закрылась с самого начала.
Однажды не удержался, спросил:
— Чего возишься со мной? Не вербуешь? А вдруг подойду?
Как раз на закат пялились. Редкостный закат, ветровой, четверть неба в алых всплесках застыла, чтоб налюбоваться успели. Вдали деревушки справа и слева, посередке куполок церкви алым фонариком, внизу под ногами речка тихая лентой извилистой…
— Ты думаешь, вот это вокруг все, что это? А? Прежний русский человек ответил бы — мир Божий. То есть истинный, правильный, хороший. Но ведь и я прав, если скажу — мир человечий, а только с определениями не поспешу. Правильный? Истинный? Так как же? Два верных суждения об одном предмете, а характеристики суждений не совпадают. И знаешь, что страшно? Во всем так! Во всех мелочах. Правильно и неправильно, истина и неистина. Не усекаешь? — Рассмеялся, по плечу хлопнул. — И не надо. Сопли интеллигентские. Ре-ля-ти-визм! Самый худший из «измов». А с тобой все просто. Ты хочешь правильно жить в человечьем мире, который, заметь, правильным я не называю. Ты даже не подозреваешь, какой сложный эксперимент задумал. Я не шибко-то верю в твою удачу, но желаю ее тебе, как говорится, всей душой. Помогу, чем могу. А вдруг ты меня опровергнешь. Так что имей в виду, я далеко не бескорыстен.
Игорь, конечно, тогда сыграл под простачка, сделал вид, что не понял. Но понял! Не велика мудрость. Присмотрелся уже да и книжки кое-какие полистал, когда Аркадий видеть не мог. Просто все. Дескать, если власть плохая, то при ней порядочным человеком стать невозможно, обязательно на чем-нибудь скурвишься. Запросто опровергнуть! Предки, маманя, положим. Если она мать что надо, при чем здесь власть, она при любой власти такой же была бы. С отцом сложнее, мозги ему слегка запудрили, с тем бородачом на фотографии он, конечно, фраернулся, выперли его насильно, оказывается. Но честным работягой отец оттого не перестал быть. Да о чем разговор? О накладках, противоугонах, шпалах, о бригадирах-сачках, о бюрократах-начальниках. С тем, что плохо в его работе, он сражается, дай Бог каждому. И поезда ходят и ходить будут, пока папаня землю копытом роет. Татаро-монгольское иго триста лет тянулось, так что, до Куликовской битвы на Руси ни одного честного человека не было? А потом, и Аркадий как-то сказал, что нет такой плохой власти, хуже которой быть не может. А отец говорит, какой власти быть, то от людей зависит. Так что посмотрим!
К концу недели Игорь загрустил. Рука еще не зажила настолько, чтобы пахать. В ночлежку идти, как в яму, денег — все те же две трешки. Аркадий усек, сказал: «Дыши ровно. Папа Карло на стреме». В воскресенье они до обеда ждали Илью. Не появился. Собрались, позапирали двери, в условное место спрятали ключи и подались на электричку. В Москве на вокзале Аркадий оккупировал телефонную будку и полчаса обзванивал столицу. Вышел довольный, сказал, что с Ильей все в порядке, приболел, что едут они сейчас на одну квартиру, где живет одна женщина, там гегемону будут рады, все оговорено, поживет, пока не определится.
Что за женщина, Игорь понял с первого их перегляда. Двухкомнатная малогабаритка до отказа забита книгами, рукописями, пишущими машинками — целых три и все иностранные. Сама женщина ничего, смотреть можно, курящая, правда, говорит — курит, кофе пьет — курит, позже видел, с Аркадием целуется — тоже курит. Вся квартира провоняла. Аркадий некурящий и терпит. Определив Игоря в дальней комнатушке, они ушли на кухню и там лялякали, наверное, часа два, так что успел не только осмотреться, но и подремать на тахте.
Думал — день, другой, а получилось полмесяца. С Наташей они хорошо ужились. Очень ее устраивало, что он ходит по магазинам и обеспечивает жратву. И даже кое-что готовит. Поначалу раздражал стрекот пишущей машинки, ведь каждый раз до полуночи. Чтоб соседям не мешать, на стол стелила толстое одеяло, на него ставила машинку и часами в десять пальцев сплошное та-та-та. Какой-то они с Аркадием журнал выпускали самодельный, конечно, все про ихнюю политику. Приходили люди, пили кофе, трепались в кухне. Игорь на глаза не лез. И без того уже тяготился тунеядством, постоянно успокаивая себя, что все возместит. В сумму возмещения входила стоимость осеннего пальто, кем-то будто пожертвованного, утепленные ботинки — зима подступила, в туфлях много не напрыгаешься. Жратва — само собой. От безделия начал почитывать всякую антисоветчину, Аркадий увидел, отобрал, сунул в руки том Ключевского. Нужнее — сказал. Но история тоже не шибко-то читалась. Ждал. Аркадий сказал, что продумывает вариант с устройством. Однажды пришел и сообщил, что есть такое благословенное место — Таруса, а там шоферская школа. Общежитие. Все уже обстряпано. Один из его приятелей там отмывался после лагеря. Связи сохранил. Ждут — не дождутся. Хотел даже отвезти. Но с этого момента Игорь провозгласил полную самостоятельность. Вечером того же дня отгуляли отходную. Изрядно наподдавались втроем. Аркадий расслабился до предела, ранее таким его не видел. Целовался с Наташей по всякому поводу и без. После вдвоем пели антисоветчину: «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди… А ночами, а ночами для ответственных людей, для высокого начальства крутят фильмы про б…». Утром, не протрезвившись, в электричке мурлыкал засевший в мозгах куплет, но в Тарусе вышел из автобуса свежим и готовым к новой жизни.
Через полгода, следующей весной, уже мотался на ЗИЛе по дорогам Подмосковья. Осенью поступил на заочный все в тот же Автодорожный, о чем торжественно известил отца, попутно покаявшись в прежнем разгильдяйстве и вранье. Что провалился, о том в свое время написал, но сочинил целую историю, будто не очень-то, мол, и хотел, потому что соблазнили тут завербоваться в некие северные места, откуда и писать ему будет затруднительно.
Так на полгода пропал для предков, переживал за мать, извелась ведь. Теперь же от нечистоты избавился полностью, получил прощение и поощрение, длинными письмами с подробным изложением условий труда и быта чуть ли не еженедельно радовал предков. Единственно — о новых своих друзьях ни слова, зачем папане напрягу создавать. Но теперь крепче, чем когда-либо знал, что жить можно, а может, даже и нужно.
В Москве тоже, конечно, бывал. Аркадий насовсем перебрался к Наташе. Игорь заявлялся к ним с пищевым дефицитом. Зря что ли по области мотался! Антисоветчики ахали, искренне радовались его успехам. Устраивался сабантуй. Иногда выходили на культуру — почти что приобщили его к театру. С филармонией общий язык пока найден не был, но грозились. Про церковь заикались, но это он отмел сходу. Еще не хватало…
Однажды, в очередной приезд, пошептавшись, прихватили его с собой на проводы. Какой-то диссидентский первак отваливал за бугор. А почему нет? Интересно же.
Еще на лестничной площадке услышали гомон. Дверь не заперта. Открыта для всех желающих. Когда вошли, никто не обратил на них внимания. Двухкомнатная квартира, уже начисто лишенная мебели, битком набита людьми. Вдоль стен и по углам бутылки с вином и водой. На подоконниках на тарелках печенье, бутерброды. Дым коромыслом. Аркадий с Наташей то и дело с кем-то здоровались, но с первых же минут держались особняком. Обнаружился Илья. Без особой теплоты обменялись рукопожатиями. На Игоря прищурился.
— Гегемона приобщаете? Правильно. Укажи мне такую обитель…
И тут же нырнул за чьи-то спины. Отъезжант, косматый рыжий мужик, был уже в добром подпитии. Махал руками, с ошалелостью во взоре выслушивал всяческие пожелания и тосты, обнимался, хлопал по плечам, целовал руки женщинам. Кто-то то и дело оттаскивал его куда-нибудь в более или менее свободный угол и что-то нашептывал, а он все кивал и кивал головой. Вдруг несколько голосов закричали: «Тихо! Тихо!» Гомон стих. Из соседней комнаты все выдавились в эту, теснотища… Нашелся стул, на него и взгромоздился виновник собрания. Развел руками, как бы обнимая всех, сначала беззвучно шевелил губами, вроде бы даже слезу смахнул.
— Друзья! — возгласил. — Тут кто-то сказал, что каждый отъезжающий укорачивает остающемуся путь в лагерь!
Все возмущенно загудели.
— Не знаю, может, это и так!
Все завозмущались пуще прежнего.
— Но друзья! Российская эмиграция никогда не была побегом. Только передислокацией. Свое место в строю каждый определяет сам. Есть одно страшное слово, которое здесь хотя и никто не произнес, но оно как бы витает в воздухе. Это страшное слово — на-все-гда! Так пусть же оно не витает даже в воздухе, потому что мы вернемся! Вернемся!
Рукоплескания оглушили. Наташа тоже хлопала, Аркадий же почему-то нет. Кто-то подал рыжему стакан с вином. Он воздел его над головой.
— Чтоб они сдохли! Нам жить, монстру издыхать! И никак иначе!
Опять рукоплескания и звон стаканов.
— Кто это монстр? — спросил Игорь, всовываясь головой между Аркадием и Наташей.
Аркадий как-то криво усмехнулся, процедил:
— Увы, это Россия.
Наташа возразила с укоризной.
— Ну, зачем ты передергиваешь! — И уже специально Игорю: — Он имел в виду режим. В конце концов, он честный и порядочный человек.
— А я что, говорю, что не честный?
— Успокойся, Аркаша, каждому свое, разве не так?
— Баба с возу, кобыле легче, — проворчал Аркадий.
— Ты зол, значит, не прав.
Рыжий бодро спрыгнул со стула, толпа зароилась, стала растекаться по комнатам. Игоря оттеснили от друзей, его прибивало то к одной кучке, то к другой. Слух ловил обрывки фраз, глазами же засекать говорящего он не успевал, оттирали, а что-то хотелось бы дослушать, потому что, ну, словно в дурдом попал или в другую эпоху — люди как люди, язык тоже русский, а говорят о чем-то, чего за пределами этой квартиры не существует, по крайней мере, чего Игорь не видел, не встречал, не знал…
— …я из метро, он за мной, целый час дергался по проходным, пока оторвался…
— …как только заимею канал, сразу переправлю, коперайт за мной…
— …сваливать надо, ни хрена в этой сучьей стране путного не будет…
— …расколют его, еще как расколют, готовься к шмону.
Когда снова, наконец, прибился к Аркадию, видок, похоже, у него был еще тот, потому что, взглянув на него, Аркадий сказал с усмешкой:
— Ей-Богу, парень, тебя достали, уходим?
— По-английски! — шепнула Наташа и подхватила его под руку.
— Как есть — инопланетяне, — бормотал Игорь, очумело озираясь.
— Вокс попули — вокс деи!
— Чего?
— Глас народа — глас Божий, говорю. Пошли.
До метро молчали. На эскалаторе Наташа спросила робко.
— Тебе все это не понравилось, да?
— Ну, почему… — Игорь замялся. — Нет… Не знаю… Только мужики все какие-то толстозадые, а бабы дерганые.
Аркадий с Наташей хохотали так громко, что на них оглядывались на встречной подъемной ленте. Все трое чуть не упали, сходя с эскалатора, — Наташа запнулась. В обнимку ввалились в вагон и там хохотали уже все трое, вызывая осуждающие взгляды поздних пассажиров метро.
Более никогда ни на какие сходняки Игоря не приглашали, а он уж и подавно не жаждал, потому что знал свое — жить можно.
3
Был самый конец августа. Осень уже прошлась по Подмосковью первой пробой, осины опалила, а травы обесцветила, что ни вечер, грозилась дождями, но пока миловала, ночами в низины и поймы речушек напускала прохладу-стужу, а днем разгоняла ее по просторам, чтоб всем поровну, в напоминание о скором сентябре. А в мире, как всегда в это время, шла битва за урожай. Игоря же за систематическую трудовую трезвость отрядили на снабжение. Непьющий водила — суперценность! Развозил продукты и промдефицит по всяким сельпо, сельпродмагам и универмагам. В месяцы своего прошлого бичевания по макушку сытый общением с ханыгами, от предложенного грузчика-экспедитора отказался, загружался сам, особых тяжестей не было, разгружали получатели. Возвращаясь порожняком, от попутного левака не отказывался, за что имел лишнюю копейку и благодарности, поскольку не жадничал. Потребностями не злоупотребляя, тратами не страдал, зато что ни месяц — сестре-выпускнице подарок. Не оставляя общежития, снял «в Тарусе, у бабуси» холупенку за тридцатник в месяц. На отшибе, вплотную к лесопосадкам. Туда привозил по выходным Нинусю-учетчицу, хохотунью и жуткую азартницу до любви. После до среды покачивает. Еще халупа нужна была, чтоб к сессии готовиться. Весной с шиком свалил. От декана получил намек на очняк. В общем, как мама говаривала, куда ни плюнь, везде шипит, что почему-то означало — все отлично, да как бы не сглазить. Для постоянства настроения позволил себе роскошь — купил «спидолу», самую дорогую, какие были.
Из этого-то говорящего чемоданчика, когда включил на привале в поле у речки тихой, вдруг услышал знакомую фамилию. Его спаситель, друг Аркаша, арестован органами за антисоветскую деятельность и скоро предстанет перед судом, который и упрячет его на семь лет с последующей ссылкой. Громкость стояла на пределе, но прозвучавшее сообщение адресовано было не всему человечеству, а лишь одному-единственному человеку — ему, и если существует мистика, то вот она самая, иначе как же: включил наугад и — нате вам! Случайности, конечно, в мире бывают, но не такие же! Под бледно-голубым небом посредь просторов Родины чудесной он все понял правильно: никакое это не Би-би-си, чихать хотела говорящая бибисучка на судьбу Аркаши, это сам Аркаша просил о помощи. Причем, никакого зла к тем, кто так поступил с его другом, Игорь не почувствовал, ведь Аркадий тоже не имел зла к тому ханыге с пером, когда отшвыривал его, когда говорил ему после: «Топай, топай!» Даже улыбался. Спас — и все. Был поступок. У всех своя правда, но поверх этих правд есть самая главная — быть человеком. Ведь вот, вспоминая, как рыжий на проводах возгласил: «Чтоб они сдохли!» — не раз, как бы отвечая ему, бормотал: «А вот хрен тебе!» Аркашины хлопоты Игоря тоже не волновали. Органы? Что ж, на то они и органы. Но если друг в беде, это совсем другое дело, и не только потому, что долги отдавать надо. Самое главное это то, что происходит между человеками, и если что-то между ними неправильно и нечестно, плевать тогда на всякие идеи. В данном конкретном случае Аркадия надо спасать, и как бы ни хорохорились все эти его друзья антисоветчики, они и вправду интеллигенты сраные, в настоящей жизни ничего не понимают, и если сию минуту он еще не знает как, то вникнув, наверняка найдет простой способ вытащить друга, такой способ, какой в запудренные мозги интеллигентов и прийти не может. Ведь как они живут: сочинят про жизнь формулу в полстраницы и пыхтят над ней до посинения. Надо бы упростить, и останется там, как оно и есть, что дважды два — четыре. Но тогда чем они будут отличаться, как Илья любит говорить, от гегемонов? Такая уж у них игра в жизни. Это понимать надо.
Короче — в Москву! Сперва в Тарусу, сдать машину. Ему, безотказнику, отказа тоже не будет.
Гнал тачку, будто не свою. Потом бегом на автобус, бегом на электричку. В Москве бегом сложно, толкался, как последний козел. Из автомата позвонил, Наташа ответила спокойно, но ее «хорошо, приходи» — едва ли прозвучало приглашением. Позвонил Илье, тоже повезло. Оказался дома. Но встречаться с Игорем желания не имел, не мог понять, чего от него хотят, и лишь когда услышал откровенно злое: «Тебе чего, до Аркаши плевать?» — буркнул, что приедет.
Ожидал увидеть Наташу несчастной, заплаканной, приготовил слова бодрячковые — не понадобились. Была спокойной, встретила, как всегда, с улыбкой. «Есть хочешь? — спросила. — Тогда кофе?» Квартиру узнал с трудом. Половина книг исчезла, пишущие машинки, бумаги всякие — тоже. Мебель как-то не так… Сидели на кухне. Рассказывала. Оказывается, уже месяц, как забрали. Все к тому шло. За полгода пасти начали — обычный их прием. Сейчас таскают всех знакомых. Ее уже дважды вызывали.
— Чего говорят?
— Там не говорят, там спрашивают.
— А ты чего?
Пожала плечами.
— Я его любовница, с меня какой спрос.
— А его-то видела?
— Не положено, пока следствие. Да и потом не дадут. Я же никто. Если б кололся, тогда другое дело, тогда пожалуйста.
— В чем ему колоться, вредитель, что ли?
Улыбнулась, руку на руку положила.
— Ты, дружок, в это дело не встревай. Квартиру наверняка пасут. Засветишься, всю жизнь попортят. Позвонил зря, на телефоне вот такие уши висят!
Обиделся, сказал раздраженно:
— Я не дружок, я друг. Это не одно и то же.
— Ладно, ладно! Спасибо, что приехал. А Илью-то зачем дернул? Он, ну, как бы это — из другой команды. Впрочем, приходил, звонил. Ихних тоже половину пересажали. Метут без разбору, всех, кто в «Блокнот агитатора» не вписывается.
— Ваши, ихние — мне без нужды. Аркашу выручать надо. Должок за мной, вот так.
Грустно головой покачала.
— Не тот случай, ты просто не понимаешь, с чем имеешь дело…
— Пойму, не велика мудрость.
Завережжал дверной звонок. Наташа пошла открывать. Илья оброс пуще прежнего, нос торчал из зарослей, как кабан из чаши. Да еще глаза, по кухне туда-сюда шур-шур, в телефон на холодильнике уперлись. Подошел, трубку снял, послушал, вынул карандаш из кармана, крутанул диск, вставил в дырку, трубку рядом положил.
— Ну, и какие проблемы? Кофе? Давай.
— Поговорить надо, — как можно более по-деловому ответил Игорь.
— Ага. Поговорить, значит. Тогда вот что. Я сейчас еду к Акуле на сходняк… Наташ, Акулу помнишь, знакомил когда-то?
Наташа неопределенно пожала плечами. Пояснил Игорю:
— Это бабища такая, немка, скупает шедевры наших авангардистов, говорят, большие деньги делает. Сегодня у ней прием. Я там кое с кем встретиться должен. Железно — стукачка, но хата у ней удобная для встреч. В центре. Народу всегда полно всякого разного. По дороге поговорим. А у ней — ни-ни! Втроем поедем или как?
— Да ну, что мне там делать! — устало отмахнулась Наташа.
— Тогда время не теряем, сейчас доглотну и помчимся.
— Вид у меня не приемный, — засомневался Игорь.
— Чушь! Абсолютная демократия. Ширинка застегнута и ладно.
Из-за спины Ильи Игорь сделал знак Наташе, чтобы вышла. Не мог он вот так просто уйти без каких-то нужных слов. Между прочим, она изменилась, прическу вроде бы поменяла, стала похожа на строгую вдову, в общем, похорошела, руку захотелось поцеловать, и поцеловал бы, да не знал, как это делается.
— Ну, ты держись, пожалуйста, ладно? С финансами как? Заначку приличную имею, я ж гегемон и ударник труда. Это недолго, не я буду, вытащим Аркашу!
— Твои б слова да Богу в уши… Если б он узнал, что ты… ну, в общем, ему приятно было бы. Только от меня даже передачу ему не примут. Жена законная имеется.
— А она…
— Не знаю… Спасибо, Игорь. Илья объяснит тебе ситуацию. И ты не расстраивайся. Аркаша знал, что делал. Не мальчик.
— Я тоже не мальчик.
Когда вышли, еще и не стемнело толком, но фонари над тротуарами щедро тлели в наступающих сумерках.
— Знаешь, давай-ка вон туда пойдем. Самое место для разговора, обзор шикарный.
В центре квадрата домов-термитников пустая детская площадка, несколько скамеек. Сели на одну.
— Ну. Излагай.
— Аркашу выручить хочу, — сказал Игорь и поморщился досадливо, не с этого, наверное, надо было начинать.
— Похвально, — спокойно отозвался Илья. — Весьма похвально. И каким же образом, прошу прощения за любопытство?
— Мне знать надо, какая там тюрьма и вообще…
— Тюрьма? А это, пардон, к чему?
— Ну, если хорошо все разнюхать, может, побег…
Илья развернулся к нему всем корпусом лицом к лицу, только что бородой не щекотал.
— Парень, ты это серьезно? Ей-Богу, серьезно! В этом месте по сценарию я должен громко и оскорбительно захохотать, но заметь, воздерживаюсь. Цени мой такт, как я ценю твою наивность. Слушай, дорогой, это тебе не проклятый царский режим, это первое в мире народное государство, и первое, что оно научилось хорошо делать, это оборудовать тюрьмы. Ты меня просто в калошу посадил, даже не знаю, нужно еще что-нибудь говорить.
— А где он сейчас?
— В Лефортово, вестимо, где же еще быть врагу народа.
— А суд где будет?
— В суде, знамо. Или ты в смысле территориально? Горсуд у трех вокзалов.
— Может, по пути как, ну, если все продумать…
— Ага! Бомбочку метнем, из наганчиков побахаем, а потом в пролетку, что заранее за углом, и ищи-свищи. Это я в кино видел про царских сатрапов. И ты тоже, да?
Игорь начинал не на шутку злиться, но с кем еще ему говорить. Сдержался.
— Я что скажу, когда меня ханыга резал, знаешь, сколько у меня шансов было? Ноль целых хрен десятых. Не может такого быть, чтоб совсем безвыходно. Просто надо цель поставить, обязательно что-нибудь найдется. А после суда в лагерь, да? Может, там как подшустрить? Отпуск возьму, уволюсь, если надо.
Илья помолчал, посмотрел на часы.
— Ладно, время еще есть малость, давай-ка подойдем к проблеме, так сказать, комплексно. Не знаю, не бывал, но допускаю, что из лагеря убежать можно. Поднапряглись, подшустрили, убежал. Спрашиваю, куда?
— А как в песне — широка страна…
— Истинно широка, и я другой такой не знаю, как говорил друг народов Поль Робсон. Только один пустяк, без серпастого да молоткастого советский человек — не человек. У воров в законе, у паханов всяких, у них, слышал, это не проблема.
Игорь торопливо встрял.
— Об этом я думал. Это просто. Я будто теряю свой, в милицию заявляю. А отдаю ему. Карточку как-нибудь там можно… Рванет в Сибирь, кто найдет?
— Страсть какой ты темный, парень. А про всесоюзный розыск слышал? Это когда каждый участковый получает фото — анфас и в профиль. Еще раз говорю, это тебе не проклятое прошлое, когда вождю мирового пролетариата в ссылке еженедельно барашка закалывали. И опять же допустим, убежал, скрылся в гуще трудового народа. И что дальше? Прятаться всю жизнь? Биологическое существование? Беда в том, что Аркаша твой — интеллигент, хотя и славянофил. Тебя ведь тоже учили понемногу чему-нибудь… Я, к примеру, махровый западник, для меня эта страна — исторический недоносок, и в гробу я ее видал, когда б по глупости с хитрой физикой не спутался. Впрочем, со мной все ясно и просто. С Аркашей сложнее. Он в своем примитивном журнальчике из кожи лез, доказывал, как Родину любит и народ ее богоносный. А это, брат, тягчайшее преступление — любить Родину не так, как велит наш рулевой. В исключительных случаях позволяется реализовывать эту мерзкую потребность молча или даже устно, но не дальше кухни. Нормальному советскому интеллигенту того вполне достаточно. Поболтает у себя на кухне и бодро топ-топ на партсобрание клеймить и одобрять. Аркаша твой — урод. Он хочет жить, как думает. А надо думать, как жить. Тогда тебя печатать будут семимильными тиражами, медальки на титьки вешать, в инженеры человеческих душ зачислят и на хлеба вольные отпустят. Твори на благо единства партии и народа! И вот ведь, суки, знаешь, какой нюх у них, у прирученных! Всегда загодя знают, о чем уже можно, а о чем еще нельзя. Унюхает такой и зарычит львом, а недотепы ахают — смельчак, борец! И ссут на чулки от восторга. Честно скажу, сочувствую Аркашке. Если в прессу вынесут дело, его дружно осудит тот самый народ, которому он рожу его немытую от дерьма отскребал, святость выискивая. А ты поимей в виду, самое большое, что он получит — семерик. Но вот если ты какую-нибудь бузу затеешь, как пить, на шестьдесят четвертую перекинут, а это минимум — червонец, максимум — вышка.
Из того, что Илья тут наговорил, Игорь определенно понял одно: шибко злой мужик. В чем-то не повезло, вот и кроет все подряд. С каждым может быть. Два года назад, когда в институт провалился, как преподавателей крыл, а ведь чисто сам виноват был. А если только частично или совсем не виноват, бывает же так, пуще травы позеленеть можно от злости. Хуже другое — в аркашиной беде он не помощник. Других надо искать. Ведь приходили на квартиру, теперь кайся, что не хотел знакомиться. Прервал его на полуслове:
— А у этой, ну, куда едем, там кто-нибудь будет, кто Аркашу знал?
Илья пресекся, замер, смешно подергал бородой.
— Совсем форму теряю. Сфинксу речи закатываю. Старею, брат. У Акулы-то? Да кто-нибудь обязательно будет. Аркашка — личность известная. Подельников себе отыскать хочешь. Твоя воля. Только смотри, знаешь, как бывает, ловишь бабочку, поймаешь дурную болезнь. Нарвешься на стукача, большая боль будет. Пошли, что ли?
Таких квартир Игорь не видывал. Чего там, не слыхивал, что бывают, в Союзе, по крайней мере. Прихожая величиной с обе наташины комнаты. А дальше-то! Зал! Пустой, только по углам столики маленькие со стульчиками. На столиках напитки с орешками. На полу ковры — ноги тонут. А стены все в картинах. Человек двадцать в зале. Тихий такой гомон стоит. А люди — один чуднее другого. Длинный и худущий напялил фрак, так, кажется называется, на голое тело и галстук пестрый. И босиком. Другой в рваном тулупе. У третьего башка наполовину выбрита. Придурок на придурке. Большинство, правда, нормальные. Зато женщины все разодеты, сверкают пальцами и шеями, и все такие строгие, передвигаются по залу, как плывут, только что руками не машут. Глянул на картины — мама родная! Во мазня! Смотрел, смотрел — ни хрена не понятно! Что к чему? Одна здоровая такая, метра полтора, ее будто специально год чем-то нехорошим обмазывали, а посередине карты игральные, на них как раз очко. На другой рожи какие-то кривоносые, узколобые с кабаньими глазками в кучку вокруг бутылки сбились. Но это что! На бугорке стоит уродец большеголовый и ссыт с бугорка, а все это дело ручейком втекает в церковь на Красной площади. Нагнулся, прочитал. «Русская идея» написано. Стоял столбиком, забыл, зачем пришел. Вдруг сбоку голосок тоненький с иностранным акцентом.
— Я смотрю, вам это нравится? А по-моему, все-таки кощунство. Нет?
Оглянулся, деваха рядом, красивая — обалдеть можно. Стройненькая, глазки синие, волосы русые на затылке букетом, длинное платье зеленое переливается, то светлей, то темней. На ручках браслеты…
— С художником знакомы? Нет? Хотите познакомлю?
— С этим? — Игорь ткнул пальцем в картину. — Да пош-шел он…
Залилась колокольчиком, аж в груди заломило.
— Так, значит, вы не поклонник?
И запросто его под локоть, к столику повела. Сходу вспотел и ноги заплетались.
— Хотите, я вам свою теорию расскажу, почему они это пишут, может, хоть вы меня оцените, а?
Сели друг против друга, она смотрела ему прямо в глаза, а он уставился на серьгу в мочке, замер, будто вот-вот в лоб дадут.
— Представляйте себе, что один такой хочет написать красоту…
Заволновалась, акцент сильнее стал.
— …женщину или природу, небо, море. Но он же знает, какие мастера это делали, понимает, что лучше не сможет, выразить себя через красоту — не получится. Тогда делает это через… как называется… слова забываю, когда надо… вот, через у-род-ство. Так, да? Эти их худо… жест… вы — так? — от комплекс неполноценность. Они несчастны, их надо жалеть.
Она продолжала говорить, Игорь же вспомнил, что точно так же было два года назад, когда поездной ханыга лез к нему с пером под ребро. Было ощущение, будто сон. И сейчас — ну, сон и все! Есть же, думал, счастливчики, которые такую вот как свою имеют. Это ж больше ничего и не надо. На всю жизнь кайфа хватит.
— …вы со мной не согласны, нет?
Мало того, что в глаза, еще и через стол к нему потянулась, во зараза… Надо было что-то отвечать.
— Да ну их… вые… выпендриваются.
— Вые… пе… как? Не знаю этого слова.
Аж дух захватило. Совсем сдурел!
— Ну, выбражают… нет… это… кривляются…
— Кривляться! Да! Да! Так! Шут, а маска страшная… у-у-у! Вы так понимаете! Мы с вами е-дино-мы-сленники. Русские слова бывают такие длинные, как немецкие, но мягкие, учить легче. А мой папа говорит, что модерн в культуре это всегда форма социального протеста, нет?
— Кто папа-то? — спросил-буркнул.
— Мой? Ага. По-русски называется советник посольства, английского, конечно.
Приехал! Папаня бы видел.
— …нехорошо, мы с вами столько говорим, а не познакомились. Если по-русски, меня зовут Лиза. Как «Пиковая дама», да?
Про «Пиковую даму» Игорь, понятно, слышал, хотя и не читал. Назвать-то себя назвал, а вот надо ли руку тянуть при этом? Она ж глаза еще круглей сделала.
— О! Мы с вами оба из оперы! Между прочим, все мои русские друзья комплимент говорят за мой русский, а вы?
— А чего, нормально.
— Нормально! Это очень строгое слово, нет? А вы есть очень суровый человек? Вы диссидент, тут все диссиденты.
— Студент я. Здесь случайно.
— Случайно. Ага. Как это, сейчас… Средь шумного бала случайно… Совсем как мы с вами!
В этот момент за ее спиной нарисовалась косматая рожа Ильи, просто перекошенная от изумления. Появилась и исчезла. Когда они пришли сюда, он сказал: «Все, отпускаю на свободный поиск». И пропал. Сказал, что, когда будет уходить, найдет.
— Слушайте, а вы любите ночью ездить по городу? — почему-то прошептала таинственно.
— Я вообще ездить люблю.
— Тогда поехали!
— На такси, что ли?
Соображал, сколько денег с собой.
— Нет! У меня машина. На такси неинтересно!
Баба за рулем! Такого еще с ним не было. Да чего там! Много чего не было. Сидеть в машине рядом. Ну, полный… этот самый…
Позже, пытаясь понять, почему вдруг заоткровенничал с девчонкой, которую и знал-то не более часа, Игорь пришел к заключению, что решающую роль сыграло в общем-то вторичное — ее искусство вождения. Щебетала она без умолку и носилась по Москве, как он сам никогда не рискнул бы. Казалось, что машиной она управляет не через тяги, сцепление и тормоза, а мысленно, баранка крутится сама, а руки на ней лишь для подстраховки. Машина, между прочим, была наша, советская — «жигуль», но с радиотелефоном на торпеде. Прямо руки чесались позвонить куда-нибудь. Они дали пару кругов вокруг Кремля, мотались по набережным, по центру. Ночью даже знакомые улицы не узнавались, она же была здесь как дома.
Он разговорился даже без наводящих вопросов. Историю своего недолгого падения изобразил чуть мрачнее, чем то было в действительности, зато спасение через Аркашу описал в таких героических тонах, что деваха на этот миг отпустила баранку, руки к щекам, ахала и головой качала, а тачка сама по себе чуть ли не сотню метров катилась. За что друг Аркаша боролся и за что его посадили, толком объяснить не мог, и почему лично ему эта борьба до лампочки, она тоже не поняла, но когда отчаянием своим поделился, что головой биться готов об стенку, чтоб выручить друга, она вдруг бровки свои тоненькие свела, губки поджала и метнулась куда-то в темный переулок прочь от центра. Потом резко тормознула, остановилась, давай звонить по телефону. С матерью говорила. Ма! — на всех языках понятно. Снова помчалась, влево, вправо, улочки узкие с выбоинами. Наконец, остановилась, вроде бы приехали куда-то, дом нежилой, учреждение какое-то.
— Здесь он. — и на дом показывает со служебным подъездом.
— Кто?
— Друг твой.
— Почему?
— Лефортово это. За этим домом, видишь, другой, выше. Там он. Может, как раз его окно.
В мозгах сумятица. Обыкновенный дом из обыкновенного кирпича среди таких же обыкновенных домов, но там уже не жизнь, не свобода — как это представить! Если бы неприступный и мрачный замок на горизонте, как та тюрьма, откуда граф Монте-Кристо деру дал, или невидимое обычному глазу подземелье, о котором только догадываешься, что оно где-то очень далеко, да хрен подступишься… В общем, это должен быть какой-то другой мир. А так, как здесь, — это же издевательство! Запереть человека в обыкновенном доме! Ведь если сейчас гуднуть пару раз, то он там услышит, а к окну подойдет, то и увидит! Так же с ума сойти можно! Подумать только! Аркаша сейчас от него всего за каких-то сто метров, между ними лишь одна стена в пару, ну, пусть в две пары кирпичей — это же полчаса киркой поработать.
Возмущение сотрясало душу, а причину возмущения понять не мог, и такая противная дрожь в руках. Кому-нибудь сейчас в морду дать бы, чтоб расслабиться, но морды тоже все попрятались за стенами в четыре кирпича. Ведь и верно, разве можно побег смострячить посередине города, только зашурши, и какая-нибудь падла обязательно высунется из окна напротив или наискосяк и заорет. Илья говорил, что бесполезно, но чтоб такая безнадюга — не верилось. Сидел, пялился на окно и бормотал: «Безнадюга! Безнадюга!»
— Не понимаю, что ты говоришь?
Где ей понять, фифеле заморской! Вынарядилась тут.
— Аркашка рядом, соображаешь, а я ничего сделать не могу, будто руки отрублены, и мозги вытекли! Ничего!
И кулаком по торпеде — бац! Подсветка приборов мигнула, а деваха ойкнула испуганно и глазищами своими потянулась к нему, кулак ручками прохладными накрыла и шепелявила что-то на своем дурацком языке.
— Всем до фени, что Аркашка загибается, а у меня никакого способа! Никакого!
Вдруг она прижалась к нему, дрожащая такая, мягкая и прошептала еле слышно.
— Способ… да… я знаю способ…
— Чего?
— Есть способ… Киднепинг…
Развернулся к ней. Прямо нос к носу.
— Киднепинг… По-русски похищение… Берут заложника и письмо, если требование не выполняют, заложнику пулю сюда… — пальчиком ткнула ему в лоб.
— Ты ч-чо-о! — аж голосом охрип. — Совсем по фазе поехала! Чо мелешь-то?!
Пальчики к его губам и еще теснее прижалась, отодвинуться некуда.
— Можно не всерьез, а они не знают, что не всерьез и выполнят. Слушай, я это могу. Молчи! Это легко! Ты меня похищаешь, а им туда, в этот дом письмо, что изнасилуешь меня и убьешь, если они твоего друга не отпустят. Я иностранка. Международный скандал. Им сейчас нужен статус как это… слово хуже немецкого… благоприят… Они испугаются, я знаю.
— Ты ж дура чокнутая. — А дух захватило, захватило, а мысли одна другую локтями, а в горле сухо, сейчас бы рюмашку, какой там! — стакан граненый, чтоб от пяток до макушки пробрало! Ну и девка! Вот это да! За плечи схватил ее и так звонко чмокнул в губы, что Аркашка, если б у форточки стоял, услышал бы. Она же отпрянула, захохотала заливчато, смутила.
— Русские все так целуются, чуть зубы не вылетели?
— У русских зубы крепкие! А вот эскимосы, говорят, не целуются, а обнюхиваются.
И еще что-то такое молол — пьяный был от счастья, богатырем себя чувствовал, великим волшебником, которому все по плечу, и девчонка рядом будто из сказки по щучьему велению для Иванушки-дурачка, а вокруг Москва — столица нашей Родины, и небо звездное над Родиной и Москвой, ну, в общем, все о’кей, как и должно быть.
4
Электричка ползла к Москве и никак не могла доползти. Только разгонится и — как мордой об столб — остановка. Потом опять еле-еле со скрипом и визгом, ну, просто нервы трепала, падла! И пассажиры, как назло, все какие-то заторможенные, словно их упросили сесть и ехать, а им необязательно, а стоколесная телега подыгрывает и тащится, цепляясь за столбы и платформы. К тому же погода окончательно скурвилась. Грязные дождевые лохмотья зависли, куда ни глянь, затаились, приберегая пакости для конечной остановки, чтобы потом сразу всякой башке по ведру. Стекла выходных дверей в тамбуре мало что в копоти, но еще и запотели серой слизью — противно прикасаться и оттирать, а если не оттирать, вообще движения не чувствуешь, будто стоит электричка на месте и только вагонными судорогами делает вид, что на ходу. Мест в вагоне полно, да не сидится. Сонные людишки раздражают, крикнуть им хочется, что лопухи, что в мозги их закисшие и мысль не может прийти о том, с чем он, Игорь Смольников, едет в Москву и почему спешит, и что у него в кармане пиджака под плащом болоньим. А там всего-навсего бумажка, но от этой бумажки на уши встанут не сегодня-завтра кой-какие очень важные человеки! А потом случится такое, чего в этой стране отродясь не бывало. Но они, пассажиры утренней восьмичасовой, да и все прочие, что на платформах и в домишках мелькающих, они никогда не узнают, что с некоторыми был рядом, а мимо некоторых только в окне прошмыгнул тот, кто всю эту кашу заварил, — простой советский человек, простой, как эта самая, про которую по биологии проходили — амеба, туфелька, та, что сама на себя делится и сама на себя умножается и чихать хотела на всяких сложных и многоклеточных. Оттого-то и не терпится, оттого-то и хочется вскочить на крышу вагона и бежать вперед, перепрыгивая с вагона на вагон, чтоб скорее оказаться там, в Москве, скорее добраться до самого главного нервного сплетения, до узелка таинственного, до почтового ящичка на одном домишке каменном — и туда конвертик с листочком — это как тонкой иголочкой в нервный узелок, чтоб вся громадина содрогнулась и зашевелилась. То-то будет кайф — наблюдать из темного угла за гоношением и суетой.
Но это так, вторично. Главное — результат. А может, и вообще никакого заметного шороха не будет, а сразу результат, так даже лучше.
В конце концов, доберется червяк металлический когда-нибудь до места или нет! Руки чешутся!
Почему-то Игорь никакого конфуза не испытывал оттого, что все детали продумала и, порой даже в категорической форме, навязала ему девчонка-англичанка. Если по-мужскому приглядеться, вообще пацанка-заготовка, особенно, когда в простом платьице без выпендрежа. В башке у ней, конечно, много чего напихано не по возрасту, так оно и понятно, не в Задрыпанске росла, как он, и не в семье дорожного мастера. Только если подумать, что такое счастье, и всю, так сказать, материальную часть за скобки вынести, там что останется? Настроение! Когда человеку радостно жить, вот как мамане. Всяко бывало, но она живет с радостью, без лондонов и бальных платьев. Правда, тут еще что может быть, счастливость — черта характера. Кому-то от рождения дано, а кому-то — фиг, как ни надрывайся, как ни обвешивайся удачами, на душе помойка.
Но характером девчонка чем-то напоминает маманю. Скажешь ей что-нибудь или покажешь, вытаращит зенки, а они сияют, будто только что из яйца вылупилась на радость человечеству. Иная тоже сиять умеет, но говорить начнет — тупая, как три полена вместе! У этой же… В общем, извилины у ней что надо.
Договорились, как встречаются на вокзале и едут к нему в Тарусу. Чего домашним своим напридумывала, неизвестно, с ночевкой поехали-то. В поезде — как глухонемая, это чтоб акцент никто не услышал и потом не вспомнил. Днем ранее он целый день приводил в порядок свою халупу и, честно говоря, переживал, шока не будет ли. Обои мухами засранные, потолок закопченный, пол затертый, постельное белье даже не вторичной свежести, туалет на улице хоть и у забора, да от задней стенки одна доска. Стирал, драил, чинил. Отправляясь в Москву на встречу, глазом окинул жилье, повздыхал, махнул рукой. Проморгается!
И все-то она предусмотрела, быстроглазая: и чтоб отпечатков не было на конверте и бумаге, и чтоб бумага была самая обычная, и чтоб писал левой рукой. А писать-то что заставила! Если не выполнят требования, то родители получат ее по кусочкам в бандеролях. Игорь запротестовал, но убедила — именно так на их гнилом Западе пишут похитители. Чем круче, тем надежнее. Дальнейшее тоже все обсудили. Она возвращается в Москву одна. Оставляет родителям письмо, что согласилась сама помочь спасти от тюрьмы известного диссидента, чтоб они, когда им сообщат, изображали все, как надо, иначе она будет считаться соучастницей. И до этого додумалась! Не девка, а две сбоку! Что в итоге с ней ничего плохого не будет. И самое главное — что она в Москве, а не где-то там.
С ночевкой проблемка возникла. Для нее ж вся история — романтика. Потащило девку на это дело. И началось: глазки в пол, вздохи, шепоток невинный, дескать, нехорошо, она на кровати, а он у печки на полу, как собака, и что можно и двоим. В общем, примочки известные, что у русских, что у нерусских. Чего греха таить, поворочался слегка, ведь рядом — что конфетка без обертки, но железно знал — дело это должно быть чистым. А потом видно будет. Так и намекнул тонко. Может, и обиделась, но виду не подала. Утром все как ни в чем не бывало. До Серпухова проводил ее на автобусе. Садились отдельно друг от друга, сидели в разных концах. Сумку хозяйственную всучил ей, газетами набил и обрывками обоев. Нормально. Ничем не отличалась от других.
Через пару дней, как договаривались, встретил ее в Серпухове, упакованную под работницу какой-нибудь птицефабрики. Даже узнал не сразу. Опять врозь на автобусе и до дому врозь. В егошной сумке привезла разную жратву «березковую», все в пакетиках блестящих, да и он ей тут кое-что заготовил. Три дня должна была одна сидеть в халупе, не высовываясь. Такой срок властям в письме установили. Игорь в Москве должен был засечь освобождение Аркаши. На четвертый — сама возвращается в Москву людной утренней электричкой. Начнут разбираться — ничего не знаю, схватили на улице, втолкнули в машину, завязали глаза, катали по городу, потом привезли на какую-то квартиру, где объяснили, что не тронут ни в каком случае, даже если ничего не получится. Это тоже она придумала — такое объяснение, чтоб, если, не дай Бог, распечатают историю, не обвинили в угрозе жизни.
Теперь вот и летел в Москву с конвертом в кармане. Да все никак долететь не мог. Ползла проклятая электричка по осеннему Подмосковью. Мало того, что притык через каждые десять минут, похоже еще и путевые работы на дистанции.
Но проскочили окружную, и вдруг мыслишка в голову. А не тормознуть ли слегка, сначала встретиться с Ильей да посоветоваться. Продать — не продаст, а может, что дельное подскажет. И теперь уже дергался о другом, чтоб Илью перехватить.
Опять его пришлось уговаривать. Искряхтелся весь, изворчался, но согласился-таки, договорились встретиться у Парка культуры. Появился мрачный, помятый какой-то, будто с перепою или пересыпу, зачем-то потащил Игоря через весь парк в Нескучный и там у шахматного павильона на скамейку плюхнулся, наконец, раздраженный и надменный.
— «Сейчас ты у меня повеселеешь!» — злорадно подумал Игорь, усаживаясь рядом.
— Валяй, исповедуйся, — сказал угрюмо.
Игорь поерзал, принимая достойную предстоящего сообщения позу, вроде бы нашел, кашлянул многозначительно и как только мог небрежнее преподнес:
— Я нашел способ вытащить Аркашу. До субботы будет дома.
Илья даже не повернулся в его сторону.
— Бред. Но продолжай.
— Я похитил англичанку, а вот тут в карманчике письмо кое-кому, что если до субботы Аркашу не отпустят, я ее верну родителям в разобранном виде! Но это для понту! Ничего я ей не сделаю, да только они этого не знают!
И не удержался, захихикал довольно.
Растительность на лице Ильи как бы раздвинулась, и зрачки поперли из нее к переносице, ну, прямо шары!
Молчал так долго, что Игорь снова заерзал на скамейке.
— А чего? Железный вариант. На фиг им нужен международный скандал? Почешутся и отпустят…
Илья теперь сидел прямо, вздернув нечесаную бороду, и рассматривал Игоря в упор, будто у него на лбу этот самый вырос.
— Знаешь, парень, в чем вся загвоздка? В том, что они, гэбисты, народ неблагодарный. Вместо того, чтобы тебе медаль дать, которую ты заслуживаешь, они ж, суки, шлепнут тебя, как вошь. И это будет самая большая несправедливость за всю историю советской власти, потому что такого подарка эта власть еще не получала. Диссиденты пупы надрывают, доказывают, что они против насилия, а ты из-под них табуретку — раз! Мо-ло-дец! Сам додумался или подсказали? Знаешь, если б это только твоего Аркашки касалось — так бы ему и надо, русопяту задрипанному, но марксоидам с Лубянки, им без разницы, что святая Русь, что права человека. В прокрустову кроватку марксизма не вписывается — к ногтю выродка! Значит, на международный скандал ставку делаешь?
— Да не будет никакого скандала.
— Ага! Испугаются, думаешь. Или ты хочешь двух зайчиков сразу: дружка выручить и державе урона не нанести?
— А чего, если машинист — козел, так поезд под откос надо? Так, что ли?
— Фантастика! — Илья взмахнул руками, хлопнул по ляжкам. — Шедевр хрестоматийного советского мышления. Я б с тебя, парень, диссертацию для Оксфорда накатать бы мог, только я, к сожалению, физик, а не лирик. А теперь слушай, я нарисую, как все будет в натуре.
Вскочил, прошелся мимо туда-сюда, не отрывая взгляда от Игоря, поникшего, погрустневшего.
— Возможны только два варианта и один из них маловероятный. Начну с него. Ты ведь только на Лубянку письмо заготовил, а не в прессу? Ага! Итак, Аркашка как сидел, так и сидит. Лубянка молчит и ждет, когда ты прирежешь свою англичанку. Кстати, это не та, что с тобой у Акулы общалась? Так и подумал. Кукла безмозглая. Сиди, не рыпайся!
Это потому, что Игорь кулаками захрустел.
— Если бы ты ее прирезал, они бы ее труп в телевизоре выставили для всего света, обвинили бы западные правозащитные организации в поддержке террористов, всех диссидентов подмели вчистую и отдали на расправу сознательным советским труженикам. А какой повод, чтоб гайки закрутить! Нет, братец, медали тебе мало! Звезду! Но поскольку ты ее резать не собираешься, задним числом разыграли бы спектакль с теми же последствиями.
Но скорее всего, твою телегу они предадут гласности, выпустят Аркашку, поднимут вой на весь мир и получат те же результаты, как говорится, малой кровью. Аркашку, понятно, метут по новой и на полную катушку. Я бы, по крайней мере, именно так поступил.
Плюхнулся рядом на скамейку, ткнул пальцем в колено Игорю, бородой задергал.
— А теперь, дружок, вникай внимательно. Мне тебя вразумлять неохота и некогда. Я сейчас иду домой, сажусь на телефон, который прослушивается и по которому мой контакт с тобой уже засветили, а мне твой киднепинг, сам понимаешь, нужен, как зайцу позорная болезнь. Значит, сажусь на телефон и обзваниваю всех, чтобы все знали, какую шикарную бяку ты приготовил нашему брату. То есть, фактически я тебя закладываю, усекаешь? И на уши не вставай! Влез в чужое дело — тебя просили? Или, подожди, ты думаешь, Аркашка тебе спасибо скажет? Он со своим журналом знал, на что шел. Но те, кто статейки корявые пихали в его журнальчик русопятский — они садиться не жаждут, и он им того не желает. Но сядут, будь уверен! И вообще, морду бы тебе набить, охламону. Короче, сию минуту говори, отказываешься от авантюры или нет! Пойми, гегемон ты хренов, у меня нет выбора, ты даже не подозреваешь, на что замахнулся.
— А как же Аркаша, — начал было Игорь, но Илья вскочил, руками замахал.
— Стоп! Стоп! Ты мне своим идиотизмом уже всю плешь переел! Никаких аркаш. Отказываешься или нет?
Колючие капли дождя уже падали на лицо, но в эту минуту как прорвало — сразу ливень, косой, стегающий. Они одновременно кинулись к шахматному павильону, на террасе которого уже изрядно набилось людей, втиснулись, затаились.
Не дождь плечи вымочил, а помои вонючие. И в душе помои. Будто карандашом с жирным графитом кто-то взял и перечеркнул горизонт крестом, и нет более впереди ни пространства, ни воздуха. Это ж надо, как жизнь устроена! Одни глаза смотрят и видят цветок, а другие смотрят — дерьма лепешка. А прав, получается, только кто-то один, и в данном случае, похоже, прав этот косматый, что сейчас дышит в затылок. А все было так красиво и чисто. Сон вспомнился, что прошлой ночью снился. Трое скачут на хвостатых конях вдоль опушки соснового бора. Сам, кажется, не скакал, а как бы со стороны видел. Уздечек в руках не держат, руки свободны и будто вот-вот в крылья превратятся. Лиц не различал, но все знал о скачущих, и в знании была радость до слез. Они неслись краем поля, но не удалялись. Они что-то кричали друг другу, но это был не звуковой сон — ни голосов, ни топота. Еще он знал, что они вовсе никуда не торопятся, они просто скачут, а в том-то и есть настоящее счастье, это обязательно надо было запомнить, а он проснулся и забыл, и только сейчас… А сейчас… Нет, надо было проснуться с этим, тогда все было бы по-другому!
Развернулся резко, грубо толкаясь локтями, стал пробираться внутрь павильона. Илья за ним. Внутри тихо. За четырьмя столиками четыре согбенные пары игроков. На какой-нибудь из четырех досок наверняка разыгрывалась партия про всю эту историю, которую он задумал, затеял, а теперь вынужден просто смахнуть фигуры с доски.
Приткнулись в уголке у окна. Игорь достал из кармана конверт, повертел в руках. Илья рядом сопел и щурился.
— По-английски волокешь? — спросил бородача.
— Еще бы!
— Ручка есть? Черкни здесь что-нибудь по-английски, ну, такое, чтобы… как попрощаться…
Илья обмяк. Достал ручку, взял конверт, покрутил головой, нацарапал строчку, отдал.
— И чего это?
— Строчка из хорошей песни. Звучит так: айл би ремемберин зе шедоу ов е смайл. Я всегда буду помнить тень твоей улыбки.
— Красиво… нет, правда здорово. По-русски даже лучше звучит.
И, не говоря более ни слова, ринулся к выходу. Ливень иссяк, превратился в моросянку. Капало больше с деревьев, чем с неба. Весь парк почти что пробежал. Потом троллейбус. Потом снова бежал. Сейчас он ненавидел этот город. Каждый дом казался затаившимся каменным чудовищем, у которого непременно есть свой умысел, но его не разгадать, потому что какой смысл ни придумывай, обязательно найдется умник, что вывернет все наизнанку, и что видел белым, окажется черным, честное — сучьим, цветник — помойкой. И люди в домах и на улице, у них тоже правду искать, что у змеи ноги. Почему, если дождь, так это дождь, если солнце, так это солнце, — и никаких других смыслов. А между людьми…
Электричка была набита до отказа. Игорь еле протолкнулся в тамбур. Когда электричка дернулась и потащилась, никто даже не качнулся, так утромбовались. Зависнув между плечами, спинами и животами, можно было даже вздремнуть. Но вдруг тревога. Незнакомое чувство опасности. Ерунда какая-то. Насколько можно было, крутанул шеей и тут же накололся на взгляд. Мужик тотчас же отвел глаза. Может, просто знакомый какой-то? Но памятью на лица всегда хвалился. Мужик чужой. Через минуту-другую снова крутанулся. Опять. Ну, кино! Ладно, дядя, — сказал себе, — сейчас мы тебя проверим на вшивость! Вспомнил, что на первой остановке платформа слева, и ему до левой двери ближе. Заворочался, давая понять, что выходит. За спиной услышал сердитое: «Выходишь, что ли?» Обернулся, так и есть, мужик тоже засуетился. Между ними добрый кубометр спрессованных тел. А мужичок не тощ, похоже, с животиком даже. Не так представлял себе «топтуна». Тогда что получается? Всю их свиданку с Ильей секли? Ничего себе дело поставлено! Начал энергично протискиваться к двери и уже не ушами даже, затылком слышал возню сзади себя. Когда на остановке дверь открылась, Игорь еще более минуты потратил, чтобы выбраться. Выскочил наискось, оказался у двери другого вагона. Через мгновение тамбур злобно выплюнул «топтуна». Он по инерции проскочил несколько шагов вперед, закрутился под откровенно наглым взглядом своего подопечного. Электричка взвизгнула, Игорь шмыгнул в дверь соседнего вагона, «топтун» кинулся к двери, но фиг ему! Двери лязгнули у него перед носом. «Вот так-то, дядя, — прошептал Игорь в дверное стекло, — ты уж лови своих интеллигентов, а я тебе не по зубам!» От его шепота запотело стекло, он подышал на него еще и на запотевшей плоскости пальцем вывел: «Аркаша, будь спок!» Больше ничего не поместилось. А еще хотел бы написать: «Все равно жить можно! Чего-нибудь придумаем!»
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




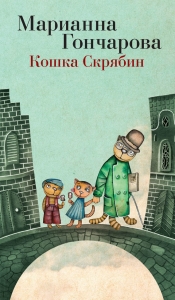
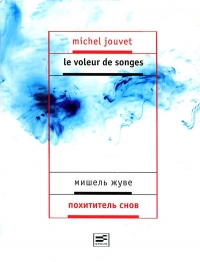

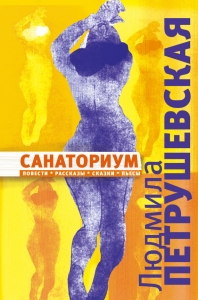



Комментарии к книге «Киднепинг по-советски», Леонид Иванович Бородин
Всего 0 комментариев